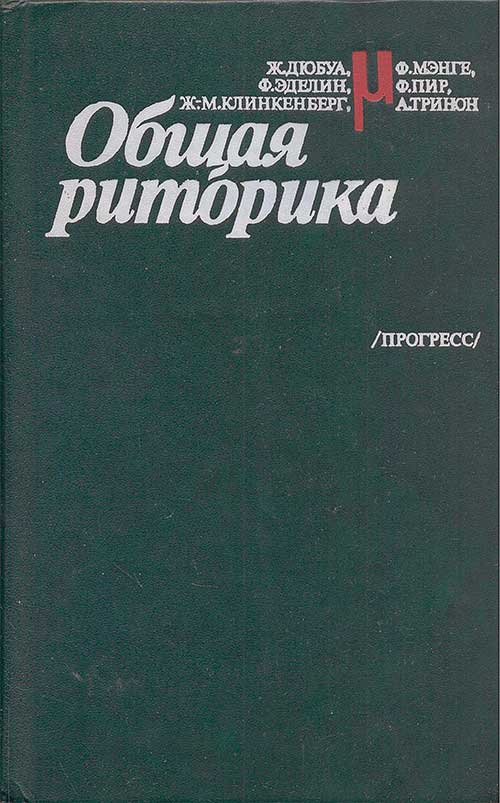|
Еще в середине 50-х годов текущего столетия возрождение интереса к риторике казалось невозможным и вряд ли оправданным. Однако отдельные и со временем все более многочисленные попытки перепрочтения риторического наследия в категориях современной лингвистики и семиотики привлекли внимание к ранее не замеченным эвристическим возможностям этой «стилистики древних» С появлением книги «Общая риторика», написанной группой ученых Льежского университета и переведенной на ряд европейских языков, стало особенно очевидно, что риторика открывает новые возможности для системных исследований в области лингвистики, философии и культуры.
Рекомендуется лингвистам, литературоведам, логикам, философам, историкам, юристам.
ВОЗВРАЩЕНИЕ РИТОРИКИ
Перед читателем лежит русский перевод книги, частые ссылки па которую можно встретить ныне в многочисленных зарубежных публикациях по стилистике, структурной поэтике, лингвистике текста, семиотике, теории массовых коммуникаций, теории воздействия, теории восприятия, по логике и аргументации, теории рекламы и, безусловно, по «новой риторике».
Успех книги, оказавшийся во многом неожиданным и для ее авторов, заключается, пожалуй, не столько в однозначном и бесспорном решении поставленных в ней задач, сколько в практической, а потому особенно впечатляющей, демонстрации неиспользованных эвристических возможностей риторической теории применительно к анализу широкого круга проблем, находящихся сегодня в центре внимания многих гуманитарных наук. Именно эта сторона работы, появившейся почти на самом пике оживленной и достаточно разноречивой дискуссии о творческом наследии античной риторики, о возможностях использования выработанных в ее недрах приемов и процедур, выгодно отличала «Общую риторику» группы р, от других книг на эту тему, появившихся в разных странах практически одновременно (СгоП 1966; Kibe di Varga 1970; Caplan 1970; Ong 1971; Kopp er sc hmid t 1973 и др.).
Неожиданный интерес к риторике, показавшийся поначалу, в 60-х гг. просто очередной модой, постепенно приводит к формированию нового и весьма перспективного направления междисциплинарных исследований языка в действии, получившего название «новая риторика» (термин X. Перельмана — см. Perelman 1958).
Возвращение риторики на авансцену современной науки породило немало серьезных проблем методологического характера, заставив пристальнее вглядеться во вновь намечаемые границы между риторикой и сопредельными отраслями знания2. Особого такта в этой связи требует каждая новая попытка интегрировать риторику в рамки современной науки, изрядно потеснившей традиционные области риторического, либо за счет частичного поглощения проблематики (как это было, например, со стилистикой и поэтикой), либо путем ее полного отрицания как продукта «донаучного» этапа теоретического сознания.
Ситуация, сложившаяся в науке о языке после обращения отдельных ее школ и направлений к риторическому наследию, характеризуется усилением крайней неравномерности в уровнях понимания самой риторики, ее целей, задач и исследовательских возможностей в эпоху массовых коммуникаций со стороны представителей различных течений в языкознании. Так, если стилистика, устами П. Гиро, определяет в качестве одной из своих важнейших задач «включение риторики в научную проблематику современной лингвистики» (Гиро 1980, с. 40), а новейшая гранслингвистика Р. Барта числит себя «преемницей риторики» (Барт 1978, с. 448), то гораздо большему числу исследователей языковых проблем, не связанных непосредственно с лингвистикой текста, с анализом массовых коммуникаций и т. и., подобная постановка вопроса может показаться (и не без известных оснований) легковесной, и отнюдь не самоочевидной.
Использование «багажа» классической риторики в современной науке требует, как минимум, четкого прояснения того, что представляет собой ее реальное творческое наследие, каков смысл «завещания», оставленного нам этой некогда славной наукой древних. Что представляла ,собой античная риторика, в каких отношениях находится она с «новой» и «общей» риторикой, очерк которой излагается в настоящей книге? Каковы причины, побуждающие все большее число современных исследователей чаще и чаще обращаться к полузабытым (а порой и полностью забьпым) текстам риторических трактатов прошедших эпох? Какова, наконец, практическая ценность риторических категорий, таксономий и процедур для осуществляемых в наши дни исследований коммуникативных систем? Из этой книги читатель выносит новый, во многом неожиданный образ риторической пауки. Может показаться непривычным и содержащееся в работе понимание риторики, существенно отличающееся от того, что до настоящего времени имело широкое распространение. Все сказанное делает необходимым ряд вступительных замечаний, имеющих своей целью облегчить читателю путь к более полному пониманию этой весьма ценной книги.
I.
Б а р д о л о. Говоришь, значит, в области речи есть некое искусство?
Н а у г е р и й. Да, разумеется. ...
Н а у г е р и и. Каким же именем назовем и это первое руководящее главное искусство, и пользующихся им?
Б а р д о л о. Может быть, назовем его ораторским искусством, а пользующихся им — оратором, или ритором. Никакого другого имени ему, кажется, не дали.
Джироламо Фракасторо «Наугерий, или о поэзии» (1540 г )
Термин «риторика» за всю свою многовековую историю никогда не имел однозначного понимания, и в этом нашла отражение изначальная природная двойственность этой науки.
Риторика в самих своих истоках разрываема противоречием. Творческое теоретическое начало ее жестко сдерживается догматом создаваемого канона. Теория стремится к развитию, нормативность — к статике. Теория риторики шла по пути расширения своего предмета, нормативность тяготела к незыблемой стабильности сложившегося круга понятий. Теория определяла самое себя через последовательное саморазграничение с другими науками — диалектикой, этикой, политикой (Цицерон. Оратор, 62 — 68; Об ораторе, I, 219 — 255, и др.); дидактическая риторика претендует на универсальность, совершенствуясь в искусстве классификации образных средств.
Два несовместных начала в риторической пауке обусловили возникновение, а затем и параллельное развитие двух различных риторических традиций, сосуществовавших бок о бок с времен греко-латинской античности через средневековье до позднего Возрождения. Две различные традиции и порождают два основных понимания риторики.
Предельно обобщая реальную историю многовекового противоборства двух риторических традиций и идя па неизбежные в этом случае упрощения, можно говорить об Аристотеле как о наиболее последовательном представителе теоретической философской риторики, определявшей в качестве цели своей разработку «возможных способов убеждения относительно каждого данного предмета» (Риторика, I, 2). Как бы предчувствуя последовавшее позднее «развинчивание» риторики, захват другими науками изначально входивших в нее частей, приведшие к распространенному и пойыне смешению ее со стилистикой и поэтикой, Аристотель полагает необходимым особо подчеркнуть, что вышеупомянутая цель «не составляет задачи какого-нибудь другого искусства» (Риторика, там же). Концепция риторики как науки об убеждении, о формах и методах речевого воздействия на аудиторию разрабатывалась и последовательно излагалась в трактатах Исократа, Гермагора, Аристона, Аполлодора, Цицерона. Сутью риторики, равно как и определяющей задачей ритора (officium oratoris), объявлялось убеждение.
Уход в проблематику школярской, догматической, нормативной риторики отчетливо прослеживается у Квинтилиана. Императивная у Аристотеля и Цицерона задача убеждения меняет свою модальность. У Квинтилиана убеждение (persuasio) выступает уже в качестве возможной (in quoque potest), но отнюдь не главной цели речи оратора. Меняется и характер сопутствующих определений: из искусства «правильной речи» (ars recte dicendi) риторика превращается со все большей определенностью в искусство красно-речия (ars pulchre loquendi). Широко распахиваются ворота для эпигонов азианского красноречия, и красивость выражения отныне становится высшим мерилом, а позднее и самоцелью риторической практики. Распространенным представлением о риторике как о напыщенном, «внешне красивом, по малосодержательном произведении речи» (см., например: Тимофеев 1974) мы обязаны этой ветви риторической практики.
Наличие двух соперничающих и столь разнящихся между собой пониманий риторики3 делает неизбежным вопрос о том, какую же из них имеют в виду, говоря об эвристических возможностях риторической теории, о результативности использования риторических процедур в современных лингвистических, транслингвистических, семиотических анализах текста, наконец, о «реабилитации» 4 риторики. Давая ответ па этот вопрос, ответ, безусловно, очевидный, ибо речь идет о теоретической риторике «школы» Аристотеля, о созданной в рамках этой традиции античной теории речевого воздействия, необходимо продвинуться и несколько дальше. Возможно ли интегрировать античную риторику с ее философской основой, категориальным аппаратом, аналитическими процедурами непосредственно в контекст современного научного знания? Какими путями осуществляется освоение риторического наследия? Ответ на эти вопросы должен быть более обстоятельным.
Античную риторику в ее концептуальной завершенности следует рассматривать как неотъемлемую часть целостного античного миропонимания, с присущим последнему «содержательно-формалистическим» (см. Лосев 1978) характером постижения и отражения сущего. Этот особый «формализм» проявлялся в неукоснительном следовании пространственно-временным принципам гармонии и соразмерности, столь уместным и органичным в пластических искусствах, но приобретавшим неповторимый привкус изощренной схоластики при их перенесении в области чисто теоретического мышления, к каковым относилась и риторика. Красота любого искусства, любой умозрительной теории поверяется шкалой миметического соответствия совершенному Космосу. И совершенство риторики виделось в соразмерном и гармоничном отражении воображаемого микрокосма риторической словесности. Теория трех стилей Вергилия не случайно вписана в пределы круга5. В круг же в соответствии с пространственно-вре-меппой логикой мимесиса может быть замкнут и микрокосм риторической словесности, рассеченный пятью секторами — пятью основными разделами античной риторики: inventio, dispositio, elocutio, actio, memoria.
Безусловный, с позиций нового времени, формализм подобного подхода начинает осознаваться уже в эпоху эллинизма. Он окончательно превращается в мертвую букву в эпоху Цицерона. Острое ощущение несоответствия риторической доктрины, взятой в ее мировоззренческой основе, изменившимся историческим условиям даже стало причиной своеобразного антириторического «бунта» Тацита, побудило его раз и навсегда забросить занятия риторикой, обратившись к истории6. Казалось бы, с разрушением целостной и замкнутой в себе системы античного миропонимания, лежавшей в основе риторической теории, ничто более не в силах спасти ее самое от угасания. Однако этого не происходит.
Для того чтобы понять причины, обусловившие продолжение традиции теоретической риторики, постараемся внимательнее вглядеться *в принципы выделения уже называвшихся выше пяти ее основных разделов. Однако прежде введем определение риторики, с максимальной тщательностью следуя духу и букве античных концепций.
Риторика — это наука о способах убеждения, разнообразных формах преимущественно языкового воздействия на аудиторию, оказываемого с учетом особенностей последней и в целях получения желаемого эффекта. Воздействие может осуществляться как в устной, так и в письменной форме с помошью аргументов, доказательств, демонстрации вероятностей и др. приемов с целью порождения при помощи используемых языковых и неязыковых средств определенных эмоций и ощущений, способных в свою очередь привести к направляемому формированию новых либо модификации изначальных стереотипов восприятия и поведения.
Если говорить кратко, перед нами — впечатляющая по масштабности и логическому замыслу программа. Однако этого замечания вряд ли достаточно. В рамках античной риторической теории было выработано принципиально верное с позиций современных научных представлений понимание механизма коммуникативного процесса в его прагматических аспектах. Так, в «Риторике» Аристотеля наряду с рассмотрением участников акта коммуникации — говорящего (оратора, ритора) и слушающего — обсуждаются такие вопросы, как намерения говорящего (интенция), реакция слушателя (пафос), функциональные типы речевых актов (телеология родов красноречия), способы организации сообщения и многое другое (см., в частности, Риторика I, 2 — 3, и др.). Не продолжая перечня проблем, рассматриваемых Аристотелем и другими античными авторами, подчеркнем, что и в дальнейшем их перечислении со всей очевидностью прослеживается преимущественный интерес риторов к изучению интенциональных использований языка в процессе прагматической убеждающей коммуникации.
Наличие в риторической теории общей концептуальной схемы речевых актов логично предполагало разработку соответствующего инструментария. Имея представление о том, какими факторами определяется успех убеждающей речи, ритор должен был овладеть практикой ее построения, научиться отвечать на три основных вопроса, возникающих на докомм уникативной стадии: что сказать: где сказать? как сказать? Пятичленное деление риторики имеет, как становится очевидным, самое непосредственное отношение к этой фазе риторической разработки речи.
Inventio (euresis Аристотеля, truevement Брунетто Ла-тини), или нахождение материала, давало практический ответ на вопрос «что сказать?» с учетом предполагаемой аудитории и желаемого результата. Обширный набор топов, энгимем, аргументов и «прочих доказательств» (Арис-тотель) представлял значительные возможности парадигматического выбора — основной операционной процедуры этою раздела риторики.
Dispositio, или «развертывание», — в этом разделе разрабатывались вопросы синтагматического развертывания и оформления найденного материала на фразовом и надфразовом уровнях, что равноценно поиску ответа на вопрос «где сказать?».
Тактика лексического и синтаксического выражения «материала» разрабатывалась разделом elocutio. Содержа в себе множество вариантов ответа на вопрос «как сказать?», elocutio, в компетенцию которого входили фигуры речи и образы (тропы), характеризуется использованием как синтагматических, так и парадигматических процедур. Примыкающий к этому разделу actio дополнял рекомендации о том, «как сказать?», разработками риторической просодии, позы и жеста оратора. Гарантом успешного завершения всех четырех предшествующих этапов выступает специально разработанная мнемотехника — memoria.
Логичная последовательность непрерывных переходов между отдельными этапами построения убеждающей речи, изощренная стратегия языкового воздействия, разработанная античной риторикой, содержат в потенции достаточно падежный как в операционном, так и в эвристическом отношениях инструментарий, действенность которого не оказалась ослабленной в результате окончательного разрушения мировоззренческого базиса античной риторики. Именно это обстоятельство, надо полагать, создало объективную почву для сохранения в последующие эпохи непрерывной традиции теоретической риторики в изменившихся исторических и культурных условиях. Однако, и это также следует отметить, поддержание традиции, порой сводившееся к регулярным напоминаниям о роли риторики как науки об убеждении7, не могло стать достаточным стимулом для дальнейшего ее развития. Со времен Цицерона теоретическая риторика не породила ни одной сколько-нибудь заметной идеи8. Многовековое творческое бесплодие ее объясняется утратой того организующего и всеподчиняющего начала, которое побуждало античных риторов совершенствовать теорию и оттачивать практику убеждающего красноречия — общественной потребности в ораторском искусстве, исчезнувшей одновременно с угасанием античной полисной демократии.
II.
Действуя из глубины,
Незамето это искусство
В сети тайные слов
Уловляет дух человека.
Марко Джироламо Вида «Поэтика» (1520 г )
Если бы современное обращение к риторике обернулось просто очередной попыткой осуществить ее restitutio in integrum, то оно, вне всякого сомнения, оказалось бы столь же бесплодным, как и многочисленные пробы подобного рода, предпринимавшиеся в предшествующие столетия. Не возвращаясь более к вопросу о причинах неприемлемости философских, мировоззренческих оснований античной риторической теории, отметим, что и сам инструментарий риторики, безусловная значимость которого для нынешнего этапа развития научного знания сохраняется в силу его соотнесенности с принципиально верным пониманием механизмов речевой коммуникации, весьма далек от совершенства9. Возникновению «новой риторики» вполне закономерно предшествовал этап интенсивных эмпирических и теоретических разработок, особенностью которых являлось прежде всего то, что велись они за пределами самой риторики.
Известно, что на протяжении веков риторическое наследие практически осваивалось различными науками, становясь во многих случаях их неотъемлемой частью. Так, теория стилей, просуществовавшая в рамках нормативной поэтики вплоть до эпохи романтизма, была непосредственно заимствована из античной риторики без каких-либо изменений. Разработанная античной риторикой и классифицированная ею система логических доказательств, используемых в рамках убеждающей речи (аристотелевские силлогизмы, энтимемы, демонстрации вероятностей и др.), отчуждается логиками Пор-Рояля и со временем складывается в независимую от риторического анализа формально-логическую теорию аргументации.
Последовательно интегрируя отдельно взятые проблемы, подходы и процедуры риторического анализа, поэтика, стилистика, логика, а позднее и многие другие дисциплины и направления, вплоть до новейших течений, сформировавшихся в недрах современной лингвистики, семиотики, социологии, социальной психологии и т. д., долгое время не ощущают острой необходимости в целостном риторическом анализе, используя, однако, отдельные категории и понятия риторики, перекодированные на язык соответствующей науки.
История изучения языка в XX столетии характеризуется постоянно нарастающим интересом к проблемам его «эффективного использования», в том смысле, который придавал этому выражению Дж. Остин (Austin 1962), к анализу и эксплицированию латентных механизмов «незаметного искусства» речевого воздействия в рамках различных коммуникативных систем — от художественного языка до торговой рекламы и политической пропаганды. Перемещение исследовательского интереса к осмыслению, описанию и моделированию многообразных ситуаций убеждающего воздействия не только заставляет все чаще вспоминать о риторике, но и стимулирует разработку ее проблематики в рамках сопредельных областей знания. Решающую роль в совершенствовании категориального аппарата и инструментария классической риторики, сделавшего возможным включение риторической науки в контекст современных научных разработок, сыграли теория массовых коммуникаций, логическая теория аргументации и структурная поэтика.
Теория массовых коммуникаций, представляющая собой обширную совокупность исследований лингвистического, семиотического, социологического и социально-психологического характера11, содействовала выработке более глубокого понимания определяющих характеристик основных участников коммуникативного акта (отправитель — получатель сообщения), а также параметров самого сообщения. Проводившиеся в рамках этого направления эмпирические исследования сделали возможной более тонкую, нежели в соответствующих разделах риторической теории, нюансировку факторов, влияющих на эффективность коммуникативного акта. В качестве ранее не выделявшихся характеристик отправителя, определяющих результативность убеждения, описываются фактор доверия (Hovland et al. 1953; Lerner, Schramm 1967, и др.), фактор престижа, фактор дистанции между исходным знанием и содержанием вновь получаемой информации 12 и т. д. Среди работ, посвященных содержанию сообщения и частично перекрывающих традиционную проблематику риторического «нахождения материала», следует указать на исследования проблем различения информации и аргумента, привлекшие внимание к роли эксплицитно формулируемого вывода в процессе направляемого формирования позиции получателя сообщения (Cantril 1947), а также и опыт анализа эффективности рационального и иррационального (эмоционального) воздействия на формирование позиции получателя (см., например, Bremond 1973). Развитие теории массовых коммуникаций, многими из своих проблем тесно переплетающейся с традиционными целями риторического анализа, безусловно, содействовало концептуальному освоению риторики и другими отраслями современного научного знания.
Если исходить из многовековой истории сложных взаимоотношений логики с риторикой, то импульс к возрождению риторической теории со стороны логики выглядит более чем неожиданным. Однако сама эта «неожиданность» — отражение серьезных изменений в определении задач и возможностей логического анализа естественного языка, происшедших с начала XX столетия13. Перенося поначалу на исследования живого человеческого языка методики и приемы, разработанные для изучения формально безупречных суждений, силлогистики, логики довольно быстро оказались в тупике, столкнувшись с необходимостью описания таких явлений, как полисемия, контекст, и многих других факторов, характеризующих функционирование естественного языка. Как показало время, поиски логических методов исследования естественного языка оказали революционизирующее воздействие на логическую теорию, приведя к формулированию теории пресуппозиций и к созданию теории аргументации (Реrelman 1958).
Теория аргументации X. Перельмана с полным основанием может рассматриваться в качестве теоретической основы «новой риторики». «Объектом этой теории является изучение дискурсивных приемов, позволяющих вызвать или усилить сочувствие к предложенным для одобрения положениям» (Perelman 1958, с. 5) 14. Эта теория существенно расширившая границы логического анализа естественных языков, оказала особенно заметное воздействие на формирование проблематики и характер аналитических процедур, получивших широкое распространение у представителей французского структурализма. Под ее очевидным влиянием находятся и авторы книги «Общая риторика».
III.
Школа французского структурализма, говоря о которой, называют в первую очередь имена Р. Барта, Цв. Тодорова, Ж. Женетта, А.-Й. Греймаса, К. Бремона и ряда других исследователей, приняла возвращение риторики с энтузиазмом. Более того, во многом благодаря именно ее усилиям и было обеспечено выдвижение риторики на авансцену интеллектуальной жизни Франции начиная с середины 60-х гг. Если необычайная популярность структурализма объяснялась подчас тем, что он пришел на смену философии экзистенциализма, познавшей бурный успех в предшествующее десятилетие 15, то риторика действительно предстает в качестве любимого ребенка французской структурной школы.
В 1964 г. на страницах журнала «Тель Кель» («Те1 Quel») Ж. Женетт открывает дискуссию о риторике и ее влиянии на «внутреннее пространство языка» (Genette 1964). Одновременно он готовит переиздание риторического трактата П. Фонтанье (Fontanier 1968), уже самим выбором текста подчеркивая предпочтение, отдаваемое литературной риторике перед другими ее формами и направлениями.
Цв. Тодоров, подводя некоторые итоги риторических штудий, выступает в 1967 г. с весьма примечательной статьей «Тропы и фигуры», помещенной первоначально в 3-м томе «То honor Roman Jakobson» и вошедшей позднее в состав книги «Литература и значение» (Todorov 1967, с. 49).
Р. Барт — признанный лидер французского структурализма 16, «новой критики» — в эти же годы публикует целый ряд статей (см., в частности: Barthes 1964, 1967), выступая инициатором неориторпческпх исследований, приобретающих благодаря его энергичной деятельности значительный размах (см. специальные выпуски журнала «Communications», № 8, 1966; № 16, 1970, а также тематический помер журнала «Langages», № 12, 1968, и др.).
Французскому структурализму присущ устойчивый преимущественный интерес к исследованиям поэтического языка и лингвистическому анализу литературных произведений (вплоть до «Грамматики «Декамерона»» Цв. Тодорова), сложившийся под явным влиянием русской формальной школы, ОПОЯза, фундаментальных трудов по поэтике Р. О. Якобсона. Глубокий след на проблематике и методах исследования фольклора, художественной прозы оставило знакомство с переведенными на французский язык работами Б. Томашевского, В. Шкловского, В. Проппа, М. Бахтина и др. советских исследователей. Повышенное внимание к литературной риторике, к взаимосвязям риторического и поэтического, риторического и семиотического заметно отличает концепцию французской «новой риторики» от разработок, ведущихся в эти же годы в других странах 17. Со всей определенностью в ней постулируется тезис о риторических фигурах как об области пересечения интересов поэтики, риторики и литературной теории (Todorov 1971, с. 49).
Уже сам контекст научных интересов и дискуссий вокруг проблем «новой риторики» естественным образом предопределил характер появившейся в 1970 г. книги «Общая риторика». Написанная группой бельгийских исследователей, работающих в русле идей французского структурализма 18, книга эта представляет собой прежде всего опыт литературной риторики. Выбор литературы в качестве объекта риторического анализа выглядит неслучайным не только в силу упоминавшегося выше пристрастия французского структурализма к проблемам художественного (поэтического) языка, но также и в связи со стоящим за этим выбором представлением о литературе как об особом использовании языка. Разработка теории этого использования, теории, пригодной для возможной экстраполяции на другие сферы, составляет первоочередную задачу общей риторики.
Представление о литературе как об особом использовании языка, потеснившее в рамках французского структурализма давнюю, но весьма распространенную и поныне концепцию литературы как «языка sui generis», было связано, с одной стороны, с результатами исследований К. Леви-Стросса в области мифа, с другой же — подготовлено идеями лингвистики текста (лингвистика дискурса у Р. Барта), рождение которой по праву связывается с именем Э. Бенвеписта. Введенное этим лингвистом понимание уровней языкового анализа и, главное, понимание предела собственно лингвистического анализа, представленного предложением, явилось толчком для ревизии многих лингвистических представлений, в том числе и о сущности языка литературы.
Выбор литературы в качестве объекта риторического анализа в книге «Общая риторика» кажется удачным еще и потому, что благодаря ее моделирующим способностям открывается возможность перехода к самым различным типам контекстов: «Литературный текст имитирует определенный тип коммуникации. Это может быть тип коммуникации, который не предполагает личного знакомства отправителя л получателя сообщения, и может быть тип, который это предполагает. Это может быть тип, который предполагает передачу полного изложения событий, а может быть такой, в котором передается не только целиком проанализированное и упорядоченное событие, но и сам процесс непосредственного переживания. Наконец, это может быть рассказ, письмо, речь, просьба и т. п., имитирующие непосредственное обращение к определенному получателю или не содержащие упоминания об этом получателе вовсе» (Майе нов а 1978, с. 433).
Моделирование литературой разнообразных типов контекста, предполагающее высокую вариативность соответствующих им целевых (интенциональных) установок, позволяет в принципе расширить рамки риторической теории, переместив их от описания техники убеждения к выявлению механизмов более нюансированных форм воздействия (пробуждение чувств радости — огорчения, согласия — несогласия, ликования — негодования и т. д.). Расширение возможностей риторического анализа, естественно, должно облегчить экстраполяцию полученных результатов, необходимую для создания теории общей риторики.
Присутствующий в книге лишь in potentia проект создания общей риторики, выводы которой были бы в равной степени релевантны для столь различных видов коммуникации, как поэтический язык20 и коммерческая реклама, политическая пропаганда и кинематограф, драматический спектакль и комикс, должны неизбежно иметь под собой теоретическую основу. Такой основой авторы считают известную модель языковых функций Р. Якобсона, в которую вносятся принципиальные изменения. Переименовывая «поэтическую функцию языка» и называя ее «риторической», «группа ц» предлагает установить иерархию функций, в которой главенствующую и всеподчиняющую роль призвано играть сообщение и соответствующая ему риторическая функция (с. 55). Последствия этого шага в теоретическом плане весьма значительны: риторическая функция языка становится трансцендентной по отношению к другим языковым функциям, что дает возможность в практическом плане изучать проявления риторического в любом типе вербальной коммуникации, а при семиотическом подходе — ив невербальных коммуникативных системах.
На следующем этапе рассуждения логически неизбежным становится вопрос о формах реализации риторической функции на различных уровнях языка с учетом того, что риторические трансформации могут затрагивать как план выражения, так и план содержания. Выделяемые четыре формы реализации риторической функции — метаболы в авторской терминологии, позволяют четко определить область риторического анализа, которая простирается от дифференциальных признаков фонем и графем (метаплазмы), сем (метасемемы) до дискурса (мегатаксис) и экстралингвистической области традиционных «фигур мысли» (металогизмы). Указанное членение обширной сферы риторического имеет принципиальное значение не только для практического разграничения задач лингвистического и внелинтвистического изучения интенциональной речи, но прежде всего для разработки надежных методов исследования механизмов функционирования художественной (и внехудожест венной интенциональной) речи, приемов порождения желаемой реакции на сообщение у читателя и слушателя. В силу указанных причин нам важно разобраться в содержательной основе этой классификации.
Представляя собой опыт литературной риторики, концепция группы и естественным образом подвергает переработке и переосмыслению ряд основных тезисов и понятий теории художественного языка. Ключевыми для самых различных по духу и направленности стилистических теорий являются понятия «норма» и «нарушение». Поколениями стилистов вырабатывалось представление о том, что художественный (поэтический) язык отличается от языка обыденного своим стремлением к нарушению принятых в последнем норм. При доведении до абсурда такая концепция неоднократно порождала утверждения, что поэтический язык — полярная противоположность языку повседневному. Практическая ценность подобных заключений может быть проиллюстрирована хотя бы тем фактом, что теория нарушений до настоящего времени оказалась неспособной выработать ответа на такие практически важные вопросы, как: чем отличаются поэтические нарушения нормы от обычной «порчи» языка? как, при большом числе отклонений от нормы, обеспечивается понимание текста читателем? каковы, наконец, лингвистические и нелингвистические параметры подобных нарушений? Заметим, что остается и еще один, пожалуй, самый важный вопрос: какова природа семантического эффекта фигур речи, тропов? Ответ па эти вопросы пытается дать теория риторики.
Предлагаемое авторами «Общей риторики» членение области риторического пространства языка основывается прежде всего на убеждении, что эмпирически выявляемые нарушения нормы обыденного языка в поэтической речи могут не быть препятствием для понимания лишь в том случае, если на уровне лингвистических или экстралинг-вистических характеристик текста будут существовать механизмы снятия нарушений, позволяющие скорректировать понимание и одновременно создающие предпосылки для порождения определенного семантического эффекта. Не отвергая, таким образом, факта сознательных нарушений языковой нормы в качестве одной из характерных особенностей художественной речи, теория общей риторики перемещает центр своего внимания на выявление типов этих нарушений и соответствующих им механизмов обеспечения понимания.
В 1967 г. Цв. Тодоров в уже упоминавшейся статье «Тропы и фигуры» (Todorov 1967, с. 107 — 114) вплотную подходит к классификации поэтических отклонений от нормы (именуемых им «аномалиями»), определяя их основные типы в зависимости от характера нарушенного при этом правила соответствующего языкового уровня. Он писал: «Исходя из характера этого правила, мы различаем четыре группы аномалий, относящиеся к следующим областям: отношение звук — смысл; синтаксис; семантика; отношение знак — референт» (Todorov 1967, с. 108). Однако Тодорову не удается пойти далее предложенной классификационной схемы: выбор тропов и фигур, включаемых им в соответствующие группы «аномалий», осуществляется на основании столь слабых критериев, что воспроизводство этой классификации в дальнейшем представлялось неперспективным. Было очевидным, что, помимо верного определения общего классификационного принципа (который весьма плодотворно разработан авторами настоящей книги при определении четырех типов метабол), необходимо введение дополнительных критериев в виде перечня основных операций, с помощью которых вводится, а на последующем этапе редуцируется соответствующее нарушение. Редукция, или снятие, нарушения и приводит к сознательному смещению смысла, вызывающему у получателя сообщения определенную реакцию, этос.
Порождение этоса — «аффективного состояния получателя, которое возникает в результате воздействия на него какого-либо сообщения и специфические особенности которого варьируют в зависимости от нескольких параметров» (с. 264), — это и есть конечная цель и основная задача риторики. Целенаправленное формирование этоса в рамках фундаментальной риторики (первая и наиболее значительная часть книги) осуществляется преимущественно за счет введения нарушений в коды языковых уровней и их последующего редуцирования. Главы, посвященные детальнейшему разбору четырех типов риторических метабол, представляют собой образец блестящего анализа живого функционирования языка, а значение совокупности содержащихся в них наблюдений, эвристических ходов мысли далеко выходит за рамки проблематики даже столь сложного феномена, каким является литературный художественный язык. В теории метабол и теории этоса заключена практически вся стратегия построения, воспроизведения и восприятия убеждающей речи любого типа. В этом ценность книги как для фундаментальных, так и прикладных исследований в области пропаганды, коммерческой рекламы, короче, самых разнообразных форм воздействия как на индивидуального, так и на группового (массового) получателя сообщений. Значение этого исследования для решения актуальных научных и практических проблем может оказаться еще более существенным при интенсивной разработке проблем, эскизно намеченных во второй части книги.
Если, с известной долей условности, можно говорить о примерном совпадении границ фундаментальной риторики и риторики традиционной, то попытка изложить основы общей (риторики — теории, приложимой ко всем способам выражения, — является новаторской во всех отношениях. Экстраполяция риторических процедур па аудиовизуальные типы коммуникаций (кинематограф, театр, комикс), новое прочтение параметров межличностной коммуникации — метабол участников речевого коммуникативного акта и т. Д., — все это открывает во многом неожиданные, но практически важные направления дальнейших исследований и разработок.
«Общая риторика» «группы ц», как уже отмечалось выше, стала своеобразным итогом определенного этапа в освоении современной наукой риторического наследия прошлого. Вместе с тем она явилась и ярким свидетельством того, что новая риторика имеет все больше оснований заявлять свои права на пока еще вакантную роль той науки, которой окажется по силам обеспечить непрерывное рассмотрение живой действительности языка во всей его видимой протяженности — от инфралппгвистических до металингвистических измерений.
А. К. Авеличев
ОТ АВТОРОВ
Настоящее исследование является результатом коллективного поиска. Несколько преподавателей Льежского университета, интересующихся вопросами изучения средств художественной выразительности, решили объединиться для совместной разработки актуальных ныне проблем, возникших впервые в рампах до недавнего времени гонимой, но когда-то покрывшей себя славой науки. Риторика в качестве теории фигур обрела новую жизнь в исследованиях по структурной лингвистике. Роман Якобсон был одним из первых, кто привлек внимание исследователей к практической ценности понятий, введенных еще Аристотелем. Отдавая дань этим двум ученым, внесшим большой вклад в развитие риторики, мы назвали нашу группу «группой ц» по первой букве греческого слова pcracpoQa, обозначающего самую замечательную из метабол.
Жак Дюбуа, Франсис Эделин, Жан-Мари Клинкенберг, Филипп Мэнге, Франсуа Пир, Адлен Тринон.
ВВЕДЕНИЕ
ПОЭТИКА И РИТОРИКА
Истории идей, как и истории государств, знакомы взлеты и падения, периоды упадка и расцвета. Тот, кто еще лет десять назад осмелился бы утверждать, что риторика снова займет важное место среди гуманитарных дисциплин, стал бы лишь объектом насмешек. К тому времени были практически забыты слова Поля Валери о «главенствующей роли», которую играют в поэзии «риторические факторы». Лишь весьма относительный интерес вызывало тогда и блестящее эссе о «фигурах» Жана Полана, литератора, отличающегося тонким и изысканным вкусом '. Самые прозорливые читатели, конечно же, догадывались, что за этим давно забытым термином скрывалась «та из античных отраслей знания, которая в наибольшей степени достойна была именоваться наукой» (П. Гиро) [2]. Однако даже эти читатели, по-видимому, не очень-то уповали на возможность воскрешения риторики. И действительно, риторика, по крайней мере во Франции, прекратила свое существование в качестве теоретической отрасли знания. Известно, что еще долго предпринимались попытки спасти умирающую, против которой с наибольшим ожесточением выступали как раз те, кто, казалось, был наиболее заинтересован в ее защите: писатели, грамматисты и философы. Уже в 1836 году «Journal de 1’instruction publique» мог констатировать, что «если бы риторика не значилась в учебных планах университетов, то она давно бы уже прекратила свое существование во Франции» (Magne 1838; цит. по Perelman, 01-brechts-Tyteca 1952). И только благодаря официальной поддержке выпускной класс лицеев чисто формально сохранил это название, смысл которого со временем становился все менее и менее ясным.
Однако в настоящее время риторика является не только наукой с большим будущим, но и модной наукой, находящейся на стыке структурализма, новой критики и семиотики [1]. В 1964 году Ролан Барт вскользь упоминает о том, что «риторику следует переосмыслить в терминах структурализма», и добавляет, что «в этом направлении сейчас ведется работа». Он же посвящает свои лекции в Ecole pratique des Hautes Etudes разбору «Риторики» Аристотеля и предлагает участникам коллоквиума по социологическим вопросам литературы ряд программных положений «риторического анализа» (Barthes 1964; 1967, с. 34 — 35). Примерно в то же время в журнале «Tel Quel», который трудно заподозрить в ретроградстве, Жерар Женетт ссылаясь на множество давно забытых трактатов (Лами, Дю Марсе, Пренье, Домерон, Фон-танье и т. д.) [2], пытается дать краткое определение «языкового пространства» (espace du langage), см. Genette 1964, с. 44 — 542. Несколько позже Цветан Тодоров прилагает к своему исследованию романа «Опасные связи» описание системы тропов и фигур, в рамках которой находят свое место и оккупация, и эксполиция, и прономинация, а также некоторые другие риторические раритеты (Todorov 1967, ср. также Ed eline 1968). Закрепляя этот союз старого и нового, Кибеди Варга осуществляет последовательное сопоставление риторики и новой критики (см. Varga 1968, с. 66 — 73) 3.
У истоков современного возрождения риторики во Франции ощутимо бесспорное влияние Р. Якобсона, и в частности переведенной Н. Рюветом на французский язык в 1963 г. его книги «Очерки по общему языкознанию», в которую вошло основополагающее исследование о метафоре и метонимии. Чтобы дать представление о необычайной популярности этих двух тропов после появления книги Р. Якобсона, достаточно напомнить, что один видный философ тут же обнаружил их присутствие в «жилищной» сфере: метафорой, по его мнению, является загородная вилла с лужайкой, олицетворяющая природу и радость жизни; метонимию же он видит в многоэтажных строениях новых жилых кварталов, где целое отражено в части и часть по перестановке равна целому (L е-febvre 1966, с. 288) 4. От урбанизма до психоанализа всего один шаг. Виктор Гюго, много раз с гордостью писавший о том, что оп обратил в бегство всю гвардию «испуганных тропов», и не подозревал, что в один прекрасный день доктор Лакан [1] поставит его строке из «Спящего Вооза»: «И не было в его снопе ни жадности, пи злости» [2] — диагноз метафоры (на самом деле здесь речь идет, скорее, о синекдохе) 5. На языке парижской школы психоанализа формула метафоры выглядит несколько проще:...
из чего следует, что «девушка с зеркалами» возвращается в свет только в новом облачении [3].
* * *
Даже если старая риторика не была столь глупа, как это подчас заявляли приверженцы стилистики, никто всерьез не помышляет о том, чтобы восстанавливать ее в полном объеме. Как справедливо заметил Ж. Женетт, представители классической риторики отличались «неуемностью в поимепованиях, равносильной желанию охватить как можно больше явлений и оправдать свое существование путем увеличения числа объектов познания» (G е-nette 1964, с. 214). Таким образом, пе следует подражать Цв. Тодорову в его попытках спасти термины; топография для описания места, хронография для описания времени, этопея для описания морали и т. д. Почему бы тогда не ввести и термин цефалография для описания головы, подография для описания ноги, а также термин порнография, который Сартр неоднократно использует в «Добродетельной шлюхе»? Совершенно очевидно, что даже если эти нескончаемые перечни и не были глубинной причиной упадка риторики, то они, во всяком случае, стали ярким свидетельством ее заката. В силу этого не вызывает особого удивления презрение, с которым Шарль Балли относился к этим «терминам», которые «отличаются не только... тяжеловесностью (катахреза, ги-паллаг, синекдоха, метонимия)», но кроме того, «большинство из них не соответствует своему содержанию и не отличается достаточной точностью» (Bally 1951, с. 187)*. Основоположник экспрессивной стилистики и не мог предположить, что одному психоаналитику удастся показать глубоко метонимичную сущность человеческих желаний. Можно привести еще множество примеров столь же презрительного отношения к риторике. Например, некий приверженец грамматики, претендующий на составление «полного списка выразительных средств», любезно сообщает нам в начале главы, посвященной фигурам речи, что он «не стал тащить со свалки пыльные раритеты типа антономазий, катахрез, эпифонем, эпанорфоз, гипербатопа, гипотипозий, парономазий и синекдох» (Georgin 1964, с. 133). Так недолго иной раз выплеснуть с водой и ребенка...
От презрения до ошибки всего лишь шаг. Один известный стилист утверждал на лекциях в Сорбонне, что со времен Бальзака «образность стала главным стилистическим приемом». Эту банальную мысль весьма неуклюже выразил бельгийский поэт Робер Гоффен: «Современная поэзия шагает ногами образов». На сей раз речь уже идет не о том, чтобы отправить на свалку связку заржавевших ключей: им взамен предлагается универсальная отмычка, но описание ее вряд ли можно признать удачным. «Современная образность, — утверждает Шарль Брюно, — включает в себя целый ряд стилистических при-емюв, например синекдоху и метонимию, которые являются также и метафорами, то есть стилистическими заменами» (Bruneau 1954). Здесь важно то, что теперь уже речь идет не просто о стирании различий, признанных несущественными: утверждается, будто стиль писателен нового времени [1] не поддается анализу с помощью категорий классической риторики. Тот же Брюно пишет, что «примерно с 1830 года уже не имеет смысла говорить о классических приемах, а следует употреблять термины „образ11, „образность11, которые обозначают нечто совершенно отличное по своей природе». И тут же он приводит пример замены имени нарицательного именем собственным (с определением): имя нарицательное «проститутка» Бальзак заменяет выражением «Нинон у дорожного столба». Но чем же отличается этот прием от классического тропа, превращающего Парни во «французского Тибулла» или, как у Лафонтена, заменившего имя нарицательное «кот» на «Аттилу, грозу крыс» (L’Attila, le fleau des rats, где слово fleau ’бич, бедствие’ нужно, пожалуй, только для того, чтобы приглушить возникающий ассонанс)? [2]. Это одновременно антономазия и метафора.
Думается, нескольких приведенных примеров достаточно для того, чтобы показать, какой жестокой анафеме предали классическую риторику представители современной стилистики. Имеет смысл сразу хотя бы приблизительно определить, как соотносится с предметом и методами стилистики предпринимаемая нами ниже попытка переосмысления риторики. Вообще говоря, во всем множестве исследований, которые относятся, по крайней мере при самом широком подходе, к «науке о стиле», довольно трудно усмотреть какую бы то ни было однородность тематики. Некоторые исследователи относят сюда работы, где рассматриваются вопросы «структуры, организации и классификации литературных произведений, вопросы, связанные как с литературной нормой и ее нарушениями, так и с понятием литературного жанра, мотивации и т. д., а также общие вопросы, касающиеся искусства, произведений искусства как таковых, взаимоотношений искусства и тРУДа, языка художественной литературы, литературного творчества, соотношения стиля и творчества... вопросы эстетики, риторики, ораторской эстетики, поэтики художественного произведения, лингвистических особенностей и поэтическою своеобразия произведений того или иного автора, поэтической целостности художественного произведения, соотношения искусства и сознания, искусства и страстей», и этот список можно было бы продолжить. Разумеется, этот перечень носит несколько ироничный характер8. Но и в тех работах, где предлагается сугубо научное описание предмета стилистики, обнаруживаются все те же «захватнические» тенденции. Так, например, Же-ральд Антуан включает в перечень имен представителей «стилистики тем» имена Р. Барта, Ж. Пуле, Ж.-П. Ришара, Г. Башляра, Ж.-П. Сартра и противопоставляет эту стилистику «стилистике форм» (причем относит и ту и другую к литературной стилистике, а само определение «литературная» говорит о том, что существует, быть может, и внелитературная стилистика) (см. Antoine 1967, с. 294). Даже если в области стилистики (по крайней мере литературной) царит на сегодняшний день столь «вопиющий беспорядок», то отсюда еще не следует, что не надо пытаться придать теоретическую стройность этой обширной и столь привлекательной для многих исследователей области знаний (Mitterand 1966, с. 13 — 18). Мы, разумеется, никоим образом не хотим вмешиваться в споры между представителями различных школ. Наша цель скромнее — попытаться очертить ту область исследований, которая естественным образом отходит к риторике.
Здесь следует напомнить о том, что риторика даже в период своего расцвета была отнюдь не самой стройной из научных дисциплин. Мы имеем в виду в основном период французского классицизма (XVII — XVIII вв.), когда вопреки общепринятой точке зрения в различных трактатах высказывались самые разнообразные соображения относительно предмета исследования. Утверждение, что предмет риторики как «искусства красноречия» сводится к теории элокуции или вообще только к определению тропов и фигур, противоречило бы реальной исторической картине. В своей книге «Rhetorique он les Regies de 1’Eloquence» («Риторика, или Правила красноречия», 1730 г.) Жильбер, «бывший ректор Парижского университета, преподаватель риторики в Коллеже Мазарини (College de Mazarin)», отводит описанию тропов не более десяти страниц из 650, притом что синекдоха и метонимия у него не рассматриваются вовсе. И нет ничего удивительного в том, что еще в «доисторические» для лингвистики времена Грамматика, как «искусство владения языком», Диалектика, как «искусство спора», и Риторика, как «искусство правильного изложения», были тесно связаны между собой. Так, преподобный отец Лами начинает свой трактат (1688) с объяснения того, что такое «органы речи», затем переходит к самой «речи», которая, по его словам, есть не что иное, как «отражение наших мыслен»; потом он пишет об «именах существительных и прилагательных, артиклях, числе и падеже имен»; в другом разделе речь идет о «чистоте языка», он рассуждает также о «свойствах мозгового вещества» и о том, «как вызвать презрение к вещам, достойным осмеяния».
Наверное, и в этом случае легче просто поиронизировать, чем добраться до сути, но ясно одно: «наука о тропах», как писал Фонтанье в пособии, предназначенном для пансионов благородных девиц, где воспитанницам даются некоторые представления об изящной словесности 7, или, если угодно, тропология, которую в свое время называли также лепорией8, не покрывает собой всю область риторики. Представители как старой, так и новой риторики счгпали, что конечной ее целью является обучение технике убеждения. Поэтому понятия аргумента и аудитории являются для нее главными. Связь риторики и диалектики (в догегелевском смысле слова) была настолько прочной, что Аристотель настаивал на практической нерасторжимости этих двух понятий. Для Стагирита диалектические доказательства, опирающиеся на мнение, приобретают действенность благодаря ораторской речи, цель которой — завоевание симпатий слушателя. По разным причинам, среди которых заметную роль сыграл выявленный Платоном конфликт между истинным и кажущимся*, отношения между представителями риторики и философами с самого начала складывались не лучшим образом. Их окончательный разрыв происходит в эпоху картезианского рационализма: лишь доказательства, базирующиеся на очевидных фактах, получают право гражданства в философии. Как следствие, Лаланд даже не включит слово «риторика» в свой «Vocabulaire philosophi-que» («Философский словарь») 9. Признается, что разум бессилен в отрыве от опыта и логической дедукции, только с помощью последних становится возможным привести доказательство того или иного положения, которое будет попятно даже некомпетентной аудитории.
Подобное выхолащивание анализа реальных способов рассуждения и побудило современных логиков создать новую риторику, которую они назвали теорией аргументации. Трактат X. Перельмана и Л. Ольбрехт-Титеки, опубликованный в 1958 году, посвящен изучению техники аргументации, «позволяющей пробудить или усилить сочувствие аудитории к предложенным на ее суд тезисам» (Perelman, Olbrechts-Tyteca 1958). Оригинальность и важность результатов, полученных этими неори-торами, не подлежит сомнению [1]. Бесспорно также и то, что подобные исследования относятся к области риторики. Среди прочего X. Перельман указывает па важную роль вывода по аналогии, переходя затем к рассмотрению статуса метафоры. В принципе, как нам кажется, не исключена возможность объединения двух тенденций, которые исторически обусловили внутренний раскол традиционной риторики: логической тенденции, основывающейся на конативной функции языка, и эстетической тенденции, тяготеющей к размышлению о его поэтической функции. Этот синтез, естественно, не подразумевает возврата к классическому компромиссу, состоявшему в определении риторики как искусства правильной речи с целью убеждения. Преподобный отец Ламп считал это определение избыточным, так как, по его мнению, никто не обучает искусству делать что бы то ни было неправильно и говорим мы только для того, чтобы вызвать созвучные нам чувства у тех. кто нас слушает. Если отказаться от мысли, что искусство есть дополнительное украшение, станет возможным рассматривать риторику уже не как инструмент диалектики, а как орудие поэтики. Действительно, оратор пользуется метафорой для того, чтобы предотвратить возражения аудитории, в то время как поэт прибегает к ней потому, что она ему приятна; но и в том и в другом случае метафора эффективна лишь в той мере, в какой она развлекает читателя, лишь в той мере, в какой она способна пробудить его воображение.
Однако последние риторы проявили робость перед последствиями открытия, сделанного ими интуитивно. Находясь в плену у закоснелой традиции, не ведая об эстетических теориях немецких философов, осмеянные литераторами, отринутые первыми представителями научной лингвистики, они в конце концов выходят из игры10. Но заняли ли их место стилисты, с которыми мы могли бы продолжить наш спор? «Стилистика или риторика», — провозгласил Новалис, одним из первых употребивший термин «стилистика» н. Пьер Гиро, напомнивший об этом факте, полагает, чтс «риторика — это стилистика древних». Но можно ли говорить о том, что стилистика — это современный вариант риторики?
Учитывая существенные различия в составе (корпусе) изучаемых обеими дисциплинами явлений, весьма сомнительно, чтобы современная стилистика очень дорожила этой преемственностью. Анри Миттеран заметил, что стилистика не стремится научить писать, что было одной из задач старой риторики; да и в литературной стилистике речь не идет о том, чтобы «втиснуть литературное произведение в сетку априорных классификаций, рискуя полностью извратить его смысл». Если бы даже целью стилистики являлось не изучение психологического или социально-культурного генезиса художественного произведения, а выяснение вопроса о том, «каким образом и почему текст становится выразительным» (вопрос, интересующий и описательную стилистику), «терминология старой риторики и грамматическая терминология оказались бы в равной степени непригодными» по той простой причине, что воздействие фигур меняется в зависимости от контекста (Mitterand 1966) 12. Эти замечания в равной мере направлены и против стилистики языка Ш Балли — которую П. Гиро тоже причислял к разряду «дескриптивных» — и против риторической «тропологии». Есть основания считать, что прекрасное всегда уникально, а эстетическая ценность произведения находится в зависимости от оригинальности его структуры Если прекрасное, говоря словами Бодлера, всегда странно (bizarre), то нужно обладать зашоренностью педанта от эстетики, чтобы осме литься предсказать ею появление Можно быть лишь свл детелем всегда неожиданного появления прекрасного Иначе говоря, «дескриптивная», или же «структурная», стилистика рассматривает литературное произведение как речь, не соотнесенную с языком, как сообщение, не соотнесенное с кодом.
Это сильная позиция, особенно если учесть, что под воздействием концепции Кроче, о которой речь еще пойдет ниже, она, хоть и в неявной форме, обрела философскую основу Подобная точка зрения выступает антиподом классической риторики, стремившейся канонизировать отклонения, что в целом особенно характерно для эпохи классицизма, причем канонизировались не только формы, но и содержание. Напомним хорошо известное противопоставление «фигур воображения» (figures d’invention) и «принятых фигур» (figures d’usage). В рамках этой дихотомии не только описывался метафорической перенос значения, но и составлялись списки разрешенных метафор, дополнять которые можно было, лишь соблюдая чрезвычайную осторожность. Не следует думать, однако, что упомянутое противопоставление в настоящее время лишено всякого смысла Общепринятая метафора, например, может дать отклонение второго порядка. Это прием так называемого «пробуждения» уснувших метафор- «на то, что однажды было доказано, не может пасть и тень сомнения» (Bally 1951). С другой стороны, не столь абсурдно предположение, что когда-нибудь мы опять вернемся, но уже с новых позиций, к старому проекту классификации наполненных фигур (figures remphs), то есть всего того, что относится к понятию определенного жанра и конкретной эстетической категории (именно это мы будем в дальнейшем называть этосом фигур). Однако имеющиеся на данный момент исследовательские процедуры относятся только к пустым фигурам (figures vides), то есть к их фиксированной форме, а не изменяющейся субстанции. Хотя такой подход и не объясняет, почему и каким образом данный текст воздействует на читателя, он позволяет нам по крайней мере судить о том, почему и каким образом данный текст становится текстом, то есть о том, какие языковые приемы характерны для литературы. Например, если мы утверждаем, что тот или иной образ прекрасен, поскольку он еще никем ранее не был использован (именно данным способом и в данном контексте), то прежде всего необходимо сначала удостовериться в том, чтобы это был действительно образ. Мы будем исходить из того, что литература — это прежде всего особое использование языка *. Теория этого особого использования и является в первую очередь предметом общей риторики, обладающей, как представляется, способностью к различным экстраполяциям.
* * *
Рассмотрим теперь несколько важных следствий, вытекающих из нашею решения рассматривать литературу с позиций языка. Для большей простоты изложения мы бу дем рассматривать только поэзию в современном смысле слова [1], но то, что здесь будет сказано о поэзии, можно отнести ко всем видам литературы именно потому, что все они относятся к сфере искусства. Как верно заметил Поль Валери, поэзия — это литература, «сведенная к квинтэссенции своего активного начала». Принятая нами условность в словоупотреблении небезупречна, по она обеспечивает большую простоту изложения.
Согласно традиции, поэзию можно определить как «искусство владения языком» (Part du langage), однако следует тут же обратить внимание читателя на неоднозначность этого определения Одно из значений слова «искусство» — умение, совершенство в исполнении. Если расширить это значение, то слово «искусство» может быть понято как свод правил, обеспечивающих совершенство исполнения. Так, у схоластов логика — это искусство рассуждения, однако можно овладеть и искусством любви, искусством быть дедушкой, а также многими другими видами искусства вплоть до искусства жить и искусства умирать. В другом своем значении «искусство» (1’art de) обозначает различные виды творческой деятельности, связанной с достижением эстетического эффекта, причем исходный материал и средства каждого из этих видов отличаются от материала и средств остальных видов. При интерпретации выражения «искусство владения языком» можно воспользоваться первым толкованием и считать, что целью поэзии является получение адекватного и естественного выражения, и, следовательно, поэзия есть не что иное, как правильное использование языковых средств. Мы не разделяем этой точки зрепия, однако она имеет мною авторитетных защитников, и поэтому па пей следует остановиться особо. Мы имеем в виду в первую очередь Бенедетто Кроче, который в своей «Эстетике», опубликованной в 1902 году, смело отождествил понятия искусства и выражения, как, впрочем, выражения и интуиции; таким образом, в его концепции лингвистика целиком растворялась в эстетике. Итальянский философ считал, что мысль не предшествует ее выражению и поэтому язык нельзя рассматривать как средство коммуникации. «Он возникает спонтанно вместе с выраженным с его помощью представлением». Неразрывно связанное с «выражаемым» само выражение относится к области «созерцания», а не к практике. Таким образом, учение Кроче по некоторым основным пунктам противостоит соссюров-ской доктрине, против которой он в каком-то смысле выступал еще до ее появления (Lame ere 1936, в особенности гл. HI; см. также Leroy 1953).
В отличие от швейцарского ученого итальянский философ отрицает существенность разграничения между языком и речью, и уж во всяком случае примат языка по отношению к речи. Система не предшествует своей реализации — с этим допущением согласился бы и Соссюр, — самой системы попросту не существует. И уж совершенно нелепо, по мнению Кроче, полагать, что человек говорит так, как того требует словарь и грамматика. Анализ лингвистических категорий признается совершенно излишним, так же как, впрочем, и распределение литературных произведений по различным жанрам или школам, или составление перечня риторических фигур. Никаких фигур не существует, и если прямой смысл уместен, то рождается прекрасное, поскольку прекрасное — это всего лишь определяющее свойство выражения. (И наоборот, образное выражение, если оно прекрасно, всегда уместно.) Строго говоря, нет никакой разницы между «удачностыо» или «красотой» выражения и самим его существом, ибо выражение существует только благодаря своей эстетической значимости. Отсюда следует, что говорить в полном смысле слова умеют только поэты, а простые смертные говорят постольку, поскольку они тоже в какой-то степени поэты. Только эмпирически homo loquens отличается от homo poeticus: лишь из соображений удобства некоторые люди, обладающие богатой и сложной «интуицией-выражением», называются поэтами.
При таком унифицирующем подходе, как у Кроче, где «философия языка и философия искусства суть одно и то же», ничто не мешает нам рассматривать словесное выражение как модель любого выражения, например выражения средствами живописи или музыки, поскольку собственно вербальный аспект словесного выражения сам по себе не представляет интереса. И в самом деле, с эстетической точки зрения выражение является актом духовного творчества, абсолютно законченным образом в нашем сознании, для которого специфика определенной материальной среды, в которой он воплощается, несущественна. Все, что касается техники, относится к области практики. В области теории, куда, собственно, и входит искусство, не может быть особой эстетики для каждого конкретного случая: дать определение одному виду искусства — это все равно, что дать определение всем его видам.
Мы, естественно, не ставим перед собой цели дать подробный анализ эстетической концепции Кроче и не претендуем также на то, чтобы разом опровергнуть доктрину, которая так плохо поддается критике. Просто для нас важно было напомнить здесь об основных положениях концепции, которая сразу же противопоставила себя современным попыткам создать науку о литературе. Ибо в рамках современной эстетики исследователи пытались разработать методику анализа именно тех явлений, которые Кроче считал не поддающимися анализу. Мы не утверждаем, однако, что все положения, которые в свое время он так рьяно защищал, сейчас преданы забвению. Можно даже сказать, что основной тезис Кроче — в котором получают развитие идеи Ф. де Санктиса, — а именно, что искусство является формой, и только формой (форма nponiBoiiociявляется здесь материи, а не содержанию), в наши дин более актуален, чем когда бы то ни было. Отождествляя искусство и язык, Кроче тем самым отвергал возможность подхода к искусству как к языку, когда искусство рассматривается как сообщение, а последнее сводится к своему содержанию, поскольку в эстетической концепции Кроче сообщение — это всего лишь сообщение и больше ничего.
Теперь мы с полным оспованием можем перейти от концепции Ь. Кроче к Р. Барту, от итальянского философа к французскому неоритору. Для Барта «литература есть не что иное, как язык, то есть система знаков: суть ее не в сообщении (message), а в самой этой системе» (Barthes 1967, с. 134). Существенным с точки зрения литературности является не то, что передается сообщением, а само сообщение как система. Неважно, что здесь речь идет о литературе, а не о поэзии, поскольку Кроче относил к поэтическим произведениям как «Цветы зла», так и «Госпожу Бовари», а новая критика, со своей стороны рассматривая вопрос о литературности (literari-te), имеет в виду как романистов, так и поэтов. Таким образом, мы имеем полное право провести параллель между определением Барта и высказыванием поэта Рэнсома, заимствованным Р. Якобсоном: «Поэзия — это особый язык» [1].
Разумеется, это определение не сводится к тому, что поэзия и есть язык как таковой («искусство владения языком» в смысле правильного использования языка). Это определение также не отождествляет поэзию с одним из существующих языков («искусство владения языком» было бы тогда чем-то вроде искусства обращения с бронзой, когда имеется в виду не совершенствование бронзы, а эстетическая деятельность, для которой бронза является лишь материалом). У Якобсона, так же как и у воспринявших его идеи приверженцев новой критики и семиотики, заявление о языковой природе поэзии означает, что в компетенцию лингвистики включается изучение особых языковых структур, а именно структур поэтических. Но мы увидим, что при таком чисто лингвистическом подходе исследователь в конце концов будет вынужден признать, что поэзия не может рассматриваться как язык. Определение поэзии как одного из ряда других языков нельзя считать окончательным. Это не более чем рабочее определение, его можно рассматривать как окончательное только в эмпирическом плане, с теоретической же точки зрения это всего лишь некоторый этап исследований. Наш тезис состоит, таким образом, в том, что особенности поэтического языка таковы, что они в конечном итоге заставляют отказаться от определения поэзии как языка. Но именно выявление этих особенностей приводит нас к выводу о неязыковой природе литературности.
* * *
У специалистов по стилистике тезис о том, что стиль может рассматриваться как языковое отклонение (пи ecart lingustique), вызывал бесконечные и .зачастую бесплодные дискуссии. Стиль в самом широком смысле определяется обычно как сущность литературного начала. Естественно, было бы наивно считать, что мы, указав па некоторое отличие литературной коммуникации от нелитературной, очень сильно продвинемся вперед. Это все равно что постулировать отличие литературы (или — с учетом принятого нами ограничения — поэзии) от не-ли-тературы (которую во французской традиции принято называть прозой). С точки зрения Кроче, то же самое можно было бы выразить так: стиль — это просто «аспект языка, который используется в литературных целях в данном произведении» (Delbouille 1960, с. 103) 13. Но разве данное утверждение не сводится к тому, что «стиль — это литературный язык» или, в конечном итоге, что «литература — это литература»?
Поскольку практической пользы от тавтологий мало, предпочтительней, по всей видимости, запяться выяснением специфических черт поэтической речи. Именно этим усердно занимались специалисты по поэтике. Но сам термин «отклонение», приписываемый П. Валери и введенный в обиход Ш. Брюно, вызывает целый ряд возражений, как впрочем замечание Ш. Балли о том, что «человек, который первым назвал bateau a voile парусное судно’ npocio voile парус’, допустил ошибку».
Среди эквивалентов термина «отклонение» мы находим у разных авторов злоупотребление (abus — П. Валери), насилие над языком (viol — Ж. Коен), бесчинство (scandale — Р, Барт), аномалия (anomalie — Цв. Тодоров), безумие (folie — Л. Арагон), уклонение (devation — Л. Шпицер), разрушение (subversion — Ж. Петар), взлом (infraction — М. Тири) и т. д., причем чаще всего авторы употребляют эти слова, не придавая им точного терминологического значения. Поскольку у всех этих терминов имеются ярко выраженные коннотации из области морали или даже политики, такое словоупотребление вызвало немало нареканий, ибо на первый взгляд оно созвучно с очень модной в XIX в. теорией, которая рассматривает искусство как некое патологическое явление (поэт всегда невропат, Эль Греко страдал астигматизмом и т. п.). Ж. Коену мы обязаны тем, что в своей прекрасной работе «Структура поэтического языка» (Cohen 1966) он подчеркнул значение операции редукции отклонения, поскольку за фазой разрушения языковой структуры обязательно следует фаза ее восстановления. В нашем случае было бы наивным считать, будто отклонение можно определить просто как «расхождение с принятой нормой», это привело бы к смешению понятия стилистической фигуры с понятием варваризма. Повторяем еще раз, что только как временные рабочие варианты можно рассматривать такие положения, как: «Поэтический язык по только не имеет ничего общего с правильным употреблением языка, он является его противоположностью. Его сущность сводится к нарушению принятых языковых норм» (Todorov 1965, с. 300 — 305). Это то же самое, что рассматривать женщину с точки зрения того, чего ей не хватает, чтобы быть мужчиной, а цветное население — с точки зрения того, что ему нужно, чтобы быть причисленным к белой расе, и т. п. В некоторых культурах имеются примеры характеристик такого рода.
Разумеется, весьма тонким моментом в предложенном выше определении является понятие нормы, при помощи которого определяется отклонение, которое в дальнейшем само получает статус нормы. Уже Дю Марсе в своем «Трактате о тропах» (XVIII в.), вновь ставшем популярным в связи с возрождением риторики, высказывал несогласие с определением фигур, данным Квинтилианом; фигуры, по мнению последнего, — это «высказывания, далекие от естественного и принятого способа выражения». «Но, — возражает Дю Марсе, — в базарный день на центральном рынке можно услышать больше фигур, чем За несколько дней в академическом собрании» [1]. Его современник Вико отстаивал идею о привилегированном положении поэзии — мысль, которую Жап-Жак Руссо выразил в более отточенной форме: «Поэзия зародилась раньше прозы: так и должно было быть». Таким образом, ничто пе мешает нам считать базарных торговок, которым нельзя отказать пи в «естественности», ни в «нормальности», самыми настоящими поэтессами. Для этого надо лишь принять допущение, что дикий, стихийный, устный период развития литературы предшествовал формированию ее письменной традиции, ее становлению как культуры.
Однако даже если в далеком прошлом люди и говорили стихами, то в наши дни эта привычка заметно утеряна. Вопрос по своей сути сводится к тому, чтобы понять, в какой степени особенности поэтической речи, выявляемые путем эмпирического наблюдения, покрывают определение факта поэзии. На данном этапе нам важно выявить инварианты литературного употребления языка, оставляя в стороне моменты исторического и индивидуального характера. По указанной выше причине было бы неосмотрительно брать в качестве точки отсчета то, что удобства ради называют «обиходным» или «разговорным» языком, языком «человека с улицы». Поэтический язык имеет смысл, скорее, рассматривать в свете теоретической модели коммуникации, как делал это, например, П. Сер-вьен, предложивший дихотомию научный язык (НЯ)/лирический язык (ЛЯ) (Servien 1935). В предложенной концепции поэтическое высказывание отличается от высказывания, имеющего статус научного, качеством связи между знаком п его значением; поэтическое высказывание невозможно перевести на другой язык, невозможно адекватно изложить его содержание, его нельзя отрицать, нельзя подобрать для него какой бы то ни было эквивалент. Все эти факты хорошо известны. Но в чем причина таких явлений, каким образом поэтический текст реализуется как имманентная сущность? Что это, милость божья или труд простого смертного, мистика или ремесло? Отражает ли множество «дополнительных структур» (L е-vin 1962) 14, включаемых поэтом в поэтическую речь, экспрессивные возможности поэтического произведения?
Среди подобных дополнительных структур наиболее заметными являются ограничения, накладываемые стихотворным размером и рифмой. По поставить знак равенства между версификацией и поэзией — это все равно, что идти наперекор современным теориям, четко разграничивающим эти понятия. Уже в академическом словаре 1798 года, где сказано, что «поэзию можно также определить как сумму качеств, присущих хорошим стихам», приводится следующий пример: «Здесь я вижу стихи, но поэзии в них нет» (см. Soreil 1946, с. 209). Однако если стих в узком смысле этого слова не гарантирует наличия поэтическою начала, то отсюда еще не следует, что приемы, характерные для поэтического использования языка, например версификация (по и не только она), не входят в состав множества приемов, необходимых для достижения поэтического эффекта. Одним словом, необходимо дать обобщенное определение понятия стиха.
В своих знаменитых лекциях Р. Якобсон попытался выделить принцип, лежащий в основе всех поэтических приемов. Им стал перенос принципа тождества на синтагматическую последовательность как приема, регулирующего ее формирование. Если в обычном языке с референциальной функцией правила тождества регулируют выбор единиц из парадигматического ряда, а синтагматическое оформление подчиняется только принципу смежности между выбранными единицами, в поэтическом языке закон подобия действует также и в синтагматической последовательности. Отметим еще раз, что регулярный повтор одинаковых звуковых единиц — всего лишь самое наглядное проявление принципа тождества. Соединения (couplages) (воспользуемся на сей раз термином, предложенным Левином) встречаются не только в последовательности фонем, они проявляются и на семантическом уровне. Метафора, если понимать этот термин в самом широком смысле, несомненно, является одним пз главных средств в механизме поэтического воздействия. Кроме того, явление «параллелизма» (в терминологии Гопкипса) касается и отношений между означающим и означаемым, ибо в отличие от референциального употребления языка, где связь между звуком и значением почти всегда представляет собой закодированную связь по смежности, поэтический язык постоянно стремится мотивировать знак, решительно принимая сторону Кратила против Гермогена. Взятые вместе или по отдельности уподобления такою рода, как опять-таки показал Якобсон, заставляют слушающего сосредоточить свое внимание на самом сообщении. Поскольку такое овеществление сообщения всегда присутствует в той или иной степени в любом коммуникативном акте, Якобсон приходит к выводу о необходимости различения поэтической функции, с одной стороны, и поэзии, где эта функция преобладает, — с другой. Поэтическая функция совпадает, по крайней мере частично, с тем, что Омбредан с позиций психологии называл игровой функцией (fonction ludique) языка. Возможно, было бы предпочтительнее во избежание всевозможных разночтений говорить в таких случаях о риторической функции (fonction rhetorique).
Эта ссылка на риторику ставит нас перед необходимостью уточнить один важный вопрос. Понятие «дополнительной» структуры, свойственной поэтической речи, нельзя признать удачным. В итоге оно возвращает нас к старой идее о «привнесенном», «дополнительном» украшательстве. Но поскольку язык — система, нельзя вводить в него дополнительные базовые элементы, не изменяя коренным образом природу целого. Жап Коен писал, что, когда поэт использует фонемы не в смыслоразличитель-пых целях, он не просто суммирует, не просто сопоставляет два различных приема: его действия имеют гораздо более серьезные последствия, поскольку он тем самым ставит под вопрос одно из основных условий функционирования языка. Конечно, «иконичность», по Пирсу, или «символичность», по Gocciopy, заслуживают большего внимания, чем предполагалось ранее (см. Jakobson 1965); в поэтической речи наблюдается особая тенденция к преумножению миметических приемов: ввести фигуру в речь — это все равно, что отказаться от той «прозрачности» (transparence) знака, которая вытекает из его произвольности, то есть отказаться от идеи о нерасторжимости связи между означаемым и означающим. Ибо языковой знак воспринимается нами как знак в чистом виде лишь постольку, поскольку он в самом прямом смысле слова субститут, пустая форма, которая «прозрачна» и легко стираема именно потому, что сама по себе она всего лишь различительная единица. Если, как считал Платон, суть сходства определяется через различие, то сделать ставку на образ — это значит отказаться от столь привычной и приятной нам «прозрачности» знаков, лежащей в основе естественного языка, и обратиться к «непрозрачной» речи, — непрозрачной в той степени, в какой она фиксирует наше внимание на себе, прежде чем показать нам мир. Конечно же, значение не полностью заслоняется риторическими приемами: понятие ничего не означающего знака внутренне противоречиво, и, как бы ни были интересны попытки создания чисто звуковой или визуальной литературы, следует признать, что они выходят за рамки собственно поэзии, захватывая область музыки и изобразительного искусства. Таким образом, референциальная функция языка не уничтожается, да и не может быть уничтожена поэтом, так как он всегда оставляет за читателем право восторгаться в его творениях тем, что не относится непосредственно к области поэзии. Но поскольку значения в поэтическом языке воспринимаются опосредованно, как бы издалека, поскольку они уже не являются всецело функцией соответствующих знаков, язык писателя может только создавать впечатление (faire illusion), а не обозначать, то есть язык сам создает свой объект. В своем поэтическом качестве поэтический язык не имеет референции, он референциален лишь в той степени, в которой он непоэтичен. А это значит, что к искусству как таковому неприменимы понятия Истины и Лжи — факт давно всем известный, но периодически предаваемый забвению: существует названная вещь на самом деле или нет, для писателя несущественно.
Последним следствием такого видоизменения языка является то, что поэтическая речь обнаруживает свою несостоятельность как средство коммуникации. С ее помощью нельзя ничего сообщить или, скорее, можно сообщить только то, что касается ее самой. Можно сказать также, что содержащееся в ней сообщение адресовано ей самой и эта «внутренняя коммуникация» есть не что иное, как основной принцип художественной формы. Включая в свою речь на всех ее уровнях и между ними множество обязательных соответствий, поэт замыкает речь на ней самой: и именно эти замкнутые структуры мы называем художественным произведением.
Мы очень далеки от того, чтобы рассматривать поэтический язык как модель языка вообще, поскольку сам по себе язык не обладает самоценностью формы. Если понимать слово «стих» в его самом обычном, узком значении, то мы полностью присоединяемся к несколько неожиданному высказыванию Э. Жильсона: «Стихи только для того и нужны, чтобы не дать поэту говорить» (Gilson 1964, с. 218) 15. Но, с другой стороны, мы не утверждаем, что поэзия (и литература как вид искусства) — это какой-то «другой» язык; есть только один язык — язык, который поэт изменяет или, точнее, говоря, полностью преобразует.
* * *
Определение литературы как преобразования языка созвучно, во-первых, с современной трактовкой искусства как творчества, а во-вторых, с таким давним наблюдением: чтобы создать что бы то ни было, человеку необходим исходный материал; поэтическое творчество — это формальная переработка языкового материала. В каком-то смысле любое проявление творческого начала в рамках языка является художественным творчеством в той степени, в какой любая диалектика становления является искусством,6. Так, изобретательность, оригинальность, свежесть и прочие эпитеты, которыми со времен романтизма щедро наделяли народные говоры, жаргон, детскую речь и т. п. — часто переоценивая их творческий потенциал 17, — в некоторой степени оправдывают идею «естественной», «сырой» поэзии, ставшей общим достоянием, доступной любому носителю языка. Именно так называемые естественные языки изобилуют образными выражениями, пословицами, образными сравнениями, ритмизованными выражениями и т. п. — то есть следами свободного, стихийного поэтического творчества; одним словом, здесь имеется своя застывшая риторика, которую, однако, можно вернуть к жизни. Но когда ученый придумывает неологизм, чтобы обозначить новое химическое соединение, или когда Бергсон использует метафору для того, чтобы обозначить вид интуиции, который, но его мнению, не может быть определен обычным способом, их словотворчество не является в полном смысле слова литературным. Как принято сейчас считать, не риторические фигуры «служат» писателю, а он служит им. Этого достаточно, чтобы провести теоретическую грань между использованием языка в эстетических и неэстетических целях. Но на практике «истинные» в указанном смысле слова писатели встречаются очень редко. Однако такой поэт, как Малларме, по-видимому, может быть отнесен к их числу. Что касается прозаиков и романистов, то они в известной степени не писатели, а просто люди пишущие, пользующиеся риторическими приемами для того, чтобы лучше изложить свои мысли, творящие для того, чтобы что-то выразить, в то время как настоящий художник выражает, чтобы творить.
Может показаться, что все приведенные выше соображения возвращают нас к известному определению стиля как «отклонения от нормы», общему месту стилистики. Мы уже указывали на неоднозначность и в конечном итоге на непригодность такой формулировки, но тем не менее подчеркивали ее уместность в практическом плане. Таким образом, сказать, что «литературность» — это некоторое отклонение. — равноценно утверждению, что она является каким-то особым явлением. Любое понятие, если ему дано определение, можно считать отклонением относительно чего-то другого: даже понятие бытия есть отклонение относительно небытия. На самом высоком уровне обобщения это сомнительное определение просто постулирует наличие по меньшей мере двух форм существования языка: его функционирование в качестве языка литературы и другие его функции. В целом здесь нет ничего оригинального. Однако наиболее часто встречающиеся варианты этого определения обросли почти тератологическими коннотациями, от которых важно вовремя избавиться. Когда, например, Клодель утверждает, что «великие писатели созданы не для того, чтобы терпеть насилие грамматистов, а для того, чтобы создавать собственные законы и навязывать всем не только свою волю, но и свои капризы» (цит. по Sore il 1946), он прекрасно отдает себе отчет в том, что мы тем не менее не обязаны восхищаться любыми ляпсусами и ошибками или причислять к стилистическим приемам любое отсутствие связности в тексте. Так, П. Валери, определив писателя как «агента отклонения» (agent d’ecarts), вносит вслед за этим уточнение, что в этом определении имеются в виду только «отклонения, которые обогащают язык».
Если для того, чтобы стать поэтом, недостаточно расшатать языковую систему, то и для того, чтобы создавать хорошую литературу, нет необходимости пускать в ход одновременно все риторические приемы. Мы знаем, что многие писатели избегали слишком очевидных нарушений языковых правил, нарушений, которые были так дороги представителям стиля барокко, пре-циозной литературы и всех видов маньеризма. Но и здесь следует тщательно избегать преувеличений. Вольтер считал qu’il mourflt «выражением, в высшей степени возвышенным» [1]. В этой знаменитой реплике можно увидеть не только литоту — отказ от ожидаемой в этом случае эмфазы; легко заметить, что отсутствие фигуры в свою очередь может быть фигурой, что значимое отсутствие нужного отклонения тоже может быть отклонением. Кроме того, если кто-нибудь в качестве возражения сошлется на авторов, стиль которых Дю Бос [2] называл стилем «чистого звучания» (cristallin), то есть «сводящимся к специфическому использованию общепринятых языковых средств» (цит. по Soreil 1946), то мы вправе спросить, действительно ли в этих случаях авторам удалось избавиться ог этих назойливых фигур: то, что специфично, не может быть общепринятым. К тому же претензии на «бесцветность» (blancheur), нейтральность стиля часто оказываются иллюзорными. Если метафора проникает даже в научные трактаты, а парономазия — в труды по психоанализу, то можно не сомневаться в том, что оригинальность этого нарочито нейтрального стиля рано или поздно даст о себе знать.
Основной источник недоразумений в рассматриваемом нами определении кроется прежде всего в полисемии слова «норма». Кинзи показал, что с позиций социологии нет ничего более нормального, чем мастурбация, которая с точки зрения традиционных моральных норм является очевидным отклонением. С точки зрения норм социальной справедливости у каждого должен быть свой насущный кусок хлеба, что для статистики не существенно, ибо она пользуется принципиально иными критериями. Таким образом, важно выяснить, от какой нормы отталкивается писатель: от той, которая предписывает, как «должно быть», или от той, которая основывается на «обычном положении вещей, на наиболее часто встречающихся случаях» (словарь Robert). Можно с уверенностью утверждать, что здесь приемлемы оба значения. Как мы уже говорили выше, специальные литературные приемы отнюдь не способствуют осуществлению коммуникации в короткие сроки с достаточно ясным отражением содержания сообщения, они не являются лучшим средством для выражения и передачи информации. Но коль скоро сама природа литературного творчества сводится к отклонению от языковых норм в рассмотренном выше значении, отклонение это становится нормой для литератора, пишущего так, как он должен писать, тщательно избегающего того, что характерно для нелитературных текстов.
Если бы мы захотели выяснить, насколько часто язык используется в литературных целях, нам нужно было бы, разумеется, обратиться за помощью к Великому Компьютеру. Но тем не менее можно высказать ряд простых соображений по этому поводу. В рамках гипотезы «естественной» поэзии, когда поэзия включается в структуру реально существующих языков, эмпирическое формирование которых длилось веками, есть основание предположить, что и в самом деле, как мы уже говорили выше, цитируя знаменитое изречение Дю Марсе, в языке фигур нет ничего особенного. Только намерения этого «миллионного писателя», вбирающего в себя всех носителей языка, не нацелены на фигуры как таковые. Если же мы подойдем к этим явлениям с позиций литературы как вида профессиональной деятельности, то очень высока вероятность того, что ее язык, плохой или хороший, не будет тем языком, на котором говорит большая часть его носителей. Разумеется, можно представить себе микрообщество — фаланстер поэтов, например, — где речь будет изящной, даже в тех случаях,.когда служанку просят принести домашние туфли Тогда, разумеется, норма отеля Рамбуйе или Вторников на Рю-де-Ром будет отличаться от нормы человека с улицы. И наконец, когда требуется дать определение не стилю вообще, а стилю конкретного произведения, стилю того или иного автора, той или иной литературной группировки, той или иной эпохи, норма в статистическом отношении будет меняться в зависимости от принятой точки зрения. На этот счет в области стилистики накоплено, действительно, немало специальных исследований и сформулирован ряд методических правил, которые позволят когда-нибудь, наверное, восстановить эти «вложенные» друг в друга риторические коды, соответствующие таким сообщениям, классам сообщений, классам классов сообщений и т. д.
Прежде чем вернуться к обсуждению трудностей, связанных с практическим определением нормы как «нулевой ступени» (degre zero) литературности, имеет смысл обсудить еще два типа возражений, выдвигаемых иногда против понятия отклонения. Являются ли отклонения «нарушителями порядка»? Если да, то в школе тогда придется приводить их в качестве примеров, которым не надо следовать. В действительности же художественные тексты не без основания рассматриваются как образцы правильной речи, правильной с точки зрения нормативной грамматики: писатели лучше, чем кто бы то ни было, знают языковой материал, они чувствуют его, как скульптор чувствует мрамор. И когда Тодоров настаивает на том, что «стилистические эффекты существуют лишь постольку, поскольку они противопоставлены норме, принятому употреблению» (цит. по: Antoine 1959, с. 57), тут же следует добавить, что то, что вызывает эти эффекты, отражает в равной степени и отклонение и норму. Метафора, к примеру, воспринимается как таковая только тогда, когда она содержит отсылку как к прямому, так и к переносному значению. Таким образом, именно отношение норма/отклонение, а не отклонение как таковое является главным для понятия стиля. Рассмотренный выше принцип критиковали также и за то, что он неверен с психологической точки зрения по той простой причине, что читатель никогда не соотносит прочитанное с какой бы то ни было «нулевой ступенью» и, если так можно выразиться, воспринимает фигуру непосредственно, без дополнительных операций. Здесь, как и выше, следует различать несколько разных случаев. Известно, что читать можно по-разному. Неискушенный читатель больше внимания уделяет содержанию сообщения, а не его форме, сюжету романа, а не повествовательным структурам. Но разве нельзя ие согласиться с тем, что процесс чтения образованного читателя — по всей видимости, всегда предполагающий возвращение к прочитанному — сводится в каждом конкретном случае к многократному сравнению имеющихся отклонений с одной или несколькими нормами? Следует заметить, что для произведений искусства характерно, в частности, то, что свою «индивидуальную» истину они выдают за истину абсолютную. Риторические приемы ослепляют читателя, как правило подавляя в нем критическое начало, в основу которого положено сравнение. Но независимо от того, хотим ли мы определить стилистические приемы в тексте (научное прочтение), или выступить в роли их ценителей (эстетическое прочтение), в любом случае срабатывает механизм отсылок-, парадигматическое пространство дискурса принимает более четкие очертания, оценить прочитанное теперь все равно, что выбрать, предпочесть те или иные ассоциации. Впрочем, нельзя забывать о том, что эти сравнения возникают уже на чисто автоматическом, спонтанном уровне восприятия.
Даже если выдвинутая нами гипотеза относительно разновидностей чтения не кажется достаточно убедительной, мы можем тем не менее утверждать, что теория отклонения оправдывает себя с практической точки зрения, поскольку она позволяет как-то объяснить имеющиеся факторы. Конечно же, не трудно выставить в карикатурном свете деятельность риторов, сводя ее к восстановлению прямых значений слов, составлению списков типа «так можно сказать, а так — нет» или составлению словарей типа словаря Сомеза: «Врач = незаконнорожденный сын Гиппократа», «Дом = необходимая крепость», «Жениться = предаваться разрешенной любви», «Красивая рука = красавица в движении» и т. д. Очевидно также, что Сен-Поль-Ру не «хотел сказать» графин, когда говорил хрустальная грудь. Еще более очевидно, что при ак-рофонической перестановке нам не предлагается угадать, какое слово было исходным, ее цель — фиксировать внимание читателя на результирующем иногда непристойном слове, как бы ставя под сомнение самое «благопристойность» языка. Тем не менее только преобразование данного языкового выражения в другое, эквивалентное ему в каком-то отношении, дает нам возможность приписать первому какой-то смысл. На практике же восстановление «нулевой ступени», или точки отсчета, — дело не всегда простое. Определить троп как изменение смысла — это одно, но точно определить собственное, прямое значение конкретного метафорического выражения — это другое. По-видимому, в некоторых случаях невозможно восстановить собственное значение того или иного выражения. В особенности это характерно для ситуаций, когда в сообщении содержится отсылка не к двум, а к большему числу значений. При этом возникает ощущение или иллюзия бесконечности. Такая концепция, приближающаяся к известным теориям символизма, ничуть пе противоречит идее отклонения: появление сложного смысла обнажает основной прием риторического оформления мысли.
* * *
Целью общей риторики, один из вариантов которой будет предложен в данной книге, является анализ механизмов выше упомянутых преобразований. При этом необходимо самым тщательным образом различать виды подобных преобразований и типы исходных объектов. В классической риторике, как мы уже указывали выше, преобразований различных видов было предостаточно: в каком-то смысле это и послужило причиной ее гибели. Но предлагаемые ею «классификации» фигур были часто совершенно неудовлетворительными и, скорее, напоминали сюрреалистические таксономии Древнего Китая, о которых писал Борхес.
В то же время не следует недооценивать важность некоторых классических схем, среди которых встречаются очень древние, хотя их изложение у более поздних авторов весьма неточно. Так, теория quadripartita ratio, изложение которой мы находим, в частности, у Квинтилиана 19, при ближайшем рассмотрении оказывается очень мощным инструментом анализа (что мы и попытаемся показать в первой главе). Понятие «фигура мысли» (figures de pen-sees), которое воспринималось некоторыми весьма скептически, также может быть, как нам кажется, использовано в достаточно связном теоретическом построении.
Без сомнения, самым существенным здесь является определение основных аспектов языка, поскольку риторическая интенция может быть нацелена на любой из них. Под словом «язык» (langage) здесь, как, впрочем, и в предыдущем изложении, мы имеем в виду всю совокупность языковых явлений, причем «язык» (langue) в сос-сюровском смысле для нас всего лишь один из его аспектов. Здесь, как и раньше, мы будем исходить из предложенной Р. Якобсоном схемы [1], где обобщаются классические труды Омбредана, К. Бюлера, Ч. Морриса и т. д. (см. Jakobson I960) 20.
От отправителя сообщение попадает к получателю * через канал связи: сообщение закодировано и соотнесено с определенным контекстом. Каждому из упомянутых факторов соответствует своя, отличная от остальных функция; эти частные функции в принципе могут совмещаться, однако чаще между ними устанавливается определенная иерархия в зависимости от типа коммуникативного акта: на практике референциальная функция обычно играет главную роль, но сообщение может быть также «ориентировано» на получателя (экспрессивная функция) или на отправителя (конативная функция) сообщения. Иногда особую нагрузку несет сам код (метаязыковая функция) или даже контакт (фатическая функция). Остается упомянуть о сообщениях, ориентированных на самих себя, где главенствует функция, которую Р. Якобсон называл «поэтической», — у нас она будет называться «риторической».
Мы, однако, не ограничимся только терминологической поправкой и не будем использовать эту столь притягательную теорию в том виде, в котором ее изложил Р. Якобсон. Нам кажется, что выдающийся лингвист недостаточно точно провел анализ языка, и как следствие — «сообщение» у него оказалось в одном ряду с другими факторами коммуникативного акта. В действительности же сообщение — это не что иное, как результат взаимодействия пяти основных факторов, а именно, отправителя и получателя, входящих в контакт посредством кода по поводу референта. Вероятно, «сообщение как таковое», как писал Якобсон, может рассматриваться как отдельный факт окружающей пас действительности. Именно в таком ракурсе представляется язык на первый взгляд: язык — это в каком-то смысле материализованные «фразы», «слова», которые можно «фиксировать», сохранить при помощи письма, записать на магнитофонную ленту и т. п. Только потом мы начинаем понимать, что эти фразы суть сообщения, адресованные одним человеком другому, что они реализуются в той или иной физической субстанции, что значение им приписывается по той или иной заранее принятой договоренности. Эта псевдосубстанция на самом деле есть не что иное, как узел отношений (noeud de relations) .
Важность изложенного выше уточнения об обобщающем характере сообщения заключается в том, что риторическая функция сама по себе трансцендентна по отношению к другим языковым функциям. Риторическая интенция способна нарушить функционирование самых различных аспектов языкового процесса. Во-первых, она коренным образом воздействует на код: этот аспект уже давно и хорошо изучен в традиционной теории фигур; строгой систематизации именно этого аспекта мы посвятим большую часть нашего исследования, то есть нас будут интересовать приемы, при помощи которых речь ритора нарушает языковые правила на трех уровнях: морфологическом, синтаксическом и семантическом. Но мы па этом не остановимся. Отношение сообщения к референту — как бы мы ни понимали последний — может быть изменено и без нарушения предписаний кода. Точно так же, и Якобсон отметил это, риторический язык позволяет очень своеобразно воздействовать на всех «действующих лиц» коммуникативного процесса21.
Итак, мы убедились в том, что поэтическую функцию — и здесь мы воспользуемся ее первым названием — нельзя ставить в один ряд, например, с метаязыковой функцией, которая сводится к использованию языка для описания кода, или с экспрессивной функцией, которая соотносится с позицией отправителя сообщения. Для того чтобы «привлечь внимание к самому сообщению», поэт-ритор может преобразовать по собственному усмотрению любой из перечисленных языковых факторов. Некоторые тече-ния современной поэзии довольствуются тем, например, что вносят изменения в графическую форму сообщения. Жанр романа «литературен» в нашем смысле уже в силу того, что «я» рассказчика не совпадает с «я» писателя — или, скорее, пищущего, в терминах концепции Р. Барта. Проекция принципа подобия с парадигматической оси на синтагматическую не является, таким образом, единственным критерием литературного использования языка. Это просто один из возможных приемов и, быть может, прием, наиболее распространенный именно в поэзии. Но если рассмотреть все множество литературных проявлений, то вырисовываются иные критерии, которые сводятся к преобразованию по определенным правилам нелитературной (повседневной, научной и т. д.) речи.
Мы будем называть метаболами всевозможные изменения, касающиеся любого аспекта языка, в соответствии со значением этого слова, зафиксированным в словаре Littre. Как уже отмечалось выше, классическая риторика занималась в основном изучением метабол кода. Ниже мы вернемся к ним, но попытаемся поставить анализ на более прочную основу (этой проблематике посвящена первая, большая по объему часть нашего исследования). Уже на этой стадии можно считать предлагаемую нами риторику «общей», поскольку основные риторические фигуры описываются в нашей таблице как результат применения базовых операций [1].
Таким образом метаплазмы, метатаксис и метасемемы охватывают все поле кодовых отклонений; металогизмы покрывают факты, имеющие непосредственное отношение к преобразованию референциального содержания. Очевидно, однако, что, по мере того как в анализ будут вовлекаться все более и более крупные единицы текста, для которых в семиотике имеются лишь достаточно расплывчатые понятия, вероятность получения удовлетворительного описания риторических приемов будет падать. В частности, это касается, например, риторики повествования, создание которой — дело далекого будущего. Совсем по другим причинам в этой книге предлагаются только гипотетические наброски метабол отправителя и получателя сообщения: как нам кажется, па сей раз анализу препятствуют психологические моменты, вытекающие из «прагматики» этих объектов, которые недостаточно хорошо изучены на сегодняшний день. И наконец, метаболы контакта ввиду ограниченности своего применения не представляют, как нам кажется, особого интереса.
Остается упомянуть о третьей степени обобщения, за которой закрепляется общесемиотический статус риторики. Риторические фигуры, то есть результат применения четырех базовых операций, встречаются не только в рамках языковой коммуникации. Уже давно художники и искусствоведы говорят об «изобразительных метафорах» (metaphore plastique). Не поддаваясь соблазну поверхностных обобщений, мы тем не менее убеждены в том, что можно провести параллель между различными видами художественного выражения и описать основные используемые в них операции в рамках предлагаемой нами схемы. И тогда глава, посвященная указанным вопросам, должна рассматриваться всего лишь как набросок того, что в принципе может быть достигнуто в дальнейшем. Излагая несколько гипотез относительно форм повествова-тельности (de la narration) — категории, которая объемлет не только языковые способы выражения, — мы делаем лишь первые шаги в этом направлении.
* * *
Теперь остается лишь уточнить соотношение двух понятий, о близости которых мы говорили, приступая к нашей теме: это — поэтика и риторика. Поставить рядом две эти древние дисциплины — идея не новая. Все мы по меньшей мере смутно ощущаем, что они очень тесно связаны друг с другом: так, издатели, например, объединяют в одном томе Поэтику и Риторику Аристотеля или же выпускается Словарь Поэтики и Риторики (см. Morier 1961). Добросовестный составитель этого словаря даже не уточняет, почему он решил впрячь в одну упряжку обе эти дисциплины: он только напоминает нам о том, что Французская Академия уже на втором своем заседании г 1635 году составила рекомендательную записку об «учреждении риторики и поэтики» (26-й параграф устава) [1]. И поскольку не приходится надеяться на то, чю сия просвещенная корпорация приведет в исполнение свой проект, мы можем, вслед за господином Морье и некоторыми другими энтузиастами, посодействовать ей в этой работе. Но нужно сначала выяснить направление нашей деятельности: как же все-таки соотносятся риторика и поэтика?
Учитывая вышеупомянутое утверждение о том, что теория фигур далеко не исчерпывает предмет риторики в том смысле, как ее понимали классики — это оправдывает использование Перельманом выражения «новая риторика» применительно к теории аргументации, — риторика в нашем понимании является дисциплиной, изучающей специфику языка литературы. Под «поэтикой» же мы понимаем науку, вскрывающую суть общих принципов поэзии, имея в виду, что поэзия stricto sensu есть самое яркое проявление литературного начала. Поставленная таким образом проблема сводится к тому, чтобы изучить вклад науки риторики в общую сумму объективных знаний о литературе, притом что риторика не может дать исчерпывающее представление об этом предмете.
Цв. Тодоров, заканчивая свой краткий трактат «Тропы и фигуры» (Todorov 1968), формулирует проблему следующим образом: «Можно ли считать, что образная и поэтическая речь (langage figure et langage poetique) суть одно и то же? Если нет, то как они соотносятся друг с другом?» Напомним о том, что классики в целом отрицательно ответили на первый вопрос и практически игнорировали второй. Тодоров противопоставляет образный язык литературному (поэтическому); первый близок к «непрозрачной» речи (ср. у Якобсона: «Привлечь внимание к самому сообщению»), второй же стремится показать нам сами вещи (миметическая функция речи). Однако оба эти языка противопоставлены «прозрачной» речи, для которой характерны абстрактные понятия. По аналогии со знаменитым треугольником Огдена — Ричардса [1] мы получаем следующую схему:
ОБЫДЕННЫЙ ЯЗЫК
(понятие)
ОБРАЗНЫЙ ЯЗЫК
(слово)
ПОЭТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК
(вещь)
Само собой разумеется, что здесь речь идет лишь о преобладании того или иного аспекта в рассматриваемых языках: в любом из них в известной степени присутствуют все три аспекта. Язык литературы может создавать свою собственную «реальность» только потому, что в нем слабо выражен референт, а в обычном языке абстрактный смысл главенствует только благодаря виртуальному существованию вещей.
Такие разграничения конечно же представляют некоторый интерес, но мы не считаем их достаточными для того, чтобы свести понятие образной речи (langage figure) к факультативному средству художественной литературы «в борьбе с чистым смыслом». Мы полагаем, что на предшествующих страницах мы достаточно убедительно продемонстрировали, что нет поэзии без фигур, если, конечно, понимать фигуры достаточно широко: любое литературное «сообщение» ритмизовано, рифмовано, в нем используются ассонансы, определенное членение, перекрестные рифмы, оппозиции и т. д. Но фигуры, без сомнения, могут существовать и вне поэзии, что и явится предметом нашей дальнейшей дискуссии.
Не вызывает сомнения тот факт, что в «языке вымысла» (langage de la fiction) (M. Бланшо) «значение слов выступает в очень неполном виде» (цит. по Цв. Тодорову). Художественный язык не имеет явного референта, или, точнее, вопрос о существовании референта для него несуществен. Война во Вьетнаме, бесспорно, является удручающей реальностью, но художественные достоинства поэмы об этой войне не измеряются точностью изложения фактического материала, и поэтому не важно, является ли поэма исторически точным воспроизведением действительности, документом, репортажем или свидетельством очевидца. Значит ли это, что мы низводим поэзию до уровня «бессодержательной звучащей безделушки»? Мы знаем, к каким плачевным результатам привели попытки изгнания смысла из литературных произведений. Почему же не существует абстрактной (даже если ее и называют «конкретной») поэзии, в то время как абстракция прочно укоренилась в живописи, не говоря уже о музыке? 22 Это происходит оттого, что средством выражения для поэта является слово, представляющее собой единство звука и значения. Но для него связь двух составляющих языкового знака является строгой и обязательной: она не растягивается в бесконечном пространстве семиотических условностей, а концентрируется в одной точке.
Не следует забывать о том, что соссюровский тезис о произвольности знака был скорректирован ввиду того, что для говорящего связь означаемого с озпачакицим более чем необходима. Однако сам знак независимо от его двусторонней сущности отличен от референта: главная особенность обыденной речи проявляется именно в этом специфическом отношении к предметам — они одновременно и отсутствуют (так как слово не совпадает с предметом) и присутствуют (поскольку слово выступает вместо предмета) в речи.
Характерной чертой поэтической речи является то, что сами предметы в ней не рассматриваются. Вся поэзия — в словах (формах и значениях). Для поэзии треугольник Огдена — Ричардса теряет свою значимость. Литературное сообщение самодостаточно, оно как бы совмещает две вершины, лежащие в основе треугольника: поэтическая направленность текста проявляется в «стирании» вещи посредством слова.
Действие риторической функции овеществляет язык. Мы знаем, что целенаправленное речевое воздействие (будь то пропаганда, проповедование, обольщение, реклама) всегда сопровождается использованием целого арсенала «поэтических» приемов. Некоторые поэтические приемы используются также и в научной речи в целях сокращения доказательной части изложения. Что касается писателей, то утверждение, что они используют фигуры, было бы слишком слабым: они ими живут. Они не украшают с помощью фигур то, что пишут, они создают язык, которому реальность «порукой» не служит: и только при помощи фигур в широком, принятом здесь смысле слова писатель достигает своей цели. Таким образом, «дополнительные структуры» не являются простыми ограничителями, пусть «чудесными», но «тисками»: они представляют собой то единственное средство, которое может увести язык от его утилитарной роли, а это является первейшим условием его превращения в язык поэтический. Благодаря метаболам литературная речь замыкается на себе. Но уже давно известно, что одних метабол, конечно же, недостаточно для тою, чтобы гарантировать ее бытие, вдохнуть в нее жизнь: даже самые изысканные «соединения» (coupla-ges) не всегда позволяют поэтическому «потоку» вырваться на свободу.
Риторика, как изучение формальных структур, необходимо перерастает в более общую теорию, которая в точности совпадает с тем, что раньше называлось Второй Риторикой, или Поэтикой. Именно последняя должна объяснить, почему слова, преобразованные поэтами, воздействуют на читателя, какова значимость этих слов в поэтической речи. Но в первую очередь поэтика должна определить, какие сочетания подобных изменений не только совместимы с правильным функционированием фигур, но и приемлемы для эстетического сознания23. Прав ли Ж. Коен (а ею мнение здесь созвучно с модной в английской критике гипотезой), когда он пишет, что признание необходимости такого исследования делает очевидным существование «кода коннотаторов», поскольку поэзия разрушает денотативное значение только для того, чтобы лучше выразить эмоциональное или аффективное? То, что пишет сам Коен об этом «проявлении патетического лика мироздания», ставит перед нами множество проблем. Как отмечалось ранее — и будет повторено в первой главе, — мы намерены посвятить отдельное исследование систематическому изучению этоса фигур; здесь мы не будем рассматривать эти вопросы, поскольку психоэстетическое воздействие не является функцией чисто языковых механизмов. Тем не менее в приложении к первой части будет сделана попытка наметить общий контур такого описания. Специалистами по эстетике написано немало трудов, посвященных исчерпывающему анализу той или иной «категории». Без сомнения, существует множество исследований об изящном, трагическом, комическом. Но по сей день нет ни одной серьезной попытки систематизировать явления такого рода. В нашем исследовании мы предлагаем в качестве рабочей гипотезы один из возможных подходов к такой систематизации.
Впрочем, если «безусловное», «вероятное» и «возможное» неравномерно распределены по страницам этой книги, то, быть может, сами авторы не всегда правильно оцениваю! когнитивную модальность выдвигаемых ими положений.
23 Вопрос о том, как следует назвать эту область исследовании, «поэтикой» или «эстетикой», не самый существенный. Цв Тодоров включает большую часть того, что мы называем здесь риторикой, в поэтику, которая определяется как «наука о литературности», по проблемы эмоционального воздействия и значимости ов относит к области эстетики (см Todorov 1968) Однако достаточно авторитетные специалисты по эстетике — см., в частности, S о u г i а и 1929 — дают определение своей науке без ссылки на категорию прекрасного. Мы же придерживаемся точки зрения, в целом не противоречащей здравому смыслу, которая сводится к тому, что текст может быть в полном смысле слова «поэтичным», только если в нем эффективно используются «риторические» средства
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОСНОВЫ РИТОРИКИ
I.
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ФИГУР
1. ЧЛЕНЕНИЕ ДИСКУРСА
1.1. ЗНАЧИМЫЕ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА
Риторика, представляющая собой множество операций над языком, по необходимости отражает некоторые его свойства. Мы увидим, что в основу всех риторических операций положено одно из важнейших свойств линейного дискурса, а именно его членимость на все более и более мелкие единицы.
Хорошо известна теория языковых уровней, разработанная Бенвенистом (см. Benveniste 1967)*; здесь мы изложим ее в несколько более общем виде, поскольку того требует рассматриваемая нами тема. Будь то в плане означающего (звукового или графического) или в плане означаемого (то есть смысла), речевая цепочка может рассматриваться как иерархия уровней, где происходит членение дискретных единиц. В единицу более высокого порядка вкладываются (или, по терминологии Бенвени-ста, включаются) несколько единиц более низкого уровня, каждая из которых в свою очередь включает в себя единицы еще более низкого порядка.
Членение продолжается как в плане выражения, так и в плане содержания до тех пор, пока не будет достигнут уровень атомарных, нечленимых единиц. В плане выражения мы дойдем, таким образом, до уровня различительных признаков, в плане содержания — до уровня сем. Примечательно, что и в том и в другом случае последние уровни членения являются «инфраязыковыми»: ни различительные признаки, ни семы не могут существовать в языке в эксплицитной, независимой форме. Смысловые единицы, реально присутствующие в речи, появляются лишь на уровне, находящемся непосредственно над уровнем сем.
Все значимые единицы, участвующие в формировании текста, будут рассматриваться нами как набор элементов, каждый из которых входит в одну из заранее заданных совокупностей (множество звуков французского языка, слов словаря и т. д.).
Таблица I
Уровни членения языка...
Поскольку по количеству уровней план выражения превосходит план содержания, мы обозначили пунктиром основные соответствия между этими уровнями.
Эти совокупности упорядочены при помощи бинарных оппозиций, что позволяет представить их в виде деревьев (ср. классификацию Линнея, дерево гласных и т. д.), или графов. Каждый элемент определяется своими координатами на этом Дереве. Риторическая фигура будет рассматриваться как изменение координат элемента, или его перемещение в пределах таких деревьев. Риторика в (пашем понимании будет множеством правил, регулирующих перемещения по деревьям.
Следует сразу отметить, что из основных категорий, выделенных Ельмслевом, в нашем анализе рассматриваются только формы (как выражения, так и содержания). Вопросы, связанные с субстанцией, исключаются из рассмотрения. Когда мы в разделе 3.1 будем говорить о «субстанциальных» изменениях, это слово не следует понимать так, как понимал его Ельмслев. Однако в главе, посвященной повествовательным фигурам (figures de la narration), мы все-таки воспользуемся категориями, введенными датским лингвистом.
Стрелки в таблице I указывают на связи между уровнями членения: каждой стрелке соответствует определенный вид риторических фигур. Последние можно свести к трем болыпим однородным классам:
Таблица II
Связи между уровнями членения...
Следует отметить, что риторические фигуры чаще охватывают смежные или близкие уровни (например, ак-рофоническая перестановка внутри синтагмы) и редко касаются достаточно удаленных друг от друга уровней (например, ассонансы или повторы различительных признаков на протяжении целой фразы).
Связям, затрагивающим третий уровень, соответствуют новые типы фигур, приблизительный список которых мы попытаемся дать во второй части нашего исследования. Составление инвентаря единиц членения дискурса — чрезвычайно важная задача, поскольку этот инвентарь позволяет провести границы между четырьмя основными типами риторических фигур. Такое деление на четыре класса является результатом одновременного использования двух дихотомических делений: первое — по признаку означающее/означаемое, второе — по уровню, к которому относится единица, слово/предложение.
Второй признак нуждается в пояснениях, поскольку в предыдущем рассуждении мы говорили о трех классах (А, В и С), а не о двух. Дело в том, что из соображений простоты мы построили первую классификацию, исходя из обычных представлений об уровнях языка, однако в дальнейшем мы предполагали уточнить ее в соответствии с более четкими компонентными критериями (см. раздел 3.3).
В процессе анализа выяснилось, что последнее различие (то есть слово/предложение) было в какой-то степени условно: с одной стороны, словесные фигуры (например, акрофоническая перестановка) могут распространяться на несколько слов, не переходя при этом в разряд синтаксических фигур; с другой стороны, можно не без оснований утверждать, что, кроме уровней слов и предложений, существуют еще другие уровни. Так, есть фонемные фигуры (аллитерации, ассонансы), слоговые фигуры (вер-лан) или фигуры, относящиеся к единицам более крупным, чем предложения (например, роман «Улисс»). Мы проводим границу именно между словом и предложением в сугубо дидактических целях. Кстати говоря, можно считать, что наша таблица (см. табл. III) «открыта» снизу: система фигур не обязательно должна вписываться в рамки традиционных лингвистических представлений.
Эта система в принципе может быть расширена и представлена в виде нестрогой иерархии, содержащей десяток уровней. Нестрогость иерархии состоит в том, что некоторые уровни могут стираться: слово, например, можно разбить на слоги или непосредственно на фонемы.
И наконец, можно отказаться от идеи ортогонального расположения (в виде таблицы) двух принятых нами дихотомических делений и рассматривать последовательность областей от чистой формы к чистому содержанию: Формообразующая область: чистая, произвольная форма, лишен-ф ная означаемого, но смыслоразличающая.
Область синтаксиса: форма, значимая в той степени, в какой она функциональна, — слово в полной степени обретает смысл только с момента, когда оно начинает «функционировать» внутри предложения.
Область семантики: произвольно выделенная часть означаемого, ф ограниченная формой.
Область логики: содержание, или чистое означаемое, без всяких ограничений языкового порядка.
1.2. ОПИСАНИЕ ОБЛАСТЕЙ
1.2.1. Область метаплазмов. Это область фигур, изменяющих звуковой или графический облик слова или единиц более низкого уровня, чем слово, и членящих слова по следующим моделям:
Слово = набор слогов (гласных и опорных согласных), упорядоченный определенным образом и допускающий повторы Слог = набор фонем (или графем), упорядоченный определенным образом и допускающий повторы.
Фонема — набор упорядоченных различительных признаков, не допускающий повторов и линейно не упорядоченный Графема = набор различительных признаков (еще окончательно не формализованных).
1.2.2. Область метатаксиса. Это область фигур, видоиз меняющих структуру предложения. Предложение во французском языке, согласно принятой нами концепции, определяется наличием некоторого минимального количества составляющих его синтагм. Синтагмы в свою очередь определяются принадлежностью к определенным классам входящих в эти синтагмы морфем. За синтагмами и морфемами в последовательности закреплены определенные позиции. Итак:
Предложение — набор упорядоченных синтагм и морфем, допускающий повторы.
1.2.3. Область метасемем. Метасемема — это фигура, заменяющая одну семему на другую, то есть метасемема модифицирует организацию сем «нулевой ступени». Данная разновидность фигур строится исходя из того, что Слово = неупорядоченный набор неделимых («атомарных») сем, не допускающий повторы.
Действительно, сема является «инфраязыковой» единицей качественного характера, а слово — это семантически вычлененная единица или совокупность сем, занимающая в языке особое, привилегированное положение. Следовательно, совершенно бессмысленно рассматривать повторяемость одной и той же семы внутри одного слова, а также устанавливать порядок на множестве сем, входящих в одно слово.
Можно также предположить, что некоторые слова опосредованно отсылают к
Объекту = совокупности взаимосвязанных частей
и что разложению объекта на части (на уровне референта) соответствует языковое членение (на уровне понятия). Как первое, так и второе может быть описано при помощи слов. Однако мы увидим, что результаты этих двух разложений существенно отличаются друг от друга.
1.2.4. Область металогизмов. Эта область частично совпадает с тем, что античные мыслители называли «фигурами мысли» (figures de pensee), которые изменяют логическую значимость фразы и, следовательно, не подчиняются лингвистическим ограничениям. Если нельзя повторить сему внутри слова, то прекрасно можно повторить слово в предложении и a fortiori в единицах более высокого порядка. «Нулевая ступень» таких фигур связана не столько с критериями лингвистической правильности, сколько с представлениями о логической стройности изложения фактов, или логичности хода рассуждения.
Предложение = упорядоченная совокупность сем, объединенных в семемы (в слова), допускающая повторы.
1.2.5. Выводы. Обобщая высказанные соображения, для большей наглядности мы можем представить описанные выше области на треугольнике Огдена — Ричардса. Стрелки указывают ту область, где проявляется основное для каждой фигуры отклонение:...
2. ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ
До сих пор мы говорили, что риторические фигуры «меняют», «заменяют», «действуют на» тот или иной объект, не придавая этим выражениям точного смысла. Теперь мы займемся уточнением этих терминов и прежде всего дадим определение таким понятиям, как нулевая ступень (degre zero), отклонение (ecart), или изменение (alteration), маркер (marque), избыточность (redondan-се), автокоррекция (autocorrection) и инвариант (invariant) .
2.1. НУЛЕВАЯ СТУПЕНЬ
2.1.1. Неформальное определение. Любая теория, строящаяся на понятии отклонения, необходимо предполагает наличие нормы, или нулевой ступени. Однако последней очень трудно дать приемлемое определение. Можно довольствоваться неформальным определением, сказав, что нормой является «нейтральный» дискурс, без всяких украшательств, не предполагающий никаких намеков, в котором «под кошкой имеется в виду кошка». Однако определить, является ли данный конкретный текст образным или нет, совсем не так просто. Действительно, любое слово, любое речевое проявление связаны с конкретным отправителем сообщения, и только с большой осторожностью можно утверждать, что тот или иной говорящей воспользовался словом без всякого «подтекста».
2.1.2. Предел однозначности. Можно также предположить, что пулевая ступень — это некоторый предел, причем язык науки (и все, кто им пользуются, прекрасно понимают это) должен быть в идеале языком нулевой ступени. Легко видеть, что с этой точки зрения главным свойством такого языка будет однозначность (univocite) используемых понятий (см. Boons 1967, с. 167 — 188). Но мы знаем, как трудно ученым определять понятия так, чтобы они удовлетворяли этому требованию: не свидетельствует ли это о том, что нулевая ступень не является частью того языка, с которым мы реально имеем дело? Именно такой точки зрения мы хотели бы придерживаться в дальнейшем.
Поскольку, с одной стороны, слова, представляющие собой более или менее обширные наборы сем, являются главными семантическими единицами языка, а с другой стороны, именно они являются тем материалом, из которого строится наш дискурс (повторяем, семы как таковые самостоятельно в языке не выражены), мы вынуждены включать в дискурс «сопутствующие» семы, которые не отражают существенных моментов того, что мы хотим сказать. Абсолютная нулевая ступень (degre zero absolu) сводилась бы к дискурсу, состоящему исключительно из существенных сем (semes essentiels), то есть к набору сем, ни одну из которых нельзя вычеркнуть, не лишив смысла весь дискурс (а это возможно только в том случае, если подходить к дискурсу с метаязыковой точки зрения, поскольку семы не имеют самостоятельного лексического выражения в языке).
Во всех наших высказываниях, конечно, удается выразить существенные семы, но в дискурсе они появляются в окружении дополнительной, необязательной информации. Эта информация не избыточна (redondante), но несущественна, побочна (laterale). Согласно этой точке зрения, почти все используемые нами в дискурсе обозначения (имена вещей) суть синекдохи. Мы будем называть реальной нулевой ступенью (degre zero pratique) высказывания, содержащие как все существенные семы, так и сведенный к минимуму, в соответствии с возможностями словаря, набор побочных сем.
Напомним пример, приведенный когда-то Жаном По-ланом. Рассмотрим следующие высказывания:
Ah, c’est done toi!
Tiens, voila 1’oiseau.
11 n’y a pas de doute, c’est lui.
Acre, le voici.
Bon. Tu rappliques.
Salut a la vousaille.
Bonjour, toi.
Comment, vous?
Eh, il est tout le meme arrive.
Quoi? c’est toi, ici?
Те voila, zoizeaunin.
C’est vous ou votre fant6me?
C’est a cette heure qu’on te voit?
Ah, ah, le phenomene qui se montre.
C’est done toi, chere Elise.
Toi, pas possible!
Ah, enfin toi!
Mon Dieu, alors, c’est vous?
On se demandait ce que tu pouvais foutre.
Vous, salut!
Et alors, tu t’amenes?
Tu as dr61ement pris ton moment pour t’amener.
Ср. русск.: Ax, это ты!
Никаких сомнений быть не может, это он.
Черт, вот и он.
Ну вот, явился.
Как, это вы?
Как? Ты, здесь?
Вот и ты, крошка.
Попозже не мог прийти?
Гляди, явление Христа народу!
Ты? Не может быть!
Наконец-то ты пришел!
Мы уже начали беспокоиться, куда ты пропал. Пораньше нельзя было прийти?
Я вижу, ты не очень спешил и т. д.
Легко видеть, что за каждым из этих высказываний скрывается одна и та же нулевая ступень «Вот и ты».
С другой стороны, если на уровне нулевой ступени героя рассказа в какой-то момент должны убить, нам придется при переходе от нулевой ступени к собственно тексту выбрать орудие убийства, даже если конкретные свойства этого орудия не должны никоим образом повлиять на дальнейший ход событий. Триады Проппа — Времена [1] формулируются в очень общих выражениях (Bremond 1964). Они представляют собой не что иное, как нулевую ступень повествования. Но когда в русской народной сказке происходит актуализация высказывания «X дает гарантию Y-у», то обязательно выбирается конкретный объект, который будет служить этой гарантией, а также конкретные, хотя и несущественные для повествования обстоятельства, при которых эта гарантия дается.
Итак, наше определение нулевой ступени будет скорее эскизом, нежели инструментом анализа до тех пор, пока мы не опишем конкретные процедуры для ее получения. Здесь мы хотели лишь ознакомить читателя с этим вызывающим бесконечные дискуссии вопросом (см., например, Todorov 1967) и указать на то, что нулевая ступень находится вне обычного употребления языка. Таким образом, мы рассматриваем нулевую ступень как некий «предел».
2.1.3. Субъективные вероятности (оправданные ожидания). Чтобы не давать определение часто неуловимой норме, можно в принципе разработать эмпирическую процедуру определения нулевой ступени на основе утверждения типа: «Нулевая ступень какой-либо позиции — это то, чего ожидает в данной позиции читатель». Вводя в рассмотрение на этой стадии исследований точку зрения читателя, мы уже сейчас приводим аргумент в пользу тезиса, который будет доказываться в главе, посвященной «этосу», и который сводится к тому, что воздействие фигуры не содержится в самой фигуре, а возникает у читателя в качестве ответа на определенный стимул. Предлагаемая процедура (для проверки действенности которой сейчас разрабатывается эксперимент [1]) основывается на субъективных вероятностях, то есть на знаниях читателя:
1) о коде (словаре, грамматике, синтаксисе),
2) об общем семантическом универсуме (истории, культуре, науке),
3) о частном семантическом универсуме (знания о других произведениях того же автора),
4) о содержании текста, непосредственно предшествующего данному сообщению (о введенных в рассмотрение, но еще не полностью «изживших» себя в пределах данного повествования классемах).
Легко видеть, что полученная таким образом нулевая ступень не будет слагаться из конкретных слов в соответствующих позициях, ей, скорее, соответствует список ограничений на элементы, которые могут занимать ту или иную позицию.
Связь с оппозициями теории информации (ожидае-мое/непредвиденное и банальное/оригинальное) здесь очевидна: такой подход в перспективе может быть использован и в экспериментальной поэтике.
2.1.4. Статистические характеристики словаря. Некоторые исследователи пытались определить факт литературности как особое явление, исходя из сравнения частоты встречаемости различных слов в том или ином произведении со списками так называемых «нормальных» частот, полученных на основе достаточно больших выборок. Так называемый «список Ван дер Беке» является примером такой нормы, приравниваемой к нулевой ступени, в сравнении с которой можно измерить отклонение. Мы не будем здесь обсуждать вопрос о научной ценности этого метода и заметим лишь, что он предполагает более масштабное в эстетическом плане исследование стиля, в то время как мы ограничиваемся более узкими эстетическими рамками.
2.1.5. Изотопия. А.-Ж. Греймас настаивал на понятии изотопии как семантической нормы дискурса. В любом сообщении или тексте слушатель или читатель хочет видеть «нечто цельное в смысловом отношении» (см. Grei-mas 1966, с. 69). И в самом деле, для того чтобы коммуникация была достаточно эффективной, в сообщении не должно быть неясностей, двусмысленностей, а это достигается, в частности, благодаря сильной избыточности морфологических категорий.
Поскольку в нашем понимании литературное сообщение (или риторическая функция) отражает как реально присутствующую в нем ступень отклонения, так и реально отсутствующую, но в принципе выводимую нулевую ступень, мы считаем, что оно явным образом неизотопно (то есть двусмысленно).
В некоторых случаях (например, для метафоры) риторика очевидным образом нарушает правила лексического кода и в то же время правила изотопии, но бывают случаи, когда правила лексического кода соблюдаются и только отсутствие изотопии указывает на наличие фигуры. Это происходит в случае антанаклазы и антиметаболы, которую мы рассмотрим ниже:
Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas (Pascal)
У сердца есть свои доводы, неведомые рассудку (Паскаль).
С другой стороны, понятие изотопии позволяет выработать более общий подход к фактам риторики. До сих пор мы исходили из того, что литературное сообщение определяется относительно единственной исходной модели, рассматриваемой в качестве нормы. Метасемемы (или тропы), например, придают словам новый, быть может бо лее «очищенный», смысл. Этот семантический разрыв, безусловно, очень интересен для читателя, он является для него источником положительных эмоций. Таким образом, читатель дает эстетическую оценку сообщению, исходя из того, что в нем реально отсутствует. Этого обстоятельства уже достаточно, чтобы дать определение риторической функции. Но совсем не очевидно, что возможен только такой, бинарный подход к использованию языка. Отсутствие изотопии необязательно сводится к двойной изотопии. Действительно, в некоторых сообщениях имеются в виду несколько возможных толкований, причем ни одно из них не может претендовать на привилегированный по отношению ко всем остальным статус нулевой ступени: так, под «западней» у Золя имеется в виду и кабак, и вывеска кабака, и алкоголь, и социальное зло.
Эта нарочитая множественность интерпретаций, по-видимому, является постоянным фактором для литературы, как на то указывает средневековая теория четырех смыслов, но крайние проявления этой множественности мы находим у современных писателей, в частности в произведениях Джойса, где она возведена в систему. Так, в «Поминках по Финнегану» («Finnegans Wake») «пара Шем — Шаун не только все время меняет свои имена, но и перевоплощается то в Авеля и Каина, то в Наполеона и Веллингтона, то в Джойса и Уиндхема Льюиса, то в пространство и время, то в дерево и камень» (Есо 1966, с. 259). Легко видеть, что в таких случаях образная* ступень (degre figure) уже не занимает подчиненного положения относительно нулевой ступени, и эта зависимость заменяется согласованной системой нескольких изотопий.
Существование подобных явлений никоим образом не ограничивает области применения нашего подхода. Теория множественности смысла предполагает предшествующую формализацию теории двойного смысла, которой, впрочем, достаточно для того, чтобы объяснить значительную часть фактов литературы.
2.1.6. Нулевая ступень и кодирование. Все, что относится к языковому коду, является нормой, то есть нулевой ступенью: это и орфография, и грамматика, и смысл слов. Сюда же мы относим «логический» код, определяемый правдоподобием дискурса. Но само собой разумеется, что существует еще множество всевозможных явных или неявных конвенций, которые могут дать заметные для читателя отклонения. Так, Блез Сандрар [1] в каждом издании своего очередного сочинения на первой странице в рубрике «Книги того же автора» писал: «Готовятся к печати еще 33 тома».
2.2. АВТОКОРРЕКЦИЯ И ИЗБЫТОЧНОСТЬ
2.2.1. Определения. Известно, что язык избыточен (ге-dondant) на всех уровнях, то есть элементы языка повторяются в речи. Эта довольно дорогостоящая особенность языка направлена на то, чтобы обеспечить языковым сообщениям определенный иммунитет к ошибкам, возникающим при передаче информации. Объем общей избыточности письменного языка, по имеющимся данным, для современного французского составляет около 55% (Moles 1958, с. 54). Это значит, что даже если мы уничтожим 55 % произвольно выбранных значимых единиц сообщения, то оно все равно может быть понято. Такое свойство кодов называется автокоррекцией ошибок (autocorrection des erreurs). Степень избыточности меняется в зависимости от вида сообщения (статья в газете, эссе, поэтическое произведение и т. д.), но на интуитивном уровне она осознается всеми носителями языка.
Если теперь мы вместо незначимых, случайных искажений, то есть собственно ошибок, рассмотрим значимые изменения, которые мы выше называли отклонениями, то риторика предстанет перед нами в новом свете2. Действительно, если первая фаза риторических преобразований сводится к тому, что автор создает отклонения, то во второй ее фазе читатель сводит это отклонение к исходной точке (Cohen 1966). Эта редукция есть не что иное, как автокоррекция, и возможна она только в том случае, когда общая сумма изменений не превосходит уровня избыточности. Целая область риторики связана с избыточностью языка. Риторика причудливым образом сужает ее, а избыточность в свою очередь является для риторики естественной границей, которую можно перейти, только разрушив само сообщение (сообщение в этом отношении «герметично»). Мы должны сразу уточнить, каковы формы избыточности в языке, и выяснить, I? каким последствиям приводит применение к ним различных риторических приемов. В связи с этим мы напомним определение избыточности, принадлежащее Витольду Белевичу: «Избыточность — это отказ признать все возможные сочетания значимыми» (Вelevitch 1956, с. 115). В языке без избыточности любое изменение слова, входящего в код, преобразует его в другое слово того же кода, в то время как в языке с избыточностью расстояние, отделяющее слова друг от друга (= число элементов, которые надо изменить, чтобы получить из одного слова другое), иногда очень велико.
2.2.2. Фонетическая и графическая избыточность. Плохо произнесенное или неаккуратно написанное слово может быть восстановлено благодаря избыточности языка. Подобная операция может производиться без привлечения сведений о значении слова (которые в принципе могут быть выведены из контекста) и без использования грамматических или синтаксических правил (эти сведения можно было бы получить из синтагмы, в которую входит данное слово).
Некоторые риторические отклонения (а именно метаплазмы) уменьшают фонетическую избыточность. Но тем не менее они не могут полностью уничтожить ее, поскольку в противном случае читатель не смог бы восстановить нулевую ступень и сообщение перестало бы существовать как таковое. Например, в «складном слове» (mot-valise) * составляющие каждого из вложенных слов должны быть представлены в достаточном количестве для того, чтобы эти слова могли быть опознаны. В известном стихотворении Каммингса можно (правда, с трудом) узнать английские слова, искаженные диалектным произношением:
ydoan — [из I don’t]
yunnuhstan — [из I understand].
2.2.3. Синтаксическая и грамматическая избыточность. Избыточность такого типа особенно высока в письменной речи. Она проявляется, в частности, в повторяющихся маркерах — грамматических показателях (согласование по роду, числу, согласование глагольных форм и т. д.). В синтагме les grands arbres ‘большие деревья’ имеются три графических и два фонетических показателя множественного числа.
Метатаксис частично уничтожает эту избыточность, но оставшейся ее части всегда достаточно для того, чтобы восстановить сообщение. Например, в строфе Жео Норжа
Z’encens, vous pent bien gresiller
не соблюдено согласование по лицу [vous — 2-е лицо, pent — 3-е; букв, ‘вы может...’ — Прим, перев.], но автокоррекция осуществляется за счет пунктуации.
2.2.4. Семантическая избыточность. Этот вид избыточности не описывается при помощи строгих правил в отличие от рассмотренных выше видов (ср., например, правила орфографии и грамматические правила). Семантическая избыточность отчасти основывается на логических правилах, отчасти — на прагматическом требовании, предъявляемом к процессу коммуникации, которое состоит в том, что любое сообщение должно быть связанным. Когда речь идет о законченном в смысловом отношении отрывке, то называемые в нем понятия в соответствии с этим требованием должны быть в общем случае близкими или родственными по смыслу. На уровне синтагмы смысл слова должен частично определяться контекстом. Иными словами, в сообщении должны присутствовать итеративные семы (см. G г е i m a s 1966), или классемы. Например, прямым дополнением при глаголе boire ‘пить’ вероятнее всего будет слово со значением «жидкость», если же это не так, то имеется отклонение, как, например, в выражении [avoir] toute honte bue ‘забыть (букв, выпить) всякий стыд’*. В выражении le soleil noir de le melancolie ‘черное солнце меланхолии’ также нарушено правило семантической связанности.
* Ср. русское выплеснуть в выражении выплеснуть свою злобу. — Прим, перев.
Можно выразить это иначе, сказав, что после любого стыка или интервала с определенной вероятностью могут появиться одна или несколько новых сем. Такие вероятности еще никому не удавалось точно исчислить, но любой носитель языка имеет достаточно точное интуитивное представление об их уровне, который, кстати говоря, меняется в зависимости от жанра полученного сообщения (статья в газете или журнале, роман, научный трактат и т. д.). Вспомним стихотворение Шарля Пеги:
C’est la terre qui gagne et la terre qui compte
Et qui fait le proces de nos vieillissements
Et qui fait une belle et qui fait une laide Et qui fait le trace de nos bannissements. C’est la terre qui gagne et la terre qui compte Et qui fait le proces de nos inscriptions Et qui fait le memoire et qui fait le decompte Et qui fait le trace de nos descriptions.
Наши ожидания в этом случае обмануты, и этот факт воспринимается нами как отклонение.
2.2.5. Конвенциональная избыточность. Определенный процент избыточности может быть искусственно привнесен в язык при помощи дополнительных правил, регулирующих внутреннее устройство дискурса. Эти конвенции только в исключительных случаях затрагивают область семантики. В основном они относятся к означающему: метрическая схема, фиксированная форма, образцы рифмовки и т. д. Но существуют также конвенции, которые резко снижают процент избыточности дискурса, например когда отсутствуют заглавные буквы или когда не ставятся знаки препинания.
Правила такого рода существуют также и для устной речи: остановки, паузы, интонация. При чтении стихов можно с большой точностью соблюдать цезуры и рифмы или, наоборот, подчеркивать синтаксическое развертывание текста.
2.2.6. Сочетание различных видов избыточности. Различные виды избыточности могут одновременно присутствовать в дискурсе и частично перекрывать друг друга. Отсутствие фонетической избыточности может быть компенсировано, например, за счет семантической избыточности и т. д. Насколько нам известно, еще никто не подсчитал, какая часть общей избыточности приходится на каждый из ее видов. При помощи простейшего эксперимента3 мы получили следующие показатели для прозаического текста:
Фонетическая избыточность 22
Синтаксическая и грамматическая избыточность 23
Семантическая избыточность 10
Общая (суммарная) избыточность 55%
2.2.7. Уровни избыточности и маркеры. Итак, выше мы определили три уровня избыточности. Первый уровень является нормой, то есть он входит в нулевую ступень. Два других (притом что один увеличивает избыточность, а другой уменьшает ее) маркированы относительно первого. Энтропия каждого из трех возможных состояний сообщения ( — , 0, +) составляет 1,6 бита, которые фактически используются как «паразитарный» код и соответствуют очень абстрактным означаемым (таким, как литература, детская речь, жаргон и т. д.).
Поскольку в основу риторики заложена двойная направленность — с одной стороны, к созданию отклонений, с другой — к их редукции, — эти отклонения должны быть своевременно обнаружены читателем или слушателем. Необходимо, таким образом, чтобы они были маркированы, а это утверждение менее тривиально, чем может показаться на первый взгляд. В самом деле, относительно данной нулевой ступени можно создавать отклонения, результатом которых будут не образные выражения, воспринимаемые читателем как таковые, а другая нулевая ступень: в этом случае для читателя уровень избыточности сообщения останется без изменений. Но мы только что убедились в том, что любая фигура меняет суммарную избыточность дискурса: она либо уменьшает, либо увеличивает ее. Поскольку нормальный уровень избыточности относится к имплицитным знаниям любого носителя языка, изменение этого уровня, будь то в сторону увеличения или в сторону уменьшения, является маркером.
2.3. ОТКЛОНЕНИЕ И КОНВЕНЦИЯ
2.3.1. Отклонение. В рамках риторики мы понимаем отклонение как заметное для читателя изменение нулевой ступени. В связи с этим определением сразу же возникают две трудности.
Во-первых, существуют намеренные изменения, направленные на восполнение лакун в словаре: в тех случаях, когда «нужного слова не существует», следует либо придумать новое, либо использовать старое в новом значении. Применяемые при этом операции ничем не отличаются от собственно риторических: рознит их только цель. Мы будем называть риторическими лишь те операции, которые направлены на достижение поэтического эффекта (в том смысле, который имел в виду Якобсон)’ и которые используются, папример в поэзии, для достижения юмористического эффекта, в жаргоне и т. д.
Во-вторых, в соответствии с нашей трактовкой нулевой ступени отклонение состоит из двух частей. В первой осуществляется переход от набора существенных сем к реально существующим лексическим единицам; во второй делается следующий, дополнительный шаг теперь уже в языковой сфере: это переход от совокупности лексических единиц, имеющихся в словаре, к конкретным лексемам, фигурирующим в дискурсе. И только вторая составляющая отклонения относится к области собственно риторики. Но на первый взгляд кажется, что провести границу между этими частями невозможно. Действительно, существенная сема обнаруживается обычно в нескольких разных лексемах, и выбор производится, скорее, на отрицательной основе (путем отбрасывания несущественных сем). Несколько лексем из имеющегося набора могут с полным основанием рассматриваться как реальная нулевая ступень. По-видимому, невозможно точно установить, с какого момента накопление несущественных сем начинает восприниматься как отклонение4.
Однако эти трудности относятся только к метасемемам. Отклонение гораздо лучше поддается оценке в области метаплазмов и метатаксиса, хотя и здесь приходится вводить нормативные критерии, которые используются только в исследованиях по риторике (например, «по правилам современного нормативного синтаксиса не допускается слишком заметная симметричность конструкций»). Но в области металогизмов нулевая ступень снова очень плохо поддается определению.
Формально отклонение может касаться значимых единиц любого уровня, и членение какой-либо единицы на составляющие осуществляется в соответствии с правилами, приведенными в разделе 1.
Выше мы уже говорили о том, что риторическими мы будем называть только те отклонения, которые направлены на получение «поэтического» эффекта. Эмпирическое наблюдение того, что любому воспринятому адресатом (получателем сообщения) отклонению тут же приписывается то или иное значение, находит здесь свое подтверждение. Даже без учета природы конкретного отклонения уже сам факт отклонения имеет вполне конкретный смысл: он говорит о том, что мы имеем дело с Риторикой, то есть с Литературой, Поэзией, Юмором и т. д.
Тем не менее не следует забывать, что при помощи различных фигур достигаются различные эстетические эффекты; таким образом, и природа отклонения играет определенную роль. Это достаточно сложная проблема, не имеющая, однако, прямого отношения к формальному анализу фигур речи.
2.3.2. Конвенция. Отклонения, о которых мы говорили выше, представляют собой локальные изменения нулевой ступени. В них нет системы, и поэтому они всегда неожиданны. Такие отклонения противопоставлены другому типу изменений, носящих в отличие от первых систематический характер: мы имеем в виду конвенции. Конвенция, или договоренность, как на то указывает само название, является связующим звеном между отправителем и получателем сообщения. Она, естественно, не связана ни с какими неожиданностями. Конвенцию можно рассматривать как дополнительное формальное ограничение того же порядка, что и грамматика, синтаксис или орфография. Будь то стихотворный размер, ритм или рифма, конвенция чаще всего касается, как мы уже убедились в этом выше, формальных свойств языка и распространяется на все сообщение целиком.
Конвенция — это, по сути дела, вид отклонения. Как и последнее, она направлена на то, чтобы привлечь внимание читателя к самому факту сообщения, а не к содержанию последнего, и, следовательно, она тоже может рассматриваться как риторический прием, и ее можно поставить в один ряд с риторическими фигурами.
2.3.3. Компенсация избыточностей. В поэзии используются как отклонения, так и конвенции. Их можно противопоставить по следующим параметрам:
Таблица IV
Отклонение
Бессистемно Локализовано Имеет эффект неожиданности Снижает возможность предвидения
Конвенция
Системна Распространяется на все сообщение Но имеет эффекта неожиданности Повышает возможность предвидения
В таблице IV рассматриваются только дополнительные конвенции (conventions additives). Что касается отклонений, то они всегда снижают возможность предвидения. Это относится даже к тем случаям (см. приводившийся выше пример из Ш. Пеги), когда создается впечатление, что они парадоксальным образом увеличивают избыточность.
Таким образом, поэзия подвергает создаваемое ею сообщение двум различным видам обработки: с одной стороны, она уменьшает избыточность (отклонения), с другой стороны, увеличивает ее (конвенции). В этом заманчиво было бы видеть механизм компенсации, цель которого — поддержать общий уровень «понятности» сообщения.
Дополнительные конвенции, очень равномерно распределенные по тексту (в отличие от языковых ограничений, распределение которых не подчиняется никаким закономерностям), всегда тем самым оправдывают ожидания читателя и обладают унифицирующим действием.
Отменяющие конвенции (conventions suppressives), по всей видимости, играют второстепенную роль, создавая общую неопределенность, которая используется затем другими фигурами. Хотя конвенции и являются правилами, они не так устойчивы, как языковые или логические правила, поэтому только в исключительных случаях их нарушение может служить основой для отклонения.
Как мы показали выше, отклонения всегда уменьшают возможность предвидения в сообщении. Это верно даже в тех случаях, когда они, казалось бы, увеличивают избыточность текста (например, когда мы имеем дело с повторами, плеоназмами, хиазмами и т. д.). Таким образом, отклонения всегда являются источником неоправданных ожиданий. Но риторика отклонений столь часто используется в поэзии, что она в большей или меньшей степени превращается в систему: отклонение становится конвенцией. Так выполняются предпосылки для «отклонений от отклонений», с которыми мы иногда сталкиваемся в юмористических текстах (А. Мишо, Б. Виан, Р. Кено и т. д.).
Описанные свойства отклонений и конвенций представлены в таблице (интересующие нас случаи подчеркнуты) .
Таблица V...
Из таблицы V становятся очевидными два факта: а) код задается субъекту извне; кодовые отклонения желательны; б) конвенция выбирается субъектом по его усмотрению; отклонения от конвенции запрещаются.
Можно считать, что эти факты оправдывают подход к стилю как к фактору выразительности, то есть как к отказу от любых неиндивидуальных значений.
2.4. ИНВАРИАНТ
Выше мы рассмотрели самые общие условия, при которых возможна автокоррекция (то есть спонтанная редукция отклонений). Теперь мы займемся исследованием конкретных процедур, при помощи которых осуществляется эта редукция.
Дискурс, содержащий фигуры речи, распадается на две части: ту, которая не была модифицирована, — ее мы будем называть основой (base) — и ту, в которой имеются риторические отклонения. С другой стороны, между высказыванием, содержащим фигуры, и его нулевой ступенью существует пусть не всегда равноценная, но систематизированная связь. Более подробно мы рассмотрим эту связь ниже. Пока что мы просто отметим, что она может быть субстанциональной и реляционной. Именно эту связующую нить мы и будем называть инвариантом. Редукция отклонений осуществляется главным образом в рамках необразной части дискурса, с одной стороны, и инвариантов образной части — с другой.
Образное выражение, как мы уже говорили выше, всегда маркировано. Оно расчленяется на единицы более низкого порядка в соответствии с возможными способами членения (см. раздел 1): на данном этапе еще нельзя определить, какая из этих более дробных величин относится к инварианту рассматриваемой фигуры, поскольку в него может входить любая из них. Точный инвариант определяется в конечном счете путем оценки совместимости между всеми возможными инвариантами и основой.
В лингвистическом отношении эти операции в точности совпадают с операциями выбора единиц и формирования из них речевой последовательности, которые относятся соответственно к парадигматике и синтагматике. То, что мы назвали основой, есть не что иное, как особый вид синтагмы. Что касается инварианта, то он представляет собой структуру, характерную для особого вида парадигм, а именно парадигм, объединяющих нулевую и образную ступень. Синтагма актуализована — парадигма виртуальна: проблема редукции отклонений сводится к определению точки их пересечения (рис. 2).
Особый интерес представляет случай, когда после применения одной из операций, которые мы опишем ниже (раздел 3.1), в сообщении полностью уничтожается одна из его значимых единиц (эллипсис, пауза...). В этом случае в нашем распоряжении не остается ни одного инварианта, и только обращение к основе позволяет восстановить нулевую ступень благодаря избыточности последней. Но, вычеркивая единицу из сообщения, мы тем самым уничтожаем как ее фонетическое (графическое) и синтаксическое означающее, так и ее семантическое и логическое означаемое. Подобные фигуры можно с одинаковым успехом отнести к каждой из следующих категорий:
к метаплазмам (тогда это упразднение), к метатаксису (тогда это эллипсис), к метасемемам (тогда это асемия), к металогизмам (тогда это паузы, или молчание, и приостановки).
Разнообразные дискуссии по поводу эллипсиса вызваны описанной выше множественностью интерпретаций. Легко видеть, что именно инвариант, а не основа позволяет отнести ту или иную фигуру к какой-то одной из этих категорий.
2.5. ВЫВОДЫ
Итак, риторика представляет собой множество отклонений, которые могут быть сведены к норме посредством автокоррекции. Эти отклонения, нарушающие существующие или вводящие новые правила, меняют нормальный уровень избыточности языка. Отклонение, выстроенное автором, замечается читателем благодаря наличию маркера, но затем редуцируется им благодаря наличию инварианта. Действие этих операций, как используемых «изготовителем», так и выпадающих на долю «потребителя» сообщения, приводит к особому эстетическому эффекту, который называется этосом и является подлинным объектом художественной коммуникации.
Полное описание риторической фигуры обязательно должно включать описание соответствующего отклонения (формирующих операций отклонения), ее маркера, ее инварианта и ее этоса.
3. РИТОРИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
После описания объектов, к которым применяются операции, и контекстов, в которых они возможны, нам надлежит заняться рассмотрением самих этих операций. До сих пор мы объединяли все операции под единым названием «изменения» (alterations), но совершенно очевидно, что за этим термином скрываются несколько различных видов операций. На фоне большой абстрактности всех наших построений операциям, в них участвующим, также должна быть присуща высокая степень общности, они должны принадлежать к числу простейших, фундаментальных операций. Мы будем различать два главных типа операций: субстанциальные и реляционные. Первые операции меняют субстанцию единиц, к которым они применяются, вторые же меняют только позиционное отношение между этими единицами5.
5 Напомним еще раз, что слово «субстанция» в этой главе употребляется в значении, отличном от принятого в глоссематике.
3.1. СУБСТАНЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Существуют только два вида таких операций: одни сокращают, вычеркивают (suppriment) единицы в сообщении, другие добавляют (ajoutent) новые единицы к уже существующим. Благодаря механизму членения, подробно описанному выше, любая «трансформация» может быть сведена к сокращению и добавлению единиц. Можно ввести также сложную операцию, одновременно состоящую из сокращения и добавления.
Обозначим буквами A (adjonction) и S (suppression) соответственно операции добавления и сокращения. Мы будем приписывать им числовые индексы, указывающие на число единиц, входящих в поле их действия. Числовое значение индексов не получит здесь развернутой интерпретации: этими вопросами мы займемся на более поздних этапах исследования.
Заметим только, что с увеличением числа сокращенных (или добавленных) единиц количество информации в сообщении соответственно уменьшается (увеличивается). Здесь мы имеем в виду семантическую информацию в смысле Карнапа — Бар-Хиллела: энтропия в этом случае определяется количеством двоичных выборов, необходимых для того, чтобы получить искомую информацию. Именно поэтому, когда речь идет о метасемемах, уровень общности (generalite) сообщения повышается при сокращении или понижается, когда применяется операция добавления: числовой индекс в этом случае указывает на расстояние, пройденное по шкале общности информации. Заканчивая обсуждение этого вопроса, отметим один эмпирически установленный факт; когда речь идет о смешанной операции AmSn, обычно m~n. Таким образом, количество информации и уровень общности в этом случае практически не меняются.
Различные виды общих операций могут распадаться на более частные подвиды. Например, сокращение может быть частичным (partial) или полным (complet) — в последнем случае и равно количеству единиц более низкого уровня, входящих в значимую единицу, к которой применяется эта операция. Добавление может быть простым (simple) или итеративным (repetif) — если добавляются только значимые единицы нулевой ступени. Что касается смешанных операций, то они могут быть не только частичными или полными, но и отрицающими (negative), когда сокращенная единица заменяется своим отрицанием.
3.2. РЕЛЯЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Такие операции проще по своей структуре, поскольку их действие сводится к изменениям линейного порядка значимых единиц, в то время как сами эти единицы не претерпевают каких бы то ни было изменений. Здесь речь идет только о перестановках (permutations), среди которых можно выделить обычные и инвертированные. В последнем случае единицы звуковой или графической последовательности выстраиваются в обратном порядке.
3.3. ГРАФИКИ И ТАБЛИЦЫ
В таблице VI представлены все те операции, о которых мы говорили выше. Они реализуют все возможности рассматриваемой системы. В этой таблице отражена также совместимость этих операций с тремя группами фигур, которые были описаны выше (раздел 1.1). В частности, из таблицы явствует, что операция отрицания фонемы, графемы, синтаксической конструкции и т. д. лишена всякого смысла, так же как и, впрочем, повтор семы в пределах одной лексемы. Что касается перестановки сем в лексеме, то данная операция невозможна, поскольку этим составляющим присуща иерархическая, а не линейная упорядоченность. По той же причине невозможна перестановка различительных признаков внутри фонемы. Возможность перестановки на уровне предложений вызывает у нас сомнения, хотя гипотеза о существовании логической упорядоченности предложений дает основания предполагать, что такая перестановка в принципе возможна. Что касается одновременной подмены всех синтаксических констант, то эта операция, как нам кажется, должна быть исключена из рассмотрения.
Проведем прямую с начальной точкой О и отметим на ней число дискретных единиц начиная с О и (по крайней мере теоретически) до бесконечности. Здесь учитывается только количество единиц (индексы ш и н), но не их качество. На этом графике любой значимой единице U соответствует точка на прямой:...
Положение точки U на прямой будет определяться числом единиц членения п, на которые может быть разложена значимая единица U. Тогда операции А и S могут быть обозначены на прямой точками, лежащими в случае добавления справа, а в случае сокращения — слева от U.
Реляционные операции (перестановки) не влияют на число составляющих значимой единицы: следовательно, они не могут быть представлены на оси, изображенной на рис. 3. Они расположены вертикально относительно оси субстанциальных операций, то есть они не зависят от нее.
Дополняя наше графическое изображение, мы расположим перестановки на прямой, перпендикулярной бесконечной прямой О; полученная система координат будет чем-то напоминать графическое представление комплексных чисел в алгебре. Теоретически возможное число перестановок зависит от числа единиц членения (например, от числа букв в слове, числа слов во фразе): оно равно н! = п(п — 1) (п — 2) ...3.2.1. Область перестановок Р (permutations) будет, таким образом, ограничена кривой п!, и теперь мы можем получить полное графическое изображение двумерного риторического пространства. Было бы ошибочным считать, что такому изображению нельзя сопоставить содержательную интерпретацию, напротив, на нем прекрасно видно, как «расширяется» пространство по мере того, как растет величина п: чем большее количество единиц получается в результате членения данной значимой единицы, тем большие возможности предоставляет она для риторической обработки.
Общая таблица метабол, или риторических фигур...
В обобщающей таблице представлены в качестве примеров фигуры, описание которых читатель может найти в последующих главах, посвященных четырем основным типам метабол.
II.
МЕТАПЛАЗМЫ
0. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
0.1. ФОНЕТИЧЕСКОЕ СЛОВО
Метаплазм — это операция, которая меняет звуковую или графическую сторону сообщения, то есть форму выражения в ее звуковом или графическом обличье. Такие изменения звуковой последовательности, затрагивающие одну или несколько фонем, выявляются только с того момента, когда эта фонема (фонемы) включается в единицу (или единицы) более высокого уровня. Последовательность фонем, ни один элемент которой не мог бы стать частью языкового знака в соссюровском смысле слова, можно было бы, по-видимому, истолковать как изменение такого типа. Но описать его можно было бы только в сравнении с другими звуковыми последовательностями, имеющими четко выраженную связь со значимыми единицами более высокого уровня. Вот почему необходимо вначале определить, что мы понимаем под «значимыми единицами более высокого уровня», то есть дать определение слова. Известно, что этот трудный вопрос время от времени вновь и вновь возникает перед лингвистами, заставляя их самым кардинальным образом пересматривать свои позиции. Мы знаем, сколько было споров на эту тему: в них принимали участие такие лингвисты, как Ж. Ван-дриес, Б. Трнка, К. Тогебю, А. Мартине, И. Холт, Дж. Гринберг и др. Среди работ, посвященных этой проблематике, можно выделить целое направление, ратующее за отказ от понятия «слово». Направление опасное, поскольку понятия, определяемые через слово, теряют тогда всякий смысл и любая теория, построенная вокруг оси слово — предложение оказывается несостоятельной. Тем не менее очевидно, что понятие «слово» имеет четкий коррелят в нашей интуиции. С другой стороны, слово, будучи символом, является объектом, с которым мы сталкиваемся в повседневной жизни и который, следовательно, может быть описан эмпирическим путем. И наконец, самый существенный вопрос в этом споре — является ли слово основной лексической единицей или такую единицу следует искать на более низком, более разработанном с аналитической точки зрения уровне — не затрагивает принципиального для нас обстоятельства: фонетическое слово существует, ибо «для синтагматической теории не составляет никакого труда определить его как лексикализован-ную микросинтагму, для которой характерна высокая степень внутренней взаимообусловленности составных частей» (Mikus 1957, с. 161 — 162). Блумфилд называл слово «минимальной свободной формой» (a minimum free form).
Теперь мы можем дать определение слова, и, как это принято теперь, определение будет аналитическим. Если в акте референции мысленно отделить означаемое от означающего, то сразу же можно сформулировать определение одной из полученных изолированных сущностей. В плане означающего слово будет заданной дискретной единицей, состоящей из разложимого на составные части набора слогов или фонем, упорядоченных определенным образом, набора, допускающего повтор.
Некоторые понятия в предлагаемом определении требуют пояснений. Прежде всего термин «дискретный», который указывает на высокую степень взаимообусловленности внутри микросинтагмы. Хорошо известно, что границы слова в речевой цепи подчас бывают размытыми, что в некоторых контекстах рядом стоящие слова могут сливаться, и в результате у некоторых говорящих теряется четкое представление о том, что такое слово. Но здесь, как и во многих других случаях, патология помогает понять норму. Разграничители лексических единиц как раз и служат для того, чтобы надежно обеспечить внутреннюю цельность каждой единице. Термин «заданная» (единица) также требует разъяснения. Если слово является частью кода, то оно должно обладать некоторой устойчивостью в сознании говорящего. Но не все, что может породить наш голосовой аппарат, в достаточной степени устойчиво: это касается, в частности, некоторых звукоподражательных слов, которые еще не были лекси-Кализованы и потому имеют достаточно подвижные контуры. Здесь с трудом улавливаются изменения, преследующие риторическую цель. Можно в принципе исходить из того, что нарушения правил в том или ином органическом целом тем более заметны, чем меньше число входящих в него составляющих (последние в данном случае теряют свою «подвижность», поскольку они существуют не отдельно, а в рамках целого). И наоборот. Рассмотрим следующий пример, хотя он и может показаться недостаточно основательным: ономатопея bourn ‘бум’, которая, в частности, встречается у Шарля Трене [1], более или менее точно в рамках фонологической системы французского языка воспроизводит шум взрыва. В иллюстрированных журналах для подростков встречаются близкие по звучанию слова baoum и braoum с тем же значением. Причем последние нельзя рассматривать как метаплазмы, полученные путем добавления, поскольку для звукоподражательных слов характерна довольно слабая лексика-лизация, все их варианты сразу же воспринимаются как одинаково «правдоподобные». Но такие допустимые для французского языка нефункциональные варианты в целом малочисленны, по крайней мере с чисто фонетической точки зрения. Итак, именно благодаря устойчивости слова слушающий может в одно и то же время фиксировать сам факт наличия метаболы и оценить отклонение, отделяющее новую единицу от исходной формы, сведение к которой оказывается возможным благодаря высокому уровню избыточности в языке.
0.2. МЕТАПЛАЗМЫ И МЕТАГРАФЫ
До сих пор мы говорили о слове как чисто фонетическом явлении. Но сообщение часто поступает к нам через другого посредника, через письмо. Хотя орфография, если подходить к ней только с психологической или исторической точек зрения, и является всего лишь эпифеноменом (пассивным отражением) языка, она играет существенную роль в формировании представления о языке у его носителей1. В процессе обучения французскому языку особое внимание уделяется орфографии, и часто именно через письмо обучаемый получает представление о содержании текста. Даже если письменность, строго говоря, и не является «составной частью языка», как это утверждается в одном сочинении, где мы находим целый ряд опасных заблуждений (см. Thimonnier 1967, с. 71), следует все-таки признать, что языковая форма может проявляться и в графической субстанции, ориентированной только на зрительное восприятие: можно знать язык и не уметь говорить на нем. Ельмслев в свое время встал на защиту языкового статуса графической субстанции: по его словам, «не всегда можно установить, что является производным, а что — первичным», и кроме того, «факты диахронии не релевантны при описании синхронии» (Hjelmslev 1968, с. 142 — 143) 2. Все эти замечания наводят нас на мысль о том, что следует различать мета-плазматические отклонения по способу их образования. И в самом деле, метаболы могут применяться к звуковой субстанции (уровень р), где действует определение слова, сформулированное нами выше, но они могут также осуществляться и на графическом уровне (уровень q). Теперь надо дать новое определение слова, применимое к графической субстанции. Его можно было бы сформулировать так: слово — это заданная дискретная единица, представляющая собой набор графических знаков, упорядоченных определенным образом, набор, допускающий повтор. Мы будем называть типографские знаки графемами, поскольку они являются носителями значения. Но из факта наличия двух уровней р и q, еще не следует, что они противопоставлены друг другу, поскольку они имеют область пересечения. Преобразования типа р, воздействующие на звуковую форму слова, почти всегда меняют и его графическое оформление. Одним словом, почти все, что относится к р, относится и к q. Но здесь имеются в виду только значимые преобразования, и именно поэтому мы говорим, что рассматриваемая нами закономерность охватывает «почти» все случаи. Например, замена апикально-дентального R дорсальным г не влияет йи на содержание высказывания, ни на форму его выражения. Но тем не менее выбор R, г или информативен, поскольку оно дает возможность судить, например, о социальном происхождении говорящего, о том, где он родился и вырос, или уловить его намерение пародировать то или иное произношение. Эти незначимые фоностилистические вариации не находят своего отражения в письменной форме высказывания (pq) в отличие, например, от дефектного произношения, которое свойственно, в частности, некоторым героям Бальзака: Горио произносит ormoires вместо armoires ‘шкафы’, мадам Воке говорит tieuilles вместо tilleules ‘липы’ [1]. Именно поэтому мы отмечаем лишь частичное совпадение классов р и q. Если речь идет о пересечении, а не о включении, то должны быть случаи, когда имеет место q, но нет р (qp). Французская орфография, действительно, не является точной транскрипцией произносимой звуковой цепи: довольно часто это просто последовательность знаков, существующих независимо от отображаемой ими звуковой материи. Именно данное обстоятельство позволяет применять к графическому ряду операции, которые при устном декодировании не затрагивают фонетической реализации слова. Можно произнести New York на французский манер, но отношение, связывающее это произношение с его графическим стимулом, не является взаимно-однозначным, поскольку Селин [2] писал Nouilleyork (от nouille ‘слабак’), а еще один критик предложил писать Nouillorque.
Таким образом, мы будем рассматривать отдельно метаграфы, или операции, изменяющие графическую, но не звуковую форму слова. Однако раздел, посвященный метаграфам, следует рассматривать только как дополнение к сказанному о метаплазмах. И нет ничего удивительного в том, что клетки таблиц метаплазмов и метаграфов не всегда удается заполнить симметричным образом: это свидетельствует не столько о несовершенстве риторической модели, сколько о недостаточной упорядоченности графической формы французского языка3.
3 Представители классической риторики уже отмечали, что метаплазмы могут найти свое выражение и в письменной форме и что, с другой стороны, некоторые значимые изменения не могут быть выражены на графическом уровне. Но латинская орфография по ряду параметров сильно отличается от французской. С одной стороны, латинская письменность лучше отражает фонетику, и поэтому возможность варьировать графемы, не меняя при этом смысла, там невелика. Но, с другой стороны, некоторые фонологически значимые элементы не имеют в латыни графического выражения: ударение, долгота и т. д.
0.3. УРОВНИ
«Фигуры умолчания», использованные нами при определении слова, вынуждают нас внести еще один, третий по счету, тип уточнений. Речь идет об уровне, к которому относится рассматриваемая нами главная лексическая единица: необходимо выделить минимальные элементы, несущие смысловую нагрузку, не подлежащие дальнейшему членению. В первой главе мы напомнили об основных положениях теории уровней и о двух типах отношений, связывающих элементы этих уровней. Некоторые элементы по своему размеру меньше слова, другие больше. В речевой цепи как французского, так и любого другого языка, последовательности единиц могут объединяться, образуя при этом более крупные единства. Последовательность, элементы которой наиболее тесно связаны друг с другом и которая обладает наибольшей устойчивостью, и есть слово. Но любая последовательность может примыкать более или менее плотно к предшествующим и последующим последовательностям.
Перечислим основные теоретические положения, принятые нами в ходе исследования. Мы будем говорить о трех планах, для которых характерна различная степень сложности. Первый план мы назовем инфраязыковым. Это уровень различительных признаков, не имеющих самостоятельного выражения в языке. С точки зрения фонетики эти различительные признаки являются фемами (если пользоваться общепринятой терминологией) [1], или меризмами (в системе терминов Бенвениста*): глухость, звонкость, лабиальность и т. д., взрыв, фрикативность и пр. В области графики это формальные характеристики графем, которые, по всей видимости, были хорошо изучены специалистами по вычислительной технике с крупных предприятий, производящих электронное оборудование, создавшими считывающее устройство: прямые, кривые, петлеобразные наклоны, закрытый/открытый контур и т. д. Второй план мы назовем элементарным: это уровень фонем. Фонемы могут группироваться в морфемы и в монемы, если подходить к этому вопросу с позиций синтагматики, или в слоги, если выбран чисто формальный подход, и лишь затем объединяться в слова. Третий, или комплексный, план — это уровень синтагм, или групп слов, образующих некоторое единство. Синтагмы в свою очередь могут объединяться в предложения. Совершенно очевидно, что граница между метаплазмами и метатаксисом не является сплошной и незыблемой. Мы будем считать, что к этому комплексному уровню относятся все метапластические операции, которые изменяют слово (как мы его определили выше) и охватывают две и больше лексические единицы, будь то в качестве исходных или в качестве результирующих4. Предложенное трехчастное деление, об общетеоретической значимости которого мы уже говорили выше5, позволит нам провести достаточно тонкую классификацию всевозможных типов метаплазмов.
Еще один критерий, на сей раз чисто эмпирический, поможет нам дать еще более дифференцированную классификацию. Если некоторая совокупность элементов имеет линейную протяженность или может быть представлена в виде линейной последовательности (таким свойством обладают единицы второго и третьего уровней), можно с точностью указать то место в этой совокупности, где происходит субстанциальная модификация. Например, сокращение или добавление может осуществляться в начале, в конце или в середине слова. Кроме того, в процессе описания метаплазмов и метатаксиса мы будем иногда рассматривать явления, свойственные лишь поэзии. Поэзию можно понимать как некоторый вторичный код внутри языка — подкод, накладывающий дополнительные формальные ограничения на сообщение с точки зрения его получателя.
Вооружившись таким арсеналом всевозможных средств, мы можем приступить к описанию метапластических явлений, хотя предложенное ниже описание и не претендует на полноту. Для простоты изложения метаболы классифицируются в соответствии с типом примененной операции. Этого принципа мы будем придерживаться и в последующих главах.
1. СОКРАЩЕНИЕ
1.1. Операция сокращения может производиться на инфраязыковом уровне. Она сводится к отделению от фонемы одной из ее фем, причем это отделение не препятствует реализации самой фонемы; тут меняется лишь артикуляционная оболочка слова.
В таком предложении, как Fous n’afes pas te feine*, снятие звонкости позволяет получить подражание немецкому произношению6.
* Это предложение получено путем оглушения звонких согласных v и d в предложении Vous n’avez pas de veine ‘Вам не везет’. — Прим, перев.
6 Отметим, что сокращение признака всегда является полным. Поскольку операция производится на уровне нечленимых элементов, она может быть либо полной, либо ее не должно быть вообще.
На элементарном уровне сокращение может затрагивать большее или меньшее число составляющих и осуществляться либо в начале, либо в конце, либо в середине слова. Таким образом мы получаем соответственно афере-зис (las вместо helas ‘увы’, ’man вместо maman ‘мама’ и т. д.) и апокопу (fac, perpete вместо faculte ‘факультет’, perpetuite ‘пожизненное (заключение)’)*. Изменения в середине слова (abscisio de medio) представлены синкопой **: ma'ame, la v’la, Qui-ci вместо madame ‘мадам’, la voila ‘вот она’, celui-ci ‘этот’7.
Апокопа может принимать достаточно внушительные размеры, как, например, в случае «La Р... respectueuse» («Добродетельная ш...»). Мы часто сталкиваемся с этим явлением, когда неблагопристойные восклицания сокращаются в угоду правилам хорошего тона (m..., b... de D... b... de f... и т. д.; пусть читатель сам продолжит этот список).
Синерезис [1], который в поэзии используют как прием версификации, может в равной степени рассматриваться как сокращение: слово diamant ‘бриллиант’, в котором обычно насчитывается три слога, может быть укорочено до двух: происходит перераспределение фонетических единиц в соответствии с правилами, уменьшающими число групп, то есть слогов в слове. В античной поэзии использовались систола (укорочение долгого слога) и синезис (слияние гласных).
* Ср. русское зав вместо заведующий, преп и фак вместо преподаватель и факультет. — Прим, перев.
** Ср. русское здрасьте вместо здравствуйте. — Прим, перев.
1 Здесь следует проявлять особую осторожность, когда мы имеем дело с лексикализацией производных форм. Слово cinema ‘кино’ нельзя рассматривать как результат применения операции сокращения к слову cinematographe ‘кинематограф’. Создается даже впечатление, что скорее последнее является метаплазмом через добавление. Слово cine пока еще можно считать результатом сокращения, но как долго это еще продлится?
8 Наличие пунктуации, разумеется, не является в поэзии обязательным. Примером может служить цитируемое ниже стихотворение Клоделя:
Quand je comprendrais tous les etres
Aucun d’eux n’est une fin en soi ni
Le moyen pour qu’il soit il le faut
(Этот пример цитируется и обсуждается в Morier 1961, с. 55 — 56.)
1.2. Сокращение, как мы уже говорили выше, может быть полным. В этом случае слово просто исчезает из предложения, в результате чего происходит изменение мелодики фразы, которое на письме передается многоточием8. Процитируем пример, заимствованный у Селина:
Je crois que je serais emportd tout doucement... J’ai idee ainsi... foi dans 1’ombre... ‘Я думаю, что я покину этот мир совсем тихо... мне так кажется... вера в мрак...’. Напомним также начало «Le petit» Жоржа Батайя: ...fete a laquelle je m'invite seul, ou je casse a n’en plus finir le lien qui me lie aux autres ‘...праздник, на который я приглашаю себя одного, на котором я рву до самого конца связи, соединяющие меня с другими’. Очевидно, что о сокращении можно говорить лишь в том случае, когда избыточность достаточно велика, чтобы компенсировать отсутствующий элемент. С другой стороны, как уже отмечалось выше, операция полного сокращения приводит к одинаковым результатам в каждой из четырех граф [см. общую табл. — Прим, ред.1: сокращение — это в то же время и эллипсис, и асемия, и пауза. Можно даже утверждать, что в данном случае речь идет скорее о фигуре содержания, чем о метаболе формы, поскольку ее применение часто основывается на использовании семантической избыточности.
2. ДОБАВЛЕНИЕ
2.1. На инфраязыковом уровне эта операция тоже достаточно проста: при выполнении некоторых условий (сочетаемость различительных признаков подчиняется довольно строгим правилам) к уже имеющейся фонеме прибавляется лишняя фема. Результат этой операции в точности противоположен результату операции сокращения: к явлениям такого рода относится замена le coeur ‘сердце’ на le goeur, где взрывной звук становится звонким [1].
На элементарном уровне операция добавления может применяться как в начале, так и в конце слова. В первом случае мы имеем дело с различными видами протез (таких, например, как esquelette — от squelette ‘скелет’, или esqiriluel — от spirituel ‘духовный’ [2], или в строке из стихотворения Р. Кено: Les nrous nretiennent les nracleurs букв. ‘Колеса удерживают скрепер’, где в начале каждого полнозначного слова добавлен согласный п) и с присоединением различных префиксов, если добавленный элемент — морфема. Так, у любителей архаики мы находим detrancher, s’entre-regarder, а у А. Жида — prevespe-ral, suracuite, surraisonnable, inepanche, reassoiffer. Во втором случае добавление является парагогой * [3] (avec que) или присоединением суффиксов, если добавленная единица — морфема: bedondaine, pointelet, tristouillet, trucmuche и все сложные слова с суффиксом -rama, которые были так дороги Бальзаку [1].
Если добавление относится к середине слова, то речь идет об эпентезе [2] (merdre и mirlitaire) или инфиксации (здесь опять-таки можно привести пример из «Одиль» Р. Кено: Ainsi pensotai-je en me rendant chez Marcel ‘Так подумывал я, идучи к Марселю’).
Обратная операция по отношению к синерезису, диереза * [3], может рассматриваться как добавление, поскольку она приводит к увеличению числа единиц внутри слова путем преобразования односложной цепочки в двусложную. Рассмотрим два примера:
De la Louisiane aux deux soeurs Carolines (Виньи) Car le Maitre est alle puiser 1’eau du Styx (Малларме) .
По правилам скандирования в слове Louisiane должно быть четыре слога (в то время как при нормальном произнесении этого слова их только три, если вообще не два), а в слове puiser — три (вместо двух). В классическом стихосложении известно явление подобного рода — эктазис, то есть удлинение краткого гласного. В поэзии часто приходится сталкиваться с добавлением, заключающимся в произнесении немого звука е (е muet), но это возможно и в нестихотворных текстах. Такая операция используется, в частности, у Селина: Qa sera tout се que vous у metterez ‘Там будет все, что вы туда вложите’.
На сложном уровне операция добавления порождает очень интересное явление, которое с тех пор, как известен Шалтай-Болтай (Humpty Dumpty), называют «складным словом» (mot-valise букв, ‘слово-чемодан’). Это частичное слияние двух слов, имеющих общую часть, и их реинтерпретация. Слова evolution и volupte имеют общую часть volu. Следовательно, можно создать новое слово evo-luption, содержащее оба эти слова [4]. Здесь речь идет именно о добавлении, поскольку одно из этих двух слов является главным, и когда Р. Кено, описывая ситуацию, где подвыпивший герой в торжественной обстановке целует другого персонажа, употребляет выражение donner Га1 coolade [donner 1’accolade — ‘обнять’, ‘расцеловать’; alcool — ‘алкоголь’. — Прим, перев.], то здесь слово accolade является главным, поскольку превалирует именно его семантическая и грамматическая функции. Синтагматические отношения также влияют на выбор одного из этих слов: donner требует accolade, а не alcool ‘алкоголь’. Приведем несколько примеров, принадлежащих перу Филиппа де Марникса де Сент Альдегонд [1], который в своем знаменитом памфлете с ненавистью обрушивается на богословские факультеты университетов: cluniversite (где clunis ‘ягодица’+ universite ‘университет’), humeversite (burner ‘пить'), luneversite (lune ‘луна’) и т. и. [2]. Что касается особого вида складных слов, названных доктором Фердье-ром, большим специалистом в этой области, «словами-сэндвичами» (mot-sandwiches), то их особенность заключается в том, что одно слово вкладывается целиком в другое, разрывая его на две части. Вот очень удачный пример такого рода: прилагательное rajolivissant [3], очень популярное в Тулузе в 40-х гг.
2.2. И наконец, не следует забывать о том, что добавление может применяться многократно. Мы не имеем в виду случай, когда слово или словосочетание повторяется в предложении несколько раз, поскольку тогда фигура не меняет самое форму слова (geminatio). Но редупликация слова имеет прямое отношение к рассматриваемому явлению, если в результате мы получаем новое слово: так происходит, например, в случае foufou (fou — ‘сумасшедший’). Мы сталкиваемся с этим явлением в некоторых разновидностях детской речи, когда все слова в предложении повторяются дважды. Разумеется, итеративное добавление может затрагивать только часть того или иного слова. Если речь идет о фонеме, мы имеем дело с приемом выделения или подчеркивания: il est beeeeete ‘он глу-у-уп’. Или другой пример: C’est dans се lit, qui ne se distingue pas precisement par ses proportions gigantesques, que le soldat frrrangais reve de 1’amour et de la gloire ‘Именно в этой постели, не отличающейся гигантскими размерами, фррранцузский солдат мечтает о любви и славе’ (Р. Larousse. Dictionnaire universel). Повторяющимся элементом может быть слог: таким образом могут быть получены слова с ласкательным оттенком, такие, как, например, fefemme (от femme ‘женщина’). Известно, что в XVI в. многие авторы, и прежде всего дю Барта, прославились «усложненными» образованиями такого типа (floflotter от flotter ‘плавать’ и т. д.).
Приведенные выше примеры, вообще говоря, не блещут изяществом... Но именно такие добавления положены в основу самых характерных особенностей любой, и в частности французской, поэзии.
И в самом деле, рифма есть не что иное, как упорядоченный повтор одинаковых звуковых элементов, поскольку ее можно определить как «омофонию последней ударной гласной, а также — в некоторых случаях — последующих фонем» (Morier 1961, статья «Rime»). Ассонанс, понимаемый как омофония последней ударной гласной в ограниченной группе слов (синтагмы, строфы), также относится к приемам такого типа. Явление итеративного добавления особенно хорошо прослеживается на примере «рифмы-эхо» (rime echo) [1]:
О toi qui dans mes fautes memes m’aimes
Viens vite, si tu te souviens, viens
T’etendre a ma droite, endormie mie
Gar on a froid dans le linceul seul
(В. Гюго).
В этом примере редупликация становится еще более заметной за счет смежности повторяющихся звуковых элементов. То же самое происходит и в случае «увенчанной» рифмы (rime couronnee):
La blanche colombelle belle
Souvant je vais priant criant
(Mapo) или «сквозной» рифмы (rime emperiere):
Que ce remord, Mort, mord!
A! oui, ris-t’en, tant! [2]
(Цит. по: Марье).
Последняя — всего лишь частный случай внутренней рифмы (rime interne) [3]:
Je promerae ан ha.sa.rd mes regards sur a plaine
(Ламартин).
Отсюда можно получить все виды аллитераций, конкатенированных рифм (rime concatdndes), ветвящихся рифм (rimes senees) и т. д. [1].
Cerise cuve de candeur
Digitale crista? soyeux
7?crgamotto fterceau de miel
Pensee immense aux yeux de paon
(Элюар).
Заметим, что редупликация может быть графической. Так, например, в первой из цитированных строф повторяются, вообще говоря, только две начальные согласные, но три начальные графемы.
Разумеется, можно пойти и дальше по этому пути. Явление омофонии, рассмотренное только с метапластической точки зрения, не объясняет в полном объеме действенности этого риторического явления. Ибо очевидно, что на уровне контекстуального этоса (см. гл. VI) получаемый от такой редупликации эффект зависит также от означаемых соответствующих единиц (грамматикализован-ность или неграмматикализованность рифмы, контрастив-ность значений, знакомая специалистам по парономазии и т. д.). Прекрасным примером сдвига в «сцеплении» между звуковой и семантической последовательностью может служить известное стихотворение с омонимической рифмой (holorime), сочиненное Альфонсом Алле и цитируемое Шарлем Кро:
Ou, dure, Eve d’efforts sa langue irrite (erreur!)
Ou du reve des forts alanguis rit (terreur!) [2].
В данном примере при полном совпадении двух звуковых последовательностей наблюдается совершенно различное членение на знаки в соссюровском смысле слова. Означаемое в этом случае теряет смыслоразличительную силу. Наше восприятие блокируется в синтагматическом плане полным или почти полным совпадением двух звуковых последовательностей. Когда же мы соединяем эти две последовательности с их означаемыми, то обнаруживаем существующее между ними отличие на более высоком уровне дистрибуции.
Заметим, что противопоставление графемы п фонемы, о котором мы говорили выше, и здесь дает о себе знать. Рифма, безусловно, создавалась для слуха, но в рамках классической поэзии ей надлежало также быть приятной для глаза. Знаменитые замечания Ракана [1] напоминают нам об этом. Так зародилась «рифма для глаза» (rime pour I’ceil): ее мы находим у Ламартина (тег — aimer), равно как и у Бодлера (hi ver — elever) [2].
3. СОКРАЩЕНИЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ
3.1. Эта операция может затрагивать некоторые различительные признаки. Например, в просторечьи часто можно услышать cintieme (вместо cinquieme) etage ‘пятый зтаж’ — здесь гутуральность взрывного согласного заменяется дентальностью. Сюда же относится явление диссимиляции в таких случаях, как collidor (вместо corridor ‘коридор’ [3]) или celebral (вместо cerebral ‘мозговой’).
Сокращению с добавлением может подвергаться не один какой-то различительный признак, а несколько фем, а следовательно, и несколько фонем в слове. Именно таким способом могут быть получены oneille папаши Юбю * и vuvurrer Зази **, а также многие явления, свойственные детской речи. Если эта операция затрагивает в речевой цепи все звуки, обладающие каким-то общим свойством, то в результате получается, например, что-то вроде пародии на произношение с пришепетыванием, приписываемое обычно жителям Оверни (Un chacheur cha-chant chacher... вместо Un chasseur sachant chasser ‘Охотник, умеющий охотиться...’). Можно также привести образчик забавных народных песенок, известных в фольклоре многих народов мира, где все гласные сведены к одной (французский популярный рефрен: Buvons un coup, ma serpette est perdue, или испанская песня: Cuando Fernando septimo usaba paleton, и т. д.), или что-то вроде эротического стихотворения, принадлежащего перу Марка де Папильон де Лафриза:
Je me veux regarde en tes beaux yeux luysans: Car ce sont les misoirs des Amouseux enfans, Apres je modesay ta goge ma menonne.
* Герой комедии А. Жарри «Царь Юбю» («Ubu-roi»). — Прим, перев.
** Героиня романа Р. Кено «Зази в метро». («Zazie dans le metro»). — Прим, перев.
Soudain je laichesay ton joliet tetin, Puis je chatouillesay ton beau petit tounin 9.
Но вернемся к более серьезным примерам. Субституции, или замене, может подвергаться целая морфема. Это имеет место, например, в единственном числе слова fardal (от fardeau ‘ноша’), образованном по аналогии с существительным на -al с суффиксом -aux во множественном числе [1], или в обессмертившем Мольера сабире из турецких эпизодов «Мещанина во дворянстве»: Si ti sabir, ti respondir... Именно при помощи замены суффиксов Шарль де Костер, автор замечательной «Легенды о Тиле Уленшпигеле», создает существительные predicastre, gue-naille u chicherie [2].
3.2. Ранее мы уже говорили о том, что сокращение с добавлением может быть и полным. В области мета-плазмов результатом применения этой операции является не что иное, как синонимия 10. Полное сокращение с добавлением по своему действию в целом не отличается от замены части слова, хотя может показаться, что результаты в этих случаях несоизмеримы. Тип связи в парах синонимов partir/s’en aller ‘отправляться/уезжать, уходить’ и desespoir/desesperance ‘отчаяние/безпадежность’ один и тот же. Во втором случае сокращение с добавлением реально ощутимо, в то время как в первом — нет. Но синонимию можно интерпретировать следующим образом: при одном и том же означаемом все составные элементы означающего сокращаются и заменяются другими. Иными словами, при неизменном понятии производится замена на уровне обозначения. Но многие лексические единицы, семические толкования которых совпадают, не являются в полном смысле слова тождественными. Например, bailler ‘отдавать’, ‘вручать’ и donner ‘давать’ или группа слов mourir ‘умереть’, decoder ‘скончаться’, crever ‘подохнуть’.
9 В этом сонете из «L’Amour passionnee de Noemie» детский стиль (ср. последнюю строку Car 1’Amour se fait mieux en langage enfangon) выражается главным образом в сокращении г (Si tu n’accode a moy le folate Gagon) или его замене на свистящий.
10 Здесь мы имеем в виду синонимию слов, не имеющих общей морфологической основы (синонимия типа А, без общей морфологической основы). Мы противопоставляем ее синонимии с общей морфологической основой (синонимия типа В).
11 Первые исследователи в области лексической семантики упрощали суть дела, поскольку рассматривали лишь специально подобранные, удобные для разбора примеры; таково описание значения лексемы fauteuil ‘кресло’ у Бернара Поттье.
Эти слова, обнаруживающие одно и то же семическое содержание, различаются на уровне коннотации, которая в традиционном семантическом анализе обычно не учитывается 12. Таким образом, создается впечатление, что каждой семе, входящей в состав лексической единицы, соответствует некоторый набор маркеров другого типа, предназначенных для различения функциональных уровней речи или эмоциональной окраски, по которым одни слова противопоставляются другим. Так, глаголы cacher ‘прятать’ и celer ‘таить, скрывать’ с точки зрения семического анализа эквивалентны, но при этом celer имеет маркер, отсутствующий у cacher 13. Отметим, что семическое ядро у них общее. Таким образом, синонимия является частным случаем сокращения с добавлением: при более или менее полном совпадении семического ядра производится замена формообразующих элементов означающего, и эта субституция сопровождается изменениями на уровне коннотации.
Метаплазматический статус синонимии типа А (без общей морфологической основы) не так четко очерчен, как для морфологической синонимии (типа В). В случае замены суффиксов для получения инварианта достаточно обратиться к означающему. Этот прием вообще применим в тех случаях, когда отклонение проявляется на более низких уровнях (на уровне различительных признаков, фонем или даже аффиксов): оно всегда реализуется через отношение «воспринятая единица (unite perQue) vs понятая единица (unite congue)» — например, когда мы слышим слово chacheur вместо chasseur ‘охотник’, мы воспринимаем фонему | s |, но понимаем ее как | s |. Даже если редукция отклонения распространяется па несколько уровней (в том числе и семантический), она всегда захватывает через элементарное отношение уровень означающего. Но в случае синонимии типа А инвариант воспринимается, наоборот, через означаемое. Это становится очевидным, если учесть, что, рассматривая явления, имеющие место на более низких уровнях, мы переходим при их интерпретации от фонем к единицам, включающим их в качестве составных частей. Именно на этом более сложном уровне мы осознаем сам факт отклонения, или разрыва между произнесенным и понятым означающим, и, двигаясь в обратном направлении, мы сводим отклонение целого к отклонению части, то есть сводим отклонение слова к отклонению фонемы. И естественно, мы поступаем точно так же, когда речь идет о метаплазмах, полученных путем полного сокращения с добавлением, причем синонимия без общей морфологической основы является лишь частным случаем таких метаплазмов. Для синонимов такого типа «включающее» множество, позволяющее редуцировать отклонение, естественно, следует искать выше, на уровне синтагмы или предложения. Именно поэтому здесь мы почти всегда имеем дело с семантической редукцией. Все высказанные соображения, казалось бы, говорят в пользу того, что синонимию надо описывать в терминах метасемем: и в самом деле, можно провести некоторую аналогию между заменой penser ‘думать’ на cuider устар, ‘думать, предполагать, верить’ и приемом, лежащим в основе метафоры и метонимии. Но тем не менее синонимия, несмотря на всю сложность этого явления, обусловленную сложностью уровня, к которому оно относится, полностью описывается через означающее. Мы еще вкратце вернемся к этому вопросу (гл. IV, 0.2).
В своей работе, посвященной синонимии, Б. Поттье показал, что лексические единицы языка могут быть описаны в терминах лексических классов в зависимости от наличия/отсутствия в них той или иной семы (Р о 11 i е г 1964, приложение). Возможны четыре случая: 1. Отсутствие общих сем (как, например, bateau ‘судно’ — mercure ртуть’); 2. Частичное пересечение множеств сем, когда уже наблюдается некоторое сходство (слова bateau ‘судно’ и train ‘поезд’ имеют общую сему — ‘транспортное средство’); 3. Полное включение: это «частичная синонимия» (например, bateau ‘судно’, navire ‘корабль’); 4. Совпадение множеств сем. Этот четвертый теоретически возможный случай представляет собой полную синонимию: автор считает, что на практике он вообще не встречается. Следует ли нам принять точку зрения Б. Поттье? Действительно, синонимия представляет собой включение одного множества в другое. Несколько расширим сказанное выше. Включенное слово немаркированно, оно употребляется в самых разных контекстах, в то время как маркированным является включающее слово. Имеющееся между ними более или менее важное различие затрагивает несущественные семы коннотации.
К частным случаям стилистической синонимии относятся архаизмы и неологизмы. В парах bailler — donner ‘давать’, battre — dauber ‘бить, колотить’, bouter — mettre ‘ставить’ один член немаркирован, а другой имеет маркер «архаизм» 14. Итак, к архаизмам мы будем относить лексические единицы, которые могут быть противопоставлены по признаку «употреблительное/устаревшее» другим синонимичным им немаркированным лексическим единицам. Слово bailler относится к хронологическому пласту А французского языка, слово donner относится к более позднему пласту В. Понятие, соответствовавшее слову bailler в период А, не претерпело изменений в период В: изменились только отношения означаемого и означающего. Иначе говоря, для одного и того же понятия была произведена замена означающих. С этого момента появление слова, соответствующего понятию «давать» и относящегося к периоду А в речевом акте, имеющем место в период В, воспринимается как отклонение. Но это в большей степени связано с используемым лексическим материалом, чем просто с наличием фигуры. Ниже мы еще вернемся к данному вопросу.
Mutatis mutandis, механизм неологии15 работает по тому же принципу: мы фиксируем отношение синонимии и одновременно с этим отмечаем «непрочность» связи между новым словом и соответствующим состоянием языка 16.
Неологизм может быть полным, и тогда, например, мы имеем дело со словотворчеством (forgerie) [1]. Самой лучшей иллюстрацией здесь было бы знаменитое стихотворение А. Мишо:
Il I’emparouille et 1’endosque centre terre;
Il le rague et le roupete jusqu’a son drale;
Il le pratele et le libucque et lui baruffle les ouillais...
Заметим, что явление словотворчества, которое может распространяться на целое предложение, выходит за рамки собственно лингвистики в том случае, когда текст превращается в набор звуков, которым невозможно приписать какой бы то ни было смысл, хотя сами эти звуки, безусловно, принадлежат к членораздельной речи. И поскольку избыточность речи уже не может обеспечить полноценной коммуникации, свести отклонение к какой бы то ни было нулевой ступени здесь уже невозможно. В «Le grand combat» («Большая битва») дело обстоит иначе, поскольку само название и правильность синтаксических структур позволяют хотя бы приблизительно сопоставить тексту некоторый смысл. В целом так же обстоит дело и в авангардистских опусах, где можно еще различить глаголы, существительные, местоимения и т. д. Но во многих бессмысленных «тарабарщинах» [2], самые интересные из которых были собраны Э. Сурио в его работе «Snr I’esthetique des mots et des langages forges» (Souriau 1965, c. 19 — 48), мы сталкиваемся именно с полным отсутствием смысла. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно бросить взгляд на начало тирады, которую Рабле вкладывает в уста Панурга: «Prug frest frins sordmant strochdt drhds, pag...» *.
Можно различать два вида полной неологии. В одном случае базовое слово заменяется на другую, уже существующую в коде единицу. В другом — эта единица является новой для кода. С первым видом неологии мы часто сталкиваемся в произведениях Жана Тардье, собранных воедино под заголовком «Un mot pour un autre»:
Quoi, vous ici, cher comte? Quelle bonne tulipe! Vous venez renflouer votre chere pitance? ... Mais comment done etes-vous barde?
В таких метаплазмах автор производит замену одного слова другим, не ориентируясь на их семантическое сходство, а исходя из их общих количественных характеристик и наличия в них общих фонем. Отклонение в этих случаях относится к уровню слов, но основой для него служат звуковое сходство и звуковое различие между произнесенным и понятым означающим (как в парономазии). В принципе означаемое само по себе не претерпевает при этом никаких изменений, хотя произнесенное означающее содержит отсылку сразу к двум означаемым: | произнесенное означаемое | — |понятое означаемое|, что порой препятствует дешифровке сообщения. Например, за выражением Vous avez toujours le pot pour frire букв. ‘У вас всегда есть горшок для жарения (в масле)’ может скрываться только Vous avez toujours le mot pour rire ‘У вас находятся шутки на все случаи жизни’ (le mot pour rire букв, ‘слово для смеха’), но тем не менее мы замечаем относительное сходство означаемых pot ‘горшок’ и frire ‘жарить"*. Второй вид словотворчества, богато представленный в произведениях А. Мишо, Л. Кэрролла, Дж. Джойса, более сложен. Очевидно, что звуковой форме высказывания могут соответствовать несколько понятых означающих и, следовательно, несколько означаемых. Франсуа ван Лаер предложил использовать для обозначения самой характерной для «Поминок по Финнегану» Дж. Джойса фигуры термин «гипограмма» (hypogramme), который Соссюр употреблял для обозначения как анаграммы, так и апофонии. Рассмотрим предложение «Walalhoo, Walalhoo, Walalhoo, mourn is plain». Помимо стихотворения Виктора Гюго, аналогия с которым сразу же бросается в глаза, мы начинаем колебаться между Walhalla, Walhalla, Walhalla, le deuil est complet ‘наступил полный траур’ или la lune est pleine ‘полная лупа, наступило полнолуние’. Таким образом, здесь может быть несколько прочтений, которые в зависимости от контекста или от восприятия читателя либо дополняют, либо, наоборот, исключают друг друга.
* Ср. русск. Свежо питание, а варится с трудом, полученное из поговорки Свежо предание, а верится с трудом. — Прим, перев.
Напомним, наконец, что цитирование иностранных слов также следует рассматривать как метаболу по типу полного сокращения с дополнением. Очевидно, что заимствования могут различаться по своей структуре и функции:
J’ai lone un flat
D’un trait, le gantelet, partageant la toison sur Yutrumsit de Roberte, vaste et profond, degage entierement le quidest de 1’inspectrice
(П. Клоссовски) Entremeler souvent un petit E cosi
Et d’un son servitor contrefaire 1’honnete
(Дю Белле) [1].
Перед тем, как перейти к следующей операции, заметим еще, что на комплексном уровне слово может заменяться целым словосочетанием, сходным с ним по артикуляционным характеристикам, и наоборот. Такой игре слов более точно соответствует, как нам кажется, термин «квазиомонимичная подстановка». Обратимся к народному юмору: во времена первой мировой войны некоторые немецкие газеты — Tageblat — были известны в среде французских солдат под названием tas de blagues ‘куча вранья’ [21. Трудно отказать себе в удовольствии процитировать здесь несколько находок Фредерика Дара, который под псевдонимом Сан Антонио украшает страницы своих романов выражениями типа emasculee contraception ‘предохранение (от беременности) путем кастрации’ (вместо immaculee conception ‘непорочное зачатие’) 17.
Может показаться, что мы совершенно напрасно проводим грань между омофонами, полученными, с одной стороны, путем итеративного добавления, а с другой — через добавление с сокращением. Но в первом случае (рифмы, парономазия и т. д.) омофонические элементы обязательно связаны синтагматическими отношениями (например: tout се qui grouille, grenouille, scribouille букв. ‘все, что копошится, интригует, марает бумагу’); во втором случае нет необходимости в материальном присутствии исходного слова или выражения: фигура может быть получена и без этого. Таким образом, мы можем определить некоторые каламбуры как парономазию in absentia, исходя из того, что в основу метаболы положено в этом случае несходство означаемых, воспринятое через сходство означающих. Рассмотрим пример, заимствованный у Р. Десноса: Les quatre sans cous ‘Четверо без шеи’ [получено из выражения (faire) les quatre cents coups ‘вести разгульный образ жизни, пуститься во все тяжкие’. — Прим, перев.]. Высшее совершенство каламбура проявляется в полной омонимии, полном совпадении означающих при различных означаемых [1]. Допустим, что в рекламе Shell que j’aime ‘Шелл [марка бензина], который я люблю’ сочетание графических знаков sh было прочитано как [s]; сняв тем самым фонетическую оппозицию между celle ‘та’ и shell ‘Шелл’, мы попадаем в область метаграфов.
4. ПЕРЕСТАНОВКА
4.1. Если обратиться к списку морфологических ошибок, нарушений литературной нормы, можно без труда найти множество примеров на метатезы. Все мы слышали, как вместо aeroplane ‘аэроплан’ говорят areoplane (или симметричная деформация aeropage слова areopage ‘ареопаг’), вместо hypnotisme ‘гипнотизм’ говорят hynop-tisme, вместо caparagon ‘попона’ — carapagon или, наконец, вместо infarctus ‘инфаркт’ употребляют ужасное infractus.
Анаграмма представляет собой более сложный случай перестановки: Франсуа Рабле (Frangois Rabelais) сначала публиковался под псевдонимом, являющимся анаграммой его имени — Алькофрибас Назье (Alcofribas Nasier) [2]. Этот пример показывает, что перестановка может охватывать несколько слов: доказательством тому может служить также знаменитый девиз Revolution frangaise — Un veto corse la finira ‘Французская революция: корсиканское вето покончит с ней’ [3]. Известно также, что одному всем нам известному современному художнику удалось выразить свои сокровенные мысли и устремления в собственном имени: ибо Сальвадор Дали (Salvador Dali) преобразуется в Avida dollars ‘жаждущий долларов’ или va laid, d’or las ‘иди, урод, уставший от злата’18. Перестановка может не только нарушать порядок фонем, но и менять порядок слогов; это возможно даже в тех случаях, когда такие слоги принадлежат к разным словам: именно в этом заключается искусство акрофонических перестановок, которым посвящено несколько томов, выпущенных издательством Жан-Жака Повера19. Ниже приводится стихотворение, целиком построенное на перестановках фонем и слогов:
Alerte de Laerte
Ophelie est folie et faux lys; aime-la Hamlet (Мишель Лери) [1].
4.2. Но существует особый вид перестановок — инвертированные, то есть обратные, перестановки. Когда перестановке подвергаются элементарные единицы, мы имеем дело с палиндромом, который по своей сути всего лишь подобие игры 2С. Самыми известными примерами таких инверсий являются elu par cette crapule ‘выбранный этим мерзавцем’ и Гате des uns jamais n’use de mal ‘у некоторых душа не ведает зла’, а также пары типа Roma ‘Рим’ — amor ‘любовь’. Если перестановка касается слогов, то мы имеем дело с другим видом языковых игр, ср. например, Francois, sois franc ‘Франсуа, будь честен’. В этом примере анаграмма полноценна и с фонетической точки зрения, то есть перестановке подвергаются именно фонетические элементы: группы [swa] и [fra] меняются местами. В остальных примерах (зрительных анаграммах) речь идет в первую очередь о перестановке графических
19 Для акрофонической перестановки часто используется более благозвучный термин «антистрофа». Известно, что этот прием ввел Ф. Рабле.
20 Однако ее не гнушались и некоторые великие поэты. См., например, стихотворение Квинтилиана:
Signa te, signa, timere me tangis et angis!
Roma tibi subito motibus ibit amor.
букв.
‘Говорю тебе, говорю, что ты испытываешь тревогу и беспокойство от страха предо мной.
В Риме тебя внезапно настигнет любовь!’
Поэты античности использовали в таких случаях versus anacyclicus (или cancrinus, recurrens, retrogradiens). Анациклические двустишия Плануда известны и по сей день [2].
элементов, которым соответствуют фонемы, причем эта перестановка делается так, чтобы сохранить за фонетической последовательностью старое значение21. Таким образом, здесь мы уже переходим в область метаграфов.
5. ЧАСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
5.1. МЕТАПЛАЗМЫ И ЛИТЕРАТУРА
Очевидно, что все приведенные выше примеры постепенно уводят нас в мир словесной тератологии. Если у читателя возникло желание глубже ознакомиться с примерами, иллюстрирующими рассмотренные выше фигуры, он может обратиться к замечательному сборнику Ж. Пеньо «Amusements philologiques» (Peignot 1824) или к фундаментальной работе А. Лиде (Liede 1963). Но здесь следует сразу же уточнить два момента, в связи с которыми могут возникнуть нежелательные недоразумения. Первый касается литературного статуса метаплазма. Нас могут упрекнуть в том, что большое количество наших примеров относится к области так называемой инфра- или пара-литературы. Некоторые критики уже были недовольны тем, что Р. Якобсон поставил на одну доску I like Ike ‘Мне нравится Айк’ [1] и сонеты Джона Китса... Но здесь надо иметь в виду, что наша цель — охватить проявления риторической функции во всем ее объеме и что для зтого мы временно должны отвлечься от каких бы то ни было соображений эстетического порядка и a fortiori от каких бы то ни было оценок. Второе возражение более существенно, поскольку оно может быть использовано для того, чтобы поставить под сомнение теоретические основы нашего исследования.
Мы намеренно выбирали самые броские примеры, и при рассмотрении иллюстративного материала, приведенного нами выше, может создаться впечатление, что общая риторика, о которой идет речь в данном исследовании, сводит анализ фактов литературы к отысканию и тщательному анализу явных аномалий или, как сказал один известный стилист, к изучению клинических случаев
21 В приведенных примерах одинаковым графемам соответствуют различные звуки (elu — crapule, des — n’use).
(Devoto 1948, c. 131). Однако мы уже говорили22 о том, что определение отклонения как патологического явления в высшей степени вредно и неправильно: когда Поль Валери писал, что стиль — это намеренная ошибка, он еще не знал, какой опасный путь он открывает перед некоторыми исследователями стилистики. Мы же, вполне сознавая эту опасность, утверждаем, что причина такой неправильной оценки кроется именно в специфике рассматриваемой нами области. Если взять все литературные явления в совокупности, то легко убедиться в том, что метапластические операции, в особенности реляционные, встречаются достаточно редко23, в то время как другие метаболы — в особенности метасемемы и металогизмы — вещь совершенно обычная24. Доказательства этому читатель найдет на последующих страницах настоящей книги. В любом случае нас не должен волновать вопрос о том, насколько часто или редко встречаются описываемые нами явления.
5.2. АРГО
Для арго (у Марузо арго определяется как «особый язык, имеющий специфическую лексику и употребляемый членами какой-либо группы или социальной категории с целью обособления их от основной массы говорящих» *) характерно частое обращение к приемам, изменяющим общелитературный язык. Среди них важное место занимают метапластические явления; здесь следует упомянуть об опущении слогов, как в конце слова (nave ‘глупый’, сате ‘наркотики’ или vape ‘баня’), так и в его начале (pitaine ‘капитан’). Это прекрасные примеры со-
22 См. введение.
23 Поскольку суффиксацию, синонимию и т. и. следует рассматривать отдельно.
24 У представителей античной поэзии metaplasmus уже считался варваризмом (то есть ошибкой в звуковом строении слова), который был допустим в качестве ornatus или из соображений, связанных с метрикой (ср. Lausberg 1960, § 479). Ту же точку зрения мы находим в «L’art poetique franco is»: «Ты можешь, так же как это делали греки, поставить п после о для того, чтобы рифма твоя была богаче и звучнее, как troupe вместо trope, Calli-опре вместо Calliope, espouse вместо espose, chouse вместо chose».
* Цит. по русск. переводу: Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М„ ИЛ, 1960, с. 36. — Прим. ред.
кращения. Заслуживает внимания также паразитарная суффиксация в таких словах, как seulabre ‘один’, fortiche ‘хитрец’, coinsteau ‘квартал’ или traczir ‘страх’. В некоторых случаях наблюдается сокращение с добавлением суффикса (или просто конца слова): gigolpince ‘ухажер’, val-dingue 'партер (в театре)’ или derche ‘задница’. Больший интерес представляют приемы метапластического кодирования: известен тайный язык, так называемый javanais, где в слово вводится паразитарный слог -av [1]. Существуют и более сложные коды, как, например, язык «наизнанку» (langage a 1’envers) или верлан, чистый случай инвертированной перестановки слогов (слово perdreau ‘куропатка’ превращается в dreauper, которое произносится как [droper]; peau de balle ‘ноль, ничто’ превращается в balpeau, которое усложнено сокращением, и т. д.). Этот прием мы находим и в языках других народов, таких, как bahase balih — женский язык острова Борнео — или back-slang, на котором говорят англичане, где буквы выстраиваются в обратном порядке. По способу кодирования наиболее изощренным, без сомнения, является язык, известный под названием loucherbem (арго мясников): каждое достаточно длинное слово подвергается простой перестановке с двойным добавлением. Из слова boucher ‘мясник’ путем перестановки получаем oucherb, затем, применяя операцию добавления к началу слова, получаем loucherb и затем уже loucherbem путем добавления паразитарного суффикса. Похожий ключ для создания своего арго используют лодочники из Хайфона. Альфредо Нисефоро в своей книге «Genie de 1’argot», вышедшей в свет в 1912 г., указывает на то, что слово в этом арго изменяется трижды: сначала сокращается инициаль слова, оставшаяся его часть подвергается добавлению путем удвоения, причем каждому повторяющему фрагменту предшествует добавленный звук b или s.
5.3. МЕТАГРАФЫ
Метаграфы, или метаплазмы, существующие только на письме, встречаются достаточно редко. Подобрать чисто зрительные перестановки довольно сложно: такие случаи, как caierh (вместо cahier ‘тетрадь’), где перестановка оказывается возможной только в силу сугубо диакритического характера знака h, единичны. Графическое добавление встречается немногим чаще: здесь можно вспомнить фразу la ffine efflorescence de la cuisine ffransoueze, придуманную Р. Кено. В своих «Contes drolatiques» Бальзак часто использовал метаграфы, полученные путем добавления для того, чтобы создать впечатление архаичности текста: «Nul guallant ne ha tente pour vos beauli yeulx de vous achepter la liberte», «Ung moyne qui ha ung nom vray de tout poinct, fict le clercq du chasteau» и т. д. [11. Диакритические знаки могут беспрепятственно добавляться в текст: так, у Селина мы находим наряду с bouquins (от bouquins ‘книги’) amours (от amours ‘любовь’), аналогом которого является hamour Флобера.
Здесь можно упомянуть также добавление знаков, не являющихся графемами, как например, в случае Hotel *** ‘отель’ *** или Сгё$и$ ‘Крез’, но здесь мы уже выходим за рамки чистой лингвистики. В этих случаях используются элементы другого рода; это «поддерживающие» элементы и различные элементы других семиотических систем25. Читая слово Сгё$и$, мы обращаемся сразу к двум субстанциям: понятая графема здесь, безусловно, s, но на нее накладывается элемент, принадлежащий другой системе. Эти явления более существенны, чем может показаться па первый взгляд, ибо текст представляет собой также и материальный объект, а чтение нельзя рассматривать как чисто языковую операцию (ср. Jean 1968, с. 17 — 20): на читателя может произвести впечатление не только расположение слов, но форма и цвет букв, качество бумаги, способ верстки26. В искусстве известны случаи использования этих факторов27. Здесь достаточно упомянуть каллиграммы Ф. Рабле, Л. Кэрролла и Г. Аполлинера28. Графическое сокращение во француз-
25 Мы подробно остановимся на «поддерживающих» метаболах и метаболах графической субстанции в нашем следующем сочинении, где понятия риторики распространяются на неязыковые семиотические системы [2].
26 Авторы комиксов прекрасно поняли это и довольно удачно применяют графические ономатопеи. Этот прием также использовался в кинематографе. В «Броненосце „Потемкин”», например, при помощи титров делается попытка передать громкость человеческого голоса: «Братья! БРАТЬЯ! БРАТЬ Я!».
27 В «Легенде об Уленшпигеле» ощущение архаичности текста создается во многом за счет того, что все s внутри слова в сильной или слабой позиции транскрибированы как В, а соединительный союз «и» регулярно передается знаком конъюнкции: UlenBpiegel & Niele TembraBBaient avec grande effuBion de tendreBBe ‘Уленшпигель и Неле целовались с большой нежностью’.
28 Часто графическими средствами имитируется само содержание стихотворения. См. также «coup de des» Малларме [3].
ском языке также встречается достаточно редко: здесь, кроме графических апокоп, которые регулярно встречаются в поэтических текстах (епсог вместо encore ‘еще’, sai от savoir ‘знать’, voi от voir ‘видеть’ и т. д.), возможно только сокращение таких знаков, как немое h или и после q. Самым интересным видом метаграфов является, разумеется, сокращение с последующим добавлением, операция, которая оказывается возможной за счет усложненности французской орфографии. Всем известно написание phynance (finance ‘финансы’), придуманное А. Жарри; henaurine (от ёпогте ‘огромный’) у Флобера, la goche (от la gauche ‘левые’), taichnique (от technique ‘техника’) и tendraisse (от tendresse ‘нежность’), которые мы находим у Селина, а также выражение une femme, une femme, la PHAMME ‘женщина, женщина, вообще ЖЕНЩИНА’, принадлежащее Бальзаку. И снова важное место здесь занимают метатрафы, подражающие особенностям орфографии, принятой на более ранних стадиях развития языка: в «Contes drolatiques» Бальзака мы на каждом шагу сталкиваемся с таким написанием, как гоу (вместо roi) ‘король’, demoyselle (вместо demoiselle) ‘девица, барышня*, avoyent (вместо avaient) ‘имели’, dyzant (вместо di-sant) ‘говоря’, saincture (вместо ceinture) ‘пояс’, pluz (вместо plus) ‘больше’ и т. д. Именно возможность таких изменений позволяет создавать каламбуры, главная предпосылка для которых — омофония. Но явления из области метаграфов не представляют для нас особого интереса, поскольку в их основу положены случайные особенности орфографической системы того или иного языка, а не свойства, характерные для языка вообще.
III.
МЕТАТАКСИС
0. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Метатаксис, воздействуя на форму предложения, изменяет его синтаксическую структуру. Поэтому при попытке определить нулевую ступень метатаксиса следует опираться на грамматическую норму. Сразу оговорим, что мы подходим к синтаксису с позиций дистрибутивной лингвистики. В рамках этой теории грамматика призвана описывать всевозможные комбинации составляющих предложения и давать определения этим составляющим на основе их вхождения в те или иные комбинации. Синтаксис в такой интерпретации охватывает область чисто структурных отношений между морфемами. А это значит, что грамматическое описание освобождается от большого числа логических критериев и семантических характеристик, унаследованных от концепций, уходящих в глубину веков. Исходя из этого — и здесь мы воспользуемся положениями статьи Р. Лагана (Lagane 1969, с. 58 — 62), — подлежащее, например, уже не будет рассматриваться как слово, означающее живое существо или предмет, совершающий или испытывающий действие, либо означающее живое существо или предмет, являющиеся исходной точкой нашей мысли. Подлежащее будет определяться как «субстантивный элемент, необходимый для реализации высказывания ( — минимального высказывания), объединенный с другим элементом, наделенным иными морфологическими характеристиками („сказуемым")». Здесь надо уточнить, что в речевой цепи подлежащее предшествует сказуемому и что в отличие от дополнения оно согласуется с глаголом в лице, числе, а иногда в роде. Таким образом, центральное место в подобном описании занимают формальные различительные признаки, такие, как сочетаемость, позиция или маркер (грамматический показатель).
Но несмотря на это, не всегда удается полностью исключить семантические характеристики из грамматических описаний. Когда синтаксисты противопоставляют активный залог пассивному или единственное число множественному, они вынуждены пользоваться в процессе анализа содержательными критериями, даже если последним и не отводится в нем центральное место. Синтаксис в целом продолжает занимать промежуточное положение между морфологией, логикой и семантикой. И когда Р. Якобсон (Jakob son 1965, с. 22 — 38) усматривает в совокупности синтаксических явлений иконический, или изобразительный, аспект, он возвращается к логической концепции структуры предложения. Он показывает, что в большинстве языков порядок слов во многих отношениях отражает логику содержания предложения: например, глаголы выстраиваются в соответствии с хронологической последовательностью событий (veni, vidi, vici ‘пришел, увидел, победил’), субъект занимает доминирующее положение по отношению к объекту, поскольку указывает на «главное действующее лицо» сообщения, и т. д. Именно поэтому, определяя метатаксис на основании дистрибутивных критериев, мы тем не менее не будем забывать о том, что действие входящих в него фигур очень часто затрагивает как план выражения, так и план содержания.
Как же все-таки определить синтаксическую нулевую ступень? Мы не собираемся вмешиваться в споры грамматистов по поводу того, как интерпретировать норму: что можно считать нормальной синтагмой или нормальным предложением. Наша цель — выработать простую, приемлемую для большинства лингвистов модель, которая могла бы эффективно использоваться в качестве исходной точки для сравнения.
Но, как выясняется, это дело не простое, сопряженное с целым рядом трудностей. Одна из трудностей вызвана отсутствием в лингвистике полной ясности относительно того, что такое предложение; определений предложения, пожалуй, столько же, сколько грамматистов. Другая серьезная трудность связана с понятием нормы в синтаксисе. Если в качестве рабочей гипотезы мы рассматривали слова как заданные формы и любое изменение этих форм было для нас очевидным (как при метаплазмах), то предложения, то есть сочетания слов, строятся нами исходя из виртуальных схем, которые в силу своей «эластичности» плохо поддаются описанию. Очень часто говорящий, не меняя общего содержания предложения, может использовать в его оформлении различные синтаксические структуры, притом что ни одну из них нельзя безоговорочно признать более «нормальной», чем другие. Предпочтение той или иной конструкции в таких случаях есть не что иное, как «выбор из... множества различных вариантов распределения смыслового ударения между различными составляющими предложения» (Ku-ry 1 о wicz 1965, с. 54 — 71). Здесь можно возразить, что грамматика в своей предписывающей и описывающей частях устанавливает правила, по которым строятся предложения, и, следовательно, свобода выбора здесь весьма относительна. Но, приняв такую точку зрения, мы бы вновь столкнулись с теми же трудностями, только в другой области. Действительно, грамматика, по меньшей мере в некоторых своих разделах, занимается систематизацией конструкций, которые могут быть преобразованы в другие, эквивалентные им конструкции, притом что последние внешне не воспринимаются как менее «нормальные», чем первые. Таковы, например, активные и соответствующие пассивные конструкции, преобразование группы «существительное + прилагательное» в группу «абстрактное существительное + существительное». Однако, по-видимому, есть способ решить поставленную выше проблему. Французская грамматика не ограничивается простым перечислением таких конструкций; конкурирующие формы можно классифицировать с точки зрения частоты их употребления в рамках общей системы языкового узуса или какой-либо частной его подсистемы: наиболее употребительная конструкция будет признана наиболее естественной, нормальной, она будет ближе всего подходить к нулевой ступени. Так можно решить этот вопрос теоретически. Практически же еще проще убедиться в том, что несколько синонимических конструкций могут быть в равной степени распространенными и общепринятыми (например, активный/пассивный залог), и с точки зрения риторических отклонений они, таким образом, теряют свою значимость и актуальность. За исключением случаев их особого употребления, мы поручим их описание грамматистам.
Для французского языка синтаксическая нулевая ступень может быть в первом приближении сведена к описанию того, что принято называть «минимальным законченным предложением» (phrase minimale achevee). Оно определяется наличием двух синтагм — именной и предикативной, взаимной упорядоченностью этих синтагм и согласованностью их маркеров (грамматических показателей). Эти синтагмы в свою очередь также распадаются на соответствующие минимальные структуры: первая предполагает наличие существительного и его детерминанта [1], вторая — присутствие глагола (с показателем времени, лица и числа) и, возможно, другой следующей за ним синтагмы1. Исходя из такого представления о структуре французского предложения, можно выделить четыре различительных признака, которые, по всей видимости, отражают его наиболее существенные особенности и в наибольшей степени подвержены риторическим изменениям:
1. Структурная целостность предложения и его синтагм, предполагающая наличие в предложении их минимальных составляющих.
2. Принадлежность морфем к определенным классам (к классу существительных, артиклей, глаголов, наречий и т. д.), которые характеризуются прежде всего способностью их элементов занимать ту или иную позицию в синтагме.
3. Согласованность маркеров, при помощи которых соединяются морфемы и синтагмы и которые являются показателями по крайней мере четырех главных грамматических категорий (род, число, лицо и время).
4. Относительно строгий порядок синтагм в предложении и морфем внутри синтагмы, включая линейное распределение единиц в тексте.
Каждый из этих пунктов нуждается в кратком комментарии. Вполне естественно, что структурная целостность предложения на начальном этапе исследования определяется как минимальная структура. Но здесь было бы разумным определить и ее «максимум», ибо, если не сделать этого, риторическая операция добавления теряет всякий смысл. Как же ввести это понятие в грамматическую теорию? Здесь было бы, по всей видимости, уместно временно воспользоваться введенным некоторыми лингвистами различием между языковой компетенцией (competence) и языковым употреблением (performance).
С точки зрения языковой компетенции, представляется, что развертывание правильно построенного предложения не имеет фиксированных границ. В то же время мой языковой опыт указывает на то, что, например, предложение, в котором множество определительных придаточных сложным образом соотносятся друг с другом, уже не будет адекватно восприниматься слушающим или правильно порождаться говорящим. Здесь также, по-видимому, можно было бы установить частотный порог, чтобы иметь возможность объективно судить о наличии/отсутствии отклонений. Но существование последних не вызывает никаких сомнений.
Что касается классов, отметим лишь то, что они относятся к той области, где синтаксическое тесно смыкается с лексическим. Так, в словарном определении лексической единицы обычно содержится указание на класс, к которому она принадлежит. В дальнейшем мы убедимся в том, что метатаксис, полученный путем замены одного класса на другой, обнаруживает некоторое сходство с метафорой, которая относится к области метасемем.
Когда риторическим изменениям типа метатаксиса подвергаются грамматические показатели и показатели согласования, обнаруживается его сходство с метаплазмами. Такие фигуры действительно очень «морфологичны» по своей природе. С появлением маркера к слову присоединяется некоторый сегмент (аффикс) или один из сегментов слова меняется (появление признака может вызвать минимальные изменения в слове, как, например, появление окончания множественного числа s, не имеющего фонетического коррелята). Избыточность показателей используется только в метатаксисе: такие изменения нарушают согласование в синтагме. Наиболее явные из них не выходят за пределы фонетики (des chevals вместо des chevaux ‘лошади’); другие касаются более опосредованных и менее обязательных связей между маркированными элементами и уводят нас в область чистого синтаксиса.
С риторической точки зрения, как, собственно, и с грамматической, порядок слов является центральным аспектом синтаксиса. Стихи Малларме, в которых сначала полностью разрушается нормальная линейная структура предложения, а затем предлагается множество различных вариантов ее восстановления, могут дать правильное представление о безграничных возможностях в области линейного упорядочения синтагм и их элементов. Однако не все имеющиеся варианты равноценны. С позиций риторики было бы полезно вслед за грамматистами различать «рациональный» порядок (ordre intellectuel) слов и «эмоциональный» порядок (ordre affectif) слов: такое различие существует, например, между un homme pauvre ‘бедный [-небогатый] человек’ и un pauvre homme ‘бедняга’. Кроме того, нельзя ставить знак равенства между синтагмами, занимающими фиксированное положение в предложении, и синтаксическими элементами, обладающими большей подвижностью. Мы знаем, что правила французской грамматики прочно закрепляют за некоторыми синтаксическими составляющими определенную позицию в предложении. Позиция детерминантов имени обычно четко определена: за редким исключением, сказуемое следует за именной синтагмой подлежащего. Отступление от этих правил приводит к явным нарушениям. Но когда речь идет об элементах, обладающих большей подвижностью, установить факт отклонения уже не так просто. Это касается, например, обстоятельственных именных синтагм или обособленных прилагательных, расположение которых в целом не подчиняется никаким правилам. То же самое в принципе верно и для позиции наречий и определений. В чем состоит с синтаксической точки зрения разница между un inouhliable tour d’Italie, un tour d’Italie inoubli-able и un tour inoubliable d’Italie ‘незабываемая поездка по Италии’? Для того чтобы разобраться в этом вопросе, сначала рассмотрим предложение с различными вариантами порядка слов:
(a) furieux, 1’homme renverse la chaise ’в ярости, человек опрокидывает стул’;
(b) 1’homme, furieux, renverse la chaise ’человек, в ярости, опрокидывает стул’;
(с) 1’homme renverse, furieux, la chaise ’человек опрокидывает, в ярости, стул’;
(d) 1’homme renverse la chaise, furieux ’человек опрокидывает стул, в ярости’.
Теперь мы должны установить степень «нормальности» (normalite) или отклонения для каждого высказывания. Сразу можно сказать, что вторая конструкция воспринимается как более привычная и более логичная, чем все остальные, в то время как высказывания (с) и (d), где имеется разрыв между существительным и прилагательным, кажутся более далекими от некоторой нормы. Здесь мы находимся в самой зыбкой зоне языка, где любой говорящий может судить по-своему и любой вариант высказывания будет в известном смысле отклонением относительно более схематичной или более абстрактной модели.
Другая проблема заключается в том, чтобы понять, к какой операции относятся изменения взаиморасположения синтатм и морфем. Скажем сразу, что в целом мы будем считать, что эти изменения являются результатом применения операции перестановки. Менять порядок — значит переставлять. Но всегда ли это перестановка? Напомним, что, когда речь идет о порядке слов, имеется в виду расположение единиц относительно друг друга и если изменить место одного сегмента, то автоматически поменяет место по крайней мере еще один сегмент. Вернемся к приведенному выше примеру и рассмотрим высказывания (а) — (d), уже исходя из того, что высказывание (Ь) является нормой. В каждом предложении имеются четыре синтагмы и, следовательно, четыре позиции. Если furieux ‘в ярости’ займет первую позицию, то ГЬоппне ‘человек’ перейдет на вторую: это элементарная перестановка. Если же furieux займет четвертую позицию, то два других сегмента также поменяют свои позиции и такая перестановка будет более сложной. Полностью определить последствия применения этой операции можно только тогда, когда мы не просто проследим за изменением позиции «подвижного» элемента, но и оценим всю ситуацию в целом. Но и при этих условиях возникают определенные трудности. Как будет показано ниже, гипербатон предполагает как добавление, так и перестановку элементов. Более подробно мы обсудим этот случай ниже, но уже сейчас в этой связи мы должны внести еще одно уточнение относительно механизма перестановки. Как и в случае подстановок, мы можем рассматривать перестановку как смешанную операцию, состоящую из сокращения и добавления: мы сокращаем элемент в одной позиции и добавляем его в другой; в результате по крайней мере один из оставшихся элементов оказывается сокращенным в занимаемой им позиции и добавленным в другой. Но все это происходит в рамках заданного контекста: перестановка — это простой «обмен», производимый на синтагматической оси, в то время как замена распространяет свое действие на внешние элементы, не входящие в число базовых, исходных. Благодаря смешанному характеру своего действия перестановка является операцией с большим потенциалом. Поскольку эта операция меняет синтаксические позиции, она является подлинно синтагматической.
И последнее уточнение. Как было показано в первой главе, существуют отклонения, основанные на конвенции, образующие систему. Стихотворный размер является прекрасным примером такого отклонения. Он может рассматриваться как некоторый код, накладывающийся на код обычного выражения. Но это систематизированное отклонение сводимо в принципе к разряду метатаксиса. Разумеется, предварительно следует провести границу между действием стихотворного размера на синтаксическую организацию предложения и его фонетическими характеристиками, ударением и рифмой. Здесь мы будем рассматривать размер только как способ упорядочения синтагм. Моделируя предложение в соответствии со слоговыми моделями, французский стихотворный размер либо дублирует и усиливает обычное синтаксическое расположение элементов, либо идет ему вопреки и нарушает обычный порядок. Кстати говоря, в классическом стихосложении учитываются отдельные синтаксические изменения, такие, как инверсия, эллипсис и т. д., они используются для того, чтобы приспособить обычное предложение к метрической схеме, и в силу этого становятся фигурами, образованными от фигур.
Если подходить к метрике с самых общих позиций, то можно убедиться в том, что она располагает только одним оператором: добавлением. Действительно, к «тексту», в рамках которого членение на предложения и синтагмы передается при помощи интонации и пауз или пробелов и знаков препинания, стихосложение «добавляет» стихотворную модель, для которой характерно более субстанциальное — поскольку здесь речь идет о слогах — и более регулярное членение. И если стих, как это характерно для классической французской поэзии, подчеркивает и усиливает синтаксическую структуру предложения, если, например, границы предложения и границы александрийского стиха совпадают, то размер следует причислить не просто к разряду операций типа добавления, а к разряду итеративных добавлений:
Jamais ап spectateur n’offrez rien d’incroyable: Le vrai peul quelquefois n’etre pas vraisemblable. Une merveille absurde est pour moi sans appas;
L’esprit n'est point emu de ce qu’il ne croit pas.
(Boileau)
Невероятным нас не мучьте, ум тревожа:
И правда иногда на правду непохожа.
Чудесным взором я не буду восхищен:
Ум не волнует то, чему не верит он* (Буало).
Таким образом, стих является примером общего мета-таксического добавления. Но можно взглянуть на стихосложение и под другим углом зрения, если исходить из того, что стихотворный размер, который действует только на слоги, а не на морфемы, относится к досинтаксическому уровню речи. Тогда окажется, что в поэзии синтаксис накладывается на размер, а не наоборот. Такой подход позволяет дать оценку синтаксическим фактам, нарушающим гармонию взаимодействия фразы и стиха, например явлению переноса. Но к подобному решению можно прийти и не отказываясь от нашей исходной точки зрения. Определив размер как общее отклонение типа добавления (ecart adjonctif d’ensemble), мы имеем право составить список частных нарушений, или отклонений, внутри этой системы. Перенос тогда может рассматриваться как частичное сокращение метрической формы. Но к этому вопросу мы еще вернемся ниже. При помощи подстановок и перестановок также можно получать отклонения на уровне второй ступени, где уже учитываются правила стихосложения.
Соразмерность (harmonie) предложения, хотя она и не описывается при помощи конкретных правил, может быть отнесена наравне со стихотворным размером к области фигур метатаксиса, полученных путем добавления. Разумеется, может показаться удивительным, что соразмерность расценивается как отклонение, но ведь очевидно, что в обычном дискурсе никто не заботится о структурной упорядоченности и сбалансированности текста. Только потом, на втором этапе формирования дискурса, отступая от требований узуса, мы стремимся «красиво расположить» слова. Целевая направленность дискурса в этом случае иная, нежели в простом акте коммуникации: здесь речь направлена на то, чтобы привлечь внимание к самому сообщению, чтобы выдвинуть на первый план именно способ выражения мысли. Именно поэтому приемы, с по-мощью которых достигается соразмерность предложения, без сомнения, являются фигурами. Самая простая среди них — симметрия:
Vaincre a Austerlitz, c’est grand; prendre la Bastille, c‘est immense ’Победа под Аустерлицем — событие великое, взятие Бастилии — событие огромное’
(В. Гюго).
При симметрии заметным для читателя или слушающего способом повторяется какой-либо синтаксический фрагмент текста: таким образом, к более простой структуре обычного предложения добавляется другая структура2. Симметрия может проявляться также в одинаковой длине частей предложения. Квадратным периодом (рё-riode саггёе) называется период, в котором протазис и аподозис включают каждый по два члена примерно одинаковой длины. Теперь нам остается сделать последний шаг и ввести количественный критерий в прозу. Так, у некоторых прозаиков мы находим последовательности слогов, сходные с александрийским стихом или десятисложным стихом. Но как только соразмерность перестает быть чем-то исключительным, как только она становится нормой, появляется возможность возникновения новых отклонений по отношению к этой исходной фигуре.
1. СОКРАЩЕНИЕ
Поскольку в качестве нормы было принято минимальное предложение и минимальные синтагмы, то есть наборы определенных синтагм или морфем, само собой разумеется, что любое изменение, нарушающее полноту этих синтаксических групп равносильно сокращению и может расцениваться как фигура.
1.1. Если ограничиться рассмотрением наиболее мелких единиц, может создаться впечатление, что в области синтаксиса мы редко сталкиваемся с частичным сокращением. Наиболее очевидные случаи представляют собой разновидность стяжения (erase): существительное и/или согласованное с ним прилагательное стягиваются, образуя один сегмент: mini-jape ‘мини-юбка’, lav-o-matic (вместо lavoir automatique) ’автоматическая мойка’. Это грамматическая аффиксация и лексикализация, но в основу этого приема положено прежде всего звуковое сокращение. Сюда тесно примыкают столь характерные для периодической печати, технической литературы и рекламы случаи, когда два имени непосредственно примыкают друг к другу, образуя сокращенное, как с синтаксической, так и с понятийной точек зрения, выражение. Например, сейчас мы употребляем слово mini-golf ‘мини-гольф’, образованное от golf miniature ‘уменьшенный, миниатюрный гольф’, которое в свою очередь было сокращением выражения golf en miniature ‘гольф в миниатюре’. У писателя В. Левино мы находим множество сокращений подобного рода. Вот одно из них:
Berg a voulu donner a la piece un cote projection vers I’exterieur* (В. Левино).
Но синтаксическая редукция в этих случаях менее существенна, чем семантическое сокращение. С точки зрения логической нормы рекламную надпись operation boites de lait ‘операция молочные пакеты’ следует преобразовать в выражение типа operation de recolte de boites de lait ‘операция по сбору молочных пакетов’, в то время как с синтаксической точки зрения достаточно преобразовать ее в operation des boites le lait ’операция молочных пакетов’. Именно поэтому здесь можно говорить лишь о частичном сокращении. Но если принять во внимание тот факт, что выражения boites de lait ‘молочные пакеты’, projection vers I’exterieur ‘проекция наружу’ играют скорее роль прилагательных, нежели существительных, то можно считать, что в этих случаях первоначальное сокращение осложняется более радикальной операцией — заменой класса.
1.2. Полное сокращение приводит к эллипсису. К эллипсису обычно тесно примыкает обрыв (reticence), при котором предложение остается незаконченным, теряя часть своего смысла: это скорее фигура содержания, чем выражения (несмотря на то что она изменяет и синтак-сическую структуру предложения), и мы будем рассматривать ее в главе, посвященной металогизмам. При эллипсисе, напротив, вся информация сохраняется, несмотря на неполноту формы. Имеет ли здесь смысл говорить о том, что сокращенные единицы подразумеваются в тексте, как это делают обычно риторы и грамматисты? Рассмотрение различных аспектов эллипсиса позволит нам дать более разностороннее объяснение этому явлению и показать, что опущенные при эллипсисе элементы в той или иной форме опосредованно присутствуют в тексте.
Ниже приведены предложения с различными видами эллипсиса: эллипсисом подлежащего, детерминанта существительного (определенного артикля), глагола и глагольного расширения (именной синтагмы дополнения):
S’aimerent dur sous la lune (Norge)
букв. 'Крепко любили друг друга под луной’ (Ж. Норж).
Quand il la retrouva plus pale
D’attente et d’amour yeux palis (Apollinaire)
букв. ’Когда увидел ее вновь [была она] бледнее, от ожидания и любви поблекшие глаза’
(Г. Аполлинер).
Deja vibraient les rires, deja les impatiences
(Queneau) букв. ’Уже вибрировал и смех, уже и нетерпенье’
(Р. Кено).
Suffit que si je deviens riche, il faudra bien que je restitue, et que je suis bien resolu a restituer de toutes les manieres possibles (Diderot)
букв. 'Когда я буду богат, я должен буду вернуть [деньги], и вернуть я намерен, чего бы мне это ни стоило’ (Д. Дидро).
Отсутствие ils ’они’ в первом предложении и les (определенный артикль во множественном числе) во втором допустимо в силу избыточности этих форм: они легко восстанавливаются. Показатели лица и числа, выраженные местоимением ils ’они’, уже присутствуют в s’aimerent ’любили друг друга’, слово уеих ’глаза’ опознается как существительное во множественном числе, несмотря на отсутствие артикля; логика текста берет на себя все остальное. Кено и Дидро в отличие от Норжа и Аполлинера опускают полнозначные слова, тем не менее они так же легко восстанавливаются из контекста, и, следовательно, их отсутствие в той же степени оправданно. Опущенные здесь единицы уже встречались ранее в тексте (в том же предложении у Кено, в том же абзаце у Дидро); при эллипсисе структурное сходство конструкций позволяет восстановить их отсутствующие части. У Дидро эллипсис проявляется в отсутствии именной синтагмы прямого дополнения после переходного глагола; выражение в его полной форме легко восстанавливается, поскольку глагол restituer ’возвращать’, ’отдавать’, о котором идет речь, перекликается с выражением voler la fortune ’гнаться за богатством', фигурирующим в предыдущих строках. Сокращение, произведенное Р. Кено, называется зевгма. Р. Ле Би-дуа в газете «Монд» (август 1964 г.) дал следующее определение этой фигуре: «Конструкция, возникающая, когда в одном из синтаксических компонентов предложения не повторяется слово или группа слов, выраженных ранее в тождественной или сходной форме в другом, непосредственно примыкающем к данному, предложении. Именно это второе предложение позволяет восстановить неполный синтаксический компонент исходного предложения». Вот еще несколько примеров этого вида эллипсиса, приведенных Ле Бидуа:
Les noms reprennent leur ancienne signification, les etres leur ancien visage; nous notre ame d’alors (Proust) букв. ’Именам возвращается их прежнее значение, людям — прежнее лицо; нам — наша душа тех времен’ (Пруст).
Dans cette piece, chaque generation, en se retirant, comme une maree ses coquillages, avait laisse des albums, des coffrets, des daguerreotypes (Mauriac) букв. ’В этой комнате каждое поколение, уходя, оставляло альбомы, ящички, дагерротипы, как море — ракушки во время отлива (Мориак).
Что касается назывных предложений, то есть предложений без глагола, то их следует рассматривать отдельно.
В назывном предложении нет слов, которые были бы опущены вследствие эллипсиса, но, поскольку глагольная синтагма здесь отсутствует, принцип «минимального развертывания предложения» (phrase minimale) не соблюдается. Иногда глагол как бы присутствует в форме существительного — он передает существительному свой смысл и часть своих функций. Можно считать, что в первом из приведенных ниже примеров существительное courses ’пробежки’ замещает глагол courir ’бежать’, который мы, кстати говоря, находим в предыдущем предложении. Зато в последнем примере глагольная функция попросту сокращается:
Les enfants content, les pigeons s’envolent. Courses eclairs blancs, infimes debandades (Sartre)
буке. Бегут дети, взлетают голуби. Бег, белые вспышки, беспорядочное бегство’ (Сартр).
Grand bruit dans Paimpol; sons de cloches et chants de pretres (Loti)
букв. ’Много жума в Пэмполе: бой колоколов и пение священников’ (Лоти).
C’est се que je me disais en route. Le chemin de Paris a ce perchoir (Aragon)
букв. ’Так я и думал во время пути. Дорога из Парижа
к этой верхатуре’ (Арагон).
Mon coeur au chaud, се lapin, derriere la petite grille des cotes, agite, blotti, stupide (Celine)
букв. ’Мое сердце в тепле, этот кролик за маленькой решеткой ребер, беспокойный, съежившийся, ошалелый’ (Селин).
Сокращение союзов представляет собой вид отклонения, который может по-разному проявляться в тексте. Наиболее простая фигура известна под названием асиндетон (asyndete) или дизъюнкция (disjonction): это сокращение маркеров сочинения. Эта фигура четко ощущается в конце перечисления или когда детерминант во множественном числе относится сразу к двум следующим друг за другом существительным:
Fran^ais, Anglais, Lorrains, que la fureur rassemble Avancaient, combattaient, frappaient, mouraient ensemble (Voltaire)
букв. ’Французы, англичане, Лотарййгцы, сплоченные общей яростью.
Шли вперед, боролись, бились, умирали вместе’ (Вольтер).
Dans mon silence j’ensevelis
un rire un soleil Sclatants (Tardieu)
букв. ’В моем молчании я похоронил сияющие смех [и] солнце’ (Тардъе).
В цитированном выше примере из Сартра (Les enfants courent, les pigeons s’envolent) можно было бы ввести сочинительный союз et ’и’ вместо запятой. Однако по смыслу здесь, скорее, восстанавливается причинно-следственная связь. Эллипсис маркера этой связи является примером паратаксиса, фигуры, которая заметна только тогда, когда имеется установка на максимально точную фиксацию целевых и причинно-следственных отношений между означающими. Я прекрасно улавливаю тип логической связи между двумя независимыми предложениями, но предпочитаю, чтобы она была выражена при помощи союза или наречия. Разумеется, можно считать, что расположение предложений относительно друг друга и некоторые знаки препинания уже являются маркерами логических или временных отношений, но эти знаки со слабо выраженной семантикой только еще больше подчеркивают пропуск маркера связи, предполагаемый паратаксисом:
Vous etes homme: vous etre logique jusque dans les details
букв. ’Вы мужчина: вы [должны] быть логичны даже в мелочах’
(текст рекламы из журнала «Nouvel Observateur»).
Сокращение знаков препинания во многом сходно с асиндетоном и паратаксисом. Можно вести долгие споры по поводу необходимости той или иной запятой... Но полное исключение знаков препинания из текста, которое вслед за Аполлинером стали насаждать в своих произведениях многие поэты и прозаики, без сомнения, является риторической фигурой. Ж. Коен (Cohen 1966, с. 100) совершенно справедливо указывал на то, что вторая строка стихотворения Г. Аполлинера «Мост Мирабо» («Pont Mirabeau») et nos amours, представляющая собой синтагму, при отсутствии знаков препинания может по смыслу подсоединиться как к предыдущей строке (Sous le pont Mirabeau coule la Seine), так й К последующей (Paut-il qu’il m’en souvienne) *. Итак, синтаксическая неопределенность, возникающая вследствие сокращения точек и запятых, может привести к семантической неопределенности. Но это правило нельзя считать общим. В цитируемом ниже отрывке из Клода Симона отсутствие знаков препитания, безусловно, стирает выпуклость синтаксического членения высказывания, но, даже несмотря на пристрастие автора к причастным оборотам (глаголы заменяются причастиями), четкость синтаксической структуры предложений сохраняется за счет нормального распределения синтагм:
et moi reussissant cette fois a me lever accrochant la table dans mon mouvement entendant un des verres coniques se renverser rouler sur la table decrivant sans doute un cercle autour de son pied jusqu’a ce qu’il rencontre le bord de la table bascule et tombe. ’а мне на сей раз удалось подняться уцепившись за край стола и одновременно с моим движением я услышал как одна из рюмок опрокинулась покатилась по столу по всей видимости выписывая круги вокруг собственной ножки докрутилась до края столешницы [...] упала и разбилась**.
* Приведем эту строфу по-русски в переводе М. Кудинова: Под мостом Мирабо тихо Сена течет И уносит нашу любовь..
Я должен помнить: печаль пройдет
И снова радость придет.
(Аполлинер Гийом. Стихи. М., «Наука», 1967, с. 32). — Прим, ред.
** Цит. по русск. переводу: Бютор М. Изменение. Роб — Грийе А. В лабиринте. Симон К. Дороги Фландрии. Сарро т Н. Вы слышите их? М, «Художественная литература», 1983, с 496 — 497.
После экспериментов со знаками препинания некоторые поэты — в частности, «пространственники» (spatia-listes) [1] — решили заняться линейным расположением текста, предлагая взамен обычных менее жесткие и более хитроумные структуры. Это сокращение в чистом виде; данный прием показывает, что в число характеристик нормального синтаксиса предложения или текста входит также и его линейность. Вот как Пьер Гарнье видит новую «мозаическую» систему отношений между словами:
ХВАЛА ГОСПОДУ БОГУ
МАГОМЕТ
СОЛНЦЕ ТОПОЛЬ
РЕМБО БОГ БЕТХОВЕН
КОЛЕСО ЗВЕЗДА
ИИСУС
Вернемся снова к поэзии, построенной по законам стихосложения, и коротко остановимся на сокращении в рамках метрической системы. Перенос (I’enjambement) частично отрицает размер, предложение с одной строки переносится на другую, в силу чего нарушается соответствие между слоговым размером и синтаксической формой. В этом смысле перенос может рассматриваться как возврат к прозе путем сокращения «формы»:
Vingt ans Гезрасе a peine d’une enfance et n’est-ce Pas sa penitence atroce pour notre ainesse Que de revoir apres vingt ans les tout petits
D’alors les innocents avec nous repartis (Aragon) букв. ’Двадцать лет, всего лишь годы детства, и не
Ужасна ль эта кара для нее, нашей сестры,
Увидеть вновь, через все двадцать лет, тех малышей, Невинных тех времен, ущедших вместе с нами’
(Арагон).
Соразмерность предложения также может стать объектом сокращения. С этим явлением мы сталкиваемся во фразе Le silence eternel des espaces infinis m’effraye (Pascal) ’Вечное безмолвие бесконечных пространств ужасает меня’ (Паскаль).
Здесь очень хорошо прослеживается механизм отклонения. Сначала кажется, что предложение строится в соответствии с метрической схемой по принципу симметрии, поскольку группа подлежащего распадается на две группы, содержащие по шесть слогов, с одинаковой синтаксической структурой (детерминант -f- существительное + определение). Но затем с появлением глагольной синтагмы возникает обрыв: предложение «свертывается» и вместе с этим нарушается его равновесие.
2. ДОБАВЛЕНИЕ
Минимальное законченное предложение, в изложенной выше интерпретации, является в каком-то смысле и максимальным его развертыванием. Даже если увеличение числа его главных составляющих и добавление к ним всевозможных второстепенных синтагм и морфем не противоречат правилам грамматики и укладываются в рамки языкового узуса, существуют тем не менее случаи, когда четко ощущается отклонение типа добавления. Это бывает: 1) когда главенствующая роль отдается второстепенным элементам (главенствующая роль определяется, в частности, соотношением длин соответствующих элементов) ; 2) когда ослабевает синтаксическая связь между главными элементами и расстояние между ними увеличивается; 3) когда нормальная конструкция осложняется особой структурой с целью привлечь внимание к самому сообщению. Присоединяя к существительному три или четыре прилагательных подряд, М. Пруст уже нарушает правила построения нормальной модели предложения. Когда Р. Кено все время оттягивает момент появления главного предложения в сложноподчиненном, юмористический, эффект достигается за счет «эластичности» (1’elascite) синтаксиса французского предложения:
Quand on revient d’une bonne balade a la campagne, du cote de Bougival on de Croissy, apres les monies et les frites et les grenadines pour les enfants, sur le quai de la gare quand le train arrive qui va vous ramener dans Paris et qu’on songe nostalgiquement a cette bonne journee de plaisir deja oui deja fondue dans la memoire en un fade sirop ou tournent deja oui deja a 1’aigre le saucisson, I’herbe rase et la romance, a ce moment on dit, et le train commence a s’allonger le long du long long quai, il s’agit de ne pas se faire devancer et de bien calculer son coup pour piquer des places assises espoir insense, tout au moins faut pas tester en carafe ou faire le trajet sur les tampons ce qui est particulierement dangereux quand on у en-trafne sa famille, a ce moment on dit en general ce qu’on dit en pareille circonstance: «Ce soir, on sentira pas le renferme» [курсив наш. — Ж. Дюбуа и др.]. ’Когда мы возвращаемся после приятной загородной прогулки из Буживаля или Круасси, полакомившись мидиями и жареной картошкой, угостив детей гранатовым сиропом, на перроне, когда подходит поезд, который увезет нас в Париж, и когда мы вспоминаем с ностальгией об этом прекрасном полном приятных мгновений дне, уже растаявшем в нашей паМяти и превратившемся в безвкусную ЖиЖу, В Которой уже, да, уже тухнет колбаса, стриженый газон и душещипательный романс, именно в эту минуту мы говорим... а поезд уже скользит вдоль длинного-длинного перрона, и тут уж никак нельзя всех пропускать вперед, надо действовать быстро и точно, чтобы успеть занять сидячее место ... пустые надежды, во всяком случае, плохо будет, если останешься с носом, или проедешь всю дорогу па буфере, что особенно опасно, когда с тобой все твое семейство, и именно в эту минуту мы говорим обычно то, что принято говорить в таких случаях: «Зато мы подышали свежим воздухом»’.
2.1. Нам известен по крайней мере один бесспорный случай простого добавления, когда наблюдается явное нарушение грамматического кода. Речь идет о добавлении элементов к синтагмам, которые можно было бы назвать закрытыми. Хорошим примером здесь служат так называемые непереходные глаголы, которые обычно не предполагают синтагмы-дополнения, но могут присоединять таковую в образных выражениях (иногда дополнение плеонастично):
Souriez Gibbs
букв. ’Улыбайтесь Жиббс’ [1].
Dormez votre sommeil, riches de la terre (Bossuet) букв. ’Спите своим сном, богатые мира сего’ (Боссюэ).
Но чаще всего простое добавление является результатом двух действий: отступления или развертывания. В случае отступления синтаксический стержень текста или предложения разрушается, поскольку текст перегружен второстепенными элементами, вставленными между его частями, или же эти второстепенные элементы меняют его исходную синтаксическую направленность. Здесь речь о вводных предложениях (incidentes) или же предложениях, взятых в скобки (parentheses):
Mais un critique ayant ecrit que dans la Vue de Delft de Vermeer (prete par le musee de La Haye pour une exposition hollandaise), tableau qu’il adorait et croyait connaitre tres bien, un petit pan de mur jaune (qu’il ne se rappelait pas) etait si bien peint, qu’il etait, si on le regardait seul, comme une precieuse oeuvre d’art chinois d’une beaute qui se suffirait a elle-meme,
Sergotte mangea quelques portimes de terre, sortit et entra a 1’exposition * (Proust)
букв. ’Но поскольку какой-то критик написал, что в дельфтском пейзаже Вермера (предоставленном Гаагским музеем голландской выставке) — картине, которую он обожал и считал, что хорошо знает, — маленький фрагмент желтой стены (который он не помнил) был так хорошо выписан, что, даже взятый в отдельности, он был прекрасен как драгоценные, самодостаточные в своей красоте образцы китайской живописи, Бергот, съев несколько картофелин, вышел на улицу и направился на выставку’ (Пруст).
Сюда же относится прием конкатенации (concatenation):
Et me revenait a 1’esprit le souvenir d’un certain dimanche de mai oil j’avais apergu un gros oiseau touffu, encadre par une des hautes fenetres ouvertes a deux battants par laquelle s’echappaient habituelle-ment des effluves de 1’encens qui me fait vomir (R.-L. des Forets) букв. ’И мне вспомнился воскресный майский день, когда я увидел большую пушистую птицу, сидящую в проеме одного из высоких двустворчатых открытых окон, откуда доносился обычно запах фимиама, вызывающего у меня тошноту’ (Р.-Л. де Форе).
Развертыванию соответствует эксплеция (expletion). Для того чтобы выделить синтагму, ее окружают поясняющими, второстепенными с точки зрения смысла, словами: Се que je respire, moi, c’est la jalousie et nostalgique admiration des etres et des chosesheureux (Laforgue) ’To, чем я проникнут, это зависть и ностальгическая привязанность [букв, восхищение] к счастливым людям и событиям’ (Лафорг).
Можно также развернуть синтагму, увеличив число аспектов рассмотрения объекта или определений, относящихся к одной из ее лексем. Это приемы перечисления (enumeration) или нагромождения (accumulation), в основу которых часто заложена синекдоха:
Proust М. Ala recherche du temps perdu. III. La prison-niere. Bibl. de la Pleiade, 1954, pp. 186 — 187.
Je m’en vais vous mander la chose la plus etonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus mi-raculeuse, la plus triomptante, la plus etourdissante, la plus inouie, la plus singuliere, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprevue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus eclatante, la plus secrete jusqu’aujourd’hui, la plus brillante, la plus digne d’envie; enfin une chose dont on ne trouve qu’un exemple dans les siecles passes, encore cet exemple n’est-il pas juste (etc.)
(M-me de S evigne).-
букв. ’Я хочу сообщить вам о самой удивительной, самой поразительной, самой чудесной, самой замечательной, самой прекрасной, самой потрясающей, самой редкой, самой необычной, самой невероятной, самой неожиданной, самой великой, самой ничтожной, самой необычной, самой обычной, самой блистательной, самой скрытой по сей день, самой великолепной, наиболее достойной зависти вещи: ей был всего один пример в истории прошлых лет, да и тот не вполне подходящией, и т. д.’* (Мадам де Севинъе).
* «Я должна сообщить вам одну удивительную новость. Это поистине замечательно, чудесно, поразительно. Я никогда не слыхала ничего более необычного, невероятного и неожиданного: в ней всякие противоречия. Эта новость и мала, и велика, и редка, и проста; она скрыта от всех и вместе с тем все ее знают, все ей завидуют. Ей не было примера в истории прошлых веков, впрочем, был только один пример, и то не совсем подходящий». Цит. по: Госпожа де С е в и н ь е. Письма. Том I. Петербург, 1903, с. 43. Легко видеть, что в этом переводе фигура нагромождения практически утеряна. — Прим, перев.
Следует отметить также, что риторы прошлого рассматривали некоторые типы приложений как фигуры развертывания. Фонтанье называл их «конструкциями с обилием слов» (construction par exuberance).
2.2. Итеративное добавление — явление сложное: не любой повтор слова можно безоговорочно отнести к области метатаксиса; здесь важно четко различать синтаксис и семантику. Повтор слова всегда приводит к добавлению смысла. Тем не менее репризу (reprise) глагола или существительного, направленную на то, чтобы ввести уточняющие их смысл определения, можно отнести к чисто формальным приемам. Это, по существу, другая форма эксплеции: здесь повторяющееся слово прежде всего является «опорным» для определений:
Oubliant Pan, la voila qui prend sa corse, oh! jeune course bondissante! par la prairie et la vallee, dans la belle matinee (Laforgue)
’Забыв о Пане, она бежит опять [букв. возобновила свой бег]. О! Легкий, девичий бег! Через луга и долины, этим прекрасным утром’ (Лафорг).
Такая фигура, как полисиндетон (polysyndete), где посредством повторения показателей сочинения подчеркиваются и выделяются синтаксические связи, также относится к метатаксису с использованием операции добавления:
Tout s’enfle contre moi, tout m’assaut, tout me tente, Et le monde et la chair et 1’ange revolte,
Dont 1’onde, dont 1’effort, dont le charme invente,
Et m’abime, Seigneur, et m’ebranle et m’enchante (Sponde) букв. ’Все восстает против меня, все давит, все манит
И мир, и плоть, и он, восставший ангел,
Дыханье чье, чей натиск, чье ложное сиянье
И бьет меня, Боже, и потрясает, и чарует’
(Спонд).
В этом четверостишьи Спонда сочинительная функция союза et ’и’ или даже связующая функция местоимения dont ’чей’ усложняется анафорическим значением, на это указывает параллельный ряд местоимений tout ’все’. Полисиндетон имеет прямое отношение к соразмерности предложения и к размеру стиха. И это не случайно, поскольку, как мы уже говорили, соразмерность и стихотворный размер, понятые, как две системы, два перечня определенных приемов и правил, являются синтаксическими фигурами с очень обширной областью действия, в основу которых положены добавление и повтор.
Выше было показано, в какой степени симметрию и александрийский стих можно отнести к области метатаксиса. Но в поэзии силлабический размер и параллелизм синтаксических конструкций нередко совместно способствуют поддержанию высокого уровня избыточности формы. Так, у Корнеля эти системы как бы дублируют друг друга. G одной стороны, средняя цезура стиха совпадает с концом главного или придаточного предложения, а иногда и реплики; с другой стороны, второе полустишье с точки зрения грамматической структуры является полным отражением первого:
Il m’a prete sa main, il a tu6 le comte;
Il m’a rendu 1’honneur, il a lave ma honte *.
букв. Он мпе помог [= дал свою руку], он убил графа, Он мне вернул честь, он смыл мой позор.
Chimene: Rodrigue, qui 1’efit cru?
Rodrigue: Chimene, qui 1’efit dit? **
букв. X и м e н а. Родриго, кто бы мог в это поверить?
Родриго. Химена, кто бы мог это сказать?
Второй пример показывает, что в предельном варианте «идеальное» синтаксическое добавление есть не что ипое, как простой повтор синтагмы или всего предложения.
3. СОКРАЩЕНИЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ
В основу этой сложной операции, состоящей из двух частей, заложено деление на классы и категории, рассмотренное нами выше. Вместо элемента одного класса подставляется элемент другого класса: показатель одной категории заменяется другим (неадекватным в данной ситуации) показателем той же категории.
3.1. Силлепсис (syllepse) — это любое риторически обусловленное нарушение правил согласования морфем или синтагм, будь то согласование по роду, числу, лицу или времени. Такая замена является частичной в том смысле, что мы не переходим из одной категории в другую, а просто заменяем один грамматический показатель другим внутри одной категории. Кроме того, если строго подходить к этому вопросу, подобная операция только в некоторых случаях распадается на две простые операции. Поскольку настоящее время и единственное число рассматриваются как немаркированные граммемы, мы можем перейти к другим граммемам этих категорий только путем простого добавления маркера, в то время как Переход к самим этим граммемам осуществляется через сокращение маркера.
Поскольку выполнение грамматических правил согласования в языке строго обязательно, рассматриваемые здесь изменения почти всегда приводят к явным нарушениям языкового узуса [1]. Как правильно отметил Анри Морье, строка Расина: (се lieu redoutable) D'ou te bannit ton sexe et ton impiete букв. ’Это опасное место, откуда тебя изгоняет твой пол и твое неверие’ — сейчас воспринимается просто как неправильная (см. Morier 1961, статья «Силлепсис»). Силлепсис такого рода редко встречается у современных авторов, за исключением тех произведений, которые тяготеют к сюрреализму с его склонностью к языковой игре, — чем несуразнее согласование, тем изощреннее фигуры, созданные Робером Десносом:
Ecoute-je moi bien! Du coffret jaillis-je des oceans et non des vins et le ciel s’entr’ouvris-je quand il parus-je.
Но если силлепсис редко применяется к согласованию тесно связанных между собой в синтаксическом отношении слов (подлежащее — сказуемое, субстантивное определяемое — определение), то согласование более или менее самостоятельных элементов, относительно удаленных друг от друга, является для него прекрасной основой. Главным образом это относится к нарушению согласования двух глаголов или существительного и замещающего его местоимения. При переходе от существительного (или местоимения) к местоимению, связанному с ним анафорической связью, лицо, число и род могут меняться указанным способом:
Le matin, on s’eveille, et toute une famille
Vous embrasse, une mere, une soeur, une fille! (Hugo) 'Просыпаешься [букв, просыпается] утром, и вся семья
Вас обнимает и целует, мать, сестра, дочь!’
(В. Гюго).
L’homme ordinaire au nombre desquels je me range (Grenier) букв. ’Средний человек, к которым я себя причисляю’ (Ж. Гренье), 11 faut envoyer dans les guerres etrangeres la jeune noblesse. Ceux-la suffiront (Fenelon)
букв. ’На войну за границу надо посылать аристократическую молодежь. Их будет достаточно’ (Фенелон).
Проблема замены лица, затронутая в первом примере, требует особого рассмотрения. Прежде всего заметим, что в рамках категории лица возможны практически любые замены, как о том свидетельствуют эмоциональная речь и язык художественной литературы. Тем не менее среди этих замен не так много таких, которые объясняются только синтаксическими особенностями французского языка. Если Гюго в пределах одного предложения может поставить знак равенства между 2-м и 3-м лицом (vous ’вы’ и on — местоимение 3-го лица), то это объясняется всем известной «универсальностью» местоимения on, которое может принимать значение любого лица (правила грамматики даже допускают определения во множественном числе или женском роде при этом немаркированном местоимении). Но чаще всего подмена лица выходит за рамки собственно грамматики, поскольку отклонение может быть обнаружено только с учетом прагматики или контекста. Так, в выражении Madame est ser-vie ’Кушать подано’ (букв. ’Мадам обслужена’), в ситуации, когда де Голль или Цезарь, имея в виду себя, говорят ’де Голль’, ’Цезарь’, наконец, просто ’он’ или же когда Омэ сообщает об отравлении Эммы Бовари: Nous avons eu d’abord un sentiment de siccite au pharynx букв. ’Сначала мы ощутили сухость в горле’, соответственно 3-е и 1-е лицо подставляются вместо 2-го, 1-го и 3-го. Как же нам все-таки удается восстановить норму в дискурсе? Это становится возможным постольку, поскольку нам известен соответствующий референт: мы узнаем голос де Голля, мы знаем, что Омэ не пытался отравиться. Тем не менее использование психологического приема замены одного лица другим может иметь более ощутимые последствия на уровне собственно грамматики. Это происходит, в частности, в тех случаях, когда два разных показателя лица соответствуют в тексте одному означаемому. Здесь опять-таки затрагивается синтаксис, и мы увидим, как в приведенных ниже отрывках из произведений Аполлинера и Флобера местоимения je ’я’ и tu ’ты’, il ’он’, относящиеся к человеку, и Qa ’это’, относящееся к предмету, соотносятся с одним и тем же объектом.
J’aime la grace de cette rue industrielle
Sitiuee a Paris entre la rue Aumont-Thiville et Pave nue les Ternes.
Voila la jeune rue et tu n’es encore qu’un petit enfant. La mere ne t’habille que de bleu et de blanc.
букв. ’Мне нравится стройность этой заводской улицы, Расположенной между рю Омон-Тьевилль и авеню де Терн в Париже.
Вот она, эта новая улица, и ты идешь по ней, еще ребенком. Мать одевает тебя только в синее и белое’.
Elie reste a ravauder des chaussettes. Et on s’ennuie! on voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs! Pauvre petite femme! Qa bailie apres 1’amour comme une carpe apres 1’eau sur une table de cuisine. ’Она сидит и штопает носки. Как ей скучно! Хочется жить в городе, танцевать польку по вечерам! Бедная маленькая женщина! Она [букв, оно] еще и зевает после любви, как выброшенный иэ воды карп на кухонном столе’.
Согласование времен предоставляет вычеркиванию с добавлением широкое поле деятельности. Силлепсис может применяться локально:
De 1’autre cote du corridor, au travers de la vitre cou-verte de toute une toile tissue par les gouttes de pluie, vous devinez Si cette luisance d’aluminium que ce qui s’approche, vous croise et disparait, c’etait un camion de petrole (Butor)
’По другую сторону прохода, за окном, покрытым узором, сотканным из дождевых капель, мелькает что-то светлое, металлическое, и по тому, как оно приближается и, поравнявшись с поездом, исчезает, ты догадываешься, что это была бензоцистерна’ * (Бютор). Но когда речь идет о последовательности глаголов, силлепсис может применяться и более систематическим образом. Это происходит, например, когда в сравнительно коротком тексте несколько раз употребляется историческое настоящее время или же вводится несобственно пря-мая речь. Последний случай замечателен тем, что фигура реализуется через смещенное согласование времен. Действительно, в несобственно прямой речи глаголы употребляются в 3-м лице имперфекта, как и в окружающем тексте, но форма предложения соответствует прямой речи:
Coupeau poussait le toupet jusqu’a plaisanter Ger-vaise. Ah bien! son amoureux la lachait joliment! Elie n’avait pas de chance: une premiere fois, les forge-rons ne lui avaient pas reussi, et, pour la seconde, c’etaient les chapeliers qui lui claquaient dans la main (Zola) букв. ’И Купо обнаглел до того, что стал подтрунивать над Жервезой. Вот так хахаль, взял, да и бросил ее! Эх, не везет ей: сначала вышла осечка с кузнецом, а вот теперь шляпник оставил ее с носом’*. (Золя).
Бывает так, что силлепсис является результатом разрыва синтаксической конструкции: это явление известно под названием анаколуф (anacoluthe). Вместо именной группы подлежащего, которую требуют начальные элементы предложения (причастный оборот, прилагательное в позиции приложения), подставляется, к примеру, какая-нибудь другая синтаксическая группа с другим согласованием:
Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois
S’eveillait, ecoutant ces plaintes, cette voix
(A. Chenier) букв. ’Так пленный и печальный, но лира моя
пробуждалась, внимая этим жалобам, этому голосу’ (А. Шенье).
Batie sans beaucoup de fa?ons,
L’herbe, le Temps, 1’oubli Font rendue exterieurement presque informe (Ponge)
букв. ’Построенная без особой изысканности,
Трава, Время, забытье сделали ее внешне почти бесформенной’ (Понж).
В очень свободной по форме прозе Л.-Ф. Селина анаколуф приводит к более зримому разрыву конструкции, к более радикальной замене; в следующем предложении причастие vibres ’сотрясаемые’ может согласоваться только с отсутствующим в предложении гипотетическим nous ’мы’:
Tout tremblait dans I’immense edifice et soi-meme des pieds aux oreilles possede par le tremblement, il en venaii des vitres et du plancher et de la ferraille, des secousses, vibres de haut en bas.
букв. ’Все сотрясалось в огромном здании, и сами [мы] с ног до головы во власти этой дрожи, от стекол, пола и железной утвари, исходили толчки, [сами мы] сотрясаемые снизу доверху’.
3.2. Полное сокращение с добавлением приводит к тому, что элемент одного класса заменяется элементом другого класса, вследствие чего между составляющими синтагмы или предложения устанавливается нетривиальная синтаксическая связь. С явлением перевода единиц из одного класса в другой мы сталкиваемся также в общелитературном языке, где часто субстантивируются (в их исходной и производной формах) глаголы, прилагательные или даже целые выражения. Тогда исходное глагольное или адъективное значение начинает стираться, за исключением тех случаев, когда поэт намеренно подчеркивает его, вводя гибридные конструкции типа Les m’as-tu vu dans mon joli cercueil (Ж. Брассенс) [1].
Можно было бы с полным правом назвать эту фигуру «синтаксической метафорой». Как и в метафоре, субституция здесь производится на основе некоторого изначального сходства. Разумеется, формальное сходство, о котором здесь идет речь, не так очевидно, как семантическое сходство в образных сравнениях. Синтаксическая субституция смежных, сходных в грамматическом отношении классов не так заметна, то есть возникающее отклонение не так очевидно, как при замене показателей удаленных друг от друга, противопоставленных друг другу классов. Мы продемонстрируем это на нескольких примерах.
Так же как и существительные, неопределенная форма глагола и некоторые виды придаточных предложений имеют статус именной группы. Таким образом, можно с легкостью заменять одно на другое или же объединять их при помощи сочинительных союзов:
Ah! c’est encore се gemir d’abandonner le sommeil!
(Aragon)
’Ах! И опять бтот бтон (букв. это стонать] по уходящему сну!’ (Арагон).
Il remarqua pour la premiere fois des petits personna-ges peints en bleu, que le sable etait rose, et enfin la precieuse matiere du tout petit pan de mur jaune (Proust) букв. ’Он впервые заметил маленькие синие фигурки, что песок розовый, и наконец, чудесную фактуру маленького фрагмента желтой стены’ (Пруст).
Подобные подстановки или перечисления, в которых участвуют существительные и наречия или существительные и прилагательные, уже более заметны, но в их основу еще заложено некоторое сходство:
Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui (Mallarme) букв. ’Девственный, могучий и прекрасное сегодня’ * (Малларме).
Le patre promontoire au chapeau de nuees (Hugo) букв. ’Пастух-отрог, и тучи вместо шляпы’ (Гюго).
Regrets des yeux de la putain
Et belle comme une panthere (Apollinaire)
букв. ’Скорбь в глазах у проститутки
И красива как пантера’ (Аполлинер).
Les affiches claires sont blanches dans le
sombre du temps (Valles)
букв. ’Светлые афиши белеют в
Темноте (темном) времен’ (Валлес).
В последнем примере замена сочетается с фигурой перестановки, о которой речь пойдет ниже: посредством перестановки определение переводится в позицию перед определяемым существительным. Это преобразование группы «имя + прилагательное» очень часто сопровождается переходом прилагательного в класс абстрактных существительных: Renee disparaissait dans la vague blanche-ur de son peignoir букв. ’Рене растворялась в туманной белизне своего пеньюара’ (Братья де Гонкур).
Самые заметные отклонения, как нам кажется, связаны с фигурами, которые приводят к смешению двух основных синтаксических классов, входящих в минимальное по составу предложение: Существительного и Глагола. Попытка ввести такие фигуры может привести к полному разрушению коммуникативного акта, во всяком случае, в денотативном плане:
Or il serrure et, maitresse! Tu pitchpin qu’a joli vase je me chaise et les chemins tombeaux (Деснос).
Еще больший интерес представляет изучение явления синтаксического перехода из одного класса в другой, когда в качестве исходного материала берется не язык поэзии, а самый обычный, спонтанный устный язык общения. Если во время беседы нам не удается быстро подыскать подходящее слово или выражение, мы, не заботясь о грамматической связанности нашей речи, часто «перескакиваем» из одного класса в другой, чтобы там найти подходящую для данной ситуации замену, которая так или иначе выразит grosso modo нужное нам значение. На сей раз — и это составляет отличие данной фигуры от некоторых других используемых в поэзии фигур — главный акцент ставится на отождествлении означаемых за счет некоторых потерь в плане означающего. Как известно, Р. Кено с большим вниманием относился к таким явлениям устной речи и с успехом использовал этот прием в своих литературных произведениях. В одних случаях он прибегает к сжатию полной глагольной группы в слово-предложение; в других, используя приемы перефразирования, возводит простое определение в ранг придаточного предложения:
Il etait done enclin a croire que les deux autres: oui. букв. ’Он был склонен думать, что те оба: да’
Dominique ... finit par 1’abandonner bicause I’arrivee de nouveaux invites ce qu’il у en avait ce qu’il у en avait
букв. ’Доминика., в конце концов покинула его, поскольку появились новые гости, сколько их было, сколько их было’.
Теперь вернемся еще раз к стихотворному размеру и соразмерности предложения, которые мы рассматривали выше как особые виды добавления. Обе эти основные фигуры могут сочетаться с сокращением. Так, в начале периода может задаваться определенный порядок, симметрично противопоставленный порядку его развертывания. Этот прием называется хиазмом (chiasme). Традиционно хиазм связывают с центральной симметрией, которая может проявляться как в семантическом, так и в грамматическом плане; здесь мы приводим примеры, где центральная симметрия затрагивает синтаксис:
Le passe me tourmente et je crains 1’avenir
(Corneille} букв. ’Прошлое меня терзает, и я страшусь будущего’
(Корнель).
Charles se sentait defaillir a cette continuelle repetition de prieres et de flambeaux, sous ces odeurs affa-dissantes de cire et de soutane (Flaubert}
’Шарль почти терял сознание от этих бесконечных [букв. — постоянного повторения] молитв и огней, от противных запахов воска и сутаны’ * (Флобер).
В последнем примере мы имеем дело не только с инверсией группы «прилагательное + существительное»: здесь имени в единственном числе с двумя определениями — существительными во множественном числе — противопоставляется имя во множественном числе с двумя определениями — существительными в единственном числе.
Качественно иного подхода требует другое явление из области стихосложения — поэзия без знаков препинания. Если александрийский стих, который был так дорог Малербу, Корнелю и Буало, подчеркивал и усиливал синтаксические структуры, то стих без знаков препинания стирает грамматические отношения, разрушает синтаксические группы. Когда сокращение знаков препинания не является чисто формальным приемом, слова и слоги в стихотворении становятся в каком-то смысле автономными: их синтаксический статус определяется в зависимости от стихотворного членения. Являясь двойной фигурой, стих без знаков препинания не только добавляет стихотворный размер к структуре предложения: размер приравнивается к ней и в конце концов подменяет ее. Из приведенного ниже пятистишья Аполлинера видно, что связь между первой и второй, а также между четвертой и пятой строкой устанавливается на ассоциативной, а не на логической основе, во всяком случае при первом прочтении:
Soirs de Paris ivres du gin Flambant de Felectricite. Les tramways feu vert sur Fechine Musiquent au long des portees De rails leur folie de machines.
Ночь Парижа, от джина хмельная, Электрическим светом полна.
Рельсы музыкой стали. Трамваи Захлестнула безумья волна, И летят они, мглу разрывая*.
4. ПЕРЕСТАНОВКА
Перестановка, являясь операцией реляционной, меняет порядок синтагм в предложении и морфем в синтагме. Во французском языке этот порядок подчиняется строгим правилам, но, несмотря на это — ив некоторой степени именно благодаря этому, — он является излюбленным объектом метатаксических изменений, поскольку на его основе часто без особых ухищрений можно строить самые разнообразные фигуры. Мы не беремся перечислить здесь все возможные варианты подобных отклонений и ограничимся перечислением некоторых наиболее ясных по структуре тгли наиболее маркированных комбинаций. Заранее следует оговорить тот факт, что некоторые перестановки в силу своей идиоматичности причисляются к норме: например, инверсия подлежащего в вопросительных предложениях (а также после aussi ’так’, peut-etre ’быть может’, encore ’еще’) или препозиция некоторых прилагательных по отношению к определяемому слову.
Для того чтобы в какой-то степени систематизировать всевозможные типы перестановок, было бы не лишним сначала решить этот вопрос в теоретическом плане. Рассмотрим общую схему простого предложения, приближающегося по своему составу к минимальному, и изобразим ее в виде последовательности A-|-B-|-C-|-D. Множество (А, В, С, D} допускает, включая приведенный выше порядок, 23 перестановки. Но на практике некоторые из этих перестановок никогда не встречаются, поскольку они сбйерШенйо йёСовМеСтйМЫ С Ёрайматййёскои нормой: их можно рассматривать только в качестве «риторических излишеств». Таким образом, можно сразу же исключить из рассмотрения те отклонения, которые приводят к полной бессвязности предложения. Предложения, допускающие неоднозначный разбор, также встречаются достаточно редко и, следовательно, не представляют для нас особого интереса. Можно сразу же сказать, что конструкция «подлежащее + дополнение + сказуемое + определение» практически невозможна. Все остальные комбинации мы можем сгруппировать вокруг нескольких четко маркированных и хорошо известных структур. Мы выделим три группы, или три возможных типа, изменений:
1. Можно вставлять между элементами последовательности один или несколько других элементов.
2. Можно извлекать один или даже несколько элементов из последовательности и «перебрасывать» их в начало или в конец предложения.
3. Можно также менять порядок элементов, производя инверсию двух или нескольких элементов.
При перестановке в рамках одной и той же последовательности могут одновременно применяться два или все три приема; иногда бывает так, что одна и та же перестановка с одинаковым успехом объясняется как результат применения разных приемов (существуют инверсии, которые могут рассматриваться и как вставки).
4.1. Включения (1’insertions), или вставки, являются, по-видимому, простейшей формой перестановки. К минимальному предложению приращивается путем добавления вводное слово или предложение, и в силу этого ее главные составляющие меняют позицию. Самым ярким примером такого включения, вероятно, может служить тмезис (tmese). Этот термин мы употребляем в более широком значении, чем это было принято в рамках классической риторики: мы будем использовать его для обозначения всех случаев, когда две морфемы или синтагмы, которые при нормальном употреблении должны быть тесно связаны ДРУГ с другом, разделяются другими вставленными между ними элементами. Это касается вставок между местоимением-подлежащим и сказуемым, глаголом и предлогом, предлогом и дополнением, двумя однородными подлежащими и т. д.:
Tu ((list frere Jan) te damnes comma un vieil diable (Rabelais)
Ты (сказал брат Жан) губишь свою душу, старик’ (Рабле).
Pour tout, hormis lui, rebattu Spirituelle, ivre, immobile Foudroyer avec le tutu
Sans se faire autrement de bile (Mallarme)
букв. ’Чтобы всех, кроме него, подавленного,
Остроумная, пьяная, неподвижная, Поражать балетной пачкой
И не думать больше ни о чем’ (Mallarme)
Il etait beau, hein, Narcisse? et distingue! (Laforgue) букв. ’Он был красив, а, Нарцисс? и так изящен!’
(Лафорг).
В последнем примере мы сталкиваемся с одним из тех спорных случаев, о которых мы говорили выше. Что это, вставка hein, Narcisse ’а, Нарцисс’? Или перенос et distingue ’и изящен’ в конец предложения? Вторая гипотеза тоже не вполне ясна: невозможно определить, идет ли здесь просто речь об обычной перестановке или о добавлении? Действительно, можно с полным правом утверждать, что во фразе Лафорга мы имеем дело с гипербатоном, фигурой, которая выносит за рамки предложения одну из его фиксированных составляющих. Когда гипербатон затрагивает одну из двух синтагм однородного подлежащего, отклонение, безусловно, лучше описывается как перенос, а не как произведенное с запозданием добавление, ибо приращение в этом случае было бы оправданно, только если предположить наличие зевгмы сказуемого при втором подлежащем:
Les armes du matin sont belles, et la mer
(Saint-John Perse) букв. ’Прекрасно утро во всеоружии, и море’
(Сен-Джон Перс).
Les murs s’eveillaient et le sable.
Qui dort ecrase dans les murs (Supervielle)
букв. ’Стены просыпаются и песок.
Спящий, раздавленный, в стенах’ (Сюпервьей).
Bien, ni les vieux jardins reflates par les yeux Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe.
О nuits! ni la clarte deserte de la lampe (Mallarme)
букв. ’Ничто, ни старые сады, мелькавшие в глазах, Не удержит сердце это, отданное морю.
О, ночи! Ни пустынный лампы свет’ (Малларме).
Когда подлежащее выносится в постпозицию, на первом месте может оказаться дополнение; но во французском языке при переносе именная синтагма дополнения тем не менее обычно дублируется в последовательности местоимением или каким-нибудь другим словом:
La femme, Ians son casaquin blanc, la lumiere la dorait pres du bonnet, qui laissait echapper des cheveux (Aragon)
букв. ’Женщина в белом казакине, солнце освещало
ей лоб у шапочки,
из-под которой выбивались волосы’ (Арагон).
Ah! oui, de jolis parents que j’ai la (Bernanos) букв. ’Ax! Да, хорошие родители [которые] у меня [есть]’ (Бернанос).
Et les moiteurs de mon front bleme
Elie seule les sait rafraichir en pleurant (Verlaine) букв. ’И испарину с моего бледного лба
только она умеет смахнуть [ее] своими слезами’ (Верлен).
В более редких случаях гипербатон выносит в конец предложения две именные синтагмы — синтагму подлежащего и синтагму дополнения. По-видимому, некоторые авторы пользуются этой очень заметной перестановкой, подражая приемам, характерным для устной речи.
C’est meme de се jour-la, je m’en suis souvenu depuis, qu’il a pris 1’habitude de la rencontrer dans une salle d’attente, le vieille mere Henrouille, Robinson (Celine) ’И именно с этого дня, я теперь это вспомнил, он привык встречать в зале ожидания старую мамашу Анруй, Робинсон’ (Селин).
Il ne se doutait pas que chaque fois qu’il passait devant sa boutique, elle le regardait, la commer^ante le soldat Bru (Queneau)
’Он и не подозревал о том, что каждый раз, когда он проходил мимо ее лавки, она смотрела на него, торговка — на солдата Брю’ (Кено).
4.2. Инвертированная перестановка приводит к общему нарушению порядка слов в какой-то части предложения или даже во всем предложении. Однако обычно это нарушение не так заметно, поскольку перестановка затрагивает не все, а только два члена предложения: подлежащее и сказуемое, определяемое существительное и определение и т. п. Но эта операция приводит не только к изменению позиции слова: перестановка предполагает также и частичный обмен функциями. Действительно, синтагмы и морфемы при инвертированной перестановке теряют один из своих различительных признаков — позицию. Более того, некоторый смысловой сдвиг приводит к тому, что они отчасти приобретают признаки той новой позиции, в которой они оказываются. Поскольку, например, «главное действующее лицо», или «тема» предложения, обычно занимает в нем начальную позицию, глагол, переставленный в эту позицию, перенимает в какой-то мере функцию подлежащего:
Flottait un nocturne archipel
Dan? le jour russelant de ciel (Supervielle)
букв. ’Парил ночной архипелаг
В струящемся свете небес’ (Сюпервъей).
Инверсия «сказуемое — подлежащее» (фигура очень распространенная) часто предполагает наличие в начале предложения какой-нибудь второстепенной синтагмы (например, обстоятельства):
Et a la fin, comme sous un long modelage d’une vo-lonte artiste, se levait de la forme ondulante et as-souplie, une admirable statue d’un moment...
(les Goncourt) букв. ’И в самом конце, как бы подчиняясь долгому воздействию воли художника, поднималась из колышущейся гибкой формы восхитительная статуя, которой суждено было через минуту исчезнуть...’
(Братья де Гонкур).
Ainsi se tenait, devant ces bourgeois epanouis, ce demi-siecle de servitude (Flaubert)
букв. ’Так и предстали, перед довольными буржуа, эти полвека рабства’ (Флобер).
Инверсия в группе «глагол — относящиеся к нему
слова» является латинизмом, который в средневековой
французской поэзии иногда возводился в ранг принятой нормы: такие латинизмы придавали предложению необходимую для стиха гибкость синтаксической организации:
Tant que mes yens pourront larmes espandre, A 1’heur passe avec toy regretter;
Et qu’aus sanglots et soupirs resister
Pourra ma voix, et un pen faire entendre
(Louise Labe) букв. ’До тех пор пока глаза мои смогут слезы лить,
о проведенных с тобою часах сожалея;
И рыданьям и вздохам противостоять сможет глас мой, и услышан быть может’
(Луиза Лабе).
Последовательность «дополнение + сказуемое + подлежащее» по сравнению со схемой грамматически правильного предложения с минимальным развертыванием является результатом полной перестановки (С + В + А) и точной законченной инверсии. В этих случаях необходимо вводить в предложение «дублирующее» местоимение (рго-nom de reprise) для снятия двусмысленности, возникающей вследствие простой перестановки имени-подлежащего и имени-дополнения. Но если распространитель глагола представлен прилагательным-атрибутом, эта двусмысленность снимается и подлежащее может быть выделено на основании формальных признаков, как в первом из приведенных ниже примеров:
О triste, triste etait mon ame (Verlaine)
букв. ’О, печальна, печальна была моя душа’
(Верлен).
Corbillard dur a fendre Гате,
Vers le bas 1’attire un aimant (Corbiere)
букв. ’Катафалк, тяжелый и гнетущий душу,
Книзу влечет его магнит’ (Корбъер).
Le sceptre des rivages roses
Stagnants sur les soirs d’or, ce 1’est,
Ce blanc vol ferme que tu poses (Mallarme) букв. ’Жезл розового побережья,
Застывшего в вечер златой, это он,
Белый скрытый полет, что кладешь ты’ (Малларме).
Инверсия прежде всего проявляется в изменении порядка трех главных составляющих предложения. Но ничто не мешает нам употреблять этот термин и для обозначения сходных операций, касающихся таких пар, как «глагол — наречие» или «существительное — прилагательное в роли определения». Например, в тех случаях, когда в рамках языкового узуса за некоторыми прилагательными закрепляется та или иная позиция по отношению к определяемому слову, перенос определения в пре- или постпозицию можно считать инверсией:
Sur le vide papier que la blancheur defend
(Mallarme) букв. ’На пустом* листе бумаги, защищенном своею белизной’ (Малларме).
Victorieusement fui le suicide beau (Mallarme) букв. ’Победно отступает самоубийство красивое’**
(Малларме).
* За прилагательным vide ‘пустой’ во французском языке закреплена постпозиция по отношению к определяемому слову, — Прим, перев.
** За прилагательным beau ‘красивый’ закреплена препозиция по отношению к определяемому слову. — Прим, перев.
Перестановка может усложняться субституцией, когда — такой случай мы уже рассматривали выше — прилагательное субстантивируется либо в своей исходной форме, либо в виде абстрактного существительного: le sombre du temps ’тьма (букв, темное) времен’, la vague blancheur de son peignoir ’туманная белизна ее пеньюара’. Это еще раз доказывает, что синтаксические перестановки, как, впрочем, и все операции метатаксиса, сложны по своей природе.
В письменном тексте перестановки, относящиеся к различным сегментам предложения, оказывают на читателя и определенное зрительное воздействие. Они привлекают к себе его внимание не только как фактор временной или причинно-следственной организации текста, но и как фактор его пространственной упорядоченности. Некоторые из приведенных выше примеров, в частности строки Малларме (Rien, ni... ’Ничто, ни...’), Сюпервьейя (Flottait... 'Парил...’), Флобера (Ainsi se tenait... ’Так и предстал...’) наводят на мысль о некой «словесной архитектуре». Но это относится не только к перестановкам. Симметрия и хиазмы, повторы и стихотворный размер, перечисления и вводные предложения — одним словом, все приемы, которые касаются порядка и расположения слов, нацелены на то, чтобы создать ощущение языкового пространства, чтобы заставить читателя или слушателя «увидеть» язык. Именно под этим углом зрения воспринимается метатаксис в своих наиболее формальных, чтобы не сказать формалистических, проявлениях. И к таким крайним проявлениям можно отнести «топографические» опыты Малларме, Аполлинера, Бютора и «пространствен-ников».
* * *
В заключение подчеркнем, что система французского синтаксиса допускает отклонения и порождает фигуры на всех своих уровнях. Создается даже впечатление, что каждый из ее главных различительных признаков как бы специально приспособлен для воздействия определенного риторического оператора. Но, судя по всему, большинство из перечисленных выше фигур находят применение и в других синтаксических системах. Здесь имеются в виду не только другие языки, но и то, что сейчас принято называть грамматикой повествования (grammaire d’un recit) или синтаксисом кинематографа. Осознание важнейшей роли синтагматической оси, проявляющейся во всех видах развернутого дискурса, позволяет нам сейчас в полной мере оценить все разнообразие приложений некоторых видов метатаксиса, от эллипсиса до инверсии и от силлепсиса до конкатенации.
5. ПРИКЛАДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: МЕТАТАКСИС В ЗАГОЛОВКАХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
Теперь мы можем заняться исследованием метатаксиса на материале какого-нибудь конкретного корпуса текстов. Такое исследование позволит проверить пригодность введенных нами понятий, а также охарактеризовать рассматриваемый корпус текстов с точки зрения используемых в нем фигур. Мы считаем полезным провести такого рода исследование на материале заголовков периодической печати — подъязыка не литературного (в указанном выше смысле), но очень специфического, со своеобразным и вполне сформировавшимся синтаксисом. Французское предложение часто претерпевает в этих заголовках изменения особого вида, которые легко описываются в терминах изложенных выше операций. Какие виды отклонений наиболее характерны для заголовков? Приходится ли нам здесь сталкиваться с новыми, не вошедшими в наш список фигурами?
Мы рассмотрим довольно скромную выборку данных — нате исследование не представляет интереса со статистической точки зрения. Мы составили список из 40 заголовков, содержащих синтаксические отклонения, встретившихся нам при чтении периодической печати. Отбирались заголовки, представляющие собой незаконченные и не удовлетворяющие грамматической норме предложения, но являющиеся тем не менее именно предложениями (заголовки типа La peche ’Рыболовство’ или Le general Eisenhower ’Генерал Эйзенхауэр’ исключались из рассмотрения). Весь материал взят из ежедневных или еженедельных выпусков французских и бельгийских газет 1968 и 1969 гг.
' Способ подачи новостей так же, как и способ верстки газеты, определенным образом влияет на синтаксическую структуру предложения: эти факторы должны учитываться при риторическом анализе. Синтаксис газетных заголовков часто сохраняет следы «телеграфного стиля» сообщений, получаемых агентствами печати; для журналиста важно сохранить первоначальную свежесть информации, донести ее «взрывной» потенциал, сосредоточив всю информацию в нескольких легко усваиваемых глазом и легких для понимания словах. Поэтому в прессе используются уже ставшие для нас привычными укороченные предложения типа Merckx encore vainqueur ’Меркс вновь победитель’. Заметим, с другой стороны, что газетные заголовки, как правило, не расположены линейно, как того требует обычная типографская норма. Страница газеты представляет собой мозаику, где вынесенное в заголовок слово значимо уже и с изобразительной точки зрения. При наборе таких предложений, используются большие буквы, а иногда и несколько разных шрифтов; предложение может быть расположено во всю длину, колонкой или другим способом, тут все зависит еще и от рисунков и фотографий, сопровождающих текст. Одним словом, суппорт и графическая субстанция с самого начала разрушают нормальную синтаксическую структуру предложения.
Телеграфный стиль и иконическое расположение текста в заголовках находят свое отражение в двух видах риторических изменений, характерных для рассматриваемых нами текстов, — это, с одной стороны, сокращение, с другой — перестановка. Действительно, изучение нашей выборки показывает, что эти две операции встречаются в ней гораздо чаще, чем другие виды отклонений, й брйЗу же можно сказать, что искусство составления заголовка связано с умением использовать эллипсис и гипербатон. Посмотрим, с какой частотой встречаются в нашей выборке эти две основные фигуры метатаксиса, каковы конкретные формы их проявления.
5.1. Эллипсис очень широко представлен в заголовках, поскольку в 27 из 40 рассмотренных предложений глагол отсутствует; среди них мы находим 26 назывных предложений и 1 предложение адъективного типа: Belle pour la rentree ’Красива к концу лета’ (журнал «Marie-Claire»). Вот несколько заголовков, где глагол легко восстанавливается:
Michel Legrand: trois chances de remporter 1’Oscar a Hollywood («France-Soir»)
букв. ’Мишель Легран: три возможности получить Оскара в Голливуде’ («Франс-Суар»).
Katherine Hepburn: premier role en France
(«Paris-Match») букв. ’Кэтрин Хэпбёрн: первая роль во Франции’
(«Пари-Матч»).
Le systeme le Robert Bruck pour couvrir les terrains de football: protection totale en cinq minutes
(«La Meuse») букв. ’Система Робера Брюка для покрытия футбольных полей: полная обработка за пять минут’ («Ла Мёз»).
В каждом из этих трех предложений соответственно глаголы а ’имеет’, obtient ’получает’ и assure ’обеспечивает’ могли бы восполнить отсутствующее звено между двумя синтагмами. Но вместо них каждый раз подставляется двоеточие. Этот знак, встречающийся в каждом втором предложении нашей выборки, является, как нам кажется, самой характерной чертой рассматриваемой нами синтаксической системы. В обычном употреблении двоеточию, как и всем прочим знакам препинания, отводится весьма скромная роль, но здесь оно приобретает значимость морфемы. Двоеточие сигнализирует о пропуске (эллипсис) и восполняет его, но в то же время оно участвует в выявлении связи между элементами (гипербатон). Можно показать, что эти функции трудно различимы, они скорее дополняют друг друга, нежели находятся в противоречии. Кроме того, пропуск, о котором сигнализирует двоеточие при эллипсисе и который им же и восПОЛняется, яесет бблыпую нагрузку, чем просто опущение глагола. В двух приведенных ниже примерах предложение-заголовок по выраженной в нем мысли приближается к сокращенному рассказу:
Les jeunes maries venaiet d’emmenager: asphyxies!
(«Paris-J our») букв. ’Молодожены только что въехали в новую квартиру: погибли от удушья!’ («Пари-Жур»).
Тгор chargee la barque chavire: une noyee dans la Seine («Paris-Presse»)
букв. ’Перегруженная лодка перевернулась: утопленница в Сене’ («.Пари-Пресс»).
В основу этих сокращений положен паратаксис, или сокращение соединительных элементов между предложениями.
Предложные связи между существительными также часто подвергаются изменениям, образуя стяжения, напоминающие англицизмы:
En vedette les ouvrages vacances
(«Femmes d’aujourd’hui») букв. ’В центре внимания — рукоделие отдыха’
(«Фам д’ожурдюи»).
Aujourd’hui operation «rideaux baisses» dans tout le pays («Le Figaro»)
букв. ’Сегодня операция „опущенные шторы“ по всей стране’ («Фигаро»).
Анализ этих примеров позволяет нам дополнить сказанное об этом виде отклонений в разделе 1.1. Второе существительное при стяжении легко превращается в приложение, которое не выполняет определительной функции — оно ничего не поясняет, но обозначает предмет по конвенции или через аллюзию, как обозначает человека имя, данное ему при крещении, или ярлык фабрики-изготовителя — соответствующее изделие. Нужно иметь определенный навык чтения модных журналов, чтобы понять смысл выражения ouvrages vacances ’рукоделие отпуска’*; надо быть в курсе последних событий и знать их символику, чтобы понять преисполненное намеков выражение operation «rideaux baisses» ’операция „опущенные шторы1".
Последний по порядку, но не по значению, тип эллипсиса мы находим в заголовке, где сообщается о слиянии двух больших магазинов:
Bientot: В. M.+Inno («La Meuse»)
букв. ’Скоро: Б. М.-|-Инно’ («Ла Мёз»).
Метаплазмическое сокращение усиливает синтаксическое сокращение. В этом примере мы сталкиваемся в каком-то смысле с крайней ситуацией: перед нами только скелет предложения, где функцию «суставов» выполняют очень примитивные, но совершенно понятные графические символы (: и -|-).
5.2. В синтаксисе заголовков наблюдается не только тенденция к сжатию и элизии: в них «ударное» слово (le mot-choc) часто выносится за рамки предложения и выделяется либо полиграфическими средствами, либо через двоеточие. Это особое место может быть отдано, например, названию популярной рубрики, в то время как собственно тема статьи дается уже потом. Нетрудно заметить сходство этой процедуры с приемами, которыми пользуются уличные газетчики, когда замолкают на самом интересном месте, вызывая тем самым напряженное ожидание у слушающего:
Supplement lecture: Napoleon, 1’horloge Vivante («Marie-Claire») букв. ’Литературное приложение: Наполеон, Живые часы’ («Мари-Клер»).
Тема может оказаться и на первом месте, но в этих случаях она редко совпадает с реальным грамматическим подлежащим предложения: поэтому нам так часто приходится сталкиваться с гипербатоном, при помощи которого различные дополнения выносятся в начало предложения:
Arthur Rimbaud: sa vie brulee («ЕНе»)
букв. ’Артюр Рембо: его прожженная жизнь’ («Эль»).
La chanson: la TV lui emprunte ses trois visages
(«Jours de France») букв. ’Песня: телевидение заимствует все три ее лика’
(«Жур де Франс»).
Jackie et Onassis: est-ce deja la fin de leur incroyable mariage? («France-Dimanche»)
букв. ’Джекки и Онассис: неужели это конец их неверо-
ятного брака?’ («Фраис-Диманш»).
Когда же речь идет о вопросительных предложениях, настоящую инверсию можно получить следующим образом:
La taille fine, oui, mais comment? («Marie-Claire») букв. ’Тонкая талия, да, но как [добиться этого] ?
(«Мари-Клер»).
Des enfants: Quand? Gombien? («Pourquoi Pas?») букв. ’Дети: Когда? Сколько?’ («Пуркуа Па?»).
Заметим, что именная группа подлежащего все-таки может быть вынесена таким же способом в начало предложения, и тогда она совпадает с грамматическим подлежащим. В таких случаях речь идет о форме эксплеции, где используются двоеточие и дублирующее местоимение — а эта фигура скорее относится к разряду добавлений, чем перестановок (хотя во втором из приведенных ниже примеров перемещение подлежащего приводит к перестановке обстоятельства места):
Les nationalistes: ils ne remportent que quelques succes ephemeres («Paris-Match»)
букв. ’Националисты: они добьются только временных
успехов’ («Пари-Матч »).
Les Wallons a Charleroi: ils etaient 100.000
(«La Wallonie») букв. ’Валлонцы в Шарлеруа: их было 100.000’
(«Ла Валлони»).
5.3. Может показаться, что сама суть операции добавления противоречит духу экономии и спонтанности, свойственному телеграфному стилю. Однако это не так. Исходная установка на сокращение в действительности может привести к совмещению в одном предложении элементов, которые при нормальном положении вещей должны были бы разместиться в двух или нескольких предложениях. Вот примеры этого распространенного в газетных заголовках приема — добавления в виде вводного предложения, взятого в скобки:
Elie sera Marylin an cinema (elle 1’est presque deja) («Marie-Claire») букв. ’Она будет, [исполнять роль] Мэрилин в кино (она почти ею стала)’ («Мари-Клер»),
Le Lierse (fatigue) assomme par le Standard en deuxieme mi-temps (0 — 2) («Le Peuple»)
букв. ’Команда „Льерс“ (в состоянии крайней усталости)
терпит поражение от команды „Стандар" во втором тайме (0 — 2)’ («Лё Пёплъ»),
Кроме того, мы сможем убедиться в том, что сжатость и лаконизм заголовков в какой-то степени компенсируются элементами соразмерности (обычно речь идет об очень простой форме симметрии):
Trenet revient Antoine continue («ЕИе»)
букв. ’Трене возвращается, Антуан продолжает’ («Эль»),
Surpris le voleur se fache; elle s’excuse
(«France-Soin) букв. 'Застигнутый врасплох вор сердится; она извиняется’ (« Франс-С у ар»)
5.4. Итак, в заголовке объединяются две противоположные тенденции: тенденция к сжатости выражения и тенденция к нагромождению информации. Эта двойственность и лежит в основе очень яркой, но сжатой стилистики заголовков. Однако в некоторых не менее частых случаях можно с неменьшим основанием видеть не просто сочетание добавления с сокращением, но операцию сокращения с добавлением, а точнее — замену.
Эта фигура плохо поддается описанию. Она самым непосредственным образом связана с эллипсисом и в каком-то смысле может быть отождествлена с ним. Мы уже убедились в том, что глагол не пользуется особой популярностью в заголовках-отклонениях. Но когда мы приобретаем некоторый навык чтения заголовков, отсутствие глагола уже не воспринимается нами как пропуск, поскольку как в процессе формирования предложения, так и в процессе его чтения на место глагола «проскальзывает» другая единица. Действительно, одна из второстепенных составляющих, а именно предлог, претендует, как правило, на позицию и на роль отсутствующего глагола. Ведь теперь предлог является главным звеном между Двумя объединенными с его помощью именными синтагмами. Таким образом, формируется некий упрощенный, ставший уже привычным для читателя язык, который состоит из выражений типа: ceci pour cela ’то-то для того-то’, ceci contra cela ’то-то против того-то’, ceci dans cela ’то-то в том-то’, ceci selon cela ’то-то в соответствии с тем-то’, ceci avec cela ’то-то с тем-TOi’ и т. д. Таким образом, предложения-заголовки могут включать только предлоги, существительные и определения к ним. Как с семантической, так и синтаксической точек зрения предлог является более грубым инструментом по сравнению с замещенным им глаголом, но преимущество его в том, что он очень сжато и экономично обозначает тип связи (управления) между двумя элементами. Когда-нибудь, наверное, предлоги будут в свою очередь заменены какими-нибудь другими знаками, заимствованными, например, из математической символики (=, +, — и т. д.).
Marcantoni dans un mauvais pas («Le Figaro'») букв. ’Маркантони в трудной ситуации’ («Фигаро»).
Nouvelle presomption contra Marcantoni («Combat») букв. ’Новое обвинение против Маркантони’ («Комба»).
Premiers pas dans la neige pour Colette Besson cham-pionne olympique («Jours de France»)
букв. ’Первые шаги по снегу для олимпийской чемпионки Колетт Бессон’ («Жур де Франс»).
Sur le marche allemand, des verres de contact selon votre toilette ou votre caprice
27 couleurs au choix pour vos yeux («La Meuse») букв. ’На немецком рынке контактные линзы к любому костюму и к любому настроению
27 цветов на выбор для ваших глаз’ («Ла Мёз»). Grace aux «possibility legales» milliards a gogo pour les societes («L’Humanite»)
букв. ’Благодаря „возможностям, предоставляемым зако-ном“, миллиарды для фирмы’ («Юманите»).
В газетных заголовках, как мы уже убедились, используется иной синтаксис. Однако зто изменение является результатом применения достаточно привычных для нас фигур, и прежде всего эллипсиса и гипербатона. Своеобразие стиля заголовков периодической печати объясняется очень узкой специализированностью в использовании метатаксиса, а также интенсивностью, с которой в заголовках используются его «излюбленные» фигуры. Все это может быть проиллюстрировано на следующем, чрезвычайно перегруженном фигурами примере:
A la veille de la «Journde d’action wallonne» (manifestations a Mons, Nivelles, Verviers et Athus) Charleroi: + de 60.000! («La Meuse»)
букв. ’Накануне „Валлонского дня действий" (демонстрации в Моне, Нивеле, Вивье и Атю) Шарлеруа: 60 000! («Ла Мёз»).
В одном заголовке присутствуют все операторы: сокращение глагола и существительного manifestants ’демонстранты’ (которого требуют слово manifestations ’демонстрации’ и числительное 60 000), перестановка и подчеркивание обстоятельства места Charleroi ’Шарлеруа’ и, наконец, добавление с сокращением, подразумеваемое двоеточием и знаком + [в переводе знаком . — Прим, перев.]. И в самом деле, благодаря газетам метатаксис стал доступен самому широкому кругу читателей.
IV.
МЕТАСЕМЕМЫ
0.1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Приступая к главе, посвященной метасемемам, нельзя не сделать несколько предварительных замечаний о важности и «ложности этого вида фигур [1]. G одной стороны, неологизм «метасемема» (которым мы пользуемся как из соображений симметрии по аналогии с метаплазмом, метаболой и пр., так и потому, что он лучше отражает сущность рассматриваемых операций) в целом охватывает явления, традиционно называемые тропами, и в частности метафору — центральную фигуру любой риторической теории. С другой стороны, приступая к изучению того, что в первом приближении можно было бы назвать «семантическим сдвигом» (changement de sens), мы вплотную подходим к проблеме значения — важнейшей проблеме не только риторики, но и любой лингвистической теории или философии языка. Проблема значения значения (signification de la signification) связана с решением сложнейших вопросов, которые были объектом особого внимания в классической и средневековой логике, поскольку эти вопросы заключают в себе сущность теории познания и связаны с таким количеством апорий, что вплоть до недавнего времени они не рассматривались даже в самых передовых лингвистических теориях. Было бы наивно полагать, что здесь мы сможем дать исчерпывающее описание явления, масштабы которого едва начинают вырисовываться. Даже самые поздние по времени, самые серьезные попытки создать структурную семантику со всей очевидностью свидетельствуют о том, что эта наука находится на самой начальной стадии своего развития1 [2].
По-видимому, нет необходимости особо подчеркивать тот факт, что среди литературных средств выразительности метасемеме отводится центральное место. Можно очень высоко оценивать возможности акрофонии, но было бы преувеличением считать, что она, как средство художественной выразительности, играет ведущую роль в мировой литературе. Напротив, представить себе поэтическое сочинение без метафоры чрезвычайно трудно. Конечно, есть и исключения, но они достаточно редки, и ценность их, быть может, как раз в том и состоит, что они отходят от принятых норм2. Некоторые наблюдения по поводу метафоры мы находим у представителей классической риторики. Впрочем, эти наблюдения довольно быстро потеряли свою ценность, поскольку они были лишены оригинальности, ибо правила составления риторических трактатов вынуждали их авторов рассматривать всякий раз одни и те же примеры. Современные, особенно англоязычные, исследования с избытком компенсировали пробелы исторического наследия Определение метафоры является одним из наиболее дискутируемых вопросов современной науки, и критический обзор всех существующих концепций превзошел бы по объему данную главу®, В этот обзор нужно было бы также включить и все сказанное о тропах в неявной форме, с использованием другой терминологии. Так, Башляр, следуя традициям стилистики, пользуется словом «образ» для обозначения явлений, которые, без всякого сомнения, относятся к области риторики. И поскольку речь зашла о поэтической образности, уместно было бы еще раз напомнить, что изучение реально существующего многообразия метасемемических приемов выходит за рамки нашего исследования. Мы лишь попытаемся максимально объективно описать их природу, откладывая на будущее изучение отдельных фигур, их разновидностей и их экспрессивных возможностей.
2 Здесь, например, можно упомянуть «антиобразную» поэзию Жана Фоллена. См: Edeline 1967.
3 В течение последних лет эти вопросы особенно часто обсуждаются в философских и литературных изданиях англоязычной периодической печати См, например, Edeline 1968, где предлагается критический обзор трех исследований, вышедших в «British Journal of Aesthetics»,
0.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В первой части этой работы (1.2.3) мы определили метасемему как фигуру речи, заменяющую одну семему на другую. Но семема всегда выражается через слово, поэтому фигуры, которые мы относим к метасемемам, часто определялись как заменяющие одно слово на другое. Понятая буквально, подобная дефиниция распространяется также и на метаплазмы, получаемые путем полного или даже частичного сокращения с добавлением... Если расширить значение термина «слово», применяя его к любому элементу в цепи означающих, можно было бы даже сказать, что любая фигура, любая метабола «заменяет одно слово на другое». Но к этому и сводится наша исходная гипотеза: «образность» языка проявляется прежде всего в том, что обычно присущие данному виду дискурса элементы заменяются на специфические. Именно к этому сводится исходная точка зрения дешифровщика сообщения: он прежде всего замечает изменения означающего. Но поскольку очевидное различие между отправителем (идущим от смысла) и адресатом сообщения (идущим от означающего) не фиксируется (во всяком случае в античной риторике), замена смысла приравнивается к замене формы4.
Хотя Цв. Тодоров в эксплицитной форме не пишет 0 подобной двойственности, он предлагает тем не менее для описания этих двух операций следующую схему:
Треугольник 1 иллюстрирует возможность замены одного смысла /voile/ ’парус’ на другой /vaisseau/ ’судно, корабль’ при наличии у этих смыслов одного и того же
4 Это различие очень существенно, когда нужно объяснить разницу между синонимичными метаболами, которые у отдельных риторов назывались просто «метаболами», и тропами.
означающего «voile» (полисемия)*. Треугольник 2 показывает, что одно и то же означаемое /vaisseau/ может быть выражено двумя разными означающими (синонимия). Общей для этих двух треугольников диагонали соответствует сама риторическая фигура. К ней применимы оба эти описания. Однако Цв. Тодоров считает, что при помощи треугольника 2 описывается более общий случай (Todorov 1967, с. 98).
* Аналогичный русский пример можно получить, заменив фр. vaisseau ‘судно’ на русск. бородач, а фр. voile ‘парус’ на русск. борода. — Прим, перев.
Исходя из этого, можно было бы предположить, что создатель этой знаменитой синекдохи в духе Жана Лакана отталкивался от понятия /vaisseau/ и получал его прямое выражение — слово «vaisseau», которое вытеснялось словом «voile». И напротив, воспринимающий слово «Voile» сразу же переходил от прямого означаемого /voile/ к соседнему означаемому — понятию /vaisseau/. В треугольнике 1, отражающем позицию дешифровщика, измеряется расстояние между двумя означаемыми; в треугольнике 2, где представлена точка зрения шифровальщика, обозначено расстояние между двумя означающими. Теперь при помощи стрелок можно придать нашей схеме некоторую динамику (сплошной линией обозначен путь отправителя сообщения, пунктиром — путь дешифровщика):
Рис. 7
Но и такая схема была бы неполной: она не давала бы полного представления о том, каким образом осуществляется переход от «vaisseau» к «voile». В действительности говорящий может перейти к слову «voile» только через его смысл, применив операцию, которую мы рассмотрим ниже. В соответствии с этим внесем исправление в нашу схему:
«voile»
/voile/
«vaisseau»
/vaisseau/
Puc. 8
Действительно, можно с полной уверенностью утверждать, что говорящий отталкивается именно от означающего, поскольку с точки зрения риторики сообщение нулевой ступени имплицитно уже содержится в тексте. Исходным материалом для образного языка служат не предметы, и даже не понятия: он оперирует уже с готовыми знаками.
Вернемся к метаплазму с полной заменой (например, использование архаизма cuider вместо обычно употребляемого penser ’думать’). Легко видеть, что поэт-ритор, следуя по описанному нами пути, в конечном итоге не меняет референциальный смысл результирующего слова: в принципе, здесь имеет место лишь замена формы. В метасемемах, напротив, изменение формы сопровождается изменением смысла, что и составляет суть этой операции. В одном случае в основу фигуры положена способность означающего отсылать к двум означаемым, в другом — возможность наличия у двух означающих одного означаемого.
«voile»
«cuider» «penser»
/penser/
(МЕТАПЛАЗМ)
/vaisseau/
(МЕТАСЕМЕМА)
Суммируя сказанное выше, мы можем теперь уточнить наше первое определение: метасемема заменяет одно смысловое содержание другим, но не произвольно взятым смысловым содержанием. Операция, которая, если воспользоваться формулировкой Дю Марсе, сводится к «приписыванию слову значения, не в точности совпадающего с его прямым значением», связана с определенными ограничениями. На это указывает модальность выражения «не в тоййостй». Для Дю Марсе это сужение было сгШобЧеЙйД-ным, хотя риторы в своих нормативных построениях не всегда приходили к общему мнению по поводу допустимости того или иного перехода (в предельном случае допустимыми признавались только принятые фигуры (figures d‘usage), отражающие отклонения самого общего типа, которые просто указывали на литературный характер текста). Но мы, познавшие террор дадаистов и сюрреалистов (по крайней мере в форме их поэтических манифестов) [1], знаем, что были даже попытки заменить «не в точности» на «вовсе не». Достоинством этих опытов было то, что они дали выход поразительному метафорическому потенциалу языка, и этот выход был оправдан тогда, когда соотношение было не только «далеким», но и «понятным».
0.3. ВИДЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ
Если и можно изменить значение слова, то его нельзя менять произвольно, за исключением тех случаев, когда на этот счет существует специальная договоренность, как, скажем, в шифрованном языке. Но такая договоренность носит не лингвистический, а чисто семиотический характер. Уточним еще раз принятое выше определение метасемемы: метасемема изменяет содержание слова. Нам еще предстоит убедиться в том, что при этом обязательно сохраняется частичка его первоначального смысла. Мы обозначили таким образом основу метасемемического процесса. Основой для метасемемы, как и для всех прочих метабол, служит речевое членение. Можно изменять значение слова, не рискуя при этом сделать его непонятным для слушающего, именно потому, что значение членится на множество составных частей. Если воспользоваться терминологией Поттье и Греймаса (которой мы, однако, не ограничимся в дальнейшем), можно сказать, что слово или, точнее, лексему (минимальную единицу дискурса), мы рассматриваем как набор сем (минимальных единиц смысла), часть которых относится к се-мическому ядру слова (semes nucleaires), часть — обусловлены контекстом (semes contextuels), но в целом они образуют смысл, или семему. Мы уже рассматривали фигуры, которые были результатом применения субстанциальных и реляционных операций к фонетическому ряду и к синтаксической структуре предложения. Фигуры, интересующие нас в данный момент, являются результатом приМейейий этих операции к совокупности сем. Однако сразу же можно отметить одну их существенную особенность. Комбинации сем, соответствующие словам, линейно не упорядочены, хотя семы могут быть иерархически упорядочены внутри слова. Из этого следует, что бессмысленно рассматривать операции, меняющие порядок сем. Перед нами, таким образом, только две возможности: сокращение или добавление сем или частей * — операции, которые можно применять как отдельно, так и одновременно.
0.4. МИНИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Полисемическая природа лексемы (за исключением — что, впрочем, не всеми признается — слов «простой семантики», таких, например, как названия цвета) эмпирически проявляется при составлении словарей. В обычных словарях с большим или меньшим успехом фиксируется все множество контекстуальных классов каждой лексемы, ибо значение слова выводится из совокупности его возможных употреблений. Когда речь идет об очень употребительных лексемах (как, например, слово tete ’голова’, которое было проанализировано Греймасом по данным словаря Литтрэ), мы сталкиваемся с целым рядом семем, образующих очень широкое стилистическое поле. Между первым, или главным, значением («часть тела (...], которая присоединяется к туловищу посредством шеи») и переносным значением, вычленяющимся в выражении la tete nue ’с непокрытой головой’ (где речь идет только о части головы, имеющей волосяной покров), уже наблюдается некоторое отклонение; оно становится еще более значительным в выражении la tete d’une epingle ’булавочная головка’ (где главной, «очевидной», семой является «сферообразность»). Однако речь по-прежнему идет о том же слове, а не об омонимах. При переходе от главного значения к производному мы обязательно модифицируем семантическое содержание исходного слова, но не полностью заменяем его. Если исходить из того, что в парадигматическом плане все варианты (с момента их лексикали-зации) равноценны, каждое употребление слова «голова» в речи можно считать метасемемой. Но разумеется, эта формулировка не отличается строгостью, так же как, впрочем, и утверждение Якобсона о том, что парадигматический выбор всегда носит в какой-то степени метафорический характер. Здесь важно отграничить собственно риторическую точку зрения от семантической. Как известно, первые попытки построить лингвистическую семантику на основе изучения «семантического сдвига» вновь привели исследователей к риторической концепции тропов, хотя при этом они и не всегда пользовались ее терминологией. В самой простой классификации, предложенной Ульманом, все существующее многообразие «сдвигов» сводится к метафоре и метонимии, то есть к изменению по смежности и изменению по сходству (будь то в области смысла или в области формы).
Таблица VII...
Правильность этой схемы может быть оспорена: здесь так же, как и у Якобсона, смешиваются собственно метонимия и синекдоха, которая в свою очередь имеет две симметрично противопоставленные формы. Но сейчас мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе. Нам важно установить специфику риторических изменений и их отношение к чисто семантическим изменениям. Когда какое-нибудь слово изменяет свое значение, происходит постепенное стирание исходного означаемого и его замена новым. Если рассматривать этот процесс в диахронии, то в результате такой эволюции старое означаемое в конце концов полностью исчезает, и тогда можно говорить об общем изменении смысла. Если мы теперь вернемся к нашему примеру, то увидим, что слово tete ’голова’ полностью утратило свое исходное значение ’глиняный горшок’ [1]. Аналогичное явление имеет место и в случае творческого использования лексики; когда слово, уже имеющее определенное значение, используется для обозначения нового, еще не имеющего наименования объекта (риторическая катахреза) е — типичным примером здесь является feuille de papier ’лист бумаги’ — такое расширение смысла строится на основе рассуждения по аналогии, метафорического переноса, но в конечном итоге продавец канцелярских товаров, например, уже не ощущает сходства между «листом» на дереве и «листом» бумаги, равно как и портниха, которая вряд ли живет с мыслью о том, что булавочная головка похожа на ее собственную. Но подчеркнем еще раз: поэтический троп — это отклонение явное, он имеет, как уже говорилось выше, определенный маркер. Чтобы получить отклонение, необходимо сохранить напряжение, некоторую дистанцию между двумя семемами, первая из которых, пусть имплицитно, но присутствует в тексте. Для того чтобы увидеть маркер отклонения, необходимо переключиться на синтагматический план, то есть исходить из языкового и/или внеязыкового контекста. Если даже и верно, что метасемему можно трактовать как изменение содержания какого-нибудь отдельно взятого слова, необходимо добавить, что эта фигура может быть воспринята как таковая лишь в словосочетании или в предложении. Отсюда не следует, что при таком подходе тропы отождествляются с метало-гизмами, поскольку последние меняют значимость всей синтаксической последовательности с точки зрения выражаемого в ней утверждения, в то время как действие тропов распространяется лишь на отдельные элементы последовательности и только в плане означаемого. Попробуем показать это на простом примере: если не слишком любезный собеседник назовет меня гадюкой, он воспользуется метафорой, ибо означаемое этого животного лишь частично совпадает с моим, но, поскольку оскорбление является словом-предложением, говорящий одновременно охватывает и область референции и таким образом строит гиперболу.
В случае метасемемы мы имеем дело с чисто языковым контекстом, но его бывает недостаточно для того, чтобы в полной мере выявить маркер: здесь следует обратиться и к экстралингвистическим шифтерам (embrayeurs), и прежде всего к риторическому сознанию. Предположим, что нам удалось собрать воедино все внешние условия, имеющие отношение к данному тексту. Мы можем с одинаковым успехом рассматривать отрывки текста, где превалирует чисто поэтическая функция и последовательности, где риторическая функция является • вторичной по отношению к какой-либо другой функции, например конативной: с этим мы сталкиваемся, в частности, в рекламных текстах. В популярном рекламном лозунге «Посадите тигра в мотор вашего автомобиля», (который появляется кстати в одном из фильмов Жан-Люка Годара*) метафора столь же очевидна, как и в примере Аристотеля: «Да это же лев!» (где речь идет об Александре Македонском или о каком-то другом великом человеке).
Так же и в признании Аполлинера:
Je connais un autre connin Que tout vivant je voudrais prendre. Sa garenne est parmi le thym Des vallons du pays de Tendre.
Вот кролик. Да совсем не тот: Никак мне в руки не дается. Страна, в которой он живет, Страною нежных чувств зовется**.
Мы понимаем, что речь идет о «том самом» кролике — и лапы у него, скорее всего, отсутствуют. Здесь важно то, что в словах «тигр», «лев» или «кролик» вычитывается другой, измененный смысл. Пока что мы попытаемся понять, почему в ситуации, когда слово «тигр» с означаемым «бензин высшего качества» еще не лексикализовано, автомобилисты, ознакомившись с этой рекламой, не пытаются впихнуть хищника в двигатель своего автомобиля. Поскольку мы исходили из того, что нам известны все внешние условия, имеющие отношение к данному тексту (в частности, известно, что ни один из существующих ныне моторов не работает на горючем в виде тигра), можно предположить, что это сообщение воспринимается с языковой точки зрения как неправильное. По всей видимости, эта неправильность проявляется как в сфере синтаксиса, так и в сфере грамматики — поскольку речь идет о слове, которое не может выступать в роли прямого дополнения в данном предложении, — но в конечном итоге эту неадекватность следует отнести именно к области семантики. При метатаксисе, как мы показали выше, изменения затрагивают лишь функции слов. При метасемеме отклонение фиксируется как расхождение между «текстом» и его контекстом, и, только учитывая смысл соседних слов, можно сделать вывод о несовместимости данного «текста» и его «контекста».
0.5. ИЗБЫТОЧНОСТЬ И РЕДУКЦИЯ
Итак, если исходить из того, что «смысл» рассматривается как нечленимое целое, получатель сообщения должен поставить на этом точку и признать сообщение бессмысленным. Если представить себе язык, где нет никакой семантической избыточности, где элементы смысла следуют друг за другом подобно шарикам на четках, то в таком языке не может быть никаких (семантических) фигур. Но фактически определенная степень избыточности обеспечивается за счет распределения элементов смысла в словах, соседствующих в речевой цепи (см. часть 1, 2.2.4). Точнее, именно существование классем, то есть итеративных сем, или наличие фактора совместимости между двумя семическими единствами, обеспечивает речи некоторую устойчивость по отношению к «шумовому фону». Если предположить, что рекламное сообщение на заправочной станции стерлось до такой степени, что можно лишь прочесть «Посадите XXX в мотор вашего автомобиля», то более чем вероятно, что пробел будет восполнен чем-то вроде «бензин высшего качества». И поскольку в языке фиксируются привычные употребления, поскольку он несет на себе отпечаток всего того, что когда-либо было сказано, можно ожидать, что переменная функции (то есть пропозициональной формы)
le cici est Ыен comme X букв, ’небо такое же голубое, как X’ примет значение tes yeux ’твои глаза’, но вряд ли кому-нибудь придет в голову подставить вместо X слово orange ’апельсин’. В последнем случае возникло бы весьма существенное отклонение, и нет уверенности в том, что нам легко удалось бы описать его редукцию. Однако и здесь итеративные семы уничтожены не полностью: остается хотя бы сходство по смежности, идея цвета.
Если отказаться от главного принципа риторики и придерживаться того мнения, что поэтическая речь ничем не отличается от обыденной, то возникает вопрос, каким образом происходит исправление сознательно допущенной ошибки, к которой, собственно, и сводится риторическая фигура. Мы здесь полностью солидарны с Ж. Коеном, который очень четко обозначил дополнительный характер двух операций: восприятия и редукции отклонения. Первая относится к синтагматической оси, вторая — к парадигматике. Однако, по-видимому, автор не вполне прав, когда он называет метафорой любое парадигматическое отклонение, рискуя тем самым внести еще большую неясность в область, где ее и так предостаточно7.
0.6. НЕСКОЛЬКО МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Для того чтобы объяснить некоторые процессы, связанные с редукцией метасемем, мы сначала вспомним несколько общих моделей, которые можно использовать при описании семантического универсума. Первые две носят чисто когнитивный характер: одна из пих организована по принципу «вложения классов», в другой используется дихотомическое дерево. Затем мы обратимся к моделям, подсказанным лингвистической практикой. В зависимости от ситуации речь будет идти либо об анализе материальных объектов и их частей, либо об умозрительном анализе понятий и их составляющих.
0.6.1. В рамках первой модели (рис. 9.1) попадающие в сферу нашего восприятия предметы объединяются в классы эквивалентных единиц. Эти классы группируются в более обширные классы, которые являются для них обобщающими, или разбиваются на более мелкие классы, дающие более детальное представление о классифицируемых сущностях. В зависимости от классифицируемых объектов и критериев, в соответствии с которыми проводятся классификации, можно прийти к бесконечному числу моделей, представляющих собой пирамиды, слагающиеся из более или менее структурированных классов. Строго говоря — и результаты научных исследований ежечасно подтверждают это, — объектов в чистом виде не существует: под объектом принято понимать пучок признаков, образующих на некотором уровне наблюдения единое целое. Если меняется уровень наблюдения, меняется и объект. Хорошо известна построенная по этому принципу классификация животных, но можно себе представить и бесконечное множество иных моделей, касающихся любого, пусть даже самого ограниченного, участка наблюдения.
0.6.2. Во второй модели (рис. 9.2) весь семантический универсум (TOTUS) при помощи бесконечного числа делений разбивается на простейшие элементы — гипотетические конструкты (OMNIS). Рассматриваемая модель представляет собой дерево, каждой ветви которого, каждой веточке, вплоть до мельчайших ответвлений, соответствуют все более и более точно определяемые объекты. Можно легко представить себе описание семантического универсума в виде дихотомического дерева, но, безусловно, следует сразу же отказаться от мысли, что мы можем хотя бы в какой-то степени приблизиться к классификации, подобной системе К. Линнея, которая бы идеально соответствовала семантическому универсуму и тем самым, полностью воспроизводила его структуру. На самом деле такое дерево в нашем случае может быть получено бесконечным числом способов, и существенной здесь является только сама операция, при помощи которой оно строится.
Однако среди бесконечного числа всевозможных «деревьев» и «пирамид» можно выделить модели, отличающиеся большим «правдоподобием» просто потому, что в них иерархия критериев, по которым объекты объединяются в один класс или, наоборот, разносятся по разным классам, в большей степени соответствует наблюдаемым в природе явлениям. Отсюда, однако, не следует, будто мы считаем, что в действительности все устроено именно так, как в придуманной нами схеме. Речь идет лишь о том, что, например, таксономия растений, основанная на особенностях филогенеза, более эффективна и экономична, чем классификация, где в качестве первого критерия бралась бы окраска цветов, в качестве второго — количество лепестков и т. д., хотя такая модель могла бы быть использована при построении упрощенной, но тем не менее чрезвычайно действенной в практическом плане классификации растений.
Если одни какие-то модели противоречат другим или попросту взаимоисключают друг друга, то все они тем не менее могут сосуществовать. Любая мыслимая модель, с одной стороны, умозрительна, с другой — отражает реальную действительность и в силу этого обстоятельства занимает определенное промежуточное положение между нашим сознанием и самим объектом. Такие классификационные схемы используются, например, в играх, где участники должны опознать неизвестный объект путем задавания минимального количества общих вопросов, то есть вопросов, ответом на которые может быть только «Да или «Нет».
Обе описанные нами модели являются культурным достоянием человечества, порождением человеческого разума. В них проявляются два разных аспекта одного и того же логического приема. В модели «вложения классов» акцент ставится на объединение сходных объектов (принцип подобия), в то время как в модели, построенной на основе «дизъюнктивного дерева», главную роль играет последовательная дифференциация объектов, которая позволяет получать все более и более точные их описания (принципы различия). Эти две модели образуют оппозицию по типу экстенсионал/интенсионал. Вот что пишет по этому поводу Ж. Пиаже: «...ряд асимметричных, примыкающих друг к другу отношений образует линейную последовательность, и мы ничего не меняем в ней, когда членим ее на все более мелкие единицы; классификация же представляет собой иерархию или пирамиду, и существует множество разных путей, ведущих к ее вершине или к ее основанию» (Piaget 1949).
0.6.3. Теперь мы отвлечемся от семантического универсума в целом и сосредоточимся на более узкой области, непосредственно связанной с языком. Рассмотрим ряды слов, следующих друг за другом по нисходящей прямой в таблице «вложения классов» или в пределах дизъюнктивного дерева. Каждое слово подобного эндоцентриче-ского ряда (см. Ikegami 1969, с. 64 — 79) может быть получено из предыдущего путем добавления одной или нескольких сем, или определений (см. рис. 9.3), и, таким образом, слово каждый раз является результатом нового выбора среди множества эквивалентных возможностей данного уровня.
Легко видеть однако, что такая структура словаря всегда отражает устройство семантического универсума. Это относится в равной степени и к рядам слов, построенным не по родо-видовому принципу:
весна -» лето - осень... (циклическая временная последовательность)
один- два- тричетыре... (нециклическая логическая последовательность)
облако дождь паводок -» наводнение... (причинно-следственная последовательность)
ледяной - прохладный - тепловатый - теплый - обжигающий... (последовательность, построенная по принципу интенсивности признака)
Таким образом, слова в этих рядах объединяются по принципу смежности.
Третий способ формирования рядов — его можно было бы назвать материальным, поскольку такие ряды противопоставлены семическим рядам, образованным на концептуальной основе, — сводится к включению означаемого слова в некое объемлющее его целое путем добавления к этому означаемому недостающих частей целого:
бицепс - рука -*■ человек - семья
Все три вида рядов участвуют в образовании метасемем.
0.6.4. Использование описанных нами моделей связано с двумя принципиально разными типами семантической декомпозиции (decomposition semantique) *. Возьмем для примера дерево. Мы можем рассматривать дерево как органическое целое, которое можно разделить на связанные друг с другом части, притом что каждая часть отличается от всех остальных:
дерево — ветви, и листья, и ствол, и корни...
Ни одна из полученных в этом членении частей не есть само дерево. Полученные части связаны отношением логического умножения П (союз и), и мы будем называть всю совокупность элементов декомпозицией по типу П. Строго говоря, отношением логического умножения связаны высказывания: (х есть дерево) = (х имеет листья), (х имеет корни), (х имеет ствол) и т. д. Такая декомпозиция носит дистрибутивный характер в том смысле, что семы целого неравномерно распределяются по его частям (например, сема «обеспечивающее плавучесть», содержащаяся в понятии «корабль», сохраняется в понятии «руль», но не в понятии «каюта»).
Мы можем с таким же успехом рассматривать наше дерево, как класс эквивалентных в заранее заданном отношении единиц: класс деревьев вообще состоит из тополей, и дубов, и берез, и т. д., но отдельное дерево, произвольный объект из класса «Дерево», может быть определено так:
дерево х = тополь, или дуб, или ива, или береза...
Эти элементы связаны с самим классом родо-видовым отношением, следовательно, они взаимоисключают друг друга. Исключающие дизъюнкции, при помощи которых внутри рода выделяются виды, устанавливают между этими видами отношение логического сложения. Роды делятся на виды благодаря «различительным» признакам, то есть благодаря новым, несущественным для определения рода семам. Декомпозиция носит недистрибутивный характер: каждая составляющая ряда, будучи деревом, содержит все семы дерева плюс характерные для каждого вида специфические признаки. Части связаны друг с другом отношением логического сложения (союз или), и в целом совокупность этих элементов может быть названа декомпозицией по типу S.
Одно и то же слово в зависимости от задачи может быть разложено как по типу П, так и по типу S. В первом случае мы получим референциально-экзоцентрический ряд (дерево - ветвь), во втором случае — семо-эндоцен-трический (дерево — береза). Все риторические фигуры, которые будут описаны в данной главе, связаны со смещением элементов в пределах таких рядов.
Поскольку, как это будет показано ниже, эти смещения регулируются условиями, касающимися только «сем» (в данном случае имеется в виду условие сохранения сем, которые мы будем называть «существенными»), у нас есть все основания для того, чтобы называть подобные изменения семантическими фигурами, йли метйбемемами.
Этот беглый экскурс в область семантики, положенный в основу наших дальнейших логических построений, в конечном счете показывает, что лексику можно рассматривать с двух разных точек зрения. При первом — диахроническом — подходе выстраиваются эндоцен-трические ряды, фиксирующие в каком-то смысле «последовательное» наращивание сем в процессе анализа и последовательной дифференциации объектов. Эти эндоряды подспудно присутствуют в словаре, но фиксируем их мы, ибо каждое слово или понятие может находиться на пересечении нескольких рядов, причем количество рядов равно количеству содержащихся в слове сем. Вычленение этих рядов всегда производится на основании декомпозиции по типу S, то есть понятийной декомпозиции. При втором подходе (с точки зрения синхронии) каждая материальная сущность (каждый референт) представляется в виде множества соположенных присущих ей одновременно частей. Этой структуре соответствует декомпозиция по типу П — предметная (materiel) декомпозиция.
Описанные два типа членения самым непосредственным образом связаны с сигнификативной моделью, известной под названием треугольник Огдена — Ричардса [1]. Напомним, что в вершинах этого треугольника расположены соответственно: означающие (которые не представляют для нас интереса, коль скоро мы занимаемся описанием семантических фигур), понятия (семантический универсум, интерпретируемый по типу S) и референт (непреобразованный материальный универсум, воспринимаемый по типу П).
Из сказанного следует, что как для отправителя, так и для получателя сообщения слово не является основной единицей смысла. Оно естественным образом распадается на семы или на части по типу S или по типу П в зависимости от требований, предъявляемых контекстом. Все экспрессивное или когнитивное, и в особенности риторическое многообразие речи зиждется на этих декомпозициях. Можно с уверенностью утверждать, что даже при том, что семы в явном виде в тексте никогда не присутствуют, главное в коммуникации связано именно с уровнем сем, или атомов смысла.
0.7. КОНКРЕТНОЕ И АБСТРАКТНОЕ
Теперь мы постараемся дополнить предложенное выше многоаспектное описание механизмов, действующих в рамках метасемемических преобразований, и рассмотрим три больших класса слов: имена собственные, конкретные и абстрактные имена *. Мы не будем здесь подробно останавливаться на категории имени собственного, поскольку она явным образом антропоцентрична: «солнце» — имя нарицательное, но ему соответствует один-единственный объект, в то время как Grec Трек’ — имя собственное ** — обозначает очень большое количество индивидов. Для нас существенным является скорее разделение имен на конкретные и абстрактные. Конкретная лексика всецело дескриптивна, она навешивает «ярлыки» на объекты нашего восприятия: солнце, Средиземное море, Поль Валери, куница... Абстрактная лексика включает понятия, предназначенные для описания этих объектов: белый, теплый, превосходный, острие... Мы не беремся здесь строго описывать это различие во всем его объеме и ограничимся лишь констатацией того, что оно фундаментально. Создается, в частности, впечатление, что конкретная лексика состоит в основном из имен существительных, тогда как слова с абстрактным значением, выражающие модальные характеристики окружающих объектов, явлений, чаще бывают прилагательными (слово patience ’терпение’ образовано от прилагательного patient ’терпеливый’, а не наоборот).
Идеальное толкование слов с конкретным значением, в идеальном словаре должно было бы сводиться к бесконечному перечню наших знаний о референте (называемой вещи). Эти слова, по выражению Э. Морена [1], образуют наш «карманный» космос (cosmos de poche), через них эмпирический мир получает отражение в нашем сознании. Абстрактные же слова имеют отношение только к понятиям. Посредством этих слов выражается наше естественное стремление к анализу окружающей действительности. Их толкования могут сводиться к короткой последовательности слов, последовательности неизменяемой и окончательной.
Можно видеть, что это различие несет на себе отпечаток двух типов декомпозиции, которые мы теперь свяжем со схемой Пиаже (ассимиляция/аккомодация), и получим, таким образом, новый вариант треугольника Огдена — Ричардса:
Рис. 10
Пиаже называет ассимиляцией процесс соотнесения схем, имеющихся в нашем сознании, с реальной действительностью: абстрактные понятия являются именно такими схемами. Под аккомодацией Пиаже понимает процесс, посредством которого мы преобразуем наши схемы под действием воспринятого нами опыта: абстрактные слова выступают в качестве языковых эквивалентов воспринятых явлений.
В идеале можно себе представить двунаправленное взаимодействие двух названных лексических категорий. С одной стороны, описательные, или конкретные, слова, которые, вообще говоря, и являются собственными именами в узком значении этого термина (например, солнце), группируются во все более и более обширные классы, каждый из которых имеет свое наименование. Слово «растительный» можно рассматривать как результат процесса постепенного абстрагирования, исходным пунктом которого будет все наблюдаемое многообразие растений. На каждой следующей ступени теряется частица конкретного смысла, а взамен появляется абстрактное понятие, которое при случае может функционировать независимо от разбиения слов на классы (ср. функцию французских слов aerien ’воздушный’, terrestre ’земной’, aquatique ’водный’ в классификации живых существ). С другой стороны, «слова-анализаторы» (les mots-decrets), моносемические лексемы (например, lourd ’тяжелый’) образуют все более и более сложные единства, и в процессе конкретизации они мало-помалу сближаются с эмпирическими единицами (создавая тем самым что-то вроде «реконструкции» реального мира). В результате «промежуточные» слова этих двунаправленных, одновременно эндоцентричес-ких и экзоцентрических, рядов могут рассматриваться с обеих точек зрения. Именно поэтому мы рассматривали дерево одновременно и как эмпирическую конъюнкцию всех его частей (листья, корни, ствол), и как мыслительную дизъюнкцию (береза, липа, лиственница).
Теперь мы можем приступить к описанию различных видов метасемем с точки зрения используемой в них базовой операции сокращения или добавления.
1. СИНЕКДОХА*
* См. общую табл., С. 1.1 и С. 1.2.
1.1. Начнем наше описание с синекдохи и антономазии, но не в полном их объеме: речь пойдет только о той их разновидности, в которой осуществляется переход от частного к общему, от части к целому, от меньшего к большему, от вида к роду. Отметим сразу же расплывчатость всех этих понятий. В действительности, как мы уже говорили выше, «деревья» и «пирамиды», имплицитно используемые при декомпозиции и реконструкции семем, не обязательно отражают научное представление о мире. Нас в принципе устроила бы и таксономия на уровне первобытного сознания. Именно это позволяет рассматривать антономазию (и здесь мы следуем традиции) как обыкновенную разновидность синекдохи, поскольку отношение между Цицероном и множеством ораторов в принципе сводимо к отношению между видом и родом8 [1]. Мы можем ограничиться критерием античных риторов: большее вместо меньшего. По правде говоря, в произвольно выбранном литературном тексте вряд ли найдется много явных примеров обобщающей синекдохи (оС) (synecdoque generalisante). В «Тропах» Дю Марсе приводится практически только один общеизвестный пример: «Людей называют mortels ’простые смертные’, но это слово с таким же успехом применимо и к животным, которые — как и мы — смертны». Вот более яркий пример, заимствованный у Р. Кено:
Il reprit son chemin et, songeusement quant a la tete, d’un pas net quant aux pieds, il termina sans bavures son itineraire. Des radis 1’attendaient, et le chat qui miaula esperant des sardines, et Amelie qui craignait une combustion trop accentuee du fricot. Le maitre de maison grignote les vegetaux, caresse I’animal et repond a 1’etre humain qui lui demande comment sont les nouvelles aujourd’hui:
— Pas fameuses.
’Он продолжил свой путь: голова была занята мыслями, ноги четко вышагивали по дороге, и свой маршрут он закончил без происшествий. Дома его ожидал редис, и кот, который мяукнул в надежде получить сардину, и Амели, испытывающая законное чувство беспокойства по поводу подгоревшего рагу. Хозяин дома с хрустом жует овощ, гладит животное и на вопрос представителя человеческого рода о том, как нынче обстоят дела, отвечает:
— Так себе’.
Этого примера, по-видимому, достаточно для иллюстрации частичного сокращения сем, приводящего к расширению значения слова, то есть придающего ему более «общий» характер. Несмотря на то что мы оставили в стороне вопрос об экспрессивных возможностях фигур, легко видеть, что обобщающая синекдоха придает речи более абстрактный, «философский» характер, который в этой натуралистической пародии очевидным образом выделяется на фоне конкретики контекста.
Если этот процесс зайдет слишком далеко, каждое слово придется заменить на true или machin, ’штука, вещь’ или вообще образовать фигуру (которую в данном случае следовало бы назвать «асемией») при помощи полного сокращения слова. Однако вспомним, что говорилось в разделе 1.2.4 об инварианте: фигуры, полученные путем полного сокращения, не имеют инварианта и не могут, следовательно, быть причислены ни к одной из четырех выделенных категорий фигур.
Наряду с приведенными выше примерами, где используется декомпозиция по типу S, встречаются также (хотя и значительно реже) примеры на тип П. Эти синекдохи менее заметны: ’Мужчина взял сигарету и зажег ее’ («мужчина» вместо «рука»). Нужно отметить, что именно синекдоха типа оСП является одной из тех, которые исключают возможность построения метафоры, и к этому вопросу мы еще вернемся в последующем изложении.
1.2. Сужающая синекдоха (сС) (synecdoque particu-larisante) или соответствующая ей антономазия, без сомнения, являются гораздо более распространенным видом метабол, особенно в романах. Кстати говоря, Р. Якобсон имел в виду именно эту категорию фигур, смешивающуюся в его концепции с метонимией, когда писал о предрасположенности «реалистических» школ к метонимии. Но повторим еще раз, нас интересует в данном случае только логическая структура образования синекдохи. Для пас, таким образом, несущественно, где именно встретился тот или иной пример синекдохи типа П, в арго ли (где вместо выражения faire 1’amour ’заниматься любовью’ используется выражение une partie de jambes en I’air), у Ж. Шеаде (...Qu’est-ce .a dire de s’impatienter contre les chasubles? ’Что же говорить, что с «ризами» терпенья не хватает?’) или в старых трактатах (знаменитое voile ’парус’ вместо vaisseau ’корабль, судно’).
Сужающие синекдохи типа S теоретически возможны, они, конечно же, существуют. Но мы их плохо «ощущаем», поскольку они вводят обозначения, о которых порой трудно сказать, относятся они к нулевой ступени или нет: можно ли считать фигурой, например, употребление слова «кинжал» там, где было бы достаточно сказать просто «оружие»? Можно ли усмотреть риторическую фигуру в том, что пастухов и пастушек в известной пьесе Дюфрени [1] зовут Филис, Сильвандр или Лизетт? Более яркий пример такого рода мы находим у Ж. Шеаде:
Dehors nuit zoulou
букв, ’А за окном зулусская ночь’ (чериый- Негр — зулус). Во всяком случае, замечательно то, что синекдоха тиш сС S также несовместима с метафорой: ниже мы еще вер немея к этому вопросу.
1.3. СОХРАНЕНИЕ ГЛАВНЫХ СЕМ
А теперь перед нами встает тот самый каверзный вопрос, который уже приводил в замешательство представителей классической риторики. Ле Клер пишет: «Несмотря на то что можно сказать cent voiles букв, ’сто парусов’ вместо cent vaisseaux ’сто кораблей’, мы вызовем только насмешки, если в том же значении употребим cent mats ’сто мачт’ или cent avirons ’сто весел’ («Nouvelle rhetorique», с. 275). Но если допустить, что этот пример отражает реальное положение вещей, то причина такого запрета кроется не в том, что, подставляя mats ’мачты’ или avirons ’весла’ вместо voiles, мы раним «слух, привыкший к чистоте французской речи», а в том, что однозначное, адекватное восприятие текста обеспечивается только тогда, когда новый, подставляемый термин сохраняет «специфичность» старого. Это ставит нас перед необходимостью более детально исследовать отношение между частью и целым, видом и родом и т. д., чтобы включить их в рассмотренные выше общие модели.
В частности, модель «вложения классов» исходно предполагает неоднородность своих элементов, поскольку на каждом новом уровне меняется критерий деления на более мелкие классы. Эта неструктурированная классификация, где мы находим оба типа рассмотренных классов:
— классы, в которые входят различные, но эквивалентные с выбранной точки зрения, единицы. Например:
транспортные средства
корабль
ракета
самолет
фелюга
одномачтовая яхта
грузовое судно
или виды оружия
кинжал
ружье
пушка
малайский кинжал
нож
кортик
— классы, включающие различные части организованного целого. Например:
корабль корпус или кинжал клинок
руль кольцо (на рукоятке}
паруса гарда
каюты эфес
Вспомним, что говорилось выше (й йто легко можпб проверить, рассматривая произвольно выбранные семы, например «плавучесть» или «агрессивность») о рядах, соответствующих этим двум типам декомпозиции:
2 — семы сохраняются при движении сверху вниз по пирамиде;
П — семы распределяются между составными частями.
Обобщающая синекдоха типа 2 (например, апле ’оружие’ вместо poignard ’кинжал’) или сужающая синекдоха типа И (например, voile ’парус’ вместо vaisseau ’судно’) сводятся к замене одной единицы на другую, причем во второй отсутствуют некоторые семы, присущие первой. Мы будем называть существенными семами те семы, которые необходимы для дискурса, то есть семы, упразднение которых делает его непонятным. Для того, чтобы сообщение сохранило «понятность», следует позаботиться о том, чтобы существенные семы сохранялись.
Рассмотрим, например, описание убийства в каком-нибудь романе (читатель без труда сможет придумать аналогичный пример для сСП). Орудие убийства может быть описано при помощи таких слов, как:
poignard ’кинжал’ arme ’оружие’
objet ’предмет’
Существенная для сцены убийства сема (без дальнейших уточнений назовем ее «агрессивно-смертоносной») присутствует в значении двух первых слов, но отсутствует в значении третьего. Но в значении первого слова она окружена дополнительной «несущественной» информацией — не избыточной, но побочной.
Таким образом, следует различать две ступени оС2: изменения первой ступени затрагивают только побочную информацию; .существенные семы при этом сохраняются (arme ‘оружие’ вместо poignard ’кинжал’). При изменениях второй ступени уничтожаются существенные семы (objet ’предмет’ вместо arme ’оружие’). Изменения первой ступени обычно проходят незамеченными: они выявляются только в процессе семантического анализа дис-; курса. Первая ступень входит в «допустимую зону», где говорящий сам может устанавливать уровень общности определений при выборе лексики. Что касается изменений второй ступени, то они однозначно воспринимаются как фигуры: к ним можно прибегать только н том случае, когда существенные семы в силу семантической избыточности текста уже присутствуют в контексте. Например, слово fer ‘железо’ в принципе может употребляться вместо poignard ’кинжал’. Подстановка слова fer ’железо’ может осуществляться по трем эндоцентрическим рядам, попарные пересечения которых соответствуют отсутствующим в сообщении понятиям:
Рис. 11
Гипотетическая схема последовательностей, лежащих в основе синекдохи
На рис. 11 обозначены переходы, осуществляемые при подобной модификации: значение слова poignard ’кинжал’ сужается, и мы получаем lame ’лезвие, клинок’, затем lame ’клинок’ обобщается до значения metal dur ’клинок’ ’твердый металл’, а затем вновь происходит сужение: из metal dur ’твердый металл’ получается fer ‘железо’. Ни lame ’клинок’, ни poignard ‘кинжал’ реально не названы в тексте. Но существенной семой в ситуации убийства, как мы уже говорили, является «агрессивно-смертоносный», а она как раз и теряется при этих переходах... Семантической связи, существующей между сырьем (железо) и готовым изделием (кинжал), недостаточно для того, чтобы восстановить смысл сообщения, поскольку в других контекстах слово fer ’железо’ может обозначать объекты, не связанные с идеей агрессии, как, например в следующем предложении:
Le fer mieux employe cultivera la terre (Malherbe) букв. ’Железо, которому найдется лучшее применение, будет возделывать землю’ (Малерб).
Здесь со словом fer ’железо’ (благодаря выражению mieux employe ’лучшее применение’) можно соотнести две нулевые ступени (оружие и плуг). Или в следующей строке:
L’or tombe sous le fer (Saint-Amant)
букв. ’Золото [пшеница. — Прим, перев.] скошено железом’ (Сент-Аман),
хотя в этом примере синекдоха имеет легкую метафорическую окраску. И только контекст, вероятность перехода сем в другие единицы смысла повествования, другими словами, семантическая избыточность, позволяют свести два последних употребления к их «сельскохозяйственному» значению.
2. МЕТАФОРА
2.1. СЕМАНТИЧЕСКАЯ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
Описание механизма образования синекдохи может служить в каком-то смысле введением к описанию механизмов метафоры. Как мы уже говорили выше, метафора не сводится к простой замене смысла — это изменение смыслового содержания слова, возникающее в результате действия двух базовых операций: добавления и сокращения сем. Иначе говоря, метафора является результатом соположения двух синекдох. Сейчас мы опишем эту смешанную (mixte) операцию более подробно. Мы начнем с примера, заимствованного у М. Деги. Этот пример замечателен тем, что поэтическое искусство автора проявляется в нем в эксплицитной форме, что, впрочем, характерно для современной поэзии в целом:
«Le poete aux yeux cernes de mort descend a ce monde du miracle. Que seme-t-il dans un geste large sur I’unique sillon de la greve, ou de six heures en six heures pareille a une servante illettree qui vient appreter la page et 1’ecritoire, la mer en coiffe blanche dispose et modifie encore I’alphabet vide des algues? Que favorise-t-il aux choses qui n’attendent rien dans le silence du gris?
la coincidence».
’Поэт С кругами смерти под глазами спускается в этот мир чудес. Чем засеет он эту борозду, единст-венную на песчаном берегу, где раз в шесть часов, подобно неграмотной служанке, входящей в комнату, чтобы подготовить бумагу и письменный прибор, море в белом чепце раскладывает и перекладывает пустые буквы [букв, пустой алфавит] водорослей? Что подарит он ничего не ждущему в серой тишине застывшему миру?
совпадение’.
Само собой разумеется, что все множество метабол в этом тексте не исчерпывается выделенными курсивом синтагмами и тем более не только последними объясняется его эстетическое совершенство. Но очевидно, что читатель сразу чувствует в этих случаях насилие над лексическим материалом. Эти маленькие семантические «скандалы» обращают его внимание на само сообщение. С формальной точки зрения метафора представляет собой синтагму, где сосуществуют в противоречивом единстве тождество двух означающих и несовпадение соответствующих им означаемых. Этот вызов (языковому) сознанию требует осуществления редукции, которая сводится к тому, что читатель пытается как-то обосновать наблюдаемое совпадение означающих. Очень важно, что в процессе редукции собственно языковые факторы никогда не ставятся под сомнение. Редукция осуществляется за счет внешних для риторического сознания условий, которые мы считаем заданными. Позиция получателя научного сообщения была бы совсем иной. В научном тексте семантическая несовместимость такого рода может как отвергаться (в случае, когда сказанное признается неверным или бессмысленным), так и приниматься (если речь идет об обнаружении новой когнитивной структуры). Как правильно заметил Ж. Коен, для высказываний такого типа характерны особые модальные рамки, такие, как, например, «Опыт показывает, что...» или «Вопреки принятой точке зрения, X показал, что...» 9. В рамках поэтического прочтения текста такие меры предосторожности излишни, хотя в принципе их можно формулировать в аналогичной форме, но и тогда они будут нести другую смысловую нагрузку. A priori читатель поэтического текста всегда отождествляет код данного произведения с обычным языковым кодом; он тут же начинает выстраивать фрагменты классификаций по типу «дерева» или «пирамиды» в поисках уровня, на котором имеющиеся означаемые были бы эквивалентны. Когда мы рассматриваем два, пусть очень несхожих, объекта, мы всегда можем найти в пирамиде вложенных классов «предельный» класс (classe-limite), который будет включать оба эти объекта, притом что во всех более дробных классах они фигурируют раздельно.
Термины «тождественный», «эквивалентный» и «сходный» используются исключительно для того, чтобы примерно установить уровень «предельного» класса относительно всех тех классов, где оба означаемых выступают как разные единицы. Метафорическая редукция считается завершенной, когда читатель находит третье виртуальное понятие, выполняющее роль шарнира между двумя другими (например, «линейность» — «белый неровный край» — «черные удлиненные формы на светлом фоне» в цитированном выше примере Деги) [1]. Процесс редукции сводится к поиску этого третьего понятия, будь то в пределах какого-либо дерева или какой-либо отражающей или не отражающей реальное положение вещей пирамиды. У каждого читателя может быть свое собственное семантическое представление. Главное — это найти самый короткий путь, соединяющий два объекта: поиски продолжаются до тех пор, пока не будут перебраны все возможные критерии различия.
2.2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ
Теперь мы можем уточнить приведенное выше описание метафоры. «Предельный» класс, о котором шла речь выше, может так же быть описан, как пересечение смыслов двух слов, как общая часть совокупности их сем или частей (рис. 12).
Если эта общая часть необходима для обоснования постулируемого тождества, их несовпадающие части не менее необходимы для обеспечения оригинальности образа и приведения в действие механизма редукции. Метафора экстраполирует, она строится на основе реального сходства, проявляющегося в пересечении двух значений, и утверждает полное совпадение этих значащий. Она присваивает объединению двух значений признак, присущий только их пересечению (рис. 13).
Мы можем описать метафорический процесс следующим образом:
И---- (П)---- Р,
где И — исходное слово *, Р — результирующее слово *, а переход от первого ко второму осуществляется через промежуточное понятие П, которое никогда в дискурсе не присутствует: в зависимости от принятой точки зрения оно соответствует или «предельному» классу, или пересечению совокупности сем.
Разложенная таким способом на составные части метафора может быть истолкована как соположение двух синекдох, поскольку П является синекдохой относительно И, а Р — синекдоха относительно П. Эта тесная связь между синекдохой и метафорой — фигурами, которые обычно (в теории Р. Якобсона по крайней мере) счита-
* Или выражение. — Прим, перев.
197
лись несводимыми друг к другу, — должна быть исследована более подробно. Можно ли получить метафору, свободно комбинируя две произвольно выбранные обобщающие или сужающие синекдохи (оС или сС)? Нет, поскольку синекдоха меняет уровень общности понятия. Таким образом, в нашем случае возможна только комбинация оС и сС, если мы хотим, чтобы И и Р находились на одном уровне (чтобы им была присуща одинаковая степень общности), как того требует метафора. Таким образом, перед нами открываются только две возможности:
(оС + сС) или (сС+оС).
2.3. СОПОЛОЖЕНИЕ СИНЕКДОХ
Рассмотрим простые синекдохи и охарактеризуем осуществляемый ими тип декомпозиции, исследуя соотношение между их исходным и их результирующим словами. Наша цель, таким образом, — определить операцию (произведение П или сумма 2), которая позволяет перейти от одного слова к другому:
Таблица VIII
Синекдоха Декомпозиция по Типу
Обобщающая fer ‘железо’ вместо lame ‘клинок* homme ‘человек’ вместо main ‘рука'
Сужающая zoulou ‘зулусский’ вместо noir ‘черный’ voile ‘парус’ вместо bateau ‘судно’
Для того чтобы построить метафору, мы должны соединить, или «сцепить», две дополняющие друг друга синекдохи, которые функционируют противоположным друг относительно друга образом и определяют точку пересечения между понятиями И и Р. Основой для метафоры типа 2 являются общие семы И и Р, метафора тина П строится на основе общих для И и Р частей. Таким образом, возможны два способа образования метафор: (оС+сС) 2 и (сС-|-оС)П. Теперь мы видим, насколько расплывчатым является понятие «общности», которым мы пользовались до сих пор: материальная «часть» меньше целого, в то время как его «семической» части присуща большая, чем ему самому, степень общности.
Различие варианты сочетания синекдох и примеры на них можно найти в таблице IX. Очевидно, что в случае Ь) метафора невозможна, поскольку разложения И и Р «однонаправленны»: они просто сосуществуют в (П), но обосновывающего пересечения в этом случае нет. В строке с) мы имеем дело с аналогичным случаем: две семы сосуществуют в промежуточном понятии (П). Но это сосуществование в одном предмете пересечением не является, поскольку пересечение предполагает наличие общей семы в двух разных лексемах (случай а) или наличие общей части в двух разных единствах (случай d). Мы можем привести еще один пример на (случай с):
железо
плоский
Различение двух способов декомпозиций — 2 и П понятийной и референциальной) — позволило нам в конце концов провести границу также и между двумя видами метафоры: понятийной метафорой и референциальной метафорой. Первая строится исключительно на семантической основе, она является результатом применения операции сокращения с добавлением к семам, вторая имеет чисто физическую основу и может быть получена путем применения операции сокращения с добавлением к материальным частям.
Но можно ли считать, что эта референциальная метафора, построенная на основе образов (мысленных образных представлений), а не сем, является семантической фигурой, метасемемой? Пока что мы дадим положительный ответ на этот вопрос, уточнив, однако, что этот вид метафоры можно рассматривать, как языковой вариант изобразительной метафоры, или метафоры, применяемой в живописи, которую следовало бы описывать в рамках общей, охватывающей все виды искусства риторики. Тем не менее большое сходство, объединяющее эти фигуры с метасемемами в строгом смысле слова, позволяет рассматривать их под одной рубрикой.
2.4. СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ МЕТАФОРЫ
Выше мы показали, как метафора приписывает объединению двух множеств сем признаки, которые, строго говоря, присущи только пересечению этих множеств. Именно поэтому метафора, как часто отмечали комментаторы, как бы раздвигает границы текста, создает ощущение его «открытости», делает его более емким. Но возникающее в процессе формирования метафоры сжатие реальной семантики до точек пересечения семических рядов может в свою очередь рассматриваться как выхолащивание, преувеличенное сужение, как неоправданное насилие над текстом. В связи с этим у поэта или писателя может возникнуть желание скорректировать свою метафору чаще всего при помощи синекдохи, действующей в пределах логической разности множеств сем, или же при помощи второй метафоры.
Известный пример такого рода мы находим у Б. Паскаля: L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant ’Человек всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он тростник мыслящий’*.
Рассмотрим логические связки в этом предложении: ограничительное n’est que ’всего лишь’ вводит метафору так, как будто речь идет о синекдохе (через пересечение рядов в точке, соответствующей понятию «слабость»), в то время как противительное mais ’но’ вводит обобщающую синекдоху (которая всегда истинна по определению) так, как будто ее истинность еще предстоит доказать. В этом намеренном смешении истинного и ложного заключается одна из главных черт, характерных для скорректированной метафоры.
Мы находим множество более простых примеров в арго или в юмористическом стиле речи, которому совершенно напрасно часто присваивают то же название. Так, например, собаку таксу можно назвать saucisson a pattes ’колбаса с лапками’ (метафора, скорректированная синекдохой). Известны также метафоры Сен-Поля-Ру, которые послужили поводом для памятной речи А. Бретона: mamelle de cristal ’хрустальная грудь’ (вместо carafe ’кувшин’) и т. д. Есть и более поздние примеры, принадлежащие, например, перу Ж. Изоара:
a la pierre charnue
ан fruit qu’englobe
un essaim de mots noirs.
букв, ’мясистому камню, плоду, в окружении роя черных букв’.
Можно скорректировать метафору при помощи метонимии. Этот прием очень частро встречается у М. Метерлинка, который, вероятно, был его первооткрывателем.
Примечательно, что метафорой здесь является название цвета, то есть один из редких случаев моносемической лексемы, которая поэтому воспринимается как синекдоха:
Les jaunes fleches des regrets...
Les cerfs blancs des mensonges...
букв. ’Желтые стрелы сожалений...
Белые олени лжи...’.
Ф. Жакмен тоже пользуется этим приемом: la fleur rampante de la serenite ’цветок успокоения ползучий’, так же, как, впрочем, и Ю. Жюен: a la' pointe du cypres, cette immobile lance букв, ’на острие кипариса, этого застывшего копья’.
Ниже изображен треугольник, две стороны которого мы уже описали выше: это метафора и синекдоха. Третья сторона может быть только оксюмороном.
КИПАРИС
метафора
синекдоха
КОПЬЕ
ЗАСТЫВШЕЕ
оксюморон
Рис. 15
Но «застывшее копье» представлено как эквивалент «кипариса», полученный путем вполне дозволенной трансформации. Таким образом, кипарис, тихое, хорошо всем известное дерево, вдруг получает внутренне противоречивое определение: в нем усматриваются несовместимые друг с другом части. Это дает нам более точное представление о механизме действия скорректированной метафоры: она «взрывает» реальность, вызывает шок, высвечивая противоречивые стороны объекта. Нам остается рассмотреть еще один пример:
La rhetorique est la stylistique des anciens
(P. Guiraud)
’Риторика — это стилистика древних’ (77. Гиро) и ответить на вопрос, почему эта фраза, построенная в точности по той же модели, что и скорректированная метафора, таковой не является. В обоих случаях мы имеем дело со структурой типа дефиниции, которая (в чийгб структурном отношении) строится на основе аналогии (риторика = стилистика) и различительной оппозиции (современники/древние). Эта структура хорошо поддается анализу как в рамках классической модели (близкий род и специфические различия), так и в терминах более современных концепций (например, у Греймаса: значимая оппозиция на одной и той же семантической оси). Разница здесь улавливается с трудом, поскольку она касается, скорее, количественного аспекта, чем качественного, а это лишний раз показывает, насколько тесно связана риторика с обычными мыслительными процессами. Даже метаплазм можно рассматривать с точки зрения его сходства с некоторыми видами фонетических замен, изучаемых в рамках лингвистики... Тем не менее во фразе Гиро можно усмотреть по крайней мере один риторический прием: глагол etre ’быть’ используется там для объединения двух семантически нетождественных единиц. В этом отношении приводившийся выше пример Паскаля представляет собой промежуточный случай — глагол etre ’быть’ сохраняет там черты как «научного», так и специфически литературного использования. Но обе фразы по форме употребления в данном случае в равной степени рациональны (наверное, потому, что так устроен язык), и риторику можно рассматривать как раздражитель рационального (exasperation du rationnel).
В случаях литературного употребления связок сам факт литературности проявляется только через контекст (языковой или неязыковой) и через нечеткость используемых логических элементов. Но эта «ненадежность» текста компенсируется эстетическим эффектом, который как бы заменяет собой угасающую поэтическую функцию.
2.5. МЕТАФОРЫ IN PRAESENTIA И МЕТАФОРЫ IN ABSENTIA
Совершенно очевидно, что этим описанием не исчерпывается вся проблематика, связанная с понятием «метафора», даже с учетом принятых нами в этом исследовании теоретических ограничений. Мы показали, что метафора является результатом применения двойной логической операции, но оставили без ответа ряд других важных вопросов. Например, следует уточнить, может ли присутствовать в тексте исходное для этой фигуры понятие. При рассмотрении синекдохи мы не обсуждали эту проблему,
203
йосйбйьку исходная, обобщаемая или сужаемая этой фигурой семема никогда в сообщении не присутствует. Здесь было бы уместно рассмотреть пример типа:
Et le sei de leurs larmes cristallise encore букв. ’И соль их слез кристаллизуется еще’, где выделенные курсивом слова связаны отношением типа синекдохи. Но совершенно очевидно, что это сообщение никоим образом не вступает в противоречие с принятым языковым кодом, то есть здесь нет отклонения. Это простое определение. Фигура может появиться только при условии снятия одного из этих понятий.
Строго говоря, если придерживаться концепции классической риторики, подлинная метафора всегда предполагает отсутствие исходного понятия в тексте — это метафора in absentia. Понятность текста в данном случае обеспечивается либо за счет высокого уровня избыточности в последовательности, содержащей фигуру, либо за счет значительного семантического пересечения, между нулевой ступенью и «образным» («фигуральным») выражением. Действительно, только при помощи контекста (несмотря на наличие четырех метафор) можно понять, что в следующем примере:
Rossignol de muraille, etincelle emmuree,
Ce bee, ce doux declic prisonnier de la chaux
(R. Brock) букв. ’Соловей в стене, замурованная искра,
Клюв, плененный известью нежный щелчок’
(Р. Брок)
речь идет об электрическом выключателе. Вот почему поэты стали постепенно прибегать к метафоре in praesen-tia, при помощи которой можно проводить гораздо более неожиданные сравнения:
Steres des maisons qui branlent, et les flaques des vitres qui craquent... (M. De guy)
букв. ’Содрогающиеся стеры зданий, растрескавшиеся
лужи оконных стекол...’ (М. Деги).
Если не принимать во внимание отсутствие союза сошше ’как’, можно считать, что ’здесь перед нами простое сравнение. Но возможны и промежуточные варианты, промежуточные «ступени», когда нулевая ступень присутствует в непосредственном окружении метафорического выражения. Такое оригинальное оформление несколько смягчает «математический» характер устанавливаемых при помощи М1етафоры in praesentia соответствий. Вот еще один пример, принадлежащий перу Ф. Жакопетти:
Au matin toujours la fuite de la neige, des nuages, et a peine plus haut un soleil visible a travers ses draps ’А с утра все тот же бег снегов и облаков, и чуть выше — проглядывающее сквозь покрывало [букв. — простыни] солнце’.
Здесь можно установить следующие соответствия: солнце снег + облака (человек).
(спящий) покрывало (природа)
В тексте метафора in praesentia всегда оформляется при помощи грамматических средств, вводящих сравнения, устанавливающих эквивалентность, сходство, тождество или производные от них отношения. Но вообще говоря, самым бесспорным показателем тождества является простая замена, и в этом случае мы имеем дело с метафорой in absentia. Перечисленные выше грамматические средства мы рассмотрим в разделе, посвященном образным сравнениям. При этом мы будем считать, что постепенное, почти незаметное диахроническое развитие привело от простого сравнения к метафоре in praesentia, которая со всей ясностью подчеркивает его парадоксальный характер.
Но с метафорой in praesentia связана и другая проблема. Как показал Фонтанье, тропы затрагивают только одно слово. Рассматривая метасемемы, мы в целом придерживаемся концепции тропов Фонтанье, но метафора in praesentia, на первый взгляд, составляет исключение из этого правила. Мы могли бы рассматривать эту фигуру как фигуру, полученную путем добавления и затрагивающую только одно слово, то есть как синекдоху. Это становится очевидным, если выражению
L’Espagne — une grande baleine echouee sur les plages d’Europe (Ed. Burke)
букв. ’Испания — большой кит, выброшенный на берега Европы’ (Э. Бюрк)
сопоставить следующую нулевую ступень:
L’Espagne, се pays dont la representation cartographique presente une forme renflee et qui est situe aux confins de 1’Europe
’Испания — страна, имеющая на карте выпуклые очертания, расположенная на краю Европы’.
При такой трактовке речь идет лишь о сужающей синекдохе (кит вместо его формы), а это может быть только синекдоха in absentia. Несмотря на безусловно метафорический характер этого примера, мы думаем, что здесь следует предпочесть именно редукцию по типу синекдохи как из методологических соображений, так и с точки зрения общности описания. Такая редукция имеет еще и то преимущество, что она подчеркивает тесную связь между метафорой и синекдохой.
3. СРАВНЕНИЯ
3.1. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СРАВНЕНИЙ
3.1.1. Сравнения типа синекдохи. Рассмотрим несколько употребительных во французском языке образных сравнений *:
Nu Толый’/ver ’червь’ Clair ’ясный’/jour ’день’ Ennuyeux ’скучный’/pluie ’дождь’ Joli ’хорошенький’/ссеиг ’сердечко’ Heureux ’счастливый’/roi ’король’ Muet ’немой’/сагре ’карп’ Frapper ’стучаться’/sourd ’глухой’ Laid ’безобразный’/рои ’вошь’ Beau ’прекрасный’/dieu ’бог’ Sale Трязный’/chiffonnier ’старьевщик’ Sourd Тлухой’/pot ’горшок’ Fort ’сильный’/boeuf ’бык’, Титс ’турок’.
Разумеется, эти стереотипные сравнения, в содержание которых говорящий часто и не вникает, во многом отличаются от «истинных» сравнений. Такие клише чаще всего функционируют как интенсификаторы, они выражают высокую степень качества с оттенком преувеличения, то есть они функционируют как отдельные семантические единицы. Но на метаязыковом уровне мы можем разбить каждое из этих выражений на две части (как в приведенном выше перечне), и тогда становится очевидно, что первое слово соотносится со вторым как результирующее и исходное понятие обобщающей синекдохи, или, точнее, второе слово — главное в этих выражениях — сужает значение первого путем добавления к нему новых сем. Поэтому было бы заманчиво рассматривать выражения такого типа, как метасемемы in praesentia, полученные путем добавления (или как гиперсемемы). Ио в действительности здесь нет семантической фигуры, поскольку нет отклонения от лексического кода. Кстати говоря, именно поэтому в традиционной риторике образные сравнения рассматривались иногда как разновидность фигур мысли (а не как тропы, или смысловые фигуры) или, точнее, как разновидность фигур вымысла (figures d’imagination), то есть ставились в один ряд с этопеей, топографией, прозопопеей и т. д.10. Образное сравнение является всего лишь способом описания объекта, оно «сближает разные предметы для того, чтобы лучше описать один из них», или же «сближает с той же целью два разных явления» (Цв. Тодоров) [1].
3.1.2. Металогические сравнения. Но прежде, чем продолжить наше исследование, следует сразу же исключить из рассмотрения класс сравнений, явным образом не относящихся к области риторики: это сравнения, которые можно было бы назвать «истинными», «настоящими». Напомним в этой связи, что риторические фигуры всегда «ложны». Например, высказывания типа «Он такой же сильный, как его отец» или «Она красива, как ее сестра» могут рассматриваться только как правильно построенные утверждения. Но когда «он» тщедушен, а «она» — уродина, снова возникает фигура: в данном случае это ирония, которая в нашей системе определяется как мета-логизм, то есть как фигура, воздействующая на референт сообщения. Вообще очень многие риторические сравнения являются именно металогизмами, чаще всего гиперболами. Переход от одного типа метабол к другому хорошо прослеживается на канонических примерах: «богатый, как Крез» (в принципе это гипербола, хотя состояние какого-нибудь миллиардера вполне может быть сравнимо с состоянием последнего царя Лидии) и «Он просто Крез», где мы возвращаемся к антономазии, то есть к сужающей синекдохе.
Язык сюрреалистов изобилует примерами другого типа: А. Бретон обратил внимание на один очень интересный случай — сравнение Beau comme... букв. ’Прекрасен, как...’ у Лотреамона [1].
3.1.3. Метафорические сравнения. Но не все образные сравнения являются металогизмами. Сейчас мы покажем, что некоторые из них могут рассматриваться как метасемемы. Приведем следующие выражения:
(1) ses joues sont fraiches comme des roses
’ее ланиты свежи, как розы’
(2) ses joues sont comme des roses
’ее ланиты словно розы’
(3) les roses de ses joues
’розы ее ланит’
(4) sur son visage, deux roses ’и на лице ее две розы’.
Только первое предложение представляет собой мета-логизм: с точки зрения лексического кода все слова и словосочетания в нем «нормальны» и совместимы друг с другом. Но уже во втором предложении мы сталкиваемся с аномалией — отсутствием именной части составного именного сказуемого. Поскольку предельный класс здесь не указан, читатель должен сам произвести описанную выше операцию редукции. Союз comme ’как, словно’ устанавливает нетривиальное отношение эквивалентности между словами. И в следующем примере речь идет не о вполне обычных сестрах [в переводе братьях. — Прим, перев.}
Voie lactee 6 soeur lumineuse
des Wanes ruisseaux de Chanaan (Apollinaire) ’Белорунных ручьев Ханаана
Брат сверкающий — Млечный путь!’* (Аполлинер).
В (3) и (4) мы имеем дело соответственно с метафорой in praesentia и метафорой in absentia.
Из всего вышесказанного следует, что маркеры полной метафоры отличаются от маркеров метафорического сравнения. Метафора in praesentia — это синтагма, которая нетривиальным образом объединяет две семемы, в то время как метафора в строгом смысле слова с таким объединением никак не связана. В предложении «Посадите тигра в мотор вашего автомобиля» слово «тигр» воспринимается как метафора, поскольку с семантической точки зрения оно несовместимо с остальной частью сообщения. Эта несовместимость и вызывает сравнение между наиболее вероятным для данного контекста понятием и понятием, реально присутствующим в сообщении: «Бензин высшего качества = тигр».
3.2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ СВЯЗКИ
Канонические сравнения вводятся при помощи союза comme ’как’. Метафора in absentia есть не что иное, как субституция. Но мы находим у разных авторов множество грамматических структур, занимающих промежуточное положение между этими двумя полюсами. Такие промежуточные структуры обычно смягчают рациональный характер отношений, вводимых союзом comme ’как’, который ставит акцент на частичном характере сходства сравниваемых объектов и тем самым препятствует утверждению полной взаимозаменяемости понятий. Сейчас мы рассмотрим несколько таких промежуточных вариантов.
3.2.1. Союз comme ’как’ и производные выражения. Эти слова и словосочетания устанавливают между сравниваемыми понятиями отношение аналогии, которое есть не что иное, как отношение слабой эквивалентности, объединяющее объекты, характеризуемые малой степенью сходства. Среди связок этой группы мы находим tel ’такой, таковой’, semble ’кажется’ (или simule ’притворяется’ или semblable ’подобный, сходный’), тёте ’тот же’, ainsi que ’так же, как’, pareil а ’подобно’:
Un pin tremble et simule un chiffre sur le ciel
(J. Laude) букв. ’Дрожит сосна, как будто цифры в небе пишет’
(Ж. Лод).
Comme moi la pluie creuse son lit
Elie creuse le meme cceur, la meme pierre (Laporte) букв. ’Дождь, как и я, взрыхляет это ложе,
взрыхляет то же сердце, ту же твердь (Р. Лапорт).
Un peu de terre cuite,
tel qu’un geste d’une main
de jeune fille, ... (R.-M. Rilke)
букв. ’Немного обожженной глины...
подобно взмаху девичьей руки...' (Р.-М. Рильке).
Eternel et muet ainsi que la matiere (Baudelair) букв. ’Вечен и нем, подобно материи’ (Ш. Бодлер').
Et son teint au votre pareil (Ronsard)
букв. ’Ее румянец сходен с вашим’ (Ронсар).
Au loin le bois semble
Un geant qui dort
букв. ’А вдали лес, словно
Спящий гигант’ (Народная песня).
Сюда же относится несколько необычное употребление выражения mieux que ’лучше, чем’, компаратива по определению, которое вводит понятие степени в предложения общего типа:
Mieux qu’un portail s’excluant de sa rouille
Sans me ceder je vous touchais (R. Char)
’И как [букв, лучше, чем] ворот, теряющих ржавчину, но не поддавшихся, вас я коснулся’
(Р. Шар).
3.2.2. Присоединение «парного» понятия. Обычно парное понятие вводится при помощи терминов родства, таких, как soeur "сестра’, cousin ’кузен’ и т. д. Эта связка интересна еще и тем, что она сама является метафорой с нулевой ступенью comme ’как’
Voie lactee 6 soeur lumineuse
Des blancs ruisseaux de Chanaan
Et des corps blancs des amoureuses (Apollinaire) букв. ’Млечный путь, о! ты брат сияющий
белых ханаанских ручьев
и белизны тел возлюбленных’ (Аполлинер).
Можно даже сказать, что в этом примере метафора скорректирована синекдохой (lumineuse ’сияющий’ voie lactee ’Млечный путь’) по схеме, описанной в разделе 2.4. Вот еще один пример, где понятия объединяются «в пару»:
La terre et moi faisons la paire (J. Audiberti) букв. ’Земля и я, всегда мы вместе' (Ж. Одиберти).
3.2.3. Использование связки est ‘есть’ для обозначения эквивалентности. Такое употребление глагола etre ’быть’ отличается от случаев, когда этот глагол вводит определение: в предложении la rose est rouge ’роза (есть) красная’ мы имеем дело с синекдохой in praesentia, а не с метафорой. Но в следующих примерах речь идет именно о метафоре:
La nature est un temple ou de vivants piliers...
(Baudelaire) букв. ’Природа — храм, где живые колонны...’
(Ш. Бодлер).
Si Гате est un oiseau, le corps est 1’oiseleur
(G. Nouveau) букв. 'И если душа — птица, то тело — птицелов’
(Ж. Ну во).
3.2.4. Приложения. Существуют два типа приложений: слабые и сильные. Слабые приложения вводятся при помощи указательных местоимений, которые смягчают выражаемое приложением отношение эквивалентности и сближают его с простым сравнением:
L’ennui... cet aigle aux yeux creves букв. ’Тоска... этот орел безглазый’
Touffes d’ailes de chair et de vouloirs mouvants
c’est une femme... (R. Vivier)
букв. ’Сгусток крыльев, плоти и зыбких желаний —
все это жещина...’ (Р. Вивье).
В сильных приложениях указательное местоимение отсутствует, оба понятия просто следуют друг за другом или соединяются посредством двоеточия, тире:
Bouquet de roses, sa bouche букв. ’Букет роз — ее губы’
Cerise cuve de candeurs
букв. ’Вишня — сосуд непорочности’
Bergere б tour Eiffel
’Пастушка, о башня Эйфеля!’*
(A. Bernier) (Бернье).
запятой или
(E. Signoret) (Э. Синьоре).
(Eluard)
(Элюар). (Apollinaire) (Аполлинер).
Ou brille couleuvre immobile le Lethe (R. Vivier) букв. Где блестит недвижный уж — Лета’ (Р. Вивъе).
Приписывая нескольким словам одну и ту же грамматическую функцию, механизм грамматического приложения уравнивает их с позиционной точки зрения и оформляет их совокупность в виде парадигмы. Определение парадигмы со структурной точки зрения сходно с определением метафоры: можно даже рассматривать метафору как парадигму, «проявляющуюся» в синтагме.
3.2.5. Существительное и глагол. Два сравниваемых понятия могут сосуществовать в одной синтагме. За этими понятиями могут быть закреплены разные функции, например функция подлежащего и функция сказуемого, но в соответствии с принципом изотопии эти понятия должны подходить друг другу, то есть в них должны быть итеративные семы. Эти общие семы составляют их семи-ческое пересечение, а, следовательно, такие синтагмы удобны для построения метафор:
Le cceur me piaffe de genie (J. Laforgue)
букв. ’И сердце мое бьет копытом от таланта’
(ЯС. Лафорг).
Un mot murit dans le silence (R.-M. Rilke)
букв. ’Слово зреет в тишине’ (Р.-М. Рильке).
La porte de 1’hotel sourit terriblement (Apollinaire) букв. ’Дверь гостиницы зловеще улыбается’
(Аполлинер).
Редукция этих метафор ввиду специфики французского глагола обычно предполагает возможность выбора из двух вариантов. Так, для первого примера возможны:
Mon cceur piaffe comme un cheval piaffe
’Мое сердце бьет копытом, как лошадь бьет копытом’
с метафорой cceur ’сердце’=cheval ’лошадь’, и
Mon cceur palpite comme un cheval piaffe
’Мое сердце трепещет, как лошадь бьет копытом’ с метафорой palpiter ’трепетать’ = piaffer ’бить копытом’.
3.2.6. Генитивные конструкции и атрибутивность. В поэзии часто используются генитивные конструкции:
Le troupeau des ponts beie
Ce matin (Apollinaire)
букв. ’Стадо мостов блеет
’Нынче утром’ (Аполлинер).
Le voilier d’un beau jour largue ses voiles blanches...
(R. Vivier) букв. ’Парусник прекрасного дня отдает белые паруса...
(Р. Вивъе).
Aux moroses caillots de 1’atre incarnadin (R. Vivier) букв. ’Угрюмые сгустки бледно-алого очага’ (Р. Вивъе).
Генитивная конструкция (например, le toil de la maison ’крыша дома’), как на то указывает само ее название, позволяет перейти от вида к роду, от части к целому. Это синекдоха in praesentia; она противопоставлена атрибутивной конструкции, которая вводит определения (например, 1’homme a 1’oreille cassee ’человек с разбитым ухом’):
Sur le pont la rose a tete de chatte se bergait
(A. Breton) ’На мосту качалась роза, словно кошка [букв, роза с кошачьей головой]’ (А. Бретон).
Le revolver a cheveux blancs (Т. Tzara)
букв. ’Револьвер с седыми волосами’ (Т. Тзара),
Les enfants s’engouffrent sous le portail, en pietinant avec un bruit d’averse (Daudet)
букв. ’Дети устремляются к воротам,
пробегая с шумом громовым’ (А. Доде).
Самый экономичный тип редукции для этих конструкций, как нам кажется, может быть получен, если рассматривать эти выражения как метафоры in absentia, где генитив и атрибут нужны лишь для того, чтобы облегчить (через избыточность) восстановление нулевой ступени. Flammes de l atre ’пламя очага’ можно рассматривать как нулевую ступень выражения caillots de 1’atre ’сгустки очага’, a caillots ’сгустки’ — как простую метафору от flammes ’пламя’. И наоборот, по отношению к нулевой ступени rose a irisation ’роза, отливающая всеми цветами радуги’ именно атрибут a tete chatte ’с кошачьей головой’ будет метафорой от irisation ’отливающая всеми цветами радуги’.
Конструкции «определение + определяемое слово», так же как и конструкции «подлежащее + сказуемое»,
Предполагаю* наличие семического пересечения (клас-сем). Но в тех случаях, когда такое пересечение отсутствует, метафора может быть получена за счет сопоставления данного выражения со стереотипными синтагмами через семантическую аттракцию. Примером здесь может служить прекрасное название сборника А. Кап-тийона: «Соенг a musique» ’Музыкальное сердце’. Оно тут же вызывает ассоциацию с boite a musique ’музыкальная шкатулка’, что позволяет нам построить метафорическую параллель между сердцем и шкатулкой, а затем между музыкой и выражением нежных чувств, которые и являются сюжетом данной книги. В этом случае невозможно сказать, что, собственно, является нулевой ступенью: boite a musique ’музыкальная шкатулка’ или 1е ссеиг атоигеих ’влюбленное сердце’: эти две метафоры смыкаются.
4. МЕТОНИМИЯ
4.1. СМЕЖНОСТЬ
Как уже говорили выше, метонимия — фигура в известной теории Р. Якобсона, резко противопоставленная метафоре, — в нашей системе относится к тому же классу, что и метафора. Все, что говорилось выше о синекдохе (притом, что многие случаи «метонимии», по Р. Якобсону, мы рассматриваем как синекдохи), уже, по-видимому, указывает на правомерность такого частичного уподобления. Известно также, что в классической риторике не было ни одного удовлетворительного определения метонимии и в большинстве трактатов ее описание сводилось к простому перечислению ее видов. При этом обычно говорилось, что «при метонимии следствие заменяется причиной, содержимое — емкостью и т. д.». Доме-рон даже взял на себя смелость утверждать, что между прямым и переносным значением устанавливается «отношение соотношения» (un rapport de relation). У представителей современной семантики, например, в упомянутой выше теории Ульмана, метонимия определяется как «перенос названия (имени), основывающийся на смежности значений», причем эта смежность может быть «пространственной, временной и причинно-следственной». С этой точки зрения нет особой разницы между метонимией и синекдохой: в том и в другом случае «вещь получает название другой, связанной с ней вещи» (Guiraud 1955). Действительно, теория метонимии в принципе должна строиться на основе понятия реальной смежности, но очевидно, что проблема здесь поставлена неправильно, ибо ссылка на «вещь» здесь неправомерна.
Дю Марсе, один из редких представителей классической риторики, который все-таки задавался вопросом о том, какова разница между метонимией и синекдохой, отметил, что в первой фигуре «имеется в виду такая связь между предметами, при которой предполагается, что предмет, имя которого используется, существует независимо от предмета, на который это имя указывает, и оба они не составляют единого целого, в то время как при синекдохе предполагается, что оба предмета составляют некоторое единство и соотносятся как часть с целым (Du Marsais 1830, с. 87). Как бы ни было расплывчато это определение, оно отражает, как нам кажется, специфический характер метонимии.
В действительности же Дю Марсе утверждает, что при метонимии заменяемое и заменяющее понятия не имеют общей семантической части. Иначе говоря, если в основу метафоры положено семическое пересечение двух классов, то метонимия действует в области непересекаю-щихся классов. Если мы вернемся к логической схеме, предложенной для определения метафоры, мы увидим, что при метонимии переход от исходного понятия (И) к результирующему понятию (Р) осуществляется через промежуточное понятие (П), которое является объемлющим для И и Р, причем И и Р могут объединяться либо по типу S, либо по типу П, то есть П является не-дистрибутивным классом для И и Р. Итак, речь идет о тех двух случаях, которые для метафоры были исключены из рассмотрения, а именно оСП и cCS.
В качестве примера рассмотрим фразу Prenez votre Cesar ’Возьмите вашего Цезаря’, обращенную учителем к своим ученикам во время урока, посвященного изучению «De Bello Gallico». Промежуточным понятием здесь будет пространственно-временное единство, включающее жизнь прославленного консула, его любовные похождения, его литературное творчество, его участие в войнах, его город, всю его эпоху. И в этом единстве, построенном по типу П, Цезарь и его книга будут связаны отношением смежности.
Таблица X
4.2. КОННОТАЦИЯ
Глядя на таблицу X, можно удостовериться в том, что метафора и метонимия взаимно дополняют друг друга: в метафоре промежуточное понятие является частью исходного и результирующего, в то время как при метонимии оно их объемлет. Здесь было бы уместно связать метафору и метонимию с понятиями денотации и коннотации, которые используются только в семантике, но имеют аналоги и в плане референции.
Метафора строится на основе денотативных, ядерных сем, входящих в толкование слова. При метонимии используются коннотативные семы, то есть семы смежные, принадлежащие к более обширному целому и входящие в определение этого целого.
Если придерживаться концепции И. Икегами (I к е-gami 1967, с. 49 — 67), которая очень близка к нашей, то можно считать, что существуют два источника коннотации: сопоставление одного слова с другими (здесь имеется в виду как сопоставление означающих, так и сопоставление означаемых) и сопоставление референта слова с другими сущностями реального мира (следовательно, сущностями экстралингвистическими). Языковые коннотации возникают на основе сопоставления данного слова с единицами:
а) фонологическая структура которых частично совпадает с фонологической структурой данного слова;
Ь) которые могут быть подставлены вместо данного слова в заданном контексте;
ft) с которыми Может сочетаться Дайиое слово1,
d) в которые данное слово входит в качестве составной части;
е) семантическая структура которых частично совпадает с семантической структурой данного слова;
f) чья графическая структура частично совпадает с графической структурой данного слова.
Эти ряды сопоставлений виртуальны и могут не совпадать при переходе от одного говорящего к другому.
Поскольку любой контекст в первую очередь налагает запрет на часть форм и значений входящей в него лексемы, можно считать, что первичная сеть сопоставлений относится к формам и значениям данного слова, которые несовместимы с данным конкретным контекстом. Вторичная сеть может быть получена путем применения правил а — f к данному слову, третичная сеть — путем применения тех же правил к результату их первого применения и т. д.
В нашей модели не все сопоставительные процедуры, описанные И. Икегами, относятся к коннотативным процедурам. Правила d, е и f лежат в основе применения операции сокращения с добавлением (правило е, в частности, является основой для метафоры). В отличие от них правила end вполне соответствуют тому, что мы называем коннотацией, и, как явствует из всего вышеизложенного, именно они применимы к нашей концепции метонимии.
Принято различать несколько основных «видов» метонимии: емкость/содержимое, изготовитель/изделие, сырье/ готовое изделие, причина/следствие и т. д. Эти виды соответствуют наиболее представительным типам коннотации между словами. И поскольку не все случаи семантической несовместимости слова и его контекста в рассмотренном выше смысле сводимы к синекдохе и метафоре, получатель сообщения иногда вынужден использовать тот или иной тип коннотации для того, чтобы осуществить редукцию такого рода несовместимостей.
Все сказанное выше можно сформулировать в виде гипотезы (которая должна быть проверена самым тщательным образом при помощи эксперимента), заключающейся в том, что при редукции метасемем читатель прежде всего прибегает к аналитическим процедурам. Он сразу же стремится выяснить, является ли данная фигура синекдохой, метафорой или аптифразисом. И только если рассмотрение семических данных, сведений о ядре и Коде — данных объективных — ничего не дало, он обращается к коннотативным процедурам, которые позволят ему опознать метонимию.
Основные типы коннотации быстро стали для нас привычными, и в обыденной речи мы сталкиваемся с различными классами более или менее устойчивых метонимических образований, таких, например, как класс «знаков» для той или иной группы лиц: le froc ’монашеская ряса’, 1а сонгоппе ’корона’, le sceptre ’жезл’, la houletto ’посох’, Гёрёе ’шпага’, la robe ’сутана’, le voile ’вуаль’ ... И может быть, именно эта «естественная предрасположенность» метонимии к клишированности сделала ее столь непопулярной в современной литературе, поскольку там она встречается гораздо реже, чем в обыденной речи: клишированное отклонение уже не отклонение. Однако мы можем привести пример чистой, «неклиширо-ванной», метонимии, заимствованный из спортивного лексикона:
Les Ford ont leve le pied букв. ’Форды отпустили газ [= замедлили ход, остановились] (Репортаж с автомобильной гонки). Los Ford ’Форды’: инструмент — агент. Lever le pied ’отпустили газ’ : причина — следствие.
Вот еще один пример, заимствованный у В. Гюго (мы еще вернемся к нему ниже в связи с описанием имеющихся в этом примере антитез):
...et tu rendras a ma tombe
Ce que j’ai fait pour ton berceau. букв, ’...и ты воздашь моей могиле
то, что я сделал для твоей колыбели’.
Если метафора может строиться на минимальном семи-ческом пересечении, метонимия может охватывать сколь угодно большое «объемлющее» множество. Таким образом, в предельном случае эти фигуры совпадают, хотя это не обосновано ни внутренними, ни внешними причинами. Такая возможность (чтобы не сказать, опасность) широко используется в рекламе, где необходимое объемлющее множество как бы создается при помощи текста, но в результате мы часто сталкиваемся с некорректными с логической точки зрения утверждениями. Допустим, что на рекламе изображена мощная спортивная машина, которая через метонимию олицетворяет человека действия. Рекламная надпись гласит:
СПРИНТ, сигарета человека действия
Если связь «СПРИНТ — мощный автомобиль — человек действия» для нас очевидна, то связь между СПРИНТом и сигаретой абсолютно произвольна... В этой рекламной надписи не используются уже имеющиеся типы метонимических отношений: текст рекламы сам устанавливает совершенно новые связи между объектами.
5. ОКСЮМОРОН
Преимуществом нашей классификации метабол является то, что оксюморон и антифразис относятся в ней к одному классу, в то время как обычно (например, у Морье) оксюморон принято рассматривать как вид антитезы. Л. Селлье (Cellier 1965, с. 3 — 14) очень точно определил разницу между этими фигурами с точки зрения их этоса: трагически открытое противоречие антитезы противопоставляется естественному, обтекаемому противоречию оксюморона. Так что процедура анализа этих фигур будет различной, и в ходе анализа мы постараемся уточнить, каково различие между оксюмороном, парадоксом и антифразисом.
Оксюморон предполагает тесное соседство в синтагме двух слов с противоречащими значениями (чаще всего существительного и прилагательного): «темный свет», «горячий снег» и т. д. Речь здесь идет об абсолютном противоречии, поскольку оксюморон формируется на базе абстрактной лексики, для которой характерна антонимическая упорядоченность единиц: «безобразная красота», «черное солнце». Итак, оксюморон — это фигура, состоящая из двух слов, одно из которых содержит в семиче-ском ядре сему, являющуюся отрицанием классемы другого слова. Например, понятие «свет» включает классему «светлый», которая отрицается в прилагательном «темный».
Но прежде всего нам надо установить, является ли оксюморон фигурой, то есть имеется ли у оксюморона нулевая ступень. Л. Селлье очень убедительно показал, что оксюморон представляет собой coincidentia opposi-torum, «где отрицается антитеза, а противоречие полностью оправдано». Таким образом, оксюморон, по его мнению, не сводим к какой бы то ни было нулевой ступени. Но рассмотрение конкретных случаев показывает, что число подобного рода нередуцируемых оксюморонов очень невелико.
0 fangeuse grandeur! Sublime ignominie!
(Baudelaire) букв. ’О! Мерзкое величие! Возвышенная низость!’
(Ш. Бодлер).
«Великое и возвышенное» на одной шкале ценностей может оказаться «мерзким» и «низким» — на другой. Что касается фразы
Cette obscure clarte qui tombe des etoiles
(Corneille) букв. ’Темный свет, исходящий от звезд’ (Корнель). то источниками «темноты» и «света» здесь являются разные объекты, две соседние зоны на небе... если вообще не рассматривать здесь «темноту» как гиперболу от «бледный».
Таким образом, в самом общем случае у оксюморона имеется нулевая ступень, так же как, впрочем, и у парадокса. Но данное правило нельзя возводить в абсолют — и этот момент для нас очень важен, — поскольку без подобной оговорки получается, что мы устанавливаем запрет на все противоречивые с семантической точки зрения предложения. Но ни один здравомыслящий лингвист не решился бы сделать этого на современном этапе развития лингвистики.
Редукция оксюморона в соответствии с нашим общим принципом должна строиться для фигуры in absentia. Нулевой ступенью выражения obscure clarte ’темный свет’ будет lumineuse clarte ’светящийся свет’, а переход от lumineuse ’светящийся’ к obscur ’темный’ осуществляется через отрицательное сокращение с добавлением. Разумеется, выражение lumineuse clarte ’светящийся свет’ уже является фигурой, или эпитетом, в терминологии Ж. Коена.
Между оксюмороном и антифразисом существует очень заметное сходство, так же как, впрочем, и между оксюмороном и парадоксом. Но параллель, проводимая некоторыми авторами между оксюмороном и антитезой, не имеет под собой никакой основы, поскольку антитеза представляет собой металогизм с повтором (А не есть не-А)... Оксюморон же нарушает правила лексического кода и de facto относится к категории метасемем. Это верно и для приведенного ниже примера, который у Морье рассматривается как антифразис, но на самом деле является оксюмороном:
Eh bien Madame, puisqu’il faut dire les gros mots, que ferez-vous avec votre esprit et vos graces, si votre Altesse n’a pas une demi-douzaine de gens de merite pour sentir le votre? (Voltaire)
’Но мадам, раз уж приходится идти на грубость, скажите мне, что будет с вашим умом, с вашим очарованием [букв, прелестями], если в окружении Вашего Высочества не найдется и полдюжины достойных людей, способных оценить вас по достоинству?
(Вольтер).
Слова esprit ’ум’ и graces ’прелести’ никак не могут рассматриваться как грубости, и, для того чтобы убедиться в этом, не надо обращаться к референту или к контексту: достаточно посмотреть в словарь. Но последний пример интересен еще и тем, что, обращенная к простушке, эта фраза превращается в антифразис. В противном случае здесь есть только оксюморон.
6. НАЛОЖЕНИЕ - АНТИМЕТАБОЛА -- АНТАНАКЛАЗА
В данном разделе мы рассмотрим три менее значительные фигуры, анализ которых, однако, связан с целым рядом специфических трудностей. Уже П. Фонтанье четко отдавал себе в этом отчет, поскольку у него перечисленные выше фигуры относятся к категории силлепсиса, или смешанных тропов. Но, как справедливо отмечает Ж. Женетт в своем введении, «смешанный» характер этих фигур так и не получил достаточно четкого определения (см. Genette 1968b). По Фонтанье, силлепсис сводится (первичная фигура) к употреблению слова одновременно в прямом и в переносном — «фигуральном» значении (вторичная фигура). Вторичная фигура обычно представляет собой метафору, синекдоху или метонимию, и анализ Фонтанье с этой точки зрения совершенно корректен.
Но реальная трудность заключается в том, что второе употребление не обязательно является фигурой и что существуют несмешанные виды силлепсиса, как, впрочем, и нескорректированные метафоры. Мы часто сталкиваемся этим, когда речь идет об антанаклазе, которую Фонганье рассматривал как «пустую игру слов» (jeu de mots pueril), то есть как каламбур.
Мы знаем, насколько трудно определить, являются ли два омофона одним словом или разными словами. Обычно в этих случаях приводятся аргументы из области диахронии, но подобные аргументы никак не могут быть использованы, когда речь идет о риторическом использовании языка, которое синхронно по своей сути (отклонение должно быть ощутимо в момент произнесения предложения). Таким образом, риторика сталкивается de facto с явлением иногда очень обширной словарной полисемии. И когда речь идет об использовании этой полисемии в риторических целях, нет никакой необходимости различать главные, или прямые, значения, вторичные, или переносные (уже ассимилированные кодом), значения и совершенно новые, третичные, значения. Достаточно воспользоваться правилом изотопии, сформулированным Грейма-сом, которое регулирует «нормальное» использование языка, то есть лежит в основе определения нулевой ступени. Наложение (attelage), антиметабола (antimetabole), анта-наклаза (antanaclase) строятся на основе сознательно используемой полисемии.
Самой простой фигурой этой группы является антиметабола:
Rome etait notre camp et notre camp dans Rome
(Corneill). букв. ’Рим был нашим лагерем и нашим лагерем в Риме’ (Корнель).
Слово camp ’лагерь’ (или слово Rome ’Рим’), появляются здесь в двух разных значениях в разных (симметрично оформленных) синтагмах, но при этом не возникает ощущения их несовместимости. Несовместимость, или парадокс, положен в основу антанаклазы:
Le cceur a ses raisons que la raison ne connait pas (Pascal) букв. ’У сердца есть свои доводы, неведомые рассудку’ (Паскаль).
R этих двух очень похожих фигурах одно многозначное слово встречается дважды, и только близость этих вхождений приводит к образованию метасемемы. Но при наложении мы имеем дело с двумя значениями слова, выраженными в одном его вхождении:
Parlent encore de vous en remuant la cendre
De leur foyer et de leur cceur! (Hugo)
букв. ’И вспоминают вас, перебирая пепел
Своего очага и сердца своего!’ (В. Гюго).
или
...ma culotte sent le camphre et le dodu (Cheader)
букв, ’...мои штаны пропахли [sent] камфорой и ощу-
щают [sent] мою полноту’ (Ж. Шеаде).
Слова cendre ’пепел’ и sent ’пропах’ (’ощущает’) здесь имеют одновременно по два означаемых. Выражение cendre... de leur cceur букв, ’пепел... сердца своего’ уже является фигурой (в данном случае метафорой), но специфика наложения заключается в том, что мы вынуждены в то же время принимать во внимание и другое значение этого слова — его прямое значение в cendre de lent foyer букв, ’пепел своего очага’.
Но можно считать, что генитив de leur foyer ’своего очага’ нужен здесь только для того, чтобы усилить исходное буквальное значение, что этот генитив к фигуре не относится и что в любой метафоре имеются в виду одновременно первичное и вторичное значения. Тогда силлепсис можно рассматривать — и Фонтанье предвидел это — как вариант метафоры, синекдохи и метонимии.
Но такое рассуждение неприменимо к антанаклазе и антиметаболе, где каждое из двух значений сводится к своей нулевой ступени, притом что две полученные таким образом нулевые ступени отличаются друг от друга, но в одинаковой степени допустимы. Взаимоисключающим значениям слова в словарях приписываются разные индексы: в двух названных фигурах нарушаются правила лексического кода, поскольку эти фигуры постулируют существование некоей отсутствующей в словаре «архилексемы», которая объединяет в себе семы, принадлежащие к двум разным, иногда даже противопоставленным значениям слова. В последнем случае (см. пример Паскаля) фигура сближается с оксюмороном.
Рассматриваемые метасемемы являются результатом действия операции добавления, а не сокращения с добавлением, как в случае метафоры, хотя в формировании последней также участвуют два разных значения одного слова. Но при метафоре одно из значений в сообщении в явном виде не присутствует, и мы сами воссоздаем его в своем сознании. Когда же речь идет о наложении, каламбуре, антиметаболе и антанаклазе, то оба значения присутствуют в сообщении в йодном объеме и одновременно, они даже специально разносятся по разным синтагмам. И тогда семы, входящие в эти значения, складываются и образуют «архилексему», которая порождается особым, специально подобранным для фигуры контекстом. Термин «архилексия» (archilexie) можно использовать для обозначения сразу трех фигур: наложения, антиметаболы и антанаклазы.
V.
МЕТАЛОГИЗМЫ
0. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Как бы ни определялось понятие «реальность», даже если при этом оспаривается существование самого свойства «быть реальным», человеку науки эта категория представляется «раем запретной любви»; его нужно непрестанно обретать или открывать заново, чтобы воссоздать его верный образ средствами языка, высшим качеством которого признается объективность. Литератор, как и человек с улицы, с большим трудом вырабатывает в себе почтительное отношение к этой священной объективности; он то считает ее надувательством, то тяготится ее путами, из которых только и мечтает вырваться; играя словами или вещами, он то отрицает ее, то совершает над ней насилие.
Метасемемы приходят на помощь, когда необходимо сделать переход от одного значения к другому. Они «извращают» смысл слов и заставляют нас поверить, что человек — это не человек, а лев, краб или червяк. Кот оказывается вовсе не кот, а император, сфинкс или даже женщина. В этом случае поэт, будь то поэт по профессии или по наитию, заставляет нас поверить в то, во что он верит сам, увидеть то, что видит сам, а «фигуры» риторики использует только для того, чтобы «деформировать» (defigurer) знаки языка.
Но вместо того, чтобы «извращать» смысл слов, издеваться над языком, писатель — любитель или профессионал — может обратиться к объективной реальности «как таковой», чтобы затем совершенно открыто отойти от нее и извлечь из этого нужный ему эффект.
0.1. МЕТАСЕМЕМЫ И МЕТАЛОГИЗМЫ
Вероятно, нет ничего менее «фигурального», чем выражение «кот — это кот». Его можно считать девизом здравомыслящего человека. Но поскольку здравый смысл и обычное, правильное употребление языка идут рука об руку, легко можно показать, как поэт (в душе или по профессии) благодаря метаболам может нарушить законы и того и другого. Возьмем, например, «красивого кота, сильного, кроткого и обаятельного», который прогуливается в голове Бодлера. Мы сразу же убедимся, что кот господина Здравого Смысла не признал бы в нем своего сородича.
Dans ma cervelle se ргошёпе, Ainsi qu’en son appartement, Un beau chat, fort, doux et charman I.
C’est 1’esprit familier du lieu;
П juge, il preside, il inspire
Toutes choses dans son empire;
Peut-etre est-il fee, est-il dieu?
букв. ’В моем мозгу прогуливается, Словно в собственной квартире, Красивый кот, сильный, кроткий и обаятельный.
Это дух домашнего очага;
Он судит, правит, воодушевляет
Все, что подвластно ему;
Может быть, он фея или божество?’*
Конечно, в определенных социальных и культурных контекстах обожествление кошки — вовсе не метафора. Ведь и корова, которая для нас всего лишь производитель молока, для индусов — священное животное. То же самое можно сказать о любом животном, которое фигурирует в священном бестиарии. Но как бы там ни было, для Запада XIX в. с его здравым смыслом, падким на всякую литературность, выражение Бодлера «Peut-etre est-il fee, est-il dieu?», несомненно, представляло бы метафору, если бы не его вопросительная форма. Метафора станет, однако, явной, если мы скажем: «Le chat est un dieu ’Кот — это божество’» (A).
Теперь возьмем выражение, сходное с (А), за тем исключением, что оно содержит демонстратив; здравомыслящие логики называют подобные слова «эгоцентрическими» (Russell 1959, с. 125 — 134). Во фразе «Се chat, c’est un tigre ’Этот кот — тигр’» (В) объединены метафора и гипербола, слиты в одном выражении метасемема и металогизм. Присутствие метафоры здесь несомненно, поскольку перед нами «перенос наименований по аналогии» (Benveniste 1966, с. 28) *, результатом которого является изменение смысла слова. Однако употребление демонстратива говорит о наличии остенсивной ситуации, что выводит нас за пределы языка. В этом случае, если анализ референта показывает, что данное существо есть именно кот (для всех, но не для того, кто хочет подчеркнуть его выдающиеся качества), наличие металогизма становится очевидным. Металогизм еще более очевиден, если только он возможен, в парадоксальном высказывании «Ceci n’est pas un chat ’Это не кот’» (С) при условии, что для квалификации этого высказывания как парадоксального необходимо, во-первых, произвести анализ референта, во-вторых, обнаружить, что рассматриваемое существо действительно является котом в обычном смысле этого слова.
Эти три примера должны помочь нам лучше понять, чем отличается метасемема от металогизма, даже если, как показывает пример (В), они могут быть объединены в одном и том же высказывании.
(А). «Красивый кот» Бодлера был «феей» или «божеством» только для него. После Бодлера не стало общепринятым мнение, что кот действительно есть божество или фея. Но если бы личный опыт Бодлера приобрел всеобщую значимость, если бы он не был ограничен конкретной ситуацией, изменилось бы само понятие «кот»; тогда можно было бы утверждать, что метафорическое выражение стало настолько общепринятым (как это могло бы произойти в контексте иной культуры), что превратилось в обычное высказывание о некотором факте (proposition de fait). В (А) метафора играет именно ту роль, которую ей приписывают лингвисты. Она является тем «мощным фактором обогащения понятий», о котором говорит Э. Бенвенист (Benveniste 1966, с. 28) *, поскольку приводит к перераспределению означающих и означаемых, и, если бы она вошла в узус, это означало бы, что в языке завершилось еще одно семантическое изменение.
(В) и (С). Иначе обстоит дело с металогизмами независимо от того, выступают ли они в «чистом» виде или объединены с метасемемами. Они могут повлиять на наше восприятие вещей, но не приводят к изменению в лексической системе языка. Металогизмы формируются в системе данного языка, но саму эту систему не затрагивают. Как только появляется металогизм, возникает необходимость воспринимать слова в том смысле, который иногда называют «прямым». Несмотря на парадоксальность высказывания (С), кот остается котом, а трубка трубкой, что бы о ней ни говорил Магритт [1]. Если грозное море назовут добродушным, наше понятие о добродушии от этого не изменится. И если для Т. Готье le ciel est noir, la terre est blanche ’небо черно, а земля бела’', то эта антитеза, состоящая из двух гипербол, ничего не меняет в нашем восприятии цвета.
Иными словами, только при условии знания свойств референта допустимо восприятие металогизма как противоречащего возможному правдивому описанию этого референта. При наличии метасемем металогизм может случайно привести к изменению смысла слова, но в принципе его сущность заключается в противоречии с непосредственными данными восприятия или осмысления действительности. Поэтому представляется необходимым, чтобы металогизм в отличие от метасемемы включал бы в себя по меньшей мере эгоцентрическое слово, а это означает признание факта, что существуют только металогизмы, соотнесенные с конкретной ситуацией. Если взять выражение (В), которое по нашему определению имеет смешанный характер, то из содержащейся в нем метафоры можно было бы вывести общее суждение, но его нельзя вывести из гиперболы, поскольку последняя существует только в соотнесении с тем фактическим состоянием дел, от которого она отталкивается.
0.2. ТРАДИЦИОННАЯ РИТОРИКА И ОБЩАЯ РИТОРИКА
Если сравнить нашу терминологию с терминологией традиционной риторики, можно сказать, что метасемема — это троп, как его понимал П. Фонтанье (Fonta-nier 1968) [1]. Но металогизм не эквивалентен тому, что он называл «фигурой», если признаком последней является замена одного выражения другим, поскольку в таком случае любая метабола является «фигурой»2. Независимо от формы необходимым признаком металогизма является его соотнесенность с экстралингвистической реальностью. Ж. Женетт предложил определить фигуру как «расхождение между знаком и смыслом, как внутреннее пространство языка» (Genette 1966, с. 209). Но если попробовать уяснить себе, в чем же заключается это «пространство», по-видимому метафорического характера, то окажется, что для определения металогизма оно ничего не дает. Придерживаясь терминологии Ж. Женетта, для определения металогизма следовало бы ввести также понятие «внешнего пространства» между знаком и референтом. Определение Ж. Женетта слишком узкое, поскольку оно соотносит риторическую «деформацию» только с языковым узусом. Однако анализ речевых актов в их контексте показывает, что возможно, например, сделать высказывание парадоксальным, не производя никакого отклонения по отношению к языковому коду. Наличие «двух термов для сравнения, двух слов для соединения, пространства, в котором могло бы осуществляться движение мысли», здесь вовсе не обязательно, как не обязательно, чтобы «читатель мог сделать имплицитный перевод одного выражения с помощью другого» (Genette 1966, с. 213). Изменение смысла и субституция, которые являются критериями определения тропа и «фигуры» соответственно, не определяют сущности металогизма. Знаменитый парадокс Магритта (Ceci n’est pas une pipe ’Это не трубка’), каким бы удивительным он ни был, не требует никакого перевода, и если в нем присутствует сравнение двух термов, то один из них представляет собой фактическое состояние дел, а не языковую единицу.
Могут возразить, что мысль не существует без языка и что, следовательно, высказывание Магритта парадоксально по той причине, что оно противоречит правдивому описанию факта: Ceci est une pipe ’Это трубка’. Но ясно, что именно факт диктует подобное высказывание, и оно ни в коем случае не передает буквальный смысл «фигуры», если вслед за традиционной риторикой подразумевать под буквальным смыслом то, что хотел сказать автор. Таким образом, данное высказывание представляет собой лишь то, что сказал бы художник, если бы описывал реальность, а не подвергал ее сомнению.
Если анализ одних только языковых знаков недостаточен для обнаружения металогизма, то традиционные понятия буквального смысла, узуса и отклонения недостаточны для его объяснения. Теория риторики, претендующая на всеобщность и стремящаяся преодолеть эпистемологические препятствия, которые мешали развитию традиционной риторики, должна всерьез заняться анализом металогизмов. Незачем говорить о той пользе, которую бы принес риторике отказ от обязательных поисков вечно ускользающего буквального смысла. Конечно, последователям Кроче легко иронизировать по поводу «первичного» или «прямого» смысла, поскольку узус, который обусловливает этот смысл и от которого метабола предположительно «отступает», сам состоит из бесчисленных отклонений (С го се 1950, с. 75 и сл.). Однако уже анализ метасемем представляет возможность избежать упреков тех, кто отказывается допустить переводи-мость метаболы, будь то последователи Кроче или сюрреалисты. Известно, что только в самых банальных метасемемах легко обнаружить их буквальный смысл. Лишь в исключительных случаях метасемема может отсылать к какому-либо одному прямому смыслу. Часто она дает возможность разглядеть сквозь «переносный» смысл ряд близких друг к другу смыслов, которые являются более приемлемыми для узуса. Читая: Се toit tranquille, ou marchent des colomhes... букв. ’Эта спокойная крыша, по которой расхаживают голуби...’, мы вовсе не должны, согласно принципам традиционной риторики, прийти к единственному допущению, что П. Валери хотел сказать тег ’море’; мы делаем предположение, что он мог бы сказать тег ’море’, ocean ’океан’ или что-либо иное. Но если, следуя сюрреалистической традиции, мы воспримем метафору «буквально» (Nouge 1956, с. 253), то неправильно поймем намерение П. Валери. Ведь крыша, которую он нам описывает, — это такая крыша, которая ’колышется’ (palpite). Нельзя отрицать, не искажая смысла стихов, что он говорит о море, но это такое море, которое, по его же словам, ’вздымается’ (est debout) перед наблюдателем.
Б. Кроче, А. Бретон и их последователи, несомненно, не восставали бы с такой яростью против императивов риторики, если бы она не была столь категоричной. Когда риторику смешивали с искусством хорошо говорить и писать, запреты и предписания входили в ее обязанности. Но возможна риторика, которая не дает никаких советов говорящему или пишущему; ее цель — отыскание в дискурсе, который психоаналитики назвали бы явным (manifesto), «латентных» смыслов метаболы, проявляющихся уже в том, что метабола их отвергает.
Перестав быть нормативной дисциплиной, риторика может заняться не анализом отклонения метаболы от выражения, имеющего «прямой» смысл, а анализом ряда возможных отклонений от выражений, более приемлемых для языкового узуса.
Эта поправка, внесенная в теорию отклонения3, недостаточна для анализа металогизмов. Риторика не должна больше задавать в отношении писателя или столь любезного Дю Марсе рыночного оратора [1] извечный вопрос: «А что он хотел этим сказать?» Но она не может также ограничиться вопросом: «Что бы он сказал, если бы придерживался норм родного языка?» Ведь нарушение норм узуса, будучи достаточным условием метаболы, не является необходимым ее условием.
3 Наша поправка, может быть, избавит катахрезу от той судьбы, которую ей уготовили П. Фонтанье и Ж. Женетт (см. F о n t а-nier 1968, с. 213 и сл.; Genette 1966, с. 211 и сл.), поскольку мы подчеркиваем, что буквальный смысл всегда является лишь возможным смыслом. Справедливо утверждение этих авторов, что катахреза — троп «вынужденный» (force). Тем не менее ее структура та же, что и у метафоры. Нулевую ступень катахрезы можно выразить только посредством перифразы, но разве то же самое не верно в отношении многих метафор?
Если словом as *ас* называют любого, Кто отличился в какой-либо области, смысл метафоры совершенно прозрачен, поскольку она уже укоренилась в языке. Пока метафора была еще «свежей», только глупец мог спутать выдающегося человека с игральной картой («прямое» значение слова as — ’туз’. — Прим, перев.] — настолько буквальный смысл просвечивал в метафоре, причем понятие превосходства являлось промежуточным термом между узуальными выражениями и метафоричным. Но сегодня, даже если асом назовут полнейшего кретина, обращение к узусу никоим образом не даст возможности выявить антифразис. В метасемеме может содержаться указание на то, в каких других терминах она выразима, что дает возможность сделать ее перевод посредством перифразы, если среди освященных узусом языковых средств не находится (как это почти всегда случается) подходящего эквивалента. Наоборот, можно сколько угодно рыться в словарях, но так и не найти даже приблизительного эквивалента металогизма по той причине, что он принципиально зависит от конкретных обстоятельств. Металогизм — не игра слов, поскольку, даже если истолковать его в «прямом» смысле, этот смысл явится всего лишь промежуточным термом между металогизмом и соответствующей ситуацией.
Применяя бритву Оккама [1] к традиционной риторике, Ж. Женетт верно подметил характерную для нее «страсть к номенклатуре» (Genette 1966, с. 214). В самом деле, Лами, Дю Марсе, Фонтанье и другие, уподобившись Линнею, большую часть своих усилий направили на классификацию бесчисленных риторических «видов», причем они так и не смогли привести в соответствие свои таксономии, поскольку всегда возможно открыть или изобрести новые «виды». Справедливость этих слов доказывается тем, что и мы в свою очередь предлагаем несколько новых терминов для риторического анализа. Но паша цель отлична от целей традиционной риторики. Дело не в нахождении отсутствующего звена, а в определении фундаментальных операций, частными случаями которых являются фигуры и тропы. В прошлом, стремясь к таксономической полноте, специалисты по риторике упускали из виду, что часто бывает возможным «сделать перевод» данной метаболы или, если угодно, свести ее к другим видам метабол. Это особенно отчетливо проявляется в метасемемах, поскольку, например, метафора может быть интерпретирована как результат соединения двух синекдох. Ранее в качестве единственного перевода допускалось сведение к буквальному смыслу, который определялся как «субстанция», а метаболы соответственно определялись как ее «акциденции». Между прочим, суб-станционалистскими предрассудками объясняется также ошибка другого рода. «Акциденции», будучи распознанными и получив подходящее наименование, сами предстают в качестве «субстанций». Их природа определяется раз и навсегда, и остается только найти для них подходящее место в классификации. При этом забывают, что метаболы не существуют сами по себе, что это не естественные объекты и их не создают только для того, чтобы потом расклассифицировать. При таком подходе язык превращается в «четвертое царство», против чего возражал еще Бреаль [1], а метаболы, наделенные независимым существованием, не дают увидеть за своей многочисленностью законы, которые ими управляют.
Авторы старых трактатов по риторике особенно запутали своим многословием проблему разграничения тропов и фигур. Однако, чтобы прояснить ее, достаточно рассмотреть референциальную функцию языка. Несущественно, что иногда метасемема имеет значимость металогизма, неважно даже, что ко всякой метасемеме применима металогическая процедура. Главное — это уметь различать их в высказываниях, которые обнаруживают неопределенность значения. Метаболы вообще не являются ни «видами», ни «монадами», а металогизмы, в частности, — это прежде всего процедуры, операции, приемы, которые могут сопутствовать метасемической операции, но могут также, хотя и реже, выступать независимо от наличия иетасемем.
Обратимся к наглядному примеру. Все мы знаем, как трудно понять, что «значит» молчание. В случае если молчание красноречивее слов, если оно не равняется простому их отсутствию, то такое молчание является настоящей метаболой. Часто бывает легче ощутить особенности молчания, почувствовать его эффект, чем объяснить, что же оно значит. Когда молчание тягостно, продолжительно или упорно, оно имеет определенный смысл, а иногда даже очень большой смысл. Однако оно редко поддается переводу в традиционном понимании этого слова. «Прямой» смысл молчания всегда лишь вероятность, и часто даже не удается как следует определить эту вероятность. Когда же это удается, то в большинстве случаев здесь помогает анализ референтной ситуации. Конечно, можно утверждать о существовании метасеми-ческого молчания, понимание которого осуществляется на основе знания узуса и чисто языкового контекста. Когда, например, в тексте издания, предназначенного для детей, опускаются некоторые слишком грубые слова, опытный читатель легко может восстановить оригинальный текст, поскольку узус допускает подобные приемы, и здесь едва ли можно говорить о метаболе. Но в большинстве случаев значение молчания можно раскрыть только путем анализа референтной ситуации. Часто понять молчание адвоката, обвиняемого или какого-нибудь болтуна возможно только в том случае, если в самой референтной ситуации содержится указание на то, о чем бы эти лица могли поведать, иначе метабола не будет восприниматься. Молчание никак не связано с языковым кодом, оно не затрагивает и узуса, поскольку последний не устанавливает строго, когда молчание является «нормой». Может быть, за исключением случаев, когда нечего сказать, но тогда это не метабола. Молчание будет метаболой, если представляет собой опущение, и только тогда оно воспринимается как металогизм, когда это опущение не препятствует анализу того, что могло бы быть сказано. «Прямой» смысл молчания, если можно так выразиться, зависит, по существу, от остенсивной ситуации, которую оно же и создает.
То же самое можно сказать о литоте, которую мы причисляем к металогизмам. Реплика Химены, перейдя в узус, могла бы рассматриваться в качестве метасемемы. Для лица, осведомленного о положении дел, «не ненавидеть» может означать «любить». Реплика Химены является для нас литотой только потому, что мы знаем о ее любви к Родриго. Сколько ни повторять эту литоту, употребляя те же слова, что и Корнель, восприниматься как таковая она будет только тогда, когда известны чувства, о которых идет речь. Метафора in absentia воспринимается именно как метафора, если только известен референт. Высказывание C’est un tigre ’Это тигр’ будет метафорой только в том случае, если референт окажется человеком или особой маркой бензина. Перед клеткой с представителем семейства кошачьих можно сказать «Это тигр», не впадая в риторичность, В любом случае, если метасемема требует выхода за пределы языка, это всего лишь обходной маневр с целью обнаружения метаболы. Если бы Б. Паскаль был жив и мог сообщать свои мысли другу, он мог бы сказать о проходящем мимо человеке со смешанным чувством грусти и гордости: Cet homme que tu vois, ce n’est peut-etre qu’un roseau, mais c’est un roseau pensant ’Этот человек, которого ты видишь, может быть, всего лишь тростник, но он — тростник мыслящий’ . Паскаль прибег бы здесь к металогизму, но с единственной целью — произвести семантическую модификацию. Метафора «человек-тростник» не требует наличия остенсивной ситуации для своего понимания; понятие хрупкости служит промежуточным термом, и нет необходимости делать обходной маневр, прибегая к анализу референта.
В своих «Стилистических гаммах» Р. Кено многократно пересказывает одно и то же событие, всякий раз в новой стилистической манере. Один из его рассказов называется «Литоты», и можно было бы подумать, следуя принципам традиционной риторики, что за этими литотами кроется некий буквальный смысл, поскольку в первом рассказе, озаглавленном «Заметки», Р. Кено сам как бы устанавливает этот буквальный смысл. Однако очевидно, что цель рассказа — представить нам событие как таковое. Сами по себе эти «Заметки» нельзя считать буквальным смыслом. Р. Кено приводит в них лишь одну из многих точек зрения, на которую можно встать при «естественном и принятом» описании фактов. Но несмотря на «естественное и принятое» описание, вовсе не обязательно признавать в «Заметках» достоверное описание рассматриваемых событий, как это сделал бы Дю Марсе. Чтобы признать описание достоверным, надо быть свидетелем этих событий. Литоты же существуют постольку, поскольку сам Р. Кено желает этого. Без знания референтной ситуации мы не можем утверждать, что это литота, а не гипербола или парадокс. В противоположность этому, когда «тип», представленный в «Заметках» и оказавшийся в «Литотах» молодым человеком, «имевшим не очень интеллигентную внешность», в рассказе «Метафорически» становится poulet au grand сои ’цыпленком с длинной шеей’, мы имеем дело с метафорой, поскольку нам и так известно, без обращения к действительности, что человек — не цыпленок. Тот факт, что для толпы некоторые личности являются «цыплятами», поддерживающими общественный порядок4, также подтверждает, что дело здесь лишь в выборе слов, поскольку нам не надо видеть полицейского, чтобы догадаться, что имеется в виду вовсе не представитель отряда куриных.
Никто не запрещает принимать метафору Р. Кено «буквально» и считать, что героем «Стилистических гамм» является цыпленок. Но если рассматривать «Заметки» как точный протокол событий, то придется признать, что рассказ «Литоты» оправдывает свое название. Как бы там ни было, эти примеры показывают, что не всегда достаточно, а иногда и необязательно измерять «расхождение между знаком и смыслом». Буквальный смысл, который был навязчивой идеей традиционной риторики, может быть всего лишь промежуточным звеном, в котором далеко не всегда заключен смысл метаболы. На самом деле метасемемы и металогизмы так тесно переплетены между собой, что имеется тенденция смешивать их, но от этого их различение не становится менее интересным.
0.3. ЛОГИКА И МЕТАЛОГИЗМЫ
Все логики, независимо от их приверженности той или иной доктрине, допускают существование высказываний, которые представляются синтаксически правильными, но тем не менее лишены смысла. Например:
(1) «Учетверенность пьет выжидание» (Б. Рассел).
(2) «Цезарь — простое число» (Р. Карнап).
Так как логиков интересует только смысл, подобные высказывания занимают их постольку, поскольку необходимо показать, что они его лишены. А лишены они смысла по той причине, говорят логики, что выходят за пределы логических категорий. «„Простое число11 — это свойство числа, и его нельзя ни утверждать, ни отрицать по отношению к людям» (Carnap 1934, с. 21). В этой связи Г. Райл говорит о «категориальной ошибке» (category mistake) (Ryle 1963, с. 8). Но то, что отвергается логикой, как раз интересует риторику. Неслучайным представляется тот факт, что теории Г. Райла являются основой исследований метафоры некоторых англоязычных авторов. Его понятие «категориальной ошибки», которое йсйользуется для показа абсурдности картёзйанстйа, получает наименование «смешения категорий» (category confusion) у К. М. Тербейна, который противопоставляет это понятие понятию «слияния категорий» (category fusion), характеризующему, по мнению автора, процедуру порождения метафоры (Turbayne 1962, с. 22 и сл.). Во всех случаях речь идет о представлении фактов, «словно они принадлежат одной логической категории... в то время как в действительности они принадлежат другой» (Turbayne 1962, с. 27). Процедура здесь одна и та же, но если логика ее порицает, то риторика ее признает и старается отличить метаболу от ошибки и бессмыслицы.
По-видимому, риторика имеет право заниматься поиском смысла выражений, которые «ничего не говорят» Карнапу. Категории логики могут рассматриваться как метафорические, а если они таковыми не являются, значит, они соответствуют категориям реальности. Если вместе с А. Бретоном поверить в «будущее превращение двух состояний, внешне столь противоречивых, какими являются мечта и реальность, в некоторую абсолютную реальность, сюрреалъностъ» (Breton 1962, с. 27), то станет понятно, что выражения, лишенные на первый взгляд смысла, приобретают его в зависимости от точки зрения, с которой они рассматриваются. Не прибегая к понятию «сюрреальность», можно придать смысл и высказыванию Карнапа. В какой-нибудь Sprachspiel, то есть ’языковой игре’ (Wittgenstein 1953, с. 7), можно дать каждому простому числу личное имя. Если не вынести предварительного суждения о «реальности», к которой относятся высказывания (1) и (2), невозможно утверждать, что они лишены смысла. Самое большее, можно сделать вывод о неопределенности их значения. Эта неопределенность для логика есть признак бессмыслицы, и ему незачем ею заниматься; наоборот, риторику она-то и интересует в первую очередь.
С первого взгляда все риторические высказывания представляются двусмысленными. Верно, что человек — тростник, потому что он слаб, но это и не верно, потому что человек — не растение. Мало сказать, что эти высказывания ложны; они одновременно и истинны и ложны, точнее, они одновременно верифицируемы и фальсифицируемы. Логик имеет право считать их псевдопропозициями, поскольку они не удовлетворяют критерию истинйо61и. Эти высказывания не обладают логическим «смыслом», но от этого они не перестают выражать различные смыслы, причем не навязывают выбора между этими смыслами и даже запрещают производить его. Ведь если бы был возможен выбор, была бы возможной и верификация.
Существуют, однако, высказывания, которые интересуют как логику, так и риторику. Логик может отказаться следовать за поэтом, когда тот пишет о запахах «зеленых, как луга», о том, что земля — это «всего лишь огромная развернутая газета». Наличие «категориальной ошибки» позволяет логику не заниматься этими высказываниями. Заметим, однако, что «логическая возможность» по-разному определяется разными авторами. Высказывание, отвергнутое Карнапом, принимается Расселом на основе этой самой логической возможности (Russell 1959, с. 197 и сл.) 5. М. Блэк, комментатор Виттген-штейна, не гнушается рассмотрением возможного смысла афоризма Шамфора, согласно которому бедняки — это «негры Европы»* (Black 1962, с. 25 и сл.). Однако действительно трудно определить, с какого момента «слияние» категорий становится «нонсенсом», который избавляет логику от необходимости заниматься соответствующими высказываниями. Когда Цезарь выдается за простое число, «категориальная ошибка» очевидна. Но как быть, если скажут, что Цезарь — это лев, негр, ас?
Невозможно определить истинность или ложность высказывания Шамфора, если предварительно не выяснить вопрос, о каких бедняках и о каких неграх идет речь. Без наличия остенсивной ситуации логик не может оценить это высказывание с точки зрения его истинности, но в конкретной ситуации он может это сделать. Тогда возникает проблема, когда же возможна такая ситуация. Данный нами комментарий к высказыванию (2) позволяет думать, что это возможно всегда, но при условии создания ситуации «языковой игры» на основе данного высказывания и посредством решительного изменения смысла слов. Иначе эти высказывания будут иметь самое большее метафорический смысл, то есть смысл, возможный для того, кто допускает выход за пределы логических категорий.
Различение, установленное между ложностью и бессмыслицей, может быть полезным для риторики. Оно позволяет различать два типа высказываний, которые охватывают собой то, что мы до сих пор называли метасемемами и металогизмами. Хотя метаболы не всегда предстают в предикативной форме, однако всегда возможно представить их в таком виде. Поэтому метасемема всегда является «псевдопропозицией», так как заключает в себе противоречие, отвергаемое логикой, но принимаемое риторикой. Это верно в отношении метафоры, а также в отношении других метасемем. В предикативной форме представления метасемемы используется связка, которую логик считает незаконной, поскольку «быть» означает в этом случае «быть и не быть» Чтобы обнаружить метафору в афоризме Шамфора, надо прежде всего знать, что бедняк — это не негр, а затем пренебречь этим знанием и допустить, что если он и не негр, то все же он негр. Таким образом, все метасемемы можно подвести под формулу, предложенную Харрисоном (Harrison 1962—1963, с. 55):...
Такова формула противоречия, с той только разницей, что это все же не противоречие.
Металогизмы, напротив, представляют прямой интерес для логиков, поскольку к ним приложима процедура остенсивной фальсификации. Металингвистическая операция, к которой прибегает логика, чтобы установить истинность или ложность пропозиции, та же, которой пользуется риторика, чтобы установить обязательную ложность металогизма. Фраза Va, je ne te hai’s point (букв. ’Иди, я тебя вовсе не ненавижу’), которую Химена произносит при прощании с Родриго, не лишена смысла. Анализ на референтном уровне показывает, что таким образом Химена просто колеблется, не решаясь сказать правду. В то время как метасемема игнорирует логику, металогизм опровергает истинностное соотношение, которое так дорого некоторым логикам. Если применить металогическую процедуру к метафоре Шамфора, можно установить, преувеличивает ли он или преуменьшает по сравнению с действительным положением дел.
Подчеркнем еще раз, что металогический анализ не является обязательным. Тому, кто знает, например, что словом negre могут называть помощника писаря, часто плохо оплачиваемого, не нужно отправляться за океан, чтобы понять смысл метафоры. Здесь языковые знаки сами по себе образуют метафору, которую узус если не прямо одобрил, то по крайней мере подготовил. В этом случае можно, как выразился бы Уайтхэд [1], «дать отставку реальности» и признать наличие некоторой двусмысленности или отсутствие метафоры как таковой. Наоборот, чтобы выявить возможный металогизм, необходимо обратиться к реальности, сопоставить знаки с их референтами. Если при этом окажется, что знаки не дают верного описания референтной ситуации, можно констатировать наличие металогизма.
0.4. МЕТАЛОГИЗМЫ И ФИГУРЫ МЫСЛИ
Нам представляется, что не следует исключать мета-логизмы из таблицы метабол (см. табл. VII). В самом деле, для каждого металогизма можно составить «протокольное» предложение, которое удостоверяло бы истинность фактов, оспариваемых металогизмом. Такое протокольное предложение является не выражением буквального смысла, поскольку оно не нарушает узус, а апостериорной конструкцией, которая заставляет увидеть в металогизме опровержение истинностного соотношения. В протокольном предложении отражено не то, что хотели сказать, а то, что нужно было бы сказать в соответствии с истиной.
Вслед за Ж. Женеттом можно признать, что, будучи в принципе переводимой, метасемема никогда не переводится без потерь если не смысла, то по крайней мере коннотаций, которые входят в ее состав. Металогизм же переводим и независимо от перевода сохраняет свой смысл. Но с равным правом его можно было бы считать непереводимым, поскольку, не затрагивая код, он «противоречит», если можно так выразиться, фактическому положению вещей. Таким образом, металогизм напоминает канонические фигуры мысли (figures de la pensee), о которых П. Фонтанье говорил, что они «независимы от слов, от способа выражения и от стиля, сохраняют неизменной свою сущность, свою субстанцию, при наличии совершенно различных стилей, способов выражения, слов» (Fontanier 1968, с. 403).
0.5. ПРОТЯЖЕННОСТЬ МЕТАЛОГИЗМОВ
Протяженность метасемемы вытекает из ее определения. Заменяя одну группу сем (то есть семему) другой, она имеет пределом слово. Ранее мы рассмотрели, каким образом фигуры in praesentia создают видимость распространения на несколько слов; их всегда возможно свести к фигуре in absentia (ср. метафору и оксюморон).
Напротив, определение металогизма влечет за собой лишь одно ограничение на его протяженность: он должен охватывать значимые единицы, равные слову или превосходящие его. Если металогизм затрагивает только одно слово (как, например, в многочисленных случаях гипербол и литот), семантика последнего оказывается модифицированной, и можно говорить о метасемеме, сопровождающей металогизм. Сам же по себе металогизм заключается в выходе за рамки «нормального» отношения между понятием и обозначаемой вещью, когда затрагиваются нормы языка правдивого описания и зеркального отражения истины.
Во время визита принца прием, оказанный ему, будучи в действительности, скажем, прохладным, может описываться в зависимости от позиции наблюдателей как «горячий» или «холодный». Объединение студентов, требующих соблюдения прав университетского самоуправления, одновременно оценивается в зависимости от социальных взглядов судей как «группка» или «новый класс», «партия», «сила» и даже «революция». Каковы бы ни были действия студентов, с точки зрения одних, они «возмущаются» или, скорее, «возмущают» общественное мнение, с точки зрения других, они «отстаивают свои права», «восстают» или «строят» мир будущего.
В этом аспекте симметрия нашей общей таблицы имеет только дидактическую значимость, поскольку число единиц значения, охватываемых метаболой, не обладает различительной значимостью. Однако это не совсем справедливо в отношении некоторых металогизмов, как, например, аллегории, о которой в принципе можно утверждать, что она всегда распространяется на ряд знаков, поскольку ее роль состоит в развертывании метафоры. Но даже в данном случае трудно утверждать, если только не априорно, что метафора сосредоточивается обязательно в пределах единственного знака, а аллегория возможна только при наличии по крайней мере двух знаков.
0.6. ВЫДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛОГИЗМА
Если всякая риторическая операция основана на возможности разбиения дискурса на элементы, можно задать вопрос, на какие же элементы разлагается металогизм, если верно, что его функция заключается в деформации референтной ситуации или контекста. Ясно, однако, что выделенные элементы могут быть только языковыми, поскольку представить референт в модифицированном виде здесь означает модифицировать языковые средства, которыми он описывается. Риторическая операция, таким образом, затрагивает семемы, хотя и не ведет к изменению кода.
Таблица XI
Критерии различения метасемемы и металогизма
Критерии Метасемема Металогизм
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 1. Объект модификации 2. Протяженность ЛОГИЧЕСКИЙ 1. Истинностное значение 2. Кванторный признак ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ КОД одно слово ни истинность, ни ложность общее или частное суждение отсутствие привязанности к ситуации отношение знаков к контексту и/или референту одно или несколько слов ложность частное суждение привязанность к ситуации
1. СОКРАЩЕНИЕ
1.1. В литоте ясно выступает количественный характер риторических операций. Говорят о меньшем, чтобы сказать о большем, то есть экстралингвистическую реальность принимают за такую совокупность единиц, от которой при желании можно отсечь какую-то часть. Настоящая литота, которая, по определению П. Фонтанье, «более или менее уменьшав? вёЩМ, как, впрочем, и гипербола, только в обратном смысле, является результатом смещения в пределах ряда интенсивности (ср. гл. IV, раздел 0.6.3). Речь идет о сокращении или добавлении сем. Так, стыдясь или желая пощадить чувства другого, скажут Je t’aime bien ’Я к тебе хорошо отношусь’ или J’ai de 1’affection pour toi ’Я к тебе привязан’ , когда в действительности хотят сказать Je t’aime ’Я люблю тебя'. Другого рода литоты, весьма частые, являются результатом сокращения с добавлением; о них пойдет речь ниже.
1.2. Не останавливаясь долго на литоте, которая в отличие от других метабол не впала в немилость у современных авторов, заметим, что если «уменьшение», о котором говорит П. Фонтанье, доведено до предела, то оно превращается в молчание, поскольку иногда лучший способ сказать меньше — вовсе ничего не сказать. Поэтому в определенной ситуации молчание правительства, прессы или благонамеренных граждан следует расценивать как литоту. Молчание как металогический эквивалент эллипсиса показывает, что число значащих единиц не является критерием четкого различения метасемем и металогизмов.
Если литота представляет собой частичное опущение сем, то молчание есть полное опущение знаков. Тем самым оно открывает дорогу различным догадкам и позволяет получателю сообщения случайным образом добавлять если не знаки, то по крайней мере семы, выбор которых оказывается произвольным. Молчание является одной из четырех фигур, не имеющих инварианта, о которых мы говорили в главе I, раздел 2.4, поэтому его можно рассматривать как любую из четырех названных там фигур.
Когда молчание представляет собой внезапное прекращение дискурса, оно получает название обрыв. Если это прекращение временное, говорят, скорее, о приостановке. Во всех трех случаях происходит не изменение, а фактически элиминация кода. Конечно, обращение к контексту может иногда подсказать, какая последовательность знаков была опущена, и тогда ее можно восстановить. Однако все эти три метаболы, а по существу, одна, обретают свое значение чаще всего на фоне фактического состояния вещей, о котором они ничего не хотят сказать. Некоторые обрывы имеют значение «и так далее».
Их можно рассматривать в Качестве йреДельного случая синекдохи, когда даже самая малая совокупность сем считается излишней. Другие обрывы, вызывающие догадки относительно опущенной последовательности знаков, могут быть интерпретированы как отказ от любого использования кода, даже самого загадочного и непонятного.
При использовании обрывов говорящий отказывается от всякого употребления языкового кода и отдает предпочтение молчанию. Оно выступает как отказ от всякой метаболы и на этом основании само по себе является метаболой. Эта метабола состоит в полной элиминации кода, чтобы показать его недостаточность, невозможность его использования или даже опасность такого использования.
2. ДОБАВЛЕНИЕ
2.1. Как и в литоте, количественный характер риторических операций ярко проявляется также в гиперболе. Говорят о большем, чтобы сказать о меньшем, или, по выражению П. Фонтанье, «увеличивают» вещи, то есть модифицируют семы интенсивности. Если литота имеет в качестве предела молчание, то предел протяженности гиперболы, по-видимому, точно определить нельзя. Ведь можно представить себе Сирано, который исчерпывает средства всех известных языков, чтобы превознести совершенство своего носа. Однако и литота может трактоваться гиперболически; вообразим фарисея, который не выходит из храма и непрестанно повторяет: «Я всего лишь бедный грешник», — хотя прекрасно знает, что он — богатый вероотступник.
Молчание также может быть гиперболическим. Когда под впечатлением захватившего его зрелища или будучи во власти сильной эмоции говорящий вдруг умолкает, а пишущий заканчивает свой дискурс многоточием, оба они сообщают больше того, что содержится в зрелище или в эмоции, и дают таким образом понять, что они могли бы сказать еще больше, в то время как в действительности им нечего больше сказать. Иными словами, гиперболой молчание можно считать в случаях, когда оно равноценно тому, что могло бы быть еще сказано (следовательно, определенный тип молчания будет фигурировать также в разделе D.II общей таблицы метабол).
2.2. Добавление может быть всего лишь повторным воспроизведением сказанного. В этом случае перед нами повтор, или плеоназм. Конечно, не всякий повтор обязательно является метаболой. Когда учитель повторяет свое объяснение ленивому ученику, который никак не может его понять, риторика тут явно ни при чем, но если учитель слепо полагается па принцип bis repetita placent ’повторение — мать учения’, то лучшие ученики класса могут заметить, что он слишком много говорит.
Поскольку целью нашей общей риторики не является установление исчерпывающей таксономии всех «видов» метабол, известных на сегодня, мы можем пока оставить в стороне такие фигуры традиционной риторики, как экс-плецию (explelion) или эпифонему (epiphoneme), в которых также используется добавление сем. Нам важно подчеркнуть, что к категории металогизмов, использующих операцию добавления, могут относиться метаболы, которые рассматривают референт с количественной точки зрения как совокупность элементов и добавляют к этой совокупности посредством некоторой лингвистической операции элементы, которые референт не содержит. С этой точки зрения может представиться спорным отнесение к металогизмам плеоназма, поскольку он добавляет нечто бесполезное. Означающие в составе плеоназма семантически пусты. Когда свидетель, чьи речи подвергаются сомнению, повторяет: «Я же видел, собственными глазами видел», — ему нужно быть по крайней мере летучей мышью, чтобы удивить слушающего. Кажется, что плеоназм ориентирован только на получателя сообщения и ничем не обогащает референта. Однако па нулевой ступени референт мог бы быть описан следующим образом: «Некое „я“ это видело». Тогда «я», произносящее высказывание, и «видело» являются элементами референтной ситуации, не нуждающимися в повторном представлении. Для того чтобы увидеть в этом плеоназме металогизм как результат операции добавления, нельзя считать, что «я» — всего лишь «человек, который производит данный речевой акт, содержащий я» (Benveniste 1966, с. 252)*, как это делают лингвисты. Необходимо считать «я» фрагментом пространства-времени, который может быть предметом речи и который необязательно повторять два раза. В противном случае рассматриваемый нами плеоназм войдет в категорию метабол отправителя и получателя, в которых содержится «я». Впрочем, двусмысленность исчезнет, если взять плеоназмы или повторы без личного местоимения. «Моя кошка, моя кошка!» — какая-нибудь матушка Мишель может повторять эти два слова бесконечно. Не производит ли она при этом всего лишь ряд избыточных термов? Так считать неверно, поскольку она хочет сообщить нам, что у нее не просто пропала кошка, а именно ее кошка, и какая кошка! ее милая кошка!
Подобно плеоназму и гиперболе повтор может «раздувать» события, «преувеличивать» вещи. Повтор может состоять также в добавлении сем или фонем, но прежде всего он обозначает дистанцию, занятую по отношению к референту, онтологически рассматриваемому как совокупность элементов, в которую язык вводит дополнительные элементы.
Антитеза может восприниматься как выражение, соответствующее фактам. Эта фигура является повтором в том смысле, что вместо А говорят «А не есть не-А». Можно прочесть, например, следующее:
Les contrees englouties et les lies nouvelles...
букв. 'Поглощенные страны и новые острова...’
или:
Dans le gouffre sans fond pourtant veille la Chose Serpent, ceil on cristal jaloux des firmaments...
(J. Deletang-Tardif) букв. ’В бездонной пропасти, однако, бодрствует Вещь
Змея, глаз или ревнивый кристалл небосклона...'
Необходимым условием такой антитезы является возможность употребления отрицания, выражаемого лексически, поэтому для нее особенно подходят абстрактные термины, которые часто противопоставлены попарно, например любовь/ненависть, красивый/уродливый, в то время как конкретные термины часто находятся вне противопоставлений. Как в шутку говорит А. Кибеди Варга, можно противопоставить любовь ненависти, но не уличный фонарь сыру (Kibe di Varga 1963). Он же напоминает вслед за Лаусбергом, что противопоставленные термы должны иметь общий элемент, то есть общие семы с приемлемой изотопиеи, иначе может получиться комический эффект, как в следующем примере:
Les prix montent et les voyageurs descendent букв. ’Цены поднимаются, а пассажиры спускаются’.
Как бы там ни было, комическое — это всего лишь частный случай этоса, который не затрагивает общую структуру антитезы. Но можно заметить, что в высказываниях, рассматриваемых как поэтические, общий элемент действительно имеется. В цитировавшемся уже стихе Т. Готье «Небо черно, а земля бела...» этим общим элементом является соположение и одновременное присутствие неба и земли в пейзаже. Совсем другим эффектом будет обладать фраза:
L’encre de Chine est noire, la neige est blanche ‘Тушь черная, снег белый’.
Однако пример из Т. Готье осложняется тем, что в нем противопоставлены, как это часто бывает в антитезах, две гиперболы. Если верить А. Морье, который также цитирует этот стих, небо, «по-видимому, было всего лишь серым...» (Morier 1961, с. 30). Но такой комментарий, кроме своей наивности, обнаруживает неверное понимание «черного» как «серого», в то время как все усилия Т. Готье направлены на то, чтобы убедить нас вопреки очевидности, что небо было черным. Если даже он предлагает нам вообразить «предельно серое» небо, первая из гипербол в составе антитезы имеет смысл лишь постольку, поскольку она подчеркивает разницу между небом, которое может быть серым, в то время как земля бела, и действительно черным небом, которое рисует нам Т. Готье. В этом случае антитеза является результатом двух гипербол, из которых ни одна не изменяет смысла слов, но обе они, как и антитеза в целом, обыгрывают расхождение между референтом, который не выпускается из поля зрения, и языком, добавляющим к реалистическому описанию окказиональные семы.
Возьмем пример из В. Гюго:
...et tu rendras a ma tombe
Ce que j’ai fait pour ton berceau букв, ’...и ты воздашь моей могиле то, что я сделал для твоей колыбели’.
Оставляя в стороне метаплазмы (tombe/ton berceau) и метасемемы (две метонимии: tombe ’могила’, berceau ’колыбель’ ), мы находим в этих стихах пять антитез:
ты будущее воздать моя могила
я прошедшее сделать для твоя колыбель
Эта серия антитез связана единой семантической осью: во-первых, отношением «отправитель — получатель» и, во-вторых, что особенно важно, отношением эквивалентности «то/что», которое связывает два единственных не-противопоставленных и неопределенных терма этого диптиха. Функция отношения «то, что» совершенно аналогична функции икса в алгебраическом уравнении. Слова «могила» и «колыбель», взятые изолированно, не имеют гиперболической значимости. Однако простое соположение двух противопоставленных термов имеет результатом одновременную интенсификацию их смыслов. Таким образом, антитеза не обязательно является комбинацией двух гипербол, она сама по себе имеет гиперболический характер.
3. СОКРАЩЕНИЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ
3.1. Представим себе трех зрителей, выходящих из театра после спектакля, который показался им ужасным. Принося жертву благопристойности, один из них говорит: се n’etait pas mal ’недурно’, другой: c’etait magnifique ’великолепно’, третий: се n’etait pas depourvu de qua-lites ’в этом что-то есть’. Но нам-то известно, что пьеса лишена достоинств. Отбросив правила приличия, они могли бы все вместе сказать: c’etait penible ’ужасный спектакль’ . Это высказывание играет роль нулевой ступени по отношению к эвфемизмам, сформулированным зрителями, но идентичным в своих функциях и в своем функционировании.
Форма эвфемизма может варьировать, представлять из себя литоту или гиперболу. Эвфемизм может сообщать больше или меньше по сравнению с высказыванием, принимаемым за объективное, но чаще всего он сообщает одновременно и больше и меньше, поскольку семы, которые представляются неудобными или бесполезными, элиминируются, а их место занимают другие. Инвариант, помогающий разгадать смысл эвфемизма, сохраняется, но к нему добавляются случайные семы, которые не препятствуют его распознанию, но частично деформируют его.
3.2. В аллегории субституция оказывается полной. В «Блокноте» Ф. Мориака мы читаем: le bateau ivre a rejoint le grand voilier solitaire ’пьяный корабль присоединился к большому одинокому паруснику’, однако под этим мы должны подразумевать, что Мальро присоединился к политике генерала де Голля [11. Однако какой бы полной ни была субституция в семантическом плане, в риторическом плане сохраняющийся инвариант вместе с маркером позволяет нам увидеть в высказывании аллегорию, а не описание морских маневров.
Подобно тому как антитеза зачастую складывается из гипербол, так и аллегория наряду с притчей и басней часто складывается из метафор. Но она может основываться также на ряде сужающих синекдох, что наблюдается в многочисленных романах, пропагандирующих определенный образ жизни, а также в «поучительных балладах» (cautionary ballads) — жанре народной песни, который был очень популярен в свое время в США. Как бы там ни было, если на низшем уровне аллегория, притча и басня складываются из метасемем, то можно показать, что на высшем уровне они выступают как металогизмы. Совершенно очевидно, что зачастую они используются для того, чтобы под безобидной, необычной или привлекательной внешностью скрыть такую реальность, непосредственное отражение которой может быть неприятным, или реальность, которая при буквальном воспроизведении оказалось бы недоступной пониманию получателя сообщения. Как таковые их можно сблизить с эвфемизмами, однако мы не можем противоречить собственным методологическим позициям и привлекать здесь для анализа этос фигуры. Напротив, нам необходимо доказать, что аллегория, притча и басня являются металогизмами именно в силу своей структуры.
В приведенном нами примере имеется маркер. Словосочетание «пьяный корабль», использованное в свое время в качестве метафоры у А. Рембо [2], является намеком (еще один металогизм) на то, что рассматриваемое существо скорее человек, а не корабль. Что касается второй именной группы, то она обретает смысл только в связи с первой, и литературная судьба сочетания «пьяный корабль» позволяет думать, что «большой одинокий парусник» тоже может обозначать человека, даже слишком человека. Таким образом, все высказывание может быть прочитано некоторым образом в нулевой ступени и иметь приемлемый, хотя и малоинтересный смысл. Именно это разочарование, вызванное первичным смыслом, побуждает нас проверить, не существует ли случайно еще одна, менее банальная изотопия.
Предположим, что данная фраза является изолированной, например выступает в качестве газетного заголовка. Каким бы скудным ни был контекст, именно он побуждает нас искать другой смысл скорее в современной действительности, нежели в истории морского флота. Кроме того, обозначение человека у Рембо словосочетанием «пьяный корабль» позволяет предполагать, что речь идет о людях. Так и обнаруживается инвариант; слова «пьяный», «большой», «одинокий» в силу своих коннотаций также служат индикаторами, которые определяют наш окончательный выбор.
Подобный анализ можно произвести также в отношении притчи и басни. Взятые в своем буквальном смысле, они выявляют недостаточность этого смысла, что и является маркером металогизма. Кроме того, притча и басня разворачиваются в ограниченном семантическом пространстве, всегда в одном и том же и поэтому частично закодированном: для притч религиозного содержания это пастушеская жизнь, для басни — нравы животных. Что же касается аллегорий, то они достигли такого уровня кодификации, что были составлены соответствующие словари. Это является еще одним маркером. Наконец, контекст также выступает маркером в той мере, в какой он помогает выявлять недостаточность буквального смысла. Будучи необходим для понимания фразы Мориака, он был бы гораздо менее необходим, если бы «пьяный корабль» обозначал Рембо, а не Мальро. Иными словами, в анализируемых нами фигурах контекст и степень кодифи-цированности, имея одну и ту же значимость маркера, делают друг друга излишним: достаточно иметь что-либо одно.
Когда мы утверждаем, что буквальный смысл недостаточен, мы должны как-то обосновать это наше впечатление. Если мы условимся называть трансформируемыми составные элементы нулевой ступени (обычно это персонажи, абстрактные установления...), а трансформатами те же элементы после применения к ним операции риторической трансформации, то получим следующую схему, которая будет верна для всех трансформируемых i:
метасемема (трансформируемое) i----------» (трансформат).
Метасемическая трансформация является обычно метафорой (король- -лев) или сужающей синекдохой (хитрец- -лис, труженик- пчела или муравей). Существующие между трансформируемыми отношения транспонируются на уровень трансформатов или в неизменном виде (в баснях: суд, судебное разбирательство, речи), или подвергаются метасемической трансформации (плохое действие — -пожирать). Но эти отношения, релевантные на
уровне трансформируемых, нерелевантны на уровне трансформатов: именно в прямом смысле можно сказать, что муравей «не дает взаймы». Обобщим сказанное в сле-дущей схеме:
Теперь мы можем уточнить нашу формулировку: первичная изотопия представляется нам недостаточной в силу нерелевантности отношений между элементами (например, отсутствие королевского двора или суда у животных). Эта нерелевантность, будучи преувеличенной, кажется смешной, как в выражениях типа: Le char de 1’etat navigue sur un volcan ’Государственная колесница катится по вулкану’.
В нашем анализе достаточно подчеркнута роль метасемемы в рассматриваемых фигурах; она может выступать при трансформации любого элемента. Однако металогизм предстает как целостная фигура, и понять его можно только при знании соответствующего референта: человеческого общества для басен Лафонтена, политической жизни Франции для высказывания Мориака.
Метафору «Мальро — пьяный корабль» можно понять, если удалить из семемы «Мальро» ненужные семы и добавить некоторые семы из семемы «пьяный корабль». Но когда аллегория носит развернутый характер, часто бывает необходимо обратиться к референтной ситуации, чтобы отличить фигуральное описание от другого, рассматриваемого как непосредственно отражающее ситуацию. В действительности первое описание нельзя перевести во второе (иначе метаболы были бы всего лишь «мишурными украшениями»), которое можно считать протокольным описанием данного события.
В военное время высказывание «незабудки расцвели» может значить на самом деле «союзники высадились». В этом высказывании можно усмотреть аллегорию, но ясно, однако, что для его понимания достаточно знать секретный код. Едва ли здесь можно говорить о метаболе, поскольку для большинства людей нулевая ступень остается по необходимое неизвестной. Фактически речь идет об описании события на неизвестном языке. Однако тому, кто не знает секретного кода, подобное выражение может показаться аллегоричным, если в принятых способах выражения некоторые элементы все же напоминают о рассматриваемом событии. Например, если в высказывании присутствуют суггестивные термы, если сообщение плохо закодировано, если термы выбраны не произвольно, то случайный адресат, скажем разведчик, может через аллегоричное выражение «докопаться до факта». Подобное часто случается в повседневной жизни. В этом случае аллегория, будучи слишком эксплицитной, указывает на событие, которое она должна была бы скрывать. Она выдает некоторые его аспекты, и достаточно сократить вводящие в заблуждение семы, а к оставшимся добавить дескриптивные семы, чтобы составить протокольное описание данного события. Тогда субституция будет только частичной, но отправная точка наших операций достаточно свидетельствует о том, что она может быть и полной.
3.3. Эвфемизм граничит с иронией, когда субституция носит характер отрицания. О слабом авторе могут сказать с иронией, что он весьма уважаемый писатель. Но то же самое могут произнести и серьезно, в качестве эвфемизма. Формально оба металогизма могут совпадать, но ирония лучше выявляет дистанцию, сохраняемую по отношению к фактам, поскольку она почти всегда отрицает их.
Антифразис отличается от иронии лишь в очень малой степени. Belle mentalite! ’Хороша психология!’ — говорят часто для того, чтобы заклеймить достойную сожаления позицию. Подобные выражения не всегда требуют, обращения к референту. Если они употребляются часто, то могут восприниматься как метасемемы, но иногда можно говорить и о металогизме.
Возьмем, к примеру, мать, которая говорит своему сыну: Petit monstre! ’Маленькое чудовище!’ Здесь код ни в коей мере не нарушается, но в зависимости от того, является или нет данный ребенок чудовищем, носит ли аффективный контекст враждебный или ласковый характер, фигура может возникать либо исчезать. Таким образом, именно контекст, как лингвистический, так и экстралинг-вистический, позволяет обнаружить отклонение. При отсутствии подобного вспомогательного средства было бы удобно употреблять специальный знак пунктуации, знак иронии ё, изобретенный Алькантером де Брамом, чтобы с его помощью отмечать обратную значимость высказывания.
Однако существуют промежуточные случаи, каноническими примерами которых являются наименования belette ’ласка (животное)’ и Понт Эвксинский. Чтобы обнаружить здесь фигуру, скрытую веками условной лек-сикализации, надо знать, что слово belette [производное от фр. belle ’красивая’. — Прим, перев} обозначает маленькое кровожадное животное, а Понт Эвксинский [греч. n6vro£ Eugewog букв, ’гостеприимное море’. — Прим, пе-рев.] — очень коварное море. Все ласки кровожадны, и все античные мореплаватели со страхом отправлялись в плавание по Понту Эвксинскому... [1]. Встает вопрос: есть ли здесь нарушение кода или нет? Какова здесь действительно ядерная, то есть кодифицированная, сема? Ранее был затронут вопрос о конкретных и абстрактных словах, и мы сделали вывод о том, что первые так и не поддаются кодированию. Для любителя кроссвордов код заключен в словаре «Малый Ларусс», в котором он может узнать, что солнце — это «светило в центре орбит Земли и других планет». Но в словаре Литтре фиксируются другие семы, а в Британской энциклопедии их еще больше. Между кодом и референтом расположен целый ряд уровней описания, поэтому граница между метасемемой (нарушением кода) и метало-гизмом (искажением экстралингвистического контекста) становится относительной. Однако здесь мы имеем дело с отзвуком в риторике одной из фундаментальнейших проблем семантики.
В основе некоторых весьма распространенных литот лежит сокращение с добавлением:
Pas folle la guepe ’Баба не дура’ (обиходный жаргон).
Va, je ne te hais point
’Иди, я тебя вовсе не ненавижу’ (П. Корнель).
Эти литоты близки к иронии и антифразису, но они, без сомнения, представляют особый случай, как результат двойного отрицания. Цв. Тодоров верно заметил, что эти литоты основаны на выявлении разницы между отрицанием грамматическим и лексическим, которое носит характер оппозиции (Todorov 1967, с. 111). В анти-фразисе и иронии употребляется простое отрицание. Эти фигуры характеризуются нерелевантностью отношения между контекстом и референтом, с одной стороны, и кажущимся смыслом выражения — с другой. Когда мы убеждены, что перед нами антифразис или ирония, то для нахождения действительного смысла фигуры достаточно взять слова в смысле, обратном тому, который они, казалось бы, имеют и который им действительно присущ как элементам кода. Литоты же, которые мы рассматриваем в данный момент, устроены более сложно. Исходное высказывание подвергается в них одновременно двум отрицаниям, которые должны были бы аннулировать друг друга, однако этого не происходит. Первое отрицание, лексическое, которое составляет сущность антифразиса, направлено от одного определенного терма к другому определенному терму согласно кодифицированной и совершенно симметричной семной оппозиции (ненависть/лю-бовь). То же самое можно было бы сказать о втором Отрицании, грамматическом, если бы оно соответствовало логическому отрицанию в системе с двумя значениями. Но областью действия литот являются ряды интенсивности, которые могут заключать в себе разное число единиц. Реплика Химены соотносится с рядом выражений, подобных тем, которые произносятся при отрывании лепестков ромашки *. В пределах подобного ряда отрицание одного элемента равняется одновременному утверждению всех остальных, а не какого-либо одного.
* То есть авторы хотят сказать, что литота Химены «я тебя вовсе не ненавижу» в качестве нулевой ступени имеет выражение «я тебя люблю», являющееся одним из ряда выражений, обозначающих различные степени чувства. Ср. ряд выражений, произносимых при отрывании лепестков ромашки: on m’aime; un реп; beau-coup; passionement; й la folie... ‘меня любят; немного; очень; страстно; безумно...’ — Прим, перев.
Мы тем более имеем право отнести подобные литоты к этой категории, что до сих пор рассматривали отрицание как сокращение положительной семы и ее замену соответствующей отрицательной семой.
К металогизмам, которые недвусмысленно отрицают, что нечто является тем-то и тем-то, можно было бы отнести такие фигуры традиционной риторики, как умолчание (preterition), тонкую иронию (astheisme) или эпа-нортозу (epanorthose). Можно было бы определить место еще одного металогизма, который отсутствует в традиционной риторике, но сходен с тем, что когда-то называли преоккупацией (preoccupation) или оккупацией (occupation). Речь идет о таком отрицании (фр. denegation, нем. Verneinung), когда субъект сообщает, кем он является, посредством признания в том, кем он не является. Хотя отрицание относится к «риторике подсознательного», оно может быть подвергнуто анализу, сходному с тем, который мы предложили для аллегории. Предположим, что некий субъект подавил в себе желание убить отца, которое постепенно выявляется в курсе лечения психоанализом. Не исключено, что это желание обнаружится в отрицательных высказываниях вроде следующих:
(1) «Не подумайте, что я злюсь на своего отца!»
(2) «Чего я никогда не желал, так это смерти отца».
(3) «Дай бог, чтобы мой отец прожил сто лет».
(4) «Человек, которого я убивал в своем воображении, конечно, не был моим отцом».
Высказывание (3) не содержит отрицания в плане выражения, но мы его привели здесь специально, поскольку его функция аналогична функции остальных трех высказываний. По крайней мере так воспринимает его психоаналитик, единственный, кто способен увидеть отрицательную его значимость в своем анализе. Для опытного аналитика эти различные формулы могут иметь один и тот же смысл, прямо противоположный тому, которым они, казалось бы, обладают. Чтобы вскрыть этот смысл, ускользающий от сознания больного, аналитик должен уловить маркеры, делающие подозрительной категоричность высказываний пациента. Другими словами, чтобы обосновать их риторическую значимость, риторичность, ускользающую от собеседника, он должен произвести редукцию отклонения, подобную той, которую мы не раз описывали.
Высказывания (1) — (4) содержат более одного маркера, которые могут многое сказать сведущему в риторике психоаналитику. Они поражают его прежде всего недостаточностью смысла и особенно нерелевантностью отношения между высказыванием и «контекстом лечения» (Laplanche, Pont al is 1967, с. 114). Психоаналитик в своей практике в достаточной мере ознакомился с подобными высказываниями, поэтому он видит в них «как бы признак, удостоверение их происхождения, сравнимое с ярлыком «made in Germany» на предмете (Нурро-lite 1956, с. 30, сноска 1).
Конечно, психоаналитик может ошибиться, поставив под сомнение правдивость высказываний пациента, но если ход лечения подтверждает его правоту, высказывания (1) — (4) предстают как риторические высказывания, в которых используется сокращение с добавлением и отрицание. Тогда оправдывается его предположение о существовании инварианта, подсознательно завуалированного с помощью фигур. Этим инвариантом фигурального выражения является желание убить отца, которое обнаружилось бы в высказываниях пациента, если бы он не подавил его. Но это также и невозможность осознания пациентом своего желания, поэтому нулевая степень различна в зависимости от того, соотносится ли она с психоаналитиком или с пациентом.
При редукции аналитику помогает относительная кодификация выражений отрицания. Он знает, что в определенных контекстах желание неизменно выражается посредством формул, которые означают прямо противоположное тому, что они на первый взгляд должны обозначать. Тогда ему совсем нетрудно восстановить нулевую ступень фигуры. Все приведенные нами высказывания значат для него: «Я хочу или хотел убить отца».
Пока пациент пребывает в неведении относительно своего подавленного желания, он не осознает и метало-гизм, который бросается в глаза аналитику. Пациент убежден, что выражается буквально, в соответствии с фактами. Для него не существует проблемы редукции отклонения. Но когда он способен произвести эту редукцию, когда он тоже обнаруживает реальный смысл своих утверждений, то приходит к инварианту, который не совпадает с инвариантом психоаналитика, поскольку инвариант пациента должен содержать упоминание о подавлении желания.
Итак, редукцию данных высказываний можно произвести двумя способами, если считать инвариантом или выражение желания, или выражение подавления желания. Но в любом случае возникает металогизм, поскольку даже выражение подавленного желания не должно представать как отрицание желания.
Если при анализе отрицания ограничиться проблематикой желания, ее можно обобщить в следующей таблице:
Таблица XII
Отрицание
Фигура Отклонение Нулевая ступень
Выражение отрицания желания Неосознанная позиция Сознательная редукция 1. Выражение желания 2. Выражение подавления желания
К отрицанию близок отказ (фр. deni, нем. Verleug-nung), причем в такой степени, что их путают. По мнению психоаналитиков, при отказе «субъект отказывается от осознания травмирующей его реальности, в основном заключающейся в отсутствии пениса у женщины» (La-planch е, Pontalis 1967).
Отказ может остаться невыраженным и представлять интерес для психолога. Для того чтобы им заинтересовалась риторика, очевидно, необходимо, чтобы он получил какое-то выражение. Но тогда оказывается, что его структура идентична структуре отрицания. Единственная разница заключается в том, что обычно любому отправителю сообщения легче осознать реальность, которую он оспаривает. Если женщина, которая считает реальностью отсутствие пениса, в то же время отвергает в своей речи эту реальность, каждому ясно, что ее отказ носит риторический характер. Но если отказ относится к кастрации, то, очевидно, соответствующая реальность является дискуссионной. Не будем настаивать на этой разнице, которая практически, вероятно, иллюзорна.
Поскольку мы не ставим себе целью дать полный перечень металогизмов, скажем лишь несколько слов о гаа-радоксе. Вы видите эту трубку? Ну так вот, «это не трубка», лукаво говорит нам Магритт. Если бы он предложил нам увидеть в его рисунке «нечто похожее на трубку», неважно, дудку ли, дымовую трубу или фаллос, мы бы поняли это высказывание как игру слов или игру в слова, целью которой было бы заставить нас забыть, что они могут иметь точный смысл. Мы бы увидели, что Магритт удалил из означаемого лингвистического знака некоторые семы, добавил другие и таким образом создал новое означаемое. Но его парадокс больше, чем просто игра слов. Значимость парадокса заключается в пробеге, который он заставляет совершать мысль от языкового выражения к референту и обратно. Здесь не просто субституция сем, а опущение в речи элементов реальности, которые не надо видеть. Вместо них каждый волен домыслить то, что он хочет видеть. Магритт мог бы выбрать в качестве подписи к картине: «Это маяк» или «Это птица», — вместо того чтобы оставить выбор на усмотрение зрителей. Но главное, он заставляет нас верить, что вещи не являются тем, чем они являются, то есть его операция, будучи лингвистической, не затрагивает, однако, язык. Его парадокс «зачеркивает» реальность. Тем не менее если «это» все-таки что-то собой представляет, то, давая ему имя, мы вводим в универсум, хотя бы только мысленно, какой-то объект.
Можно принять высказывание Магритта за истину художественного здравого смысла. Верно, что «это не трубка», потому что это только изображение трубки. Но от этого парадокс не становится менее металогизмом, какое бы наименование последний ни получал. Действительно, независимо от того, видеть ли в этом символ веры тех, кто признает ирреальность искусства, или тех, для кого любые предметы обладают сюрреальностью, в любом случае «реальность» оспаривается.
Для того чтобы отрицать существование металогизмов, надо отрицать существование «реальности». Чтобы признать возможность существования металогизмов, достаточно допустить, что некоторая «реальность», какой бы она ни была, навязывается языку; язык ее постулирует, даже если выходит за ее пределы или претендует на ее изменение. Вот почему мы приветствуем изобретателя «ножа без лезвия, у которого не хватает ручки». Мы бы не удивились, узнав, что у льва или у двери нет ни лезвия, ни ручки. Мы только потому оцениваем по достоинству юмор и изобретательность Лихтенберга [1], выдумавшего предмет, существование которого строго лингвистично, что под языком, через язык, за языком или посредством языка мы видим особую «реальность», без которой шутка Лихтенберга не имела бы смысла.
Когда Бодлер заявляет:
Je suis la plaie et le couteau!
Je suis le souflet et la joue!
Je suis les membres et la roue,
Et la victime et le bourreaul
букв.: ’Я — рана и нож!
Я — пощечина и щека!
Я — члены тела и колесо!
И жертва и палач!’ —
в этом можно видеть всего лишь выражение его мазохистских наклонностей, которые были весьма реальными. Но если рассматривать эти стихи независимо от их психологического контекста, если ограничиться буквой текста, они оказываются парадоксальными, и это тем более смущает разум, что «реальность», проглядывающая сквозь слова, тоже воспринимается «буквально». Как бы мета-логизмы ни издевались над реальностью, даже подвергая ее сомнению, даже отрицая ее, они тем самым как бы воздают ей должное.
4. ПЕРЕСТАНОВКА
Трудно подобрать примеры металогической перестановки. Может быть, одним из них является перевертывание порядка следования элементов высказывания. Цезарь мог бы прославиться не только как стратег, если бы он изрек: Vici, vidi, veni! ’Победил, увидел, пришел!’ Кино постоянно напоминает нам, как можно переставлять элементы реальности. Если в физическом мире следствие следует за причиной, это не обязательно для языка. Подчас естественно представить следствие прежде причины. Мы получим яркий пример металогизма, если предпримем пересказ жизни человека от могилы до колыбели. Можно себе представить, что дочь родила мать или что море помещается в капле воды.
Хотя металогическая перестановка редка за пределами языка сюрреалистов, она все же не лишена интереса. Более того, она оказывается необходимой поэту, который не просто хочет воспеть природу, но намерен изменить ее:
J’etais autrefois bien nerveux. Me voici sur une nou-velle voie:
Je mets une pomme sur ma table. Puis je me mets dans cette pomme.
Quelle tranquillite! (H. Michauz)
’Когда-то я был очень нервным. Теперь я живу по-другому:
Я кладу на стол яблоко, потом забираюсь в него.
Благодать!’ (А. Мишо}.
Когда-нибудь в магии Мишо будут видеть всего лишь литературный прием. Описанный им опыт послужит примером бесталанным писателям, каждый из которых будет забираться в свое яблоко, даже если оно окажется грушей. Уже сегодня сюрреалистическая риторика утратила свою новизну, и наверняка настанет день, когда металогическая перестановка, которая еще сможет удивить нас, будет казаться такой же устарелой, какими для нас теперь являются эпанортоза и эпифонема.
VI.
НА ПОДСТУПАХ К ИЗУЧЕНИЮ ЯВЛЕНИЯ ЭТОСА
0. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
0.1. Дойдя до этого места нашей книги, читатель, без сомнения, почувствует некоторую неловкость. Если допустить, что целью изучения риторических приемов является объяснение феномена поэзии в целом, тогда придется признать, что произведенный нами анализ далек от подлинного отражения сложной поэтической реальности. Это критическое замечание можно уточнить следующим образом: подобно тому как постичь сущность homo sapiens’a можно только через постоянное изучение многочисленных отдельных представителей человеческого рода, так и поэтическая реальность может быть постигнута только через изучение уникальных объектов, которые мы называем «текстами» (для нас неважно сейчас, является ли сообщение, рассматриваемое в качестве поэтического, устным или письменным). Возникает вопрос, действительны ли полученные нами результаты на уровне текста? Этого мы утверждать не можем и готовы незамедлительно подписаться под знаменитым изречением П. Валери: «Мы можем сколь угодно подсчитывать шаги богини, отмечать их частоту и вычислять среднюю длину, но так и не постигнем секрета ее неуловимой грации» (Valdry 1936, с. 42).
Но тогда правомерно ли наше исследование, вернее, имеет ли оно смысл? Если согласиться с М. Жюйаном, что литературный факт не выдерживает расчленения и что его сущность заключена в неделимости целого (J u i 1-land 1954, с. 323), то всякий аналитический подход следует считать порочным в своей основе. Другие исследователи уже показали, причем лучше, чем мы могли бы сделать это сами, вред «атомизации текстов» или «анализа карточек с примерами». И если художественное произведение, как нас старается убедить С. Дрезден, является чем-то абсолютным, одновременно независимым и несопоставимым, деятельность критиков, которая заключается в анализе всех измерений текста, основана на внутренней двусмысленности: «она должна характеризовать произведение, которое по своей природе уникально, даже несоизмеримо, чтобы в конце концов оценить его на основе общих и объективных критериев и на основе универсального и рационального метода» (Dehennin 1964, с. 880). Велико искушение смириться с этой двусмысленностью, отбросив намерение постигнуть поэтическую реальность другим путем, отличным от интуиции. Эту позицию защищают некоторые последователи Б. Кроче, отвергающие всякую возможность аналитического подхода. В результате такого подхода произведение искусства рассматривается как нечто сакральное и окостеневшее. В своем столь богатом мыслями предисловии Ж. Коен убедительно показал слабую операционную значимость некоторых слишком лиричных определений поэзии (Cohen 1966, с. 25). Как и ему, определенное беспокойство нам внушают мысли вроде следующих: «Единственный способ проникнуть в пространство [произведения литературы. — Прим, пе-рев.] — совершить удачный скачок, прибегнув к интуиции. Всякая интуиция любвеобильна, она является актом любви или предполагает любовь... Предельная уникальность литературного произведения познаваема только с помощью скачка в темноту с закрытыми глазами» (Alonso 1952, с. 197). Даже когда глобальный подход к произведению искусства сопровождается широкой эрудицией и обостренной чувствительностью, как у Лео Шпицера, указанная двусмысленность не исчезает, и интуиция со всей вытекающей из нее нестрогостью анализа становится полновластной повелительницей исследователя.
Нам кажется, что господство интуиции просуществует до тех пор, пока не будет понято, что в поэтике, как и в других науках, действует принцип «разделяй и властвуй», отвергаемый моралью. Хорошо известно, что лингвистика стала научной дисциплиной с того момента, когда было покончено с субстанциональным подходом и начали последовательно различать объект и языковой знак, а внутри последнего означаемое и означающее. Вся история развития стилистики также дает нам серьезный урок: не раз указывалось па то, что эта дисциплина представляет собои настоящее йайийбйёкбе столйбтйоренйе, йоСКолййу каждый стилист претендует на глобальное объяснение феномена стиля, не решаясь произвести предварительное членение обширной сферы, которую он себе присваивает. «Критика» сможет выбраться из сети сложных зависимостей, в которых она запуталась, только тогда, когда откажется от значительной части своих претензий. Хотя произведение литературы есть некоторое в высшей степени индивидуализированное единство, нельзя ли все же на первом этапе анализа разложить его на сравнимые элементы? Каждый человек тоже уникален и несравним, но прогресс в познании человека был достигнут только тогда, когда было решено оставить в стороне индивидуальность каждого; кто сегодня будет оспаривать право на существование цитологии, остеологии или неврологии? Каждая из этих дисциплин изучает соизмеримые между собой объекты, и достигнутый таким образом прогресс позволяет лучше понять клинический аспект заболевания отдельного индивида.
Предпринимая настоящий труд, мы хотели «расчленить» проблематику литературы, чтобы лучше изучить ее. Мы исходим из того, что у поэтического феномена есть лингвистический и экстралингвистический аспект и в проблеме взаимоотношения формы и субстанции ведущим выступает план выражения: «вещи поэтичны только в потенции и... именно язык может заставить эту потенцию реализоваться в действии... Отсюда с очевидностью следует, что специфической задачей литературной поэтики является исследование не содержания, которое остается неизменным, а выражения, чтобы узнать, в чем состоит различие [между поэтическим и непоэтическим представлением одного и того же содержания. — Прим, перев.]» (Cohen 1966, с. 38 — 39). С другой стороны, то, что называют эстетическими категориями и что составляет существенный аспект произведения искусства, в конечном счете не зависит от избранных средств выражения, поскольку идентичные чувства могут быть вызваны произведениями, относящимися к различным видам художественного творчества (Soariau 1966, с. 225 — 242). Поэтому для нас неприемлемы упрощенные взгляды Э. Дееннэн, которая, критикуя позицию Р. Якобсона, заявляет: «Нелингвистическому характеру [художественного произведения. — Прим, перев.] соответствует и нелингвистический метод» (Dehennin 1964, с. 902). Мы считаем, что исследование той части поэтики, которая непосредственно связана с языком, нуждается в лингвистическом подходе, что, конечно, не исключает привлечения в дальнейшем и других методов.
0.2. Сложность литературного феномена обусловлена тем, что понятия эффекта и значимости играют в нем первостепенную роль. В будущем наш анализ должен быть сосредоточен именно на этом. Ведь нам хорошо известно, что специфическая значимость совокупности фактов стиля не просто функция механизмов чисто структурного порядка, действующих на уровне малых единиц, а проистекает из взаимодействия множества других элементов. Именно на данной ступени анализа нам придется заняться разложением на составные части, проведением различий и установлением иерархии элементов.
Ниже мы будем пользоваться термином этос (ethos), обычным в современной терминологии эстетики. Этос можно уподобить лайод Аристотеля в его «Поэтике», а также Rasas классической индийской поэзии (М uk е г j е е 1927). Мы определяем этос как аффективное состояние получателя, которое возникает в результате воздействия на него какого-либо сообщения и специфические особенности которого варьируют в зависимости от нескольких параметров. Среди этих параметров важное место должно быть отведено самому получателю сообщения. Значимость, приписываемая тексту, представляет собой не чистую энтелехию, а реакцию читателя или слушателя. Другими словами, эти последние не довольствуются восприятием некоей неприкосновенной эстетической данности, а реагируют на определенные стимулы, причем их реакция заключает в себе некоторую оценку. В физиологии зрение и слух являются не «способностями», «свойствами», как думали в античности, а реакциями организма на определенные физические раздражители, которые можно описать объективно. Подобно зрительному или тактильному восприятию эффект восприятия текста зависит одновременно и от стимулов (метабол) и от получателя сообщения (читателя, слушателя).
Отсюда следует, что, если понятие эффекта психологически первично, когда речь идет о литературном факте, эта проблема (и a fortiori проблема значимости самого эффекта) отходит на второй план в эпистемологическом отношении. М. Риффатер хорошо понял, что на первом этаце Исследования необходимо отделять суждение от его стимулов (Riffaterre 1961, с. 323 — 324), что эстетические свойства, признаваемые за некоторыми фактами, психологические реакции, вызываемые ими, для лингвиста поначалу являются всего лишь простыми сигналами (Riffaterre 1961, с. 318, 320 — 321). Это практически те стимулы, те сигналы, которые уже были перечислены и описаны в нашем исследовании. То, что мы сделали, недостаточно, хотя и необходимо, поскольку этос, будучи субъективным впечатлением, в конце концов всегда мотивирован объективными данными.
Чтобы довести до конца наше исследование, остается описать условия порождения специфических видов этоса. Ниже мы лишь в самом общем виде обозначим направления будущего анализа. Более подробно о нем читатель сможет узнать из другой нашей книги, которая явится в некотором роде продолжением настоящей.
* * *
Нельзя сразу ответить на вопрос, что составляет сущность стиля. Термин «стиль» в действительности соотносится с «одной из тех сложных абстракций, которые сравнивают с многогранниками: они обладают множеством граней, каждая из которых может служить основой определения» (Ullman п 1953, с. 433). Мы сосредоточим наше внимание на этосе, попытаемся перечислить его составляющие и описать их иерархию. Элементы, которые принимают участие в создании этоса при употреблении определенной метаболы в определенной ситуации, представлены в следующей таблице:
Структура этоса
Таблица XIII
1. ЯДЕРНЫЙ ЭТОС
1.1. РИТОРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИИ ХАРАКТЕР МЕТАБОЛ
С помощью аналитической операции можно представить себе пустую метаболу, то есть фигуру, обладающую только структурой при отсутствии какого бы то ни было словесного материала, в котором она могла бы воплотиться. Можно возразить, что подобная реальность не существует в повседневном опыте; известно, однако, что до сих пор ни одному лингвисту не удалось отделить означающее от его означаемого на уровне фактов, и тем не менее их различение плодотворно. Обладает ли этосом эта пустая фигура, возникающая только в нашем воображении?
Основным эффектом любой метаболы является создание условий для восприятия литературности (в широком смысле слова) текста, в котором она присутствует. Следовательно, метабола и есть носитель той функции, которую Якобсон называет поэтической и которую мы предпочитаем обозначать менее маркированным термином — риторической функцией. Эта функция делает упор на сообщении как таковом, на его форме, равно как и на его содержании; она «подчеркивает осязаемую сторону знаков» (Jakobson 1963, с. 218). В своем кратком очерке, посвященном тропам, Цв. Тодоров отмечает, что «единственным качеством, общим для всех фигур риторики, является... их непрозрачность, то есть тенденция заставлять нас воспринимать дискурс сам по себе, а не только его значение» (Todorov 1968, с. 116). В этом все и дело. Наш анализ показал, что нет необходимой связи между структурой фигуры и ее этосом; самые разнообразные примеры, которые мы приводили, доказывают это. Уже Р. Якобсон уточнял, что «поэтическая функция» выходит далеко за рамки того, что называется поэзией; между прочим, уместно вспомнить, что наиболее яркие его примеры были взяты из жанра инвективы и политической пропаганды. До сих пор риторический анализ высказываний не позволял выявить специфичность поэзии, которая в каких-то других своих измерениях противопоставлена арго и рекламе. Таким образом, метабола — это необходимое условие порождения этоса, но не достаточное. Следующая упрощенная таблица (в ней получили отраЖеййе только фигуры столбцов А и С) лучше ДбйГйк рассуждений проиллюстрирует значительную независимость друг от друга структуры фигур и их возможных значимостей. Разумеется, эта схема весьма приблизительна.
В каждом столбце таблицы приведены примеры, операционная структура которых идентична и взаимозаменяема. Ни традиционная риторика, йи ряд ДисЦйпййй, которые группируются вокруг стилистики, а пока и ни наша общая риторика не дали формальных критериев, которые позволили бы, например, отличить арготическую метафору от рекламной.
Отсюда можно сделать вывод, что метаболы не различаются в операционном плане. Одни и те же структуры используются одинаковым образом независимо от того, идет ли речь о возвеличивании некоторых ценностей (определенный тип поэзии) или об их разрушении (арго), об убеждении (реклама), игре (кроссворды) или даже такой языковой деятельности, которая вообще не порождает явного этоса (нахождение имени для обозначения новой реальности). Поэтому было бы неразумным ребячеством и сегодня видеть в метафоре или метонимии тайных агентов на службе более или менее подозрительной метафизики.
1.2. ВАРИАТИВНОСТЬ ЯДЕРНОГО ЭТОСА
Несмотря на сказанное выше, следует проявлять бла-' горазумие и не отвергать a priori существование некоторой связи между структурой метаболы и тем эмоциональным состоянием, которое она вызывает. Вот почему недостаточно просто сказать, что пустая фигура представляет собой проявление риторичности дискурса. Каждый вид фигуры отличается от другого своим оператором и/или своим операндом. Эти различия, которые можно было бы, без сомнения, представить в виде бинарных оппозиций, имеют несколько следствий в плане этоса: метаболы различаются одновременно своей силой и своими особыми эстетическими возможностями.
1.2.1. Дистанция. Сила метаболы может зависеть от степени ее необычности: величина отклонения, лежащего в ее основе, может быть очень различной и зависит, как мы уже указывали, от большей или меньшей устойчивости основных элементов. Мы заимствуем термин дистанция из теории информации; он обозначает количество единиц значения, которыми неправильно закодированное сообщение отличается от того же сообщения, закодированного правильно. Не вдаваясь в детали, обратимся к опыту читателя: у него имеется туманное представление о том, что метаплазм, в общем, представляет более серьезное нарушение кода, чем метасемема. Но это еще не все: величина дистанции варьирует не только в зависимости от операнда, но и в зависимости от соответствующего уровня, на котором проявляется действие операнда. Оставаясь в пределах метаплазмов, можно построить следующий ряд метабол в порядке возрастания величины дистанции: синонимия, субституция или добавление аффиксов, антистрофа.
Однако сила эффекта дистанции может быть увеличена или как-то модифицирована другими переменными, которые участвуют в создании конечного эффекта фигуры. Вот почему ядерный этос является только потенциальным, а не реальным.
1.2.2. Специфические эстетические возможности. Как известно, Р. Якобсон считает метонимию привилегированной фигурой в искусстве реалистического направления, в то время как метафорические приемы кажутся ему характерными для романтической и символистской эстетики (Jakobson 1963, с. 62 — 63). Действительно, представляется верным, что некоторые фигуры лучше, чем другие, согласуются с теми или иными основными типами мировосприятия. Апокопы, эллипсисы и вообще любые метаболы, возникающие в результате сокращения, могут (но не обязательно) быть проявлением некоторого нетерпения в речи; обобщающая синекдоха представляется благоприятной для абстрагирующего хода мысли, в то время как ее противоположность кажется проявлением некоторого рода близорукости. Исследования показали, что в классическом искусстве охотно прибегали к литоте, в то время как гипербола была характерна для эстетики барокко.
Конечно, мы могли бы найти сотни гипербол в произведениях классицизма и сотни произведений эпохи барокко, насыщенных литотами, привести примеры реалистических фильмов, в которых используется метафора, и романтических полотен, в которых обнаруживается метонимия. Таким образом, на ядерном уровне этос фигур содержится в чисто виртуальном виде, но и в таком виде он представляет собой всего лишь совокупность неясных тенденций.
2. АВТОНОМНЫЙ ЭТОС
Автономный этос является, с одной стороны, функцией ядерного этоса, с другой — материала, использованного в данной метаболе. Возьмем две метафоры, в одной из которых используется арготическая лексика, а в другой — изысканные выражения; их эффекты будут довольно различными. Лексические или синтаксические элементы языка маркированы стилемами общего характера: независимо от контекста canasson ’кляча’ вызывает представление об отрицательном отношении к референту, a coursier ’скакун, боевой конь’ производит впечатление изысканности. Следуя указаниям Балли (Bally 1951, с. 104 — 105 и сл.), можно составить синонимические серии, например mourir ’умереть’, deceder ’скончаться’, crever ’издохнуть’, passer Гаппе a gauche ’дать дуба', devisser son billard ’сыграть в ящик’, trepasser ’преставиться’ и т. д. Вокруг основного понятия образуется целый ряд способов выражения, каждый из которых получает свою значимость (более или менее ясно выраженную) в результате сравнения (имплицитного или эксплицитного) со всеми элементами парадигмы, которые могут заменять его без изменения денотативной соотнесенности. Разумеется, понятие синонимии может быть перенесено из лексики в синтаксис. Два выражения: je voudrais aller te voir и je te voud-rais aller voir ’я хотел бы прийти к тебе’ — образуют пару синонимов, в которой первая конструкция играет роль нейтрального терма, а вторая — маркированного.
Но чему соответствуют стилемы и откуда они возникают? Очевидно, что словесный материал сам по себе, в силу некоей имманентной потенции, не обладает способностью вызывать представление о каком-либо уровне языка; значимость терма является, скорее, результатом суммирования языкового опыта, которым обладает получатель сообщения. Слова ouir ’внимать’, choir ’падать’ вызывают у него представление о поэтическом стиле лишь потому, что он встречал эти слова только в тех текстах, которые ему были даны как поэтические. Здесь уместно обратиться к понятию экологии, естественнонаучной дисциплины, изучающей типы сред, благоприятных для развития того или иного вида жизни. Общую стилему можно определить как работу памяти, относящую языковую единицу к той или к тем более или менее специализированным средам, в которых она обычно «обитает». Из связей, которые говорящий устанавливает с идентифицированной средой или средами, проистекает особая окраска значимости языковой единицы. Перечислим вкратце типы значимостей, проистекающих из работы памяти, не предвосхищая направления нашего будущего анализа *:
а) Локализация.
— Определенный литературный жанр (бурлеск, поэзия и т. д.).
— Историческая эпоха (архаизм и т. д.).
— Географическая среда (провинциальное просторечие, креольский язык и т. д.).
— Социальная и культурная сфера, классы.
— Профессии и другие сферы человеческой деятельности.
— Межличностные отношения (между людьми одного пола, различного возраста, состоящими или нет в родстве, и т. д.).
б) Употребительность единицы.
— Очень высокая, средняя, низкая частотность в языке (устанавливаемая эмпирически).
— Большая или меньшая способность к деривации, словосложению и т. д.
— Заполненные метаболы на пути к кодификации, остаточные архаизмы, традиционные сравнения, неологизмы, стоящие на грани потери своей стилистической значимости, цитаты, иноязычные слова, устаревшие и обновленные метаболы и т. д.2 Исследование описываемых явлений, несомненно, заставит нас вновь обратиться к «Traite de stylistique fran-?aise» Ш. Балли и рассмотреть в новом свете понятие «выбора», столь дорогого стилистам. Ш. Балли интересовала аффективная значимость фактов организованной речевой деятельности и взаимодействие факторов, которые принимают участие в формировании выразительных средств языка (Bally 1951, с. 1). Но он был не прав, когда в одном из разделов своей книги, часто цитируемом не без злого умысла, выразил желание «навсегда и. бесповоротно отделить стиль от стилистики» (Bally 1951, с. 19) *; ведь как бы писатель ни деформировал сознательно и произвольно язык, свои материалы он черпает все же из самого этого языка. Впрочем, женевский ученый признавал двусмысленность своего утверждения и оставлял за «спонтанной речью» право всегда «потенциально содержать красоту», иными словами, быть способной интегрироваться в литературное произведение и выполнять в нем какую-либо функцию.
При нынешнем состоянии наших знаний мы не можем с уверенностью формализовать все нюансы употребления или локализации языковых единиц. Наш очерк дает скорее перечисление, чем классификацию. И к тому же эта классификация, во-первых, произвольна, во-вторых, может быть продолжена до бесконечности. Тем не менее можно указать на попытки произвести структурирование некоторых экологических сфер. С этой точки зрения особый интерес представляют работы Э. Косериу (который различает «лингвистическую зону» и «внешнюю среду», «структурированную лексику» и «номенклатурную лексику», «технику дискурса» и «повторный дискурс», «синхронию языка» и «синхронию структур» и особенно «архитектуру» и «структуру» языка) 3. То же можно сказать и о хорошо известной теории понятийных полей (Begriffsfelder) Трира и Вайсгербера. Доклад Л. Ельмслева о структурации лексики на 8-м Международном конгрессе лингвистов также содержит ценные мысли по этому поводу (Hjelmslev 1958).
Правда, в указанных теориях много паралингвистических моментов. Но здесь нам приходится покинуть пределы чистой лингвистики, поскольку этос зависит от действия не только структурных механизмов, но и от влияния психологических и социологических факторов. В статье, содержащей ряд спорных положений, Жану Муро удалось снова завести досье на стилистику и «поставить вопрос, не заключается ли истинно научный подход к литературе — при наличии всех необходимых предварительных сведений исторического и филологического характера — в социологическом анализе формирования литературных ценностей» (Mourot 1964, с. 79). Поскольку значимость, приписываемая литературному факту, является, также функцией индивида, интегрированного в определенный социальный и культурный контекст, естественно, влима-ние исследователя должно быть направлено на эти два фактора, создающих и разрушающих систему нормы и систему членения, благодаря которым воспринимается литературное произведение. Вспомним, как в романе Хаксли [1] «The Brave New World» персонаж, называемый «дикарем», выучился читать по-английски, имея под руками только собрание сочинений Шекспира. Его язык, насыщенный цитатами, обрывками реплик и типично шекспировскими образами, производит, конечно, ошеломляющее впечатление на фоне выхолощенной речи других персонажей. Столкновение человека с обществом, уничтожающим его, тем более потрясает, что для этого «дикаря» гений Шекспира представляет собой одновременно и норму и код образцового английского языка. Этот утрированный пример мы привели для того, чтобы показать необходимость учета культурного контекста, иногда трудно улавливаемого, при анализе суммарной значимости риторической фигуры...
Читатель, вероятно, заметил еще одно сходство между нашим подходом и традиционной риторикой. Понятие среды действительно каким-то образом напоминает теорию трех стилей, которую комментаторы постклассического периода конкретизировали в «Колесе Вергилия» [2] и которой все специалисты по риторике следовали до XVIII в., совершенствуя и разнообразя.ее, но сохраняя в то же время ее догматическую форму изложения (G u I-raud 1969. с. 17 — 19). Первой попыткой освобождения из-под власти традиционной риторики и создания описательной, а не нормативной и априорной риторики, мы обязаны Балли4. Необходимо уточнить, что в стилемах нет ничего постоянного. В диахронии замена значимостей может происходить быстро и быть полной; архаизм, который в век романтизма производил благородный эффект, в XVII в. вполне мог считаться чем-то низким, бурлескным. С другой стороны, можно принципиально утверждать, что в плане синхронии, если оставить в стороне техническую терминологию, лингвистический статус которой иногда трудно определим, не существует однозначной принадлежности слова только к одной определенной среде.
Итак, стилистический прием, рассматриваемый автономно, обладает несомненной поливалентностью, и связь, существующая между этого рода этосом и специфическим эффектом фигуры, помещенной в определенный контекст, оказывается слабой. Даже в том случае, если автономная внутренняя значимость метаболы представляется достаточно характерной — что далеко от общего правила, — эта значимость не защищена от нивелирующего влияния контекста; она также существует только в потенции5. Констатируя этот, можно сказать, почти тривиальный факт, мы тем самым отвергаем всякий статистический подход К литературному произведению, анализ, при котором стилистические приемы описываются только на уровне их автономной значимости, не подвергаясь упорядочению и иерархизации. Еще раз подчеркнем, что речь идет о литературном произведении, а не о поэтическом феномене как таковом.
3. КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ ЭТОС
Если стиль нечто «большее, чем сумма элементов» (Imbs 1957, с. 75), приращение стилистической значимости происходит, очевидно, в результате взаимодействия иерархически упорядоченных структурных механизмов. Обычно выражают согласие с утверждением П. Гиро, что «любое произведение представляет собой автономный вербальный мир» (Guiraud 1969, с. 20)* и что с этой точки зрения «комбинация» так же важна, как и «отбор» (Posner 1963, с. 49). На уровне произведения происходит интеграция механизмов отбора н комбинации. Каждое стилистическое явление занимает определенное место в структуре текста, содержащего также другие метаболы, которые в свою очередь обладают автономным этосом. Именно в этом процессе взаимодействий и взаимовлияний соседствующих единиц происходит отбор потенциальных этосов, которые затем реализуются в конкретном тексте.
Соотношения языковых особенностей текста чрезвычайно сложны. Это могут быть связи ритмического, метрического, фонетического и фонологического характера, отражающие правила стихосложения, как и аллитерация и ассонанс. Подобные структуры являются иногда результатом очень тонких приемов обработки языкового материала, как показал Н. Рювет на примере анализа стиха Бодлера (Ruwet 1965, с. 69 — 77). Сущность этоса произведения следует искать в интеграции всех его элементов, в интерференциях, конвергенциях, напряжениях, которые при, этом возникают.
Не один стилист пытался исследовать запутанную область контекстуальных функций. Среди работ по этой проблеме нам хотелось бы обратить внимание прежде всего на работы М. Риффатера, который с помощью понятий теории информации выработал довольно стройную теорию лингвистического контекста6. Одним из самых плодотворных различений, предложенных М. Риффатером, является различение микроконтекста и макроконтекста.
Нет необходимости долго распространяться о первом типе контекста, поскольку мы его уже описали как наиболее удобное эмпирическое средство для определения нулевой ступени (гл. I, раздел 2.1.3). В цепочках слов, обладающих риторической функцией, элементы могут составлять контраст с тем, что позволяют ожидать избыточность и дистрибутивные отношения. М. Риффа-тер хорошо показал, что стилистический прием (stylistic device) — который является в любом случае метаболой — по определению неотделим от своего контекста. Это можно легко понять, поскольку известно, что редукция отклонения производится всегда на уровне высшей единицы, в которую интегрируется стилистический прием. Последнee замечание, как нам кажется, особенно важно, поскольку оно делает очевидным следующий факт: в создании стиля немаркированные языковые элементы (микроконтекст) принимают такое же участие, как и маркированные элементы (стилистический прием). Одно только это способно развеять предубеждения тех, кто критически относится к понятию отклонения.
Под макроконтекстом понимается «та часть литературного сообщения, которая предшествует стилистическому приему (метаболе в нашей терминологии) и которая является внешней по отношению к нему» (Riffaterre 1960, с. 212). Размеры такого контекста, очевидно, могут колебаться в широких пределах. Он зависит одновременно от типа данного текста, от его сложности, от быстроты чтения, от памяти читателя, его знаний, литературного опыта. Понятно, что мы находимся в царстве неопределенных величин: в какой мере первые слова Стивена Де-далуса оказывают влияние на читателя, дошедшего до последней главы «Улисса»? Универсального ответа на такие вопросы быть не может. Многообещающими представляются исследования моделей (patterns). Во всяком случае, можно утверждать, что в процессе чтения устанавливается сравнительно подвижная литературная норма. Приведем один пример. Возьмем текст на современном французском языке. С некоторого момента писатель может решить писать на языке XV в. Поначалу появление черт среднефранцузского, очевидно, будет рассматриваться как фигура, но постепенно отклонение перестанет ощущаться. Если текст достаточно велик, оно может превратиться в настоящую условность, и тогда возврат к языку XX в. окажется в свою очередь отклонением. И в том и в другом случае происходит адаптация читателя к типу получаемого сообщения. «Arnaque et entolage» читают не так, как собрание сочинений А. Камю, а среди последних «Чужой» и «Свадьба в Типаса» воспринимаются под разным углом зрения. Таким образом, в зависимости от контекста наблюдается постоянное смещение локальной нулевой ступени, которая накладывается на абсолютную нулевую ступень. На это указал П. Имбс, который предложил представлять понятие стиля в виде схемы, отражающей отношения включения (Imbs 1957, с. 76). В верхней части обозначены наиболее обширные сферы, внизу — наиболее ограниченные, однако и наиболее непосредственно воспринимаемые:
Стиль — группы языкой;
— одного языка;
— одной эпохи;
— литературных жанров; стили, свойственные определенным типам сюжетов;
— одной школы или литературного направления;
— одного писателя;
— одного периода жизни писателя;
— определенного произведения;
— части, раздела, эпизода и т. д. произведения; — отдельной фразы.
Для каждого уровня существует свой тип контекста, создается своя норма, ориентированная на эффективную реализацию всех автономных этосов, проявляющихся на низшем уровне.
При чтении необходимо обращать внимание на повторение явлений, обладающих чертами сходства (метаболы со сравнимыми автономными эффектами, лексические конкатенации и т. д.). Вокруг них постепенно создается настоящее «стилистическое поле», сумма литературных значимостей, которыми они обладают во всех своих проявлениях. В некотором роде речь идет о новом типе локализации, которая фигурирует уже не в языке, а в тексте. Изучение этих полей затрудняется тем, что они создаются не моментально7, как и макроконтекст, а по мере декодирования сообщения. Здесь-то и проявляется в полной мере свойственная читателю тенденция придавать единый, законченный смысл совокупности метабол.
Итак, текст предстает в виде пространства, в котором специалист по эстетике должен изучать многомерные сети взаимозависимостей, соответствий, синтагматических или парадигматических связей, которые устанавливаются между различными метаболами и создают в своей совокупности контекстуальный этос. Конечно, речь идет о сложной проблеме, тем более что к контекстуальным этосам языковых метабол присоединяются уже на четвертом (пока малоисследованном) уровне этосы, создаваемые фигурами, которые принадлежат другим семиологическим системам: метаболы повествования, отправителя и получателя сообЩенйЯ, Материального носителя и т. д. Поэтому, прёжДе чем углубляться в исследование этоса литературного произведения, нам необходимо определить риторический статус этих новых фигур и описать их функционирование.
4. ЭТОС И СУЖДЕНИЕ
Выше мы тщательно разграничивали этос и оценочное суждение. Однако известно, что любой текст может вызвать оценку, но эта операция относится к метастилистике; она логически следует за восприятием этоса, создаваемого текстом в целом. Во всяком случае, следует отметить, что оценка в большей мере зависит от получателя сообщения. Акт эксплицитного или имплицитного выражения своего эстетического удовольствия или недовольства по поводу конкретного текста предполагает наличие шкалы оценок, величины которой пока не поддаются никакому точному измерению. Эта шкала зависит от большого количества переменных (психологического, культурного, социального и т. д. характера) и может контаминировать с другими оценочными шкалами (этического, политического и т. д. характера), которыми обладает индивид. Обстоятельное изучение оценочной реакции есть уже исследование «другого порядка» и требует понятий и методов, радикально отличающихся от тех, которыми мы пользовались до сих пор.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
К ОБЩЕЙ ТЕОРИИ РИТОРИКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Нам кажется нелишним повторить здесь предупреждение, с которым мы обратились к читателям в предисловии, и подчеркнуть, что вторая часть книги — не более, чем первая попытка проникнуть в почти неисследованные области риторики, относящиеся к любым способам выражения. Было сравнительно легко дать подробное описание фигур языка, в большинстве случаев давно и хорошо известных; напротив, проекция, если можно так выразиться, системы метабол на другие области, изучавшиеся до сих пор в основном интуитивно, представляет немалую опасность. При переходе от лингвистики к семиотике [11 неизбежно возникает риск неполноты и приблизительности анализа.
Тем не менее мы сочли полезным предложить читателям два очерка по данной проблематике ввиду новизны исследуемого предмета и его важности для создания современной теории риторики.
В первом очерке анализируются те трансформации, которым подвергается рассматриваемый в качестве нормального режим коммуникации в результате применения риторических приемов: коммуникация при этом определяется как межличностное отношение, отношение между участниками процесса общения. Конечно, нам придется обратиться к некоторым фигурам, уже известным из классических трактатов по риторике, но эти фигуры будут введены в целостную модель описания, подобную той, которую мы предложили в первой главе. По очевидным причинам в этой главе речь пойдет главным образом о языковых явлениях; однако сказанное в ней о языковой
279
коммуникации теоретически возможно распространить и на неязыковые системы коммуникации. И живописца можно считать в какой-то степени человеком, который обращается с сообщением к другому человеку по поводу вещей или людей.
Во второй, и последней, главе происходит более решительный отход от языковых явлений, если считать, что «лингвистика кончается на фразе» (В arthеs 1966, с. 3). Очевидно, что последовательности фраз, будь то язык художественной литературы, науки или обыденный язык, упорядочиваются или могут быть упорядочены согласно правилам, которые уже не относятся к языку. Р. Барт считает даже, что традиционная риторика претендовала именно на то, чтобы стать некоей «второй лингвистикой», изучающей «дискурс» (или то, что мы назвали развертыванием) (Barthes 1966, с. 3). Как бы там ни было, еще многое предстоит сделать, чтобы постичь сущность категорий, свойственных различным типам дискурса, даже если предположить, что они хорошо различимы. Основная гипотеза нашей теории остается той же: при заданной норме или нулевой ступени определенного типа дискурса художник отступает от них, чтобы получить новый смысл или специфический эффект.
Среди различных типов дискурса одним из самых интересных и важных с эстетической и особенно литературоведческой точки зрения, несомненно, является повествование (recit, narration). Но надо помнить, что и в кино и в живописи также может присутствовать повествовательный момент. Поэтому после упорядочивания наших рдссуждений по поводу метабол повествования мы вдвойне оказываемся «по ту сторону фразы».
I.
ФИГУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТПРАВИТЕЛЕМ И ПОЛУЧАТЕЛЕМ СООБЩЕНИЯ
0. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Позволительно задать вопрос, есть ли какие-либо основания для выделения группы метабол, связанных с участниками акта коммуникации. При ответе на этот вопрос необходимо учесть, что в сообщении говорящие и окружающие их лица получают отражение только через слова и через связи между словами, поэтому можно считать, что они принадлежат системе языка в целом и могут быть объектом риторических операций любого из четырех типов, рассмотренных в первой части нашей книги.
Необходимо также отметить, что теория коммуникации Р. Якобсона дает повод думать, что факторы коммуникации находятся в полной независимости по отношению друг к другу. В действительности же наблюдается из постоянное взаимодействие, и сообщение является результатом или, если можно так сказать, местом этого взаимодействия, поскольку все они в конечном счете проявляются только через слова. Поэтому с точки зрения коммуникации как таковой было бы произволом изолировать отправителя и получателя сообщения, хотя при смещении акцента от одного к другому может возникнуть то, что Р. Якобсон называет экспрессивной и конативной функцией [1]. Эти лица получают наименование в речи и поэтому являются такими же референтами, как и референты любого другого знака.
Однако сама природа акта коммуникации, языковой или неязыковой, наделяет отправителя и получателя сообщения привилегированными и симметричными ролями, что приводит к расслоению семантического универсума и образованию системы уровней. В описании структуры категории лица во французском языке мы использовали идей Э. Бенвениста (Benveniste 1966, с. 225 — 236). Эта структура может быть сведена к очень простому дереву дихотомий, построенному на основе шести бинарных оппозиций:
Рис. 17
(На схеме помещены те виды оппозиций, которые могут получить реализацию в высказываниях.)
В вершине схемы находится категория, в которой само понятие лица нерелевантно, здесь все конкретные оппозиции нейтрализуются. Уместно вспомнить, что лицо конкретизируется всегда по отношению к глаголу, который обладает, как и местоимение, маркером лица. Неличность (apersonnel) (мы предпочитаем этот термин термину безличность (impersonnel) по причинам, о которых пойдет речь ниже) присуща так называемым неличным формам глагола: инфинитиву и причастию. Категория, традиционно именуемая «безличностью», в действительности, по нашему мнению, является категорией псевдо-лица (pseudo-personne), то есть соотносится с сущностями, не соотносимыми с функцией субъекта. Эта категория тем самым противопоставлена категории реального субъекта, или орто-лица (ortho-personne). Во фразах il pleut ’идет дождь’, il mouille ’льет’ [1] параллелизм с такими формами, как il parle ’он говорит’, il bavarde ’он болтает’, можно было бы считать отражением некоего скрытого мировоззрения, антропоцентрического восприятия природы. В этом случае безличное il являлось бы отклонением по отношению к норме, которая требует здесь обращения к категории неличности... Оставим в стороне эту сложную проблему и рассмотрим подробно другие оппозиции, представленные на схеме.
Если мы будем спускаться дальше вниз по дереву дихотомий, то придем к чисто семантическим категориям одушевленности/неодушевленности. Как и в случае общего дерева (гл. IV, раздел 1.3), здесь можно составить вертикальные эндоцентрические ряды, применяя операции добавления и сокращения. Горизонтальные перемещения (сокращения с добавлением) также возможны, но имеют особый характер из-за совершенной дихотомии системы и ее большой стабильности (она является частью кода, и ее нулевая ступень лишена двусмысленности). Эти горизонтальные отклонения необходимо последовательно отличать от перестановок (в которых, если «я» занимает место «ты», то «ты» соответственно должно занять место «я»); мы назовем их коммутациями, рассматривая их как особые случаи полного сокращения с добавлением в бинарных системах. Операция сокращения с добавлением может состоять здесь только в добавлении семы, противоположной той, которая была элиминирована.
Далее, лицо может быть уточнено в отношении рода и числа. Мы сочли нерациональным вводить в наш анализ род (может быть, необоснованно, но это тоже надо доказать). В действительности род не играет роли в отклонениях, специфичных для категории лица. Наоборот, число абсолютно релевантно, поскольку отправитель сообщения может быть только в единственном числе. Число могло бы найти отражение в простом удвоении всех клеток рисунка в третьем измерении — так можно представить себе третий тип отклонения. Отклонения в числе также возможны только в виде коммутаций между членами одной пары (по крайней мере во французском языке, поскольку в других языках есть еще двойственное число).
Однако не следует упускать из виду важные замечания Э. Бенвениста по поводу особой природы категории множественного числа у местоимений, обозначающих участников акта коммуникации: в «мы» содержится доминирующее «я» (а в «вы» — соответственно «ты»), которое является некоторым образом представителем всей группы. Согласно формуле Бенвениста, «множественное число представляет собой фактор не множественности, а неограниченности» (Benveniste 1966, с. 235) *. Добавим, что «я» выступает своеобразным шифтером (embrayeur, shifter), который специфицирует говорящее лицо в акте коммуникации, то есть представляет его в качестве «сопричастного» к акту коммуникации в полном смысле этого слова; отсюда проистекает этос любой фигуры лица.
Необходимо сделать еще одно замечание, прежде чем перейти к инвентаризации фигур. Известные нам письменные источники делятся на жанры, которые обладают своими нормами употребления категории лица. Может случиться так, что эти нормы сами по себе представляют отклонение по отношению к обычному разговорному языку, но нам нет необходимости рассматривать это отклонение; мы займемся отклонениями только другого рода, отклонениями относительно нормы данного жанра.
1. КОММУТАЦИЯ «ЛИЦО/НЕ-ЛИЦО»
Хотя «нормальным» является обращение к собеседнику на «ты» или по крайней мере на «вы», часто, однако, «ты» исчезает из дискурса. Большинство научных публикаций обходятся без «ты», как и без «я», которое прячется за научной объективностью. Трактаты по геометрии или физике имеют не меньшее число адресатов, чем письма или военные команды. Однако в них норма диаметрально противоположна той норме, которая характерна, например, для эпистолярного жанра. Мы бы удивились, если бы математик написал: «Возьми числа два и три...» или «Рассмотри две параллельные прямые...». Мы бы также удивились, если бы какой-нибудь влюбленный послал невесте в качестве свидетельства своей любви газетную статью или научную брошюру, поскольку норма языка любви — глубоко личного отношения — требует употребления «ты» или «вы». В языке же науки, наоборот, стало «нормальным» отклонение, которое делает невероятным появление «я» или «ты» в тексте, а если бы такое случилось, то разразился бы настоящий скандал. Тем не менее трактат по геометрии к кому-то обращен, как и личный дневник, даже зашифрованный, обращен по крайней мере к тому, кто его перечитывает.
В риторических целях можно было бы восстановить «ты», имитируя язык донаучной эпохи, например язык алхимика, который бы сообщал доверительным тоном своим читателям:
Si le fixe tu sait dissoudre Et le dissous faire voler Puis le volant fixer en poudre Tu as de quoi te consoler.
букв. ’Если ты умеешь растворить нелетучее вещество, И раствор обратить в пар,
А потом превратить его в порошок, Тебе есть чем утешиться’.
Когда норма установилась, то независимо от отклонения, лежащего в его основе, всякое нарушение этой нормы будет иметь риторический эффект. Доказательство этому можно найти у Декарта. Хотя давно было известно, что философия существует только для философов и в них самих, когда Декарт начал писать свои философские труды от первого лица, он посягнул на норму, которая может представляться разуму «ненормальной», но которая освящена обычаем. Поскольку раскрытию метода успешного управления своим разумом предшествует повествование почти романического характера, не удивительно, что это воспринимается как определенное языковое отклонение. «Я» в «Рассуждении о методе» так же законно, как «я» в «Исповеди» св. Августина или Ж.-Ж. Руссо. Но напрасно Декарт старался быть естественным, или, как сказал бы М. Бютор, «реалистичным»; он смог удивить своих читателей не больше, чем удивляет появление А. Хичкока в каждом из его фильмов, пока к этому не привыкают.
Особенности литературных жанров в значительной Степени регулируют присутствие или отсутствие местоимений «я», «ты», «он». Но поскольку эти жанры — всего лишь условная манера письма, настает момент, когда, например, эссе принимает форму романа, а роман может превратиться в эссе. Тогда лица меняются ролями и возникает отклонение, которое позднее «нормализуется», поскольку какой-нибудь критик (допустим, Клод Руа) может вдруг заявить, и никто этому не удивится, что он прочел «Бытие и небытие» Ж.-П. Сартра «как роман». В философии экзистенциализма с ее обостренным вниманием к «я» именно отсутствие «я» в дискурсе скорее вызовет удивление, чем его присутствие.
Когда Ламартин спрашивает:
Objets in animus, avez-vous done une ame?
’Неодушевленные предметы, есть ли у вас душа?’,
едва ли можно говорить о наличии метаболы — настолько романтическая поэзия ввела в моду беседы с природой. Однако, прежде чем эти беседы стали правилом поэтического жанра, они должны были вызывать удивление, как позднее вызывала удивление обратная коммутация, осуществленная П. Верленом:
П pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville.
букв. ’В моем сердце плачет
Подобно тому, как над городом идет дождь’.
Христианин в личной беседе с богом может обратиться к нему, употребляя освященные обычаем слова: Notre Рёге qui etes aux cieux... ’Отче наш, иже ecu на небеси...’. Но в устах деиста или пантеиста это обращение имело бы привкус риторичности. Если даже биологам до сих пор неизвестно, где начинается и где кончается живое, не приходится удивляться частоте подобных коммутаций, тем более что баснописцы, любящие «говорящих» животных, а также философы, изучающие развитие сознания у растений и даже у материи вообще, сохранили многочисленных последователей.
Более редка коммутация «орто-лицо/псевдо-лицо», в результате которой субъект, именуемый в грамматике «мнимым», становится «реальным», как в следующей ламентации:
C’est la faute a ceux qui pleuvent (A. Blavier)
букв. ’Это вина тех, кто падает дождем’ (Л. Блавъе).
2. КОММУТАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ
«СООТНЕСЕННОСТЬ/НЕСООТНЕСЕННОСТЬ
С УЧАСТНИКАМИ АКТА КОММУНИКАЦИИ»
Многое было сказано по поводу употребления местоимения «он», как у Цезаря, когда форма третьего лица узурпирует в риторических целях функции других лиц. Примеров такого употребления достаточно. В «Вечере с господином Тэстом» П. Валери «он» часто выступает вместо «я», которое не решается назвать свое имя. То же наблюдается у Г. К. Лихтенберга, когда он описывает «характер одного моего знакомого», который является не кем иным, как самим автором:
’Он думает о смерти — и всегда без отвращения; он хочет думать обо всем с такой же непринужденностью и надеется, что его создатель однажды ласково попросит его вернуть жизнь, которой он владел очень экономно, но без испорченности’*.
Когда Лихтенберг пишет:
’Он удивлялся тому, что у кошки прорезаны две дырочки в шкуре как раз на том месте, где у нее находятся глаза’ *,
можно держать пари, что прежде всего это удивляло его самого. «Он» — это «я», от которого держатся в отдалении, как это часто встречается у А. Мишо, творчество которого, по существу, настоящий вызов риторике. Для него «то, что разделяет людей, менее важно, чем то, что их объединяет, и основная задача состоит в том, чтобы отвергнуть возможные формальные доказательства их различий» (Be 11 о иг 1965, с. 85). Хотя А. Мишо постоянно нарушает нормы и постоянно «нормализует» разного рода отклонения, Р. Веллуру удалось показать, что субституции лица подчиняются у него неким правилам. Хотя они неясны и неимперативны, по крайней мере некоторые из них достаточно жесткие, чтобы можно было говорить о риторических приемах; например, привычка А. Мишо говорить о себе в третьем лице, причем иногда вместо il предпочитается on. Этот же прием мы находим у С. Беккета, который комбинирует два типа коммутаций: коммутацию по признаку «соотнесенность-несоотнесенность с участниками акта коммуникации» и коммутацию по признаку «определенность/неопределенность» — и таким образом проявляет свою авторскую индивидуальность.
В противоположность этому законы жанра литературной критики долгое время заставляли говорить об авторе художественного произведения в третьем лице единственного числа. Сегодня под влиянием таких эссеистов, как Г. Башляр, входит в моду критика «идентификации», которая отвергает дистанцию между критиком и автором.
A quel feu vais-je done me voir?
A quelle flamme pourrai-je me ranimer sans en meme temps me detruire?
Nerval regarde autour de lui: il у decouvre le soleil (Richard 1954, c. 37)
’Какому же огню мне себя посвятить?
У какого пламени мог бы я ожить и в то же время не погубить себя?
Нерваль смотрит вокруг: он открывает солнце’
Кто здесь говорит? Ж.-П. Ришар от имени Нерваля? Нерваль языком Ж.-П. Ришара? Совершенно непонятно. «Я» критика сливается с «я» поэта [1].
Dans La Tentation de St-Antoine, la luxure s’etale, se vautro: j’epouse 1'autre en I’ecrasant, e’est-a-dire en I’empechant d’exister; mon affaissement sur lui 1’ob-lige a s’affaisser lui-meme, je transforme mon corps en masse obscene (Richard 1954, 168)
’В „Искушении святого Антония11 сладострастие выставляет себя напоказ, нахально разваливается; соединяя себя браком с, другим человеком, я подавляю его, то есть не даю ему существовать; я обрушиваюсь на него, и он сам теряет силы, я превращаю свое тело в непристойную массу?’
Кто здесь говорит? Ришар или Флобер? Напрасно мы будем прибегать к помощи феноменологии, к ее постулатам и их методологическим следствиям; невозможно отрицать, что Ж.-П. Ришар, как и Ж. Пуле, заставляет нас считать реальным субъектом субъект мнимый. Ришар то наделяет своим голосом Нерваля, то заимствует фразы из Флобера и, намеренно спутав «я» и «он», дает нам произведения, которые одновременно являются и эссе и романом. «Сочетаясь браком с другим», «я» критика становится «я» рассказчика. Имеет ли он на это право или нет, нам не важно. Для риторики, которая различает отклонение и норму, достаточно отметить, что в современной критике лица не находятся более «на своем месте», которое им было завещано определенной традицией. «Он», канонизированное «объективной» критикой предыдущего этапа, уступает место «я», которое воспринимается как «нормальное», едва только замечают, что его функция — представлять некое гибридное существо наполовину критика, наполовину поэта или романиста.
Подобно «я», местоимение «ты» также может появиться, когда его менее всего ожидают, чтобы сократить, например, расстояние, разделяющее писателя и созданных им персонажей. М. Бютор в романе «Изменение» с тщательностью энтомолога описывает «его», совершающего путешествие, но обращается к нему на «вы», словно хочет остаться наедине со своим персонажем и исключить из процесса общения назойливого читателя. В этом случае подвергается изменению понятие «среднего читателя». Та же интимность, но не фамильярность, наблюдается в романе А. Жида «Подземелья Ватикана», когда писатель порицает своего героя: «Лафкадио, я больше не пойду с вами!» (о коммутации «ты»/«вы» речь пойдет в разделе 5).
Реклама часто прибегает к обратной коммутации. В принципе она должна говорить «ты» * или по крайней мере обращаться на «вы». Однако часто в рекламе возникает некий «он», чтобы избавить получателя сообщения, прежде всего потенциального клиента, от своего рода «причастности». L’homme de gout s’habille chez Z ’Мужчина co вкусом одевается у Z’; La femme dans le vent se chausse chez Y ’Женщина, следящая за модой, покупает обувь у Y’, в этих формулах отклонение выявляется только в результате специального анализа, настолько они стали банальными. Тем не менее какой-нибудь очень простодушный человек может не понять, а очень язвительный человек может сделать вид, что не понимает, какое отношение имеют к нему подобные высказывания, а это как раз доказывает, что заинтересованные лица воспринимают отклонение, хотя и немедленно его редуцируют. Без подтекста, без риторического эффекта такие высказывания теряют всякий смысл.
Подобным образом в методе лечения с помощью «символической реализации», разработанной М.-А. Сеше, «нормальным» считается обращение терапевта к пациенту в третьем лице единственного числа, которое освобождает пациента от обязанности отвечать или, вернее, освобождает его вообще от всякой причастности к ситуации.
Maitenant, c'est Maman qui va nourrire sa petite Renee. G’est 1’heure de boire le bon lait des pommes de Maman.
’А теперь мамочка будет кормить свою маленькую Рене. Пора попить молочка из груди мамочки’.
Чтобы завоевать доверие больной, к ней обращаются словно к Цезарю; так, мать сказала бы капризному ребенку: Marie, veut-elle encore un pen de soupe? ’Мари хочет еще немного супа?’ Любой посторонний наблюдатель, мало сведущий в правилах, которые налагает на язык мышление ребенка, почувствовал бы здесь отклонение, которое не воспринимается ребенком или больным и которое, войдя в привычку, может перестать ощущаться даже самой матерью или врачом.
К этой разновидности коммутации могли бы быть отнесены все переходы от прямой речи к косвенной (и обратно), представляющие «отклонение» и имеющие целью отрицание всякой «причастности» или, наоборот, утверждение ее.
3. КОММУТАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ
«ОТПРАВИТЕЛЬ/ПОЛУЧАТЕЛЬ СООБЩЕНИЯ»
Согласно языковой норме, «,,я“ обозначает того, кто говорит, и в то же время имплицирует высказывание по поводу,, я“: говоря „я“, я не могу не говорить о себе». Однако эта норма иногда нарушается не только в поэзии, но даже и в обыденном языке. Если разгневанный отец говорит сыну: «Как! Я не выучил уроки! Я сажусь за стол, не вымыв руки!», ясно, что он не делает упреки самому себе. Он просто производит коммутацию знаков, которые обозначают участников диалога. В данном случае «я» равносильно «ты». Перед нами настоящий риторический прием, хотя в нормальном языковом узусе допускается употребление «я» в отношении лица, к которому обращаются с речью. Действительно, следуя терминологии Э. Бенвениста, можно сказать, что «я» и «ты» являются «инвертируемыми», поскольку они находятся в отношении «корреляции по субъективности». Фраза типа:
Ти me dis: ,,je suis venu te voir hier“
’Ты мне говоришь: „Я приходил к тебе вчера11’
не относится к ведению риторики. Никакая двусмысленность не препятствует здесь идентификации «я», поскольку известно, что адресат, как только ему предоставят слово, должен будет обозначать себя, как «я».
Обратная коммутация «я» — -«ты», которая в вышеприведенном примере способствует редукции отклонения, может в других фразах усиливать данное отклонение. Это наблюдается в случае внутреннего монолога, ставшего настолько привычным, что более не вызывает удивления. «Я» распадается на несколько «я», которые беседуют друг с другом и позволяют говорящему соединять конативную функцию языка с экспрессивной. М. Сюлли систематически использовал эту коммутацию в своих «Мемуарах», которые он написал от второго лица [1]. Но не обязательно быть М. Сюлли, чтобы прибегать к этому приему. Мы пользуемся им каждый раз, когда хотим отстраниться от самих себя. II. Валери, которого постоянно мучило желание посмотреть на себя со стороны, часто пользовался данной коммутацией:
Jusqu'a се temps charmant je m’etais inconnu, Et je ne savais pas me cherir et me joindre!
Mais te voir, cher esclave, obeir a la moindre Des ombres dans mon coeur se fuyant a regret Voir sur mon front 1’orage et les feux d’un secret, Voir, 6 merveille, voir! ma bouche nuancee Trahir... peindre sur 1’onde une fleur de pensee, Et quels evenements etinceler dans 1’oeil!
J’y trouve un tel tresor d’impuissance et d’orgueil, Que nulle vierge enfant echappee au satyre, Nulle! aux fuites habiles, aux chutes sans emoi, Nulle des nymphes, nulle amie, ne m’attire Gomme lu fais sur 1’onde, inepuisable Moi!..
букв. ’До этого прекрасного времени я был неизвестен самому себе,
И я не умел беречь себя и сохранять свое единство! Но видеть себя, милый раб, подчиняться малейшей
Тени в моем сердце, покидая его неохотно, Видеть на моем челе грозу и отблеск тайны, Видеть, о чудо, видеть! как изгибы моего рта Выдают... рисуют на водной глади цветок анютиных глазок,
[Видеть] Какие события сверкают в глазах!
Я нахожу в себе такое сокровище бессилия и гордости,
Что ни одна наивная дева, спасшаяся от сатира, Ни одна! С ловкими увертками, предающаяся греху без волнения, Ни одна нимфа, ни одна подруга не привлекает меня так, Как ты привлекаешь меня к воде, неисчерпаемое
Я!..’
Можно было бы подумать, что в «Fragments du Narcisse» получателем поэтического сообщения является отражение юноши в воде, что предполагает наличие коммутации «лицо/не-лицо». Тогда внутренний монолог можно было бы интерпретировать двояко: как настоящий монолог и как диалог между несколькими «я» независимо от того, идет ли речь о духовном или телесном «я», страдающем «я» или «я» — отражением в зеркале. Эта двоякая интерпретация применима к беседам Бодлера со своим сердцем, своей душой, своим страданием. Так же можно интерпретировать беседы Валери со своим рассудком:
О mon Esprit
(...)
Tu te fais souvenir non d’autres, mais de toi,
Et tu deviens toujours plus semblable a nul autre. Plus autrement le meme, et plus meme que Moi.
О Mien — mais qui n’est pas encore tout a fait Moi! букв. ’О мой Рассудок!
(...)
Ты заставляешь себя вспоминать не о других, а о себе,
И ты становишься все более похожим ни на кого иного.
Ты все более по-другому тот же, и ты более тот же, чем я.
О Мой — но пока не совсем Я’.
Если внутренний монолог интерпретируется как диалог,
292
тогда необходимо признать обязательное наличие синекдохи в коммутации «лицо/не-лицо»; при другой интерпретации мы имеем коммутацию «отправитель/ получатель».
Возвращаясь к коммутации «ты»- «я», можно отметить, что она часто встречается в литературе пропагандистского характера. В принципе она связана с конативной функцией языка, но случается, что эта функция оказывается замаскированной в выражении, которое на первый взгляд имеет экспрессивную функцию и в котором «я» замещает ожидаемое второе лицо. В свое время в США лозунги «Голосуйте за Эйзенхауэра» или «Ты должен голосовать за Эйзенхауэра» одинаково трансформировались в лозунг I like Ike «Я люблю Айка». Ясно, что многочисленные отправители этого сообщения вовсе не ограничивались выражением своего мнения. Они обращались к миллионам своих слушателей, чтобы заставить их думать таким же образом. Говоря «я», они подразумевали «ты» и полагались на психологию масс, надеясь, что все «ты», затронутые данным сообщением, идентифицируют себя с его субъектом.
4. КОММУТАЦИЯ «ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ/НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ»
Коммутация «определенность/неопределенность» очень употребительна в речи, и часто трудно определить, в каком случае эта коммутация является собственно риторической. Действительно, в самой безыскусственной речи on может заменять любое лицо с тем лишь ограничением, что оно всегда будет субъектом. Если неизвестные лица разобрали ночью мостовую, нормальным покажется высказывание On a depave la rue. ’Разобрали мостовую’. Однако в разговорной речи скажут: Ils ont depave la rue букв. ’Они разобрали мостовую’. Отклонение в этой фразе минимальное и может вовсе не ощущаться. Тем не менее здесь присутствует коммутация «определенность/неопре-деленность», поскольку анонимная разборка мостовой приписывается лицам хотя и неизвестным, но определенным или по крайней мере определяемым, если произвести соответствующее расследование. Верно, что риторическая значимость коммутации выступает яснее, когда on равнозначно второму лицу во фразах типа On se promene? ’Гуляем?’, On a bien mange? ’Хорошо поели?’, которые в зависимости от того, обращены ойи к одному ййи пйсКоЛй-ким лицам, могут значить соответственно:
«Тн te promenes?» или «Vous vous promenez?» ’Ты гуляешь?’ или ’Вы гуляете?’
«Ти as bien mange?» или «Vous avez bien mange?» ’Ты хорошо поел?’ или ’Вы хорошо поели?’.
В этом случае коммутация «определенность/неопределен-ность» представляется очевидной. Однако эти коммутации настолько банальны, что даже отмечаются словарями. Поэтому, может быть, нужна коммутация типа je/on, чтобы отклонение бросалось в глаза. Некто может сказать своему патрону, обвиняющему его в некомпетентности: On fait се qu’on peut ’Делаем, что можем’. Ясно, что некто говорит о самом себе. В некоторых оборотах пословичного характера on может быть равнозначным je «я», но это «я» не исключает и других лиц. Например:
On est comme on est.
’Каков есть, таков и есть’.
On n’a pas tons les jours vingt ans.
’He каждый день тебе исполняется двадцать лет’.
В этом случае отклонение не представляется очевидным и местоимение on можно рассматривать в том смысле, который чаще всего ему приписывается. В любом случае je и on противопоставляются по признакам «соотнесен-ность/несоотпесенность с участниками акта коммуникации» и «определенность/неопределенность» одновременно. Теперь можно дать оценку отклонениям, которые допускает С. Беккет в своем романе «Моллуа»:
Un peu plus et on sera aveugle. C’est dans la tete. Elie ne marche plus, elle dit, Je ne marche plus. On devient muet aussi et les bruits s’affaiblissent (...) De sorte qu’on se dit, J’arriverai bien cette fois-ci, puis encore une autre peut-etre, puis ce sera tout (...) Si Гоп pense aux contours a la lumiere de jadis c’est sans regret. Mais on n’y pense guere, avec quoi у pen-serait-on? Je ne sais pas. 11 passe des gens aussi, dont il n’est pas facile de se distinguer avec nettete. Voila qui est decourageant. C’est ainsi que je vis A et B... ’Еще немного, и можно ослепнуть, это от головы. Она больше не работает; она говорит: Я больше не работаю. И дар речи уходит, и шумы затихают
(...) Так что говоришь себе: На этот раз у меня все получится, а может, и в другой раз; потом все кончится (...) Если думаешь об очертаниях в сиянии прошлого, то делаешь это без сожаления. Но об этом вовсе не думаешь, да и о чем думать? Не знаю. Бывают люди, от которых нелегко отличить себя. Вот что обескураживает. Таким образом, я увидел А и В...'
С помощью коммутации je/on Беккет описывает потерю человеком своей индивидуальности. Анализируемое нами отклонение самим героем романа не воспринимается. Тем не менее оно заметно всякому, кто в отличие от Моллуа не находится в состоянии отчужденности, деперсонализации или, если хотите, в состоянии неопределенности. Впрочем, таков не только герой романа, поскольку женщина, которая его приютила, также обозначается местоимением on. С этой точки зрения примечателен следующий отрывок, в котором on используется в трех различных значениях:
On trouvera etrange que j’ai pu faire les mouvements que j’ai indiquees, sans leur secour (des bequilles). Je trouve cela etrange. On ne se rappelle pas tout de suite qui on est, an reveil. Je trouvai sur une chaise un vase de nuit blanc avec un rouleau de papier hy-gienique dedans. On ne laissait rien au hasard.
’Может показаться странным, что я смог сделать указанные движения без их (костылей) помощи. Мне это кажется странным. Когда просыпаешься, не сразу вспоминаешь, кто ты. Я обнаружил на стуле белый ночной горшок, а в нем — рулон туалетной бумаги. Постарались предвидеть все’*.
* Русский перевод не передает всех оттенков значения on ввиду отсутствия соответствующей формы местоимения. — Прим, пер.
Если второе on вводит высказывание, относящееся к кому угодно, то первое on обозначает, конечно же, читателя, а третье — хозяйку квартиры.
Некоторые исследователи, например П. Фонтанье, выделяли интересный тип коммутации лица, названный «эналлагой» лица. Эта коммутация заключается в употреблении vous ’вы’ вместо on, как в следующем примере из Ламартина:
Un seul etre vous manque et tout est depeuple.
букв. ’Вам недостает одного-единственного существа, и все становится безлюдным’.
5. КОММУТАЦИЯ «ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО/МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО»
Наиболее обычной формой коммутаций данного типа являются следующие отклонения, закрепившиеся в узусе, но еще ощущаемые как таковые, если на них обращается особое внимание: множественное число в устах лиц королевского ранга и множественное число вежливости. Множественное число позволяет «я» автора научного трактата раствориться в анонимности, а «я» монарха придает ту напыщенность, которую требует его гордыня. Коммутация делает возможной тонкую языковую игру на основе понятий интимности и вежливости, закодированных в местоимениях «ты» и «вы»:
Vous ne repondez point?., perfide! Je le vois
Tu comptes les moments que tu perds avec moi (Racine) букв. ’Вы ничего не отвечаете?., вероломная! Я вижу,
Ты считаешь минуты, которые ты теряешь со мной’ (Расин).
Во французском языке третье лицо множественного числа не употребляется в отношении лиц королевского ранга, может быть, потому, что третье лицо находится за пределами сферы «причастности» к акту коммуникации. Однако в немецком языке получатель сообщения, как в единственном, так и во множественном числе, может трактоваться как лицо, от которого даже не требуют ответа.
Кроме множественного числа вежливости и при обращении к персоне королевского ранга некоторые авторы употребляют риторическое множественное число. Это наблюдается во фразе, уже приводившейся в качестве иллюстрации к коммутации «псевдо-лицо/орто-лицо»:
C’est la faute a ceux qui pleuvent.
’Это вина тех, кто падает дождем’.
Менее убедителен пример из Беккета, в котором, однако, обнаруживается тот же прием:
Le gendarme s’est disperse.
букв. ’Жандарм рассеялся (то есть исчез)’.
Обратную коммутацию, употребление единственного числа вместо множественного, можно обнаружить, например, в спорах политиков или приверженцев различных религий: «Что об этом скажет марксист?», «Что об этом скажет христианин?». Лицо, представляющее данную группу в целом, может начать свой ответ так: «Я...». Поскольку «мы», как подчеркивал Э. Бенвенист, содержит в себе доминирующее «я», то, если это «я» элиминирует в свою пользу совокупность остальных «я», образующих «мы», будет наблюдаться отклонение в употреблении местоимения «я».
Проповедники часто прибегают к библейскому стилю и, обращаясь к общине верующих, говорят: «Ты грешен». Таким образом, они используют высказывания, которые позволяют, формально обращаясь к каждому в отдельности, обращаться одновременно ко всем:
Tn es poussiere et tu retourneras en poussiere.
’Прах еси и во прах обратишься’.
Tes рёге et mere honoreras...
’Почитай отца и мать своих...’.
Коммутация il/ils и в этом случае дает наименее убедительные примеры. Все же укажем на употребление формы единственного числа с собирательным значением:
П s’en moque, le patron, des revendications de 1’ouv-rier,
букв. ’Хозяин издевается над требованиями рабочего’.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Предыдущий анализ относился прежде всего к операции сокращения с добавлением, или коммутации, которая может производиться в пределах бинарных противопоставлений лиц. В этом случае одно лицо замещает другое. Когда оба лица сохраняются, мы имеем дело с операцией сокращения с добавлением, дополнительной по отношению к оксюморону (в котором термы несовместимы, поскольку они взаимно отрицают, а не дополняют друг друга). Может быть, стоит под этим углом зрения еще раз подумать над многозначностью знаменитой фразы А. Рембо:
Je est un autre..
’Я — это другой’.
Что касается операции добавления, следует упомянуть итеративное добавление, которое использует Р. Кено в своих «Стилистических гаммах» в рассказе «Я» («Moi je»).
Наконец, рассмотрим смещения в вертикальном направлении по нашему дереву дихотомий, которые соответствуют синекдохе. Часто встречается предельный случай обобщающей синекдохи-, нерелевантным становится само понятие лица, и употребляется неличная форма глагола — причастие, как в пословице: Donnant donnant. ’Ничего даром не дается’
или инфинитив:
Dormir, rever peut-etre (Shakespeare)
’Спать — это, может быть, грезить’ (В. Шекспир).
В следующем стихе Малларме употреблен инфинитив, но автор сам же редуцирует отклонение:
Fuir! La-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres... букв. ’Бежать! Бежать туда! Я чувствую, что птицы опьянели...’
Ж. Дюбуа справедливо замечает, что инфинитив и причастие близки к существительному и прилагательному соответственно (Dubois 1967, с. 14), но все же это глагольные формы, хотя и немаркированные относительно лица, и в качестве возможных коррелятов они имеют соответствующие маркированные формы глагола.
7. ВЫВОДЫ
Еще раз подчеркнем, что не все субституции форм лица рассматриваются в риторике. Когда итальянцы употребляют третье лицо единственного числа в значении формы вежливости, они прибегают к обычному средству выражения. Та же форма во «фритальянском» * является нормальной только в некоторых выражениях, употребляющихся в определенных контекстах: Sa Majeste est servie! ’Ваше величество, кушать подано!’ или Son Excellence veut-elle donner la peine?.. ’Ваше превосходительство, не изволите ли Вы?..’ За пределами этих освященных
* Fritalien franfais+italien. Ср. еще: franglais franjais+anglais. — Прим, перев.
обычаем формуй То, что дЛя итальянского Является обыкновенным выражением вежливости, во французском становится, если контекст это позволяет хотя бы в малейшей степени, фигурой, которую воспримет любой, кто способен различать язык королей и язык нищих.
Если только понятия отклонения и нормы соответствуют какой-то реальности, ясно, что в речи не существует абсолютной нормы и что риторика не может претендовать на ее установление. Если считается «нормальным» обращаться к кому-либо на «ты» или на «вы», то данная норма всегда будет только условностью, которая может быть отброшена, как только говорящие откажутся от того, что Виттгенштейн называл Sprachspiel ’языковой игрой’, где действует данная норма.
Примеры, которые можно было бы умножить по желанию, показывают, что фигуры существуют только в потенции. Субституция лиц, их опущение или добавление относятся к риторике только в том случае, если эти фигуры нарушают условности и обманывают ожидания того, кто их использует и кто их воспринимает. Чтобы увидеть в замене лиц риторический прием, надо обнаружить норму, от которой производится отклонение, и быть уверенным, что это действительно отклонение. Вот почему, например, в произведениях А. Мишо ритор с трудом обнаруживает свои фигуры, потому что для Мишо вовсе не «нормально» говорить о самом себе в первом лице. Мало сказать, что он не следует общепринятым установлениям, он их игнорирует, или, если хотите, считает «нормальным» не принимать их во внимание. Употребление «он» вместо «я», к которому он охотно прибегает, можно принять за фигуру, если судить об этом по отношению к обычному языку, но если взять все творчество А. Мишо в целом, то такое употребление перестает быть фигурой. Столь значительный автор устанавливает правила собственной «языковой игры», и может получиться так, что употребление лиц в согласии с узусом парадоксальным образом окажется риторичным, в то время как их употребление вопреки условностям узуса не обязательно будет таковым.
Но здесь мы переходим на уровень контекстуальной функции риторического приема. Именно на этом уровне в результате взаимодействия элементов контекста отклонения могут нормализоваться, приводя к возможности возникновения новых отклонений.
II.
ФИГУРЫ ПОВЕСТВОВАНИЯ
0. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Среди «развертываний» (developpements), то есть последовательностей фраз, наибольший интерес, по крайней мере с литературной точки зрения, представляет повествование, или рассказ (recit он narration). Распространение понятий риторики на эту область представляется особенно плодотворным, если учесть, что «со структурной точки зрения повествование слагается из фраз, но никогда не сводится к их сумме» (Barthes 1968, с. 4). Уточним, что могут существовать повествования в миниатюре (Veni, vidi, vici ’Пришел, увидел, победил’), умещающиеся в пределах краткой синтагматической последовательности знаков. Но повествование как таковое не может быть описано в терминах грамматических категорий. Следует отметить, что повествовательный момент обнаруживается также и в неязыковых системах: в изобразительном искусстве (колонна Траяна, витражи, комиксы и т. д.), в театре как сценическом искусстве, в кинематографе.
Из дальнейшего изложения будет видно, насколько полезно вспомнить здесь знаменитое различение, проведенное Л. Ельмслевом между формой и субстанцией выражения и формой и субстанцией содержания (Hjelmslev 1968, с. 13). Н. Рювет уже в 1964 г. отметил, что эта теория «позволяет изучать знаковые системы, отличные от естественных языков» (Ruwet 1964, с. 287). Соссю-ровский знак становится у Ельмслева формальным единством, «состоящим из формы содержания и формы выражения и установленным на основе солидарности между этими двумя формами, которую (солидарность) мы назвали знаковой функцией»; это «двусторонняя сущность, которая, подобно богу Янусу, глядит в двух направлениях и действует двояко: „вовне11 — по отношению к субстанции выражения и „вовнутрь" — по отношению к субстанции содержания» (Hjelmslev 1968, с. 79, 83)*.
Таблица XV
Структура языкового знака
В ожидании появления универсальной семантической теории, которая явится «некоторым образом наукой о понятиях, могущих фигурировать в человеческих языках» (Ruwet 1967, с. 26), изучение возможных фигур субстанции содержания (если только предположить, что они существуют) можно отложить на более позднее время. Напротив, мы бы хотели сказать здесь несколько слов о субстанции выражения, учитывая, что одно и то же повествование, целиком или частично, может воплощаться в различных субстанциях. Структуру повествования можно представить в виде следующей таблицы:
Таблица XVI
Семиотическая структура повествования
Здесь же мы сделаем несколько терминологических уточнений. Повествовательный знак конституируется отношением между формой повествования (le recit гасоп-tant) и содержанием повествования (le recit raconte), иными словами, между тем, что мы ради краткости будем часто называть дискурсом (discours) и повествованием (recit).
1. ФИГУРЫ СУБСТАНЦИИ ВЫРАЖЕНИЯ
1.1. СУППОРТ (МАТЕРИЯ) И СУБСТАНЦИЯ
Л. Ельмслев указал на важность различения субстанции и материи, «физического или психического суппорта неязыковой природы» (Greimas 1966, с. 14). Субстанция выражения — это звуковое поле, существующее в потенции как свойство особого суппорта: артикуляционного аппарата, способного производить звуки. Каждый язык навязывает говорящим особую фонологическую систему, отличную от других, но каждый индивид в принципе может усваивать фонемы, не существующие в его языке. Субстанция всегда нуждается в суппорте, но способна проявляться в различных видах. Текст может быть произнесен, и можно выделить различные способы его произнесения, от монотонного до выразительного. Но текст может и петься. Суппорт и субстанция при этом не изменяются, но оказывается затронутой норма субстанции в одной из ее разновидностей, поскольку нормальным считается проговаривание текста. Это изменение само по себе никак не отражается на высшем уровне отношения форма выражения/форма содержания.
Если мы обратимся к письменной речи, обнаружится то же различение. Субстанция здесь графическая; суппортом может быть рукопись, но чаще это будет печатное издание, книга, газета. Но один и тот же текст может быть напечатан разным шрифтом, и формат книг может различаться. То же можно сказать о кинопленке (8, 16, 35, 70 мм; «стандартный» формат, широкий формат). Это все, несомненно, разновидности суппорта, но они могут
1 Это уточнение очень важно, поскольку в данном случае наблюдаются значительные колебания в выборе терминологии, в чем можно убедиться, если просмотреть специальный номер журнала «Communications», 1966, № 8, посвященный «Структурному анализу повествования». Помещенные в нем статьи являются до сих пор лучшим, что имеется по данному вопросу.
стать разновидностью субстанции, если, Скажем, в печатном тексте окажутся противопоставленными жирный и светлый петит или если в одном и том же фильме будут использоваться различные форматы. В книге могут быть объединены две субстанции: субстанция графическая и субстанция изобразительная. Мы только что говорили о разновидностях первой субстанции, но и изображение может быть фотографией, рисунком или даже комбинацией того и другого. Рисунки и фотографии могут быть чернобелыми, монохромными и полихромными. Так что разновидностей субстанций много.
Традиционный театр основан на представлении, на одновременном и дифференцированном присутствии персонажей и зрителей. Это его суппорт, порождающий двоякого рода субстанцию: звуковую и визуальную. Визуальное представление в свою очередь может быть театром теней, марионеток или актеров. Звуковая субстанция тоже имеет несколько разновидностей и даже может совсем отсутствовать, например в пантомиме.
Те же виды субстанции обнаруживаются в кинематографе, где суппортом является то, что проецируется на экран. Реализация суппорта осуществляется в виде последовательности изображений на плоскости. Реализация визуальной субстанции имеет три основных разновидности: это может быть рисунок, наносимый прямо на пленку (некоторые опыты Макларена) [1], покадровая съемка (мультипликация, кукольные фильмы), непрерывная съемка.
1.2. НОРМЫ И ОТКЛОНЕНИЯ
Сделаем прежде всего несколько замечаний по поводу повествований, в которых используются сразу две субстанции. Это прежде всего иллюстрированная книга и кино.
Если нормой считать неиллюстрированную книгу, то помещение иллюстраций можно, в общем, рассматривать как добавление. Если предположить, что иллюстрация несет абсолютно ту же информацию, что и текст, перед нами будет повтор. Но более интересным является тот случай, когда иллюстрация предвосхищает текст; например, гравюры Этцеля предшествовали соответствующим эпизодам в изданиях романов Жюля Верна. Можно даже предвидеть возможность своего рода отрицательного сокращения с добавлением, которое производит, например, Лапужад, когда иллюстрирует исключительно женскими образами роман Ж. Лемаршана «Женевьева», в котором, кроме названия, героиня нигде не упоминается и в повествовании не присутствует. Интересно было бы изучить эволюцию норм связей между изображением и текстом в комиксах. Сначала текст находился за пределами рисунка, затем стали вписывать реплики персонажей в особые кружки в пределах изображения; таким образом снова пришли к историям «без слов».
В немом кино 20-х гг. в свое время стала использоваться операция сокращения. Обычно титры давались перед соответствующим эпизодом, но К. Мейер и Ф. В. Мурнау [1] решили упразднить эти интертитры в некоторых фильмах, в том числе в фильме «Последний человек» («Le dernier des hommes»). Наоборот, когда такой режиссер, как Ж.-Л. Годар, в наше время снова вводит интертитры, этот эффект ощущается как добавление — «Женщина есть женщина» («Une femme est une femme»), «Карабинеры» («Les carabiniers»). Обычно в звуковом кино используется несколько каналов: шумы, диалоги, музыка, голос за кадром. В киноповествовании голос за кадром часто является риторической фигурой, как, впрочем, и отсутствие музыки или диалога, даже замена музыки естественными шумами или голоса за кадром диалогами (ср. «Роман шулера» («Le roman d’un tricheur») С. Гитри).
Если учитывать только иконическую субстанцию, фигуры могут возникать в результате использования двух или более разновидностей одной и той же субстанции; так, в одном музыкальном фильме Джин Келли танцевала с маленькой мышкой, сбежавшей из мультипликационного фильма. Другие кинематографические фигуры зависят от скорости съемки и демонстрации фильма (замедленная и ускоренная съемка), от использования специальных объективов (длиннофокусных или короткофокусных, ограничивающих или расширяющих поле зрения), от использования размытых контуров, многократного экспонирования, негативного изображения, цвета. В плане дистрибутивных отношений между разновидностями субстанции эти эффекты являются результатом все тех же операций сокращения с добавлением: цветные кадры разрывают последовательность черно-белых, ускоренный темп изображения выступает на фоне обычного.
1.3. ДИСТРИБУЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Здесь мы снова наблюдаем явление, с которым сталкивались ранее: от субстанции совершается переход к форме; от связывающего их отношения совершается переход к отношению между дискурсом и повествованием. В интересующем нас в данный момент плане именно этот переход на более высокий уровень должен быть в центре нашего внимания. Когда автор решает заменить одну разновидность субстанции другой, он это делает чаще всего для того, чтобы придать такой замене формальную значимость в дискурсе. Так, Преминджер в фильме «Здравствуй, грусть» («Bonjour tristesse») [1] использует цветное и черно-белое изображение, но цвет используется только для показа событий, относящихся к прошлому. В конце своего фильма «Прекрасный май» [2] Крис Маркер прибегает к ускоренному темпу изображения; в то время как голос за кадром перечисляет статистические данные за месяц: число рождений, смертей и пропаж без вести, количество литров выпитого молока и вина, количество произведенных «рено» и «ситроэнов», изображение аккумулирует параллельно все убыстряющееся движение автомобилей вокруг Триумфальной арки и все убыстряющееся движение поездов метро, поглощающих и извергающих толпы несущихся пассажиров. Разновидности субстанции здесь актуализируются, приобретая семантическую значимость. Если данную последовательность кадров отделить от сопровождающего ее комментария, то ее значимость будет определяться только на основе дистрибутивного отношения к другим разновидностям визуальной субстанции, используемых в фильме; однако поскольку эта последовательность имеет звуковое сопровождение (обладающее своей субстанцией и формой), ее значимость претерпевает большие изменения. Аналогично в некоторых комиксах разновидности шрифта, которым набраны слова или выкрики персонажей, передают их нетерпение, нервозность, гнев; величина букв соответствует степени энергичности выражений и проклятий. Известно, что видный полиграфист Массэн регулярно использовал этот прием для «визуализации» пьес Тардье и Ионеско.
На интеграционном уровне изменение разновидности субстанции или самой субстанции можно, таким образом, рассматривать как простое или итеративное добавление в зависимости от его функции в едином формальном целом.
2. ФИГУРЫ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЙ: ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС
2.0. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Мы изучаем здесь фигуры формы выражения только в той мере, в какой эта форма включает в себя форму содержания. Другими словами, мы сосредоточим наше внимание на отношении «дискурс — повествование» в указанном выше смысле. В некоторых видах искусства, использующих зрительные образы, прежде всего в кино, иллюзия реальности такова, что наличие формы означающего едва ощущается; мы непосредственно проецируем воспринимаемое означаемое на референт. В литературном повествовании эта иллюзия слабее, но также присутствует, поэтому повествование, содержащееся в дискурсе и в принципе ограниченное им, представляется внешним по отношению к нему (предшествующим в своем возникновении и последующим в своем окончании); кажется, что повествование выходит за рамки дискурса, который как бы включается в повествование.
2.0.1. Литературный дискурс. Литературный дискурс редко оказывается до такой степени прозрачным, что повествование как бы просвечивает сквозь него без всяких уловок, а передаваемые им понятия непосредственно воплощаются в зримые образы. Чаще всего дискурс противопоставляет воспроизведению событий в воображении читателя свою собственную интригу, собственные синтактические приемы. По мере развертывания дискурса происходит становление двух универсумов: универсум повествования, в котором живые существа и предметы бытуют согласно своим специфическим законам, и языкового универсума, в котором образование фраз регулируется синтаксическими нормами, подчиняющими собственному порядку элементы первого универсума. Дискурс может подчиниться репрезентации фактов, отойти на задний план, уступив место событиям, или же, наоборот, ограничиться лишь несколькими элементами, необходимыми для наглядного изображения; так, Вольтер всего в нескольких строках описывает войну между булгарами и абарами:
Les canons renverserent d’abord a peu pres six mille hommes de chaque cote; ensuite la mousquetrie 6ta du meilleur des mondes environ neuf a dix mille coquins qui en infectaient la surface. La ba'ionette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelque milliers d’hom-mes.
’Пушки уложили сначала около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров не то от девяти, не то от десяти тысяч бездельников, осквернявших его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч душ’*.
Романист волен спотыкаться о предметы или проникать в их сущность; даже на протяжении одной фразы он может пребывать то внутри, то вне своих персонажей. Флобер, часто стараясь держаться в тени, все же обнаруживает свое присутствие, когда, например, сообщает нам, о чем не мог думать Шарль:
Quant a Charles, il ne chercha point a demander pour-quoi il venait aux Bertaux avec plaisir.
’А Шарль даже и не задавал себе вопроса, отчего ему так приятно бывать в Берто’**.
Подобные вмешательства Флобера, какими бы ограниченными они ни были, хорошо показывают амбивалентность дискурса, который то излагает события, то излагает самого себя, то отходит на задний план ради прозрачного описания фактов, то выступает вперед, чтобы вступить в беседу с читателем. Так, Г. Фильдинг приостанавливает действие в первой главе каждой части «Истории Тома Джонса, найденыша», чтобы предаться размышлениям и поспорить с критиками.
2.0.2. Сценический дискурс. В театральном представлении зрители не видят автора и сцена находится в полной власти действующих лиц, «одно присутствие которых отодвигает автора на задний план» (R о u s s е t 1962, с. 57) 2. До некоторой степени присутствие автора все же чувствуется в распределении материала по актам и сцепам. Если взять хотя бы «Британика» Расина, то окажется, что ход повествования начался до того, как поднимается занавес (Нерон приказал похитить Юнию), а когда занавес опускается, события продолжают идти своим чередом: между Агриппиной и Бурром заключен союз, и они хотят попробовать вразумить императора (последняя реплика звучит: Allons voir се que nous pouvons faire ’Посмотрим, что мы можем сделать’).
Итак, изложение событий осуществляется актером — действующим лицом, который в принципе является единственным посредником в воспроизведении сценического дискурса. Однако, во-первых, актер может отделить себя от действующего лица и такое отделение представить как элемент повествования. В этом заключается сущность отчуждения у Б. Брехта, когда актер показывает своего персонажа, но не идентифицирует себя с ним. Во-вторых, актер может позволить персонажу вступить в контакт с публикой, и тогда воображаемое пространство сценического действия и реальное пространство зрительного зала неожиданно смешиваются.
2.0.3. Кинематографический дискурс. В кино используются три вида процесса повествования: монтаж, движение кинокамеры и титры или, после появления звукового кино, звуковая дорожка.
Монтаж навязывает зрителю свой порядок, свою длительность, свой ритм. Упорядочивание отснятого материала может вызвать неожиданное опущение событий или ввести в повествование элементы, чуждые ему (знаменитые «метафоры» Эйзенштейна). Присутствие автора проявляется также в движении кинокамеры, когда некоторое событие игнорируется (камера может фиксировать действие, но как бы его не замечать) или предвосхищается (в фильме «Путешествие будет опасным» [1] панорамная съемка обнаруживает присутствие индейцев до того, как их замечают пассажиры дилижанса). Наконец, это интертитры, с помощью которых рассказчик непосредственно обращался к зрителю, уступили место звуковой дорожке. Голос за кадром дублирует визуальный дискурс, и, таким образом, если исключить из рассмотрения внутренние монологи, происходит одновременное введение двух временных планов, поскольку звук воспринимается как относящийся к более недавнему прошлому, к более близкому настоящему, чем изображение.
Остается упомянуть некоторые более редкие приемы, когда, например, действующее лицо напоминает о присутствии кинокамеры или прямо обращается к зрителям (в фильме «Женщина есть женщина», когда Анна Карина покидает Ж.-П. Бельмондо, тот поворачивается лицом к зрителям и говорит: «Она уходит»).
2.0.4. Нормы и отклонения. В нашем предварительном анализе мы рассмотрели некоторое количество отклонений по отношению к теоретически устанавливаемой норме, согласно которой дискурс должен быть до такой степени прозрачным, чтобы повествование текло само собой. Литературное, сценическое и кинематографическое повествования в их разновидностях постигаются только через дискурс, который всегда может напомнить нам о своем собственном существовании, отказавшись от изложения сюжета повествования, чтобы обратить внимание на самого себя. Здесь мы наблюдаем основной эффект риторической функции: внимание привлекается к самому сообщению.
На практике нам приходится считать нормальным остаточное присутствие обращенного на самого себя дискурса. Комментарии Флобера или умолчания о событиях у Расина ни в чем не нарушают развития повествования. Дискурс находит в них свое выражение в размышлениях, сопровождающих чтение повествования. Напротив, когда происходит наложение отношения «автор/читатель» на отношение «дискурс/повествование», может ощущаться присутствие отклонения, но по своему характеру оно скорее принадлежит к подсистеме метабол отправителя и получателя сообщения.
Крайний случай отрыва означающих от означаемых наблюдается в некоторых современных романах, где дискурс вступает в спор с повествованием, ибо автор дает подряд две или более версий одного и того же события. Читателю предлагается ряд возможностей, при этом ни одной версии не отдается предпочтения. Тем не менее и здесь возникает иллюзия реальности, какое-то повествование все же просачивается через дискурс, но это повествование формируется при постоянных колебаниях дискурса и фактически становится повествованием об организации дискурса. Мы имеем здесь, без сомнения, аналог фигур с множественной изотопией, о которых мы говорили выше (ч. I, гл. I, раздел 2.1.5); нулевая ступень остается неопределенной.
Ниже мы попытаемся дать классификацию основных сфер речевой деятельности, в которых могут возникать те или иные фигуры. Повторим еще раз, что каждый жанр в искусстве имеет свои условности и свои условия, которые меняются от направления к направлению, поэтому норма предстает в виде многочисленных разновидностей. Однако всегда возможно представить ее в схематизированном виде, взяв за основу когнитивную функцию; развитие исторической науки, рассматриваемое в качестве идеальной модели, может послужить нам образцом.
Мы будем исходить из того простого факта, что повествование, как и дискурс, всегда носит поступательный характер; повествование начинается и заканчивается в диегетическом времени, а дискурс ограничен временем сказывания. Длительность повествования развертывается между двумя пустотами, которые предшествуют ему и следуют за ним. На это первичное сходство, основанное на хронологии, накладываются другие сходства. В своей норме фраза стремится к ясности: слова в ней сцепляются друг с другом по законам логики, в то время как события излагаются одно за другим с четким указанием на их причинно-следственную взаимосвязь. Наконец, поскольку дискурс необходимо предполагает рассказчика, анонимного или идентифицированного, то в нем устанавливается определенная точка зрения независимо от того, старается ли рассказчик скрыть свое присутствие или, наоборот, открыто выступает в качестве свидетеля и даже действующего лица события. К дискурсу, в котором используется зрительный образ, и частично к романическому дискурсу предъявляется также еще одно требование. Поскольку дискурс локализуется в самом пространстве повествования, в норме эта локализация не должна ощущаться и дискурс не должен заслонять собой повествование.
2.1. СООТНОШЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ
В принципе время сказывания имеет меньшую длительность по сравнению с длительностью излагаемых событий. Совпадение двух длительностей происходит только в том случае, если дискурс точно воспроизводит временные характеристики повествования. Таков дискурс диалога, по крайней мере когда в нем зафиксированы именно те слова, которыми собеседники обменялись в действительности. Рассмотрим, каким образом происходит сжатие длительности повествования в трех формах дискурса; в драматургических произведениях, кинофильмах и романах.
В классической драматургии, где процесс сказывания перекладывается автором на действующих лиц, компрессйй дли+еЛЬносЯй йовес1вовайия в пределах длительности дискурса проявляется во взаимосвязи отдельных актов и сцен. При толковании правила трех единств в свое время было сделано допущение, что время повествования, составляющее двадцать четыре часа, может редуцироваться до длительности дискурса в несколько часов. Кроме пауз, которые налагаются и предполагаются антрактами и переходами от одной сцены к другой, компрессия длительности проявляется в самой расстановке диалогов.
Это сжатие, которое стремится стать нормой, имеет целью прежде всего ясность выражения мысли; выражение связывает мысль в когерентное и организованное целое, не позволяет ей растекаться в бесконечных блужданиях, повторах, попытках претвориться в действие, хотя подобное и наблюдается в реальной действительности. В пьесах Расина если и присутствует двусмысленность, то только в плане повествования (желает или не желает Нерон примирения с Британиком?), но не в плане дискурса (Нерон может поставить под сомнение свои действия, но не свои слова).
Компрессия может проявляться в действиях персонажей: Федра не ест, не пьет, не гуляет, не спит, она только говорит. Кроме того, у второстепенных действующих лиц нет собственных проблем, не имеющих отношения к основному действию. Несомненно, Бурр и особенно Нарцисс втянуты в основное действие, но время сказывания никогда не расширяется настолько, чтобы вместить в свою длительность их личные проблемы и конфликты. Таким образом в драматургических произведениях достигается компрессия времени в дискурсе повествования.
В кинематографе в каждом отснятом эпизоде, если только не происходит изменения субстанции, данный фрагмент дискурса заключает в себе всю длительность соответствующего фрагмента повествования. Подобное совпадение длительностей фрагментов дискурса и повествования может распространиться на все произведение в целом (ср. «Клео с пяти до семи» («Cleo de cinq a sept») А. Варда). Но обычно при монтаже отснятых эпизодов происходит компрессия длительности. Например, можно представить себе такую последовательность трех эпизодов: показывается персонаж А, который принимается за еду, затем происходит переход к персонажу В, который наблюдает за А и ведет с ним беседу, потом снова показывается А, уже заканчивающий еду и убирающий посуду. В каждом эпизоде сохраняется длительность повествования, но при переходе от одного эпизода к другому какой-то отрезок времени повествования оказывается элиминированным.
Совершенно очевидно, что разница между длительностью дискурса и длительностью повествования увеличивается еще более в художественной литературе. Как уже говорилось ранее, в словесном дискурсе происходит сопряжение двух универсумов. Пространство повествования конкретизируется в описаниях, оно упоминается в диалогах; время же повествования приостанавливается в описаниях и имитируется в диалогах. Наоборот, дискурс, первичная длительность которого проявляется в отношении «рассказчик/читатель», может полностью ассимилировать диалог, сконденсировать его в виде косвенной речи или удлинить его за счет анализа (обращенных к читателю размышлений рассказчика по поводу диалога) или посредством обращения к внутренней речи персонажей. Равновесие дискурса и повествования, ставшее нормативным, можно обнаружить в эпизоде встречи Эммы и Леона в гостинице «Красный крест» («Госпожа Бовари»), где описание событий, происходивших в течение трех часов, умещается на четырех страницах текста; наши читательские навыки и литературные условности закрепили эту норму.
2.1.1. Сокращение. Отклонение сокращения имеет место, когда писатель элиминирует диалог, концентрирует значения слов или сгущает события, как в следующем знаменитом отрывке из «Воспитания чувств»:
Il voyagea.
Il connut la melancolie des paquebots, les froids reveils sous la tente, I’etourdissement des paysages et des ruines, I’amertume des sympathies interrompues.
Il revint.
Il frequenta le monde et il eut d’autres amours encore. ’Он отправился в путешествие.
Он изведал тоску на палубе параходов, утренний холод после ночлега в палатке, забывался, глядя на пейзажи и руины, узнал горечь мимолетной дружбы. Он вернулся.
Он выезжал в свет и пережил еще не один роман
* Цит. по русск. переводу: Флобер Г. Собр. соч. в 3-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1983, с. 200. — Прим, перев.
2.1.2. Добавление. Мы имеем фигуру добавления, когда дискурс удлиняется за счет внутренних монологов, когда процесс сказывания растягивает длительность мельчайших отрезков времени (заключительная глава «Улисса» Дж. Джойса).
Эта фигура предстает в еще более ярком виде, когда, как отметил Э. Ауэрбах (см. Auerbach 1968), благодаря размышлениям, погружению в мир мыслей персонажа смешиваются внутреннее и внешнее время. В «Прогулке к маяку» Вирджинии Вульф между двумя репликами, которые должны были бы довольно быстро последовать одна за другой, вставляется размышление миссис Рамсей. Подобное же наблюдается, когда возникает расхождение между тем, что говорится, и тем, что под этим подразумевается, или, по выражению Натали Сар-рот, между беседой (текстом) и подтекстом (la conversation et la sous-conversation); в этом случае обмен самыми незначительными репликами обрастает сотней толкований, сотней смысловых ответвлений.
В театре реплики в сторону, которые вводят зрителя в мир мыслей действующего лица, также увеличивают длительность дискурса. Однако эти реплики можно считать фигурой, если только они используются систематически. Подобная фигура явно присутствует в «Кромвеле» Гюго, который заставляет действующих лиц говорить в двух регистрах (В utor 1968, с. 185 — 215). Еще более ярко она проявляется в «Освальде и Зенаиде» («Oswald et Zenalde») Тардье, поскольку здесь инвертировано обычное соотношение между длиной диалогических реплик и длиной реплик в сторону.
В художественной литературе известны другие виды отклонений в плане соотношения длительностей: описание и отступление. Лессинг считал удачей Гомера то, что поэт описал одеяние Агамемнона в тот самый момент, когда царь в него облачался, и таким образом смог ухватить описываемый предмет в движении. Однако чаще описание приостанавливает повествование, даже вовсе его останавливает и неожиданно вводит в длительность повествования длительность времени сказывания. Подобный прием характерен для нового романа с его длинными описаниями и особенно для творчества Роб-Грийе.
Отступление — явление более двусмысленное. Если оно нарушает по воле автора непрерывность повествования только для того, чтобы сосредоточить внимание читателя на времени сказывания, оно происходит в плане дискурса.
— Я думаю, — отвечал дядя Тоби, вынимая при этих словах изо рта трубку и ударяя два-три раза головкой о ноготь большого пальца левой руки. — Я думаю... — сказал он. — Но, чтобы вы правильно поняли мысли дяди Тоби об этом предмете, вас надо сперва немного познакомить с его характером...* (Л. Стерн. «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена») [подчеркнуто нами].
И нам нужно, вооружившись терпением, прочитать около тридцати страниц текста, только тогда мы наконец узнаем, что дядя Тоби думал, «что нам не худо было бы позвонить». Для рассказчика дядя Тоби, конечно, всего лишь промежуточный терм, но неожиданное установление отношения «рассказчик/читатель» в ущерб отношению «рассказчик/повествование» представляется читателю как потеря времени.
Рассказчик, как известно, свободно может переходить от одного промежуточного терма к другому. В романе Д. Дидро «Жак Фаталист и его хозяин» (с которым роман Стерна обнаруживает некоторое сходство) трактирщица рассказывает героям историю маркиза Дезарси и госпожи де Ла Помере. Но рассказчицу зовут то туда, то сюда, и она вынуждена то и дело прерываться. Это, конечно, приостановка повествования, отступление, но оно никоим образом не прерывает основную длительность повествования, действующими лицами которого выступают Жак, его хозяин и трактирщица.
Наконец, отступление может представлять собой фигуру повествования; в этом случае откладывается некое действие, а время продолжает свой ход. Нечто подобное мы видим в фильме Ж.-Л. Годара «Особняком» («Bande а part»), когда герои романа, слишком рано прибывшие к месту своих злодеяний, совершают прогулку по Лувру.
Выше мы упомянули об использовании в кинематографе ускоренной и замедленной съемки и -указали, что, будучи разновидностями субстанции, эти приемы в конце концов оказываются разновидностями дискурса; первый прием представляет собой добавление, второй — сокращение. Стоп-кадр также имеет значимость фигуры добавления во временном плане. Особенно четко функция стоп-кадра выявляется в фильме Кона Ичикавы «Странное наваждение» [1]. В каждом эпизоде стоп-кадр фиксирует начало действий персонажа, и все происходит так, словно автор хочет спросить нас: «А если бы он сейчас остановился, отказался от своего решения, пренебрег неизбежным?»
2.1.3. Сокращение с добавлением. Если в литературном произведении происходит полная замена объективной временной отнесенности на субъективную, то можно говорить о наличии операции сокращения с добавлением. В этом случае у нас возникает не просто впечатление добавления к объективной непрерывности повествования некоей внутренней временной длительности, а впечатление настоящего замещения одной длительности другой.
Толкование приводимого ниже примера может поначалу вызвать колебания. В «Совином береге» («La riviere du hibou») Амброза Бирса 12] мы видим, как героя фильма ведут по мосту, на котором его должны повесить; вот ему накидывают петлю на шею, палачу отдается приказ привести приговор в исполнение, но вдруг осужденный кидается в реку, увертывается от пуль охранников, выбирается на берег, пересекает лес, бежит навстречу своей жене, и в тот момент, когда он собирается обнять ее, мы снова видим его на мосту, уже повешенным. Воображаемое расширение последних секунд, даже последних десятых секунд жизни героя произошло без перерыва повествования: автор размыл переход от одной временной данности к другой, и только в конце повествования мы догадываемся о субституции. Подобный же прием был использован Обалдиа в пьесе «Женузи» («Genousie»).
Мы не решаемся охарактеризовать эти случаи как сокращение с добавлением потому, что все же можно уловить a posteriori момент перехода от одной длительности к другой и ухищрение режиссера каким-то образом выходит наружу. Но когда мы получаем всего лишь фрагментарную и неопределенную информацию об объективной длительности, то, бесспорно, имеем дело с субституцией. Этот прием употребляется часто, его можно наблюдать в произведениях Мориса Бданщо, а также в романах Клода Симона. Кинематографу, по-видимому, неизвестна фигура сокращения с добавлением в ее законченном виде. Дело в том, что в кино переход от объективного времени к субъективному всегда ясно подчеркивается или посредством изменения субстанции или посредством разведения звука и изображения. В фильме Андре Дельво «Однажды вечером, поезд» («Un soir, un train») по звукам мы догадываемся о происходящем несчастном случае, в то время как изображение вводит нас в мир мыслей героя. Но в этом фильме наблюдаются и более сложные приемы, когда эффекты добавления и сокращения, локализованные в некоторой, легко обнаруживаемой точке повествования, сливаются, образуя некую гибридную фигуру.
Приведем замечательный пример из фильма «Взлетная полоса» [1], в котором используется прием, близкий к стоп-кадру. В конце фильма герой падает на взлетную полосу в Орли. Изображение фиксирует только четыре момента его падения, поэтому можно говорить о редукции длительности повествования. Но длительность каждого из этих моментов дискурса превосходит соответствующую длительность повествования, и, таким образом, возникает фигура добавления.
2.1.4. Поскольку мы отделили длительность как таковую от событий, которые в нее вписываются, перестановки, затрагивающие временной порядок, будут рассмотрены в связи с хронологией (см. раздел 2.2.4).
2.2. ФАКТЫ И ХРОНОЛОГИЯ
Традиционно повествование в романе представляется как некое подобие исторического повествования. Обычно предполагается, что воображаемые события относятся к прошлому и их изложение носит ретроспективный характер. Иначе говоря, начало времени сказывания следует за началом и даже за окончанием излагаемых событий. Постепенно получил распространение эстетический идеал, согласно которому писатель должен отбросить имеющиеся у него сведения о последовательности событий и располагать их в перспективе «открытого настоящего» (present ouvert), хотя ему известно, что они относятся к «закрытому прошлому» (passe ferine). Однако чаще всего эти предварительные сведения по воле автора или помимо нее все же оказывают какое-то влияние на повествование.
Однако хронология интересует нас прежде всего с точки зрения той связи, которая устанавливается между порядком следования событий и моментом их описания. Для романа обычным является ретроспективное повествование: два действующих лица рассказывают друг другу, что они делали или видели накануне, или же автор, вводя новое действующее лицо, мотивирует прошлыми событиями его присутствие в романе и в нескольких фразах очерчивает его биографию. Такие нарушения хронологической последовательности событий едва ли образуют фигуры, поэтому нельзя рассматривать как явное движение вспять ретроспективное повествование о детстве Шарля, которое идет вслед за начальным эпизодом романа «Госпожа Бовари».
2.2.1. Сокращение. Хронология повествования и хронология дискурса совпадает в своем направлении. Но бывает и так, что писатель скрывает от нас какое-то событие. Когда оно маловажное и не оказывает никакого влияния на ход действия, фигуры не возникает, если только автор намеренно не опустил переход от одного эпизода к другому для создания эффекта дискурса.
Например, в следующем диалоге нет указания на то, что между второй и третьей репликами заканчивается соответствующий эпизод и Жак Ломон возвращается домой [1]. Р. Кено вызывает таким образом удивление читателя и вынуждает его a posteriori внести поправку в свое восприятие развития действия.
— Apres tout tel Jules Cesar j’aime mieux etre le Premier a Bueil que le je ne sais combien-ieme a Paris. — Pourquoi ne seriez-vous pas aussi le premier a Paris? s’ecrie 1’Aumone avec enthousiasme.
— C’est a cette heure que tu rentres, lui demande sa femme.
— C’est vrai que je suis en retard. Figure-toi... que je suis reste chez Arthur a pernoter avec des Cigales.
’ — В конце концов, подобно Юлию Цезарю я предпочитаю быть первым в Рюэле, чем неизвестно которым в Париже.
— Почему бы вам не быть первым в Париже? — восторженно восклицает Ломон.
— Это ты только сейчас возвращаешься? — спрашивает его жена.
— Действительно, уже поздно. Представь себе... я остался у Артюра, чтобы выпить с Сигалем’.
Когда в повествовании опускается важное событие, эллипсис может быть двоякого рода: в одном случае возникает ожидание события в будущем, в другом вывод о том, что произошло, делается ретроспективно.
Первая разновидность эллипсиса стала обычной при окончании дискурса: автор возвещает о некоем событии, но не описывает его. Так, когда Камю покидает своего Мерсо на последней странице романа «Чужой», казнь героя еще не состоялась.
Вторая разновидность более обычна в начале дискурса. Так, введенный in medias res читатель или зритель должен догадаться о причинах предыдущих событий по изображенным следствиям, зная о похищении Юнии, понять, почему Агриппина находится у входа во дворец Нерона («Британик» Расина).
Фигура выступает более явственно, если она нарушает ход повествования. Недостающие письма маркизы М. графу Р. (Кребийон-сын) пояснили бы нам, что маркиза стала любовницей графа. С недавних пор некоторые писатели стали использовать сам момент сказывания в качестве средства обнаружения события, которое за ним скрывается. В романе «Этре, который теряет привычку» (Aytre qui perd 1’habitude) Жан Полан приводит страницы из путевого дневника Этре. Записи с 27 декабря по 18 января не представляют никакого интереса. Запись от 19 января в дневнике отсутствует. Затем, начиная с 20 января, тон записей меняется. Этре рассказывает о следствии, ведущемся по делу об убийстве одной женщины, и записи становятся более пространными; за чисто деловыми заметками следуют личные соображения: Этре «потерял привычку», и мы можем догадаться, что 19 января он убил мадам Шалинарг3. Противопоставление двух видов дискурса — их длины, содержания, стиля — до и после убийства угадывается прежде всего в дистрибуции элементов плана выражения, но затем отражается и на самом содержании повествования.
3 Можпо было бы возразить, что здесь мы имеем дело с обрамленным повествованием и что объяснение событий дается в пределах рамки. Однако тот же прием обнаруживается в некоторых рассказах Чехова, особенно в рассказе «Толстый и тонкий». Изменение словаря и тона повествования является проявлением каких-то внутренних мотиваций, скрываемых от читателя; временная и каузальная последовательности также затрагиваются.
2.2.2. Добавление. Принимая во внимание, что факты повествования, охватываемые дискурсом, предположительно представляют собой единое целое, простое добавление оказывается немыслимым. Однако, поскольку задачей дискурса является отбор фактов и хронологических указаний, можно было бы считать добавлениями те случаи, когда автор задерживается на описании незначительных фактов и дает слишком много хронологических указаний. Возьмем следующий отрывок из романа Клода Симона «Дороги Фландрии»:
...et moi reussisant cette fois a me lever accrochant la table dans mon mouvement entendant un des verres coniques se renverser rouler sur la table decrivant sans toute un cercle autour de son pied jusqu’a ce qu’il rencontre le bord de la table bascule et tombe 1’enten-dant se briser en meme temps qu’arrive derriere la femme et regardant par-dessus son epaule je vis...
’...а мне на сей раз удалось подняться уцепившись за край стола и одновременно с моим движением я услышал как одна из рюмок опрокинулась покатилась по столу разумеется выписывая круги вокруг собственной ножки докрутилась до края столешницы которую я еще к тому же толкнул упала и разбилась а я тем временем ухитрился добраться до хозяйки кафе и глядя через ее плечи увидел...*
Когда Брессон в фильме «Карманник» («Pickpocket») (или Антониони в «Красной пустыне») [11 начинает повествование до того, как герой появляется перед объективом, и заканчивает его уже после того, как герой исчез из поля зрения, он вводит в повествование детали, несвойственные развитию действия.
Хотя, строго говоря, дискурс не может добавить к повествованию некое событие, случается, однако, что в дискурсе происходит повторение одного и того же факта. Когда воспроизведение события в воображении героя точно отражается дискурсом, мы имеем простую фигуру повествования; но повторение является фактом самого дискурса, если в пределах времени сказывания оно соотносится всего лишь с одним событием в повествовании. Этот прием очень часто использовался в средневековой литературе. В «Житии святого Алексея» события в день свадьбы героя, когда он приходит в спальню своей жены и объявляет ей, что отказывается от нее, отражены в трех строфах: «Строфа XIII начинает рассказ с того же самого места, что и строфа XII, продолжает развитие иным способом и заводит его дальше; строфа XIV сказанное в предыдущей строфе передает в виде прямой речи... и гораздо конкретнее» (Auerbach 1968, с. 123)*.
2.2.3. Сокращение с добавлением. Альтернация. Непрерывность текста допускает только большую величину момента сказывания, даже если оно по мере своего развертывания осуществляется различными «я». Конечно, можно представить себе и такую структуру текста, в которой альтернации происходили бы от строки к строке или от страницы к странице (как у М. Бютора). Но обычно переход от одного действия к другому, одновременному с первым, в романическом повествовании происходит последовательно. Отношения между действиями могут быть довольно сложными. Если мы прерываем действие А в момент его пересечения с действием В посредством введения действия X, то, во-первых, мы подавляем или задерживаем развитие отношения A/В, во-вторых, добавляем отношения А/Х и Х/В. Более того, момент В, который является продолжением А, уже более не повторяется как следующий непосредственно за А; таким образом временной эллипсис, длительность которого приблизительно равна X, отделяет А от В, и становится очевидной замена на уровне сцепления фактов. Этот прием обнаруживается в романе «Кое-что другое» («Quelque chose d’autre») Веры Шитиловой; в нем оказываются соотнесенными трудности, с которыми сталкивается молодой гимнаст в своих ежедневных тренировках, и мещанское существование женщины, с одинаковой скукой делящей свое время между мужем, ребенком, кухней и любовником. Оба ряда событий развиваются в пределах одной и той же хронологической последовательности, но каждое событие мыслится одновременно как последующее в своем ряду и как параллельное событию в другом ряду.
Разрыв хронологической последовательности. То же явление наблюдается при разрыве хронологической последовательности. Если воспоминания или планы на будущее вставляются в первичную временную последовательность событий, мы имеем скорее замену, а не добавление в том смысле, что события могут развиваться своим ходом, между тем как дискурс берет на себя изображение прошлого, воображаемого или будущего времени. Этот прием уже ярко проявляется в обрамленных повествованиях, как, например, в «Декамероне». Он проявляется еще ярче в творчестве Пруста, в некоторых фильмах («Хиросима, моя любовь»), когда по воле памяти воспоминания заслоняют действие, и от изображения конкретных, актуальных фактов дискурс переходит к изображению фактов иной, воображаемой темпоральности.
Кинематографическая метафора. В фильме А. Рене «Хиросима, моя любовь» первый разрыв хронологической последовательности происходит в тот момент, когда изображение тела убитого японца, его раскинутых рук сменяется изображением тела немецкого солдата, лежащего в таком же положении. Именно сходство положений оправдывает вторжение воспоминаний или, если хотите, мысленного образа. В хронологическом плане он является промежуточным термом повествования. Наоборот, знаменитые метафоры Эйзенштейна (виды бойни, введенные в эпизод нападения полиции в фильме «Стачка», образы арфисток, символизирующие усыпляющие речи меньшевиков в «Октябре») предстают как вторжение автора в развитие повествования, как промежуточные термы, принадлежащие дискурсу. В «Октябре» речь Корнилова, который, обращаясь с призывами к «патриотам», прибегает к образам бога и отечества, сопровождается вереницей образов, напоминающих различные божества, и другим рядом образов, в котором оказались объединены (тут можно усмотреть синекдоху) разного рода эполеты и медали. Здесь Эйзенштейн опускает зрительные образы, которыми сам Корнилов мог бы проиллюстрировать свою речь, и вместо этого дает собственные образы, подвергающие осмеянию речь Корнилова.
2.2.4. Перестановка. В хронологической последовательности можно также обнаружить любой вид перестановки, в том числе посредством инверсии. Если вторжение элементов, не принадлежащих данной хронологической последовательности, происходит через сознание действующего лица, то имеет место субституция, о чем мы говорили выше. Но если хронологический порядок нарушается единственно по прихоти дискурса, ради его собственной организации, как это особенно ярко проявляется в мозаичном представлении фактов в повествованиях биографического характера (после рассказа о смерти Кеннеди автор переходит к его приключениям во время войны), необходимо признать, что в этом случае имеется некая перестановка.
Перестановка обнаруживается также тогда, когда ход времени в референционном плане представляется не равнозначным ходу условного времени. Если это время ретроспективное, можно говорить о перестановке посредством инверсии.
В кино мы можем наблюдать пловцов, которые выскакивают из воды обратно на трамплин, совершая грациозный прыжок, или разбитые предметы, которые на наших глазах восстанавливают свою целостность. Этот эффект особенно ощутим, когда инверсия представляется как естественный порядок универсума повествования («Параллельная улица» («Die parallelle Strasse») Киттля, «Ренессанс» («Renaissance») Боровчика) [1].
Однако уже у Л. Кэрролла мы читаем: «Возьмем, к примеру, Королевского Гонца. Он сейчас в тюрьме, отбывает наказание, а суд начнется только в будущую среду. Ну, а про преступление он еще и не думал!» («Алиса в Зазеркалье») *. Жан-Жак Майу сравнил этот отрывок с той частью «Поминок по Финнегану» Дж. Джойса, в которой Шон рассматривает в обратном порядке события, описанные ранее. В этом случае, как в палиндроме, временная линия замыкается в круг, начало и конец события сцепляются друг с другом. Можно вспомнить здесь мечты Борхеса о вечном возвращении или английский фильм «Глухая ночь» («Dead of night») и роман Р. Кено «Пырей», («Le chiendent»), в которых первая и последняя фразы совпадают4.
В плане повествования события соединяются в виде цепи, в которой каждое звено является одновременно продолжением предыдущего, Ио ДакЖе И Причиной последующего. Каждое событие воспринимается поэтому через систему своих возможных связей. Умер человек: это может быть преступление, самоубийство, несчастный случай, тайна, если говорить о причинах события; но это и погребение, наследство, семейные конфликты, если обратиться к его последствиям.
2.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАКТОВ И ПРИЧИННЫЙ ДЕТЕРМИНИЗМ
Причинно-следственные линии дискурса и повествования параллельны временным линиям, и какие-либо отклонения в хронологической последовательности (когда в момент сказывания опускается важное событие), очевидно, затрагивают и причинно-следственные связи. Будучи параллельными временным линиям, причинно-следственные линии зависят также от избранной точки зрения. Причины могут быть внешними (обвал в горах отрезает от внешнего мира маленькую группу людей) или внутренними (герой определяет свои дальнейшие поступки). Причины первого рода возникают в самом пространстве повествования; причины второго рода возникают в пространстве внутреннего мира персонажа, которое находится в отношении включения к пространству повествования. Норма пребывает в равновесии, когда называется причина-намерение, показывается действие-следствие. Это равновесие между внешним и внутренним пространством мы находим, в частности, в новеллах Мопассана, в том числе в наиболее известных: «Веревочка» и «Боченок». Так, в первой из упомянутых новелл мы читаем:
[Maitre Hauchecorne] se dirigeait vers la place quand il aperQut par terre un petit bout de ficelle. Maitre Hauchecorne, econome en vrai Normand, pensa que tout etait bon a ramasser qui peut servir; et il se baissa peniblement, car il souffrait de rhumatisme. 11 prit, par terre, le morceau de corde mince, et il se disposait a le rouler avec soin, quand il remarqua, sur le seuil de sa porte, maitre Malandain, le bourrelier qui le re-gardait. ILS AVAIENT EU DES AFFAIRES ENSEMBLE AU SUJET D’UN LICOL AUTREFOIS, ET ILS ETAIENT RESTES FACHES, ETANT RANCU-NIERS TOUS LES DEUX. Maitre Hauchecorne fut pris d’une sorte de honte d’etre vu ainsi, par son enno-mi, cherchant dans la crotte un bout de ficelle. Il cacha brusquement sa trouvaille sous sa blouse, puis dans la poche de sa culotte; puis il fit semblant de chercher encore par terre quelque chose qu’il ne trouvait point; et il s’ en alia vers le marche, la tete en avant, courbe en deux par ses douleurs [Подчеркнуто нами. — Ж. Дюбуа и др.].
’Дядюшка Ошкорн ... направился к площади, как вдруг заметил на земле маленькую веревочку. Дядюшка Ошкорн, бережливый, как все нормандцы, подумал: стоит подобрать то, что может пригодиться. И он нагнулся с трудом, так как страдал ревматизмом. Он поднял с земли обрывок тонкой веревки и уже собрался аккуратно свернуть ее, когда увидел шорника Маландена, — тот стоял на пороге своего дома и смотрел на него. Когда-то они повздорили из-за недоуздка и с тех пор оставались не в ладах, так как оба были злопамятны. Ошкорну стало немного стыдно, что враг увидел его за таким делом, — копающегося в грязи из-за обрывка веревки. Он поскорей сунул свою находку под блузу, потом в карман штанов; потом сделал вид, будто ищет на земле что-то, и пошел к рынку, вытянув шею и скрючившись от боли’ *.
2.3.1. Сокращение. Фигура сокращения возникает, когда в пределах момента сказывания элиминируется внутренний мир действующих лиц и их поведение описывается с внешней стороны. В свое время новизна романов Дэшиэлла Хэмметта заключалась в том, что он ввел в свои произведения такого рода эллипсис, который вынуждает читателя самого искать причины и мотивировки действий, идти от внешних действий к внутреннему миру персонажей, которые предстают перед нами в своей непостижимости. Мы вернемся к этому приему при анализе понятия точки зрения.
Реже происходит сокращение внешних причин. О полном сокращении можно говорить, когда автор представляет дело так, словно причины ему неизвестны; это наблюдается в некоторых повествованиях фантастического характера, а также в научно-фантастических произведениях, как, например, в «Орля» Мопассана.
2.3.2. Добавление. Фигура добавления возникает, когда автор, чтобы проникнуть глубже во внутренний мир персонажа и высветить «изнутри» мотивы его действий, занимается психологическим анализом или интроспекцией изолированно от повествования (ср., например, «Адольф» Констана). Простое добавление возникает также, когда автор дает несколько возможных толкований одним и тем же фактам, как это происходит в детективах.
Итеративное добавление, когда одна причина объясняется десятком различных способов, является простым комическим приемом, который мы обнаруживаем в репликах главного действующего лица «Лекаря поневоле» Мольера.
2.3.3. Сокращение с добавлением. Ложное причинно-следственное отношение лежит в основе нескольких рассказов Альфонса Аллэ. Автор заканчивает повествование событием, которое кажется логическим продолжением того, что ему предшествует, но, прочитав до конца, мы обнаруживаем, что это событие не имеет никакого отношения к предшествующим событиям.
Подобным же образом Эйзенштейн в фильме «Октябрь» с помощью монтажа связывает причинно-следственным отношением два факта, на деле не находящихся в такого рода связи: показывается, как один из министров, находясь в Петрограде, вздрагивает от испуга, как бы реагируя на бомбардировку далекого окопа. Это отношение, ложное в пределах пространства повествования, устанавливается в плане дискурса и заставляет зрителя думать, что министр решит продолжить войну и ощутит на себе последствия своего решения.
2.3.4. Перестановка. В цепи причин и следствий может произойти перестановка, которая будет восприниматься как фигура только в том случае, если обнаружится диспропорция между конечным следствием и первопричиной. Постоянный успех стихотворения Tout va tres bien, Madame la Marquise ’Все хорошо, прекрасная маркиза’ обусловлен не только наличием антифразиса в названии, но и тем, что, отправляясь от малозначительного факта, мы восходим по цепи причин и следствий до бедствия, лежащего в основе всех последующих событий.
Перестановка, имеющая в основе временную инверсию, сопровождается причинно-следственной инверсией: следствие порождает причину.
2.4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА В ДИСКУРСЕ
В театре и кино — зрелищных видах искусства — пространство дано непосредственно, хотя обстановка действия может быть объектом различных маневров и манипуляций. В романе словесный дискурс в значительной мере опосредует репрезентацию физического пространства. Локализация действия в дискурсе может варьировать от простого упоминания «театра» действия до самого детального описания обстановки, предметов и персонажей. В словесном дискурсе физический мир воссоздается приблизительно, посредством то слишком общих указаний, то излишней детализации: читатель вынужден многое домысливать, воображать. Заметим также, что репрезентация пространства некоторым образом связана с особенностями точки зрения, аспекта, который мы рассмотрим ниже.
2.4.1. Сокращение. В кино крупный план редуцирует пространство (ср. частое использование крупного плана в «Страстях Жанны д’Арк»), Но и роману известен подобный прием: описание каскетки Шарля («Госпожа Бовари») занимает все пространство повествования и вытесняет из поля зрения ее владельца.
Избранная точка зрения может сохраняться в течение всего фильма; в короткометражном итальянском фильме 1914 года, который во французском прокате назывался «Amour pedestre» («Любовь на ногах»), камера постоянно фиксирует ноги «героя». Действие от этого не становится менее понятным: мы видим, как щеголь преследует на улице хорошенькую женщину, как он своей ногой щекочет ей ножку в трамвае и сует в туфлю записку с просьбой о свидании...
2.4.2. Добавление. Приему редукции, когда часть отсылает к целому, противостоит операция добавления, при которой целое включает часть. В фильмах Бестера Китона [1] часто используются общие планы, что позволяет увидеть соотношение изображаемых элементов в пространстве. В фильме «Мореплаватель» Китон и его невеста, ничего не зная о действиях друг друга, садятся на пакетбот, на котором они оказываются единственными пассажирами. Каждый из них догадывается, что он не один на борту, и начинает искать незнакомого спутника. Посредством нескольких общих планов показываются их одновременные перемещения в разных направлениях по трапам и мостикам корабля.
2.4.3. Сокращение с добавлением. При операции сокращения с добавлением чаще всего происходит обыгрывание двусмысленности. В фильме Чаплина «Железная маска» мы видим, как Шарло читает письмо от своей жены, в котором она пишет о разрыве с ним; он вздыхает и отворачивается, спина его содрогается как бы от рыданий. Но когда он снова поворачивается к нам лицом, оказывается, что он весь поглощен приготовлением коктейля в металлическом стакане. С помощью этого приема обыгрываются сразу и временные и пространственные отношения, и истинная причина и видимость. Нам представлены здесь три момента. Из первого момента мы выводим значение второго, поскольку считаем вероятным, что мужчина, покинутый своей женой, должен испытывать душевные муки. Но третий момент заставляет нас по-другому воспринять значение второго; он отбрасывает это значение как ошибочное и заменяет его другим. Использование приема зависит прежде всего от взаимного расположения камеры и персонажа. Однако настоящий комический эффект возникает только тогда, когда оказываются противопоставленными видимость и реальность. Поэтому подобное сокращение с добавлением является часто отрицательным. Результирующее значение можно выразить с помощью антифразиса: «Ну, что ж! Он очень огорчен!»
Другая разновидность сокращения с добавлением может быть отказом представлять всю совокупность мест действия в дискурсе. Пространственные эллипсисы, частые в комедиях Любича, родились, несомненно, в театре, скорее всего, из соображений приличия, чтобы не показывать сцены насилия (поединок в «Сиде») или слишком интимные сцены. Главный акт трагедии «Гораций» построен на отношении между местом действия, представляемого на сцене (дом Горациев), и местом вне дома, где развертывается основное действие (арена).
Если говорить о жанре романа, то уместно привести некоторые отрывки из романа «Жак Фаталист и его хозяин», в которых о действиях персонажей приходится догадываться по описываемым звукам; можно также
327
вспомнить знаменитый эпизод прогулки в фиакре в романе «Госпожа Бовари»: мы следуем за экипажем по улицам Руана, и только голос Леона и рука Эммы без перчатки дают нам представление об их присутствии и их действиях.
2.5. ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Понятие точки зрения сыграло большую роль в теории и практике англоязычной литературы после Генри Джеймса. Подобно тому как художник изображает предметы «в перспективе», романист представляет их под определенным углом зрения, который риторика повествовательного дискурса должна обязательно учитывать. Вместе с Цв. Тодоровым мы определяем точку зрения как «способ, которым излагаемые события воспринимаются рассказчиком, а следовательно, и потенциальным читателем» (Т о-dorov 1968, с. 116). Цв. Тодоров уточняет далее свое определение, выделяя в понятии точки зрения два фундаментальных аспекта или дифференциальных признака: более или менее маркированное присутствие рассказчика в дискурсе и его более или менее близкое, более или менее интимное отношение к персонажам, к их внутреннему миру.
Где же искать нулевую ступень точки зрения? Можно представить себе два возможных подхода, почти противоположных друг другу. При первом подходе можно было бы выдвинуть нечто вроде научного идеала точки зрения. В этом случае рассказчик, выступая объективным хроникером, группировал бы и упорядочивал события, ничем не обнаруживая своего присутствия и делая так, что смысл повествования возникает как бы сам по себе. При втором подходе на первый план выступает работа воображения, писатель получает права быть суверенным хозяином своего произведения. Все продумав, романист знает обо всем; он имеет полное право по своему усмотрению пользоваться своим знанием, проникая в секреты всех своих персонажей (и выдавая их читателю), предвосхищая возможные события, вынося суждения и обнаруживая свое присутствие в собственном дискурсе.
В действительности ни тот, ни другой из названных крайних подходов, противопоставленных друг другу, не может нас удовлетворить в качестве нулевой ступени по той простой причине, что в современном романе нормой является прозрачность точки зрения, которая достигается, .если рассказчик занимает промежуточную позицию между двумя описанными крайностями. Таковы романы Флобера или Золя. Рассказчик в них не проявляет открыто свое присутствие, по и не отсутствует вовсе, он лишь окольным путем проникает в сознание своих персонажей, в том числе в сознание своего любимого героя. Поэтому как вездесущность и всеведение рассказчика, так и объективное описание извне в восприятии современного читателя являются отклонениями.
Установив общую норму, необходимо перейти к анализу ее разновидностей, поскольку опыт изучения романа показывает, что нельзя найти примеров таких точек зрения, которые выдерживались бы единообразно и непротиворечиво на протяжении всего произведения. Но, чтобы не углубляться в детали, нам придется действовать самым схематичным образом и лишь в общих чертах охарактеризовать виды точек зрения. Вот почему, обратившись к вышеупомянутым двум дифференциальным признакам, мы составили таблицу, в которой отражены основные модификации точки зрения.
Таблица XVII
Фигуры точки зрения
2.5.1. Сокращение. Одним из завоеваний романа середины прошлого века является реалистическое повествование в третьем лице, в котором рассказчик проявляет объективность и никак не выдает своего присутствия. Так, Роже Вайан избегает комментариев слишком внешнего характера, оценочных фраз и т. п.; он сообщает нам о фактах, речах, мыслях персонажей и предоставляет им самим судить о себе. Еще один шаг по направлению к большей объективности делается в том случае, если рассказчик запрещает себе проникать в сознание своих героев; такие американские романисты, как Хемингуэй или Хэмметт, попытались создать некий бихевиористский стиль, который опирается только на жесты, позы и другие физические акты. В этом смысле вся драматургия, а вместе с ней и роман в диалогах представляют собой обширную область действия операции сокращения. Театральные условности требуют, чтобы на сцене воссоздавались только жесты и слова, а обширная область внутреннего мира оставалась бы теоретически за пределами произведения.
2.5.2. Добавление. Иногда вмешательство автора окрашено юмором и имеет целью указать на вымышленный характер его героев. Так, Мультатули в романе «Макс Хавелаар» следующим образом прощается со своими героями:
’Довольно, мой добрый Штерн! Я, Мультатули, перенимаю у тебя перо. Ты не призван писать биографию Хавелаара. Я вызвал тебя к жизни; ты послушно явился из Гамбурга, в очень короткое время я научил тебя недурно писать по-голландски, ты поцеловал Луизу Роземейер (что торгует сахаром), — довольно, Штерн! Я тебя отпускаю’ *.
Конечно, свобода обращения с текстом не может повредить писателю, но когда популярный романист вроде Сю или Феваля слишком прямо дает понять, что именно он управляет поведением действующих лиц, заявляя: «Обратимся же теперь к нашему герою, чтобы посмотреть, как он выпутается из этого затруднительного положения», вмешательство автора начинает раздражать или смешить. Известно, что Бальзак иногда оказывался в смешном положении, поскольку постоянно и самым различным образом вмешивался в повествование. Более того, Бальзак считается образцом всеведущего рассказчика. Точка зрения Бальзака объемлет сознание всех действующих лиц, все их намерения и побуждения, в любое время и в любом месте. Эта поливалентная точка зрения представляет собой наиболее яркое выражение фигуры добавления.
2.5.3. Сокращение с добавлением. Цв. Тодоров пишет: «Настоящий рассказчик, субъект сказывания текста, в котором один из персонажей говорит „я“, является еще более скрытым. Повествование в первом лице не эксплицирует образ рассказчика, а, наоборот, делает его еще более имплицитным» (Todorov 1968, с. 121). В таком представлении роман, написанный в первом лице, являет собой пример субституции. Отношение рассказчика к персонажам вообще характеризуется двойственностью, двусмысленностью. С одной стороны, оно максимально интимно, поскольку рассказчик находится как можно ближе к персонажам: чувствуется, например, насколько Стендаль «приклеен» к своему Фабрису при описании битвы при Ватерлоо, хотя повествование ведется от третьего лица. Но, с другой стороны, рассказчик может отойти на задний план, заменив свою логику чужой, свой дискурс другим дискурсом — дискурсом личного дневника, письма пли внутреннего монолога.
2.5.4. Перестановка. Поскольку, как мы сказали выше, субституция может вызвать появление нескольких конкурирующих точек зрения («я» и «он», несколько «я», рассказчик и персонаж, несколько персонажей), «соперничество» этих точек зрения на синтагматической оси может привести к типичным перестановкам: сначала А характеризует В в своем письме, но в другом письме уже В показывает нам А. Крайняя степень использования этого приема наблюдается при изложении нескольких версий одного и того же факта, в частности одного и того же преступления. Не только детективы дают нам подобные примеры, но и некоторые повествования психологического характера. В новелле Акутагавы «В чаще», легшей в основу фильма Куросавы «Расёмон» [1], повествуется о нападении бандита на супружескую пару; бандит связывает мужа и насилует жену. Это единственные факты, которые являются общими в повествованиях от лица супруги, бандита и «тени» погибшего супруга. Однако причины гибели супруга в изложении действующих лиц оказываются различными: бандит ставит себе в заслугу, что он убил мужа в честном поединке; жена утверждает, что она убила мужа, чтобы избавить его от позора; «тень» мужа утверждает, что он покончил с собой. Кому же верить? В новелле не утверждается ничего определенного, а показания лесоруба, который обнаружил труп, ничего не меняют.
Отметим, что последний пример можно проанализировать и в другом аспекте понятия точки зрения, который мы до сих пор оставляли без внимания. Речь идет о таком дифференциальном признаке, как большая или меньшая полнота информации: говорит ли нам автор обо всем и вовремя? Стендалю ставят в упрек, что он скрыл от нас бессилие Оливье в романе «Армане», хотя мы постоянно находимся в мире мыслей персонажа при чтении этого произведения. Других писателей упрекают в том, что они слишком рано обнаруживают свои намерения и раньше времени показывают нам исход конфликта. Однако мы лишь or раничимся указанием на этот третий аспект понятия точки зрения.
3. ФИГУРЫ ФОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ: ПОВЕСТВОВАНИЕ
3.0. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Ролану Барту мы обязаны общей классификацией единиц повествования (Barthes 1966). Он выделяет кардинальные функции (или ядра), индексы, катализы и информанты. Кардинальные функции относятся к области действий, поступков (покупка револьвера имеет своим коррелятом его использование), процесс развития которых всегда имеет три фазы (Bremond 1966, с. 60): начальную фазу (ouverture), когда возникает возможность определенной линии поведения или возможность предвидеть некоторое событие; фазу реализации (realisation), когда возможности претворяются в факты, и конечную фазу (fermeture), когда достигается некий результат. Индексы отсылают к «функциональности бытия» и имеют целью описание, определение предметов и персонажей. Катализы представляют собой расширение описания, которое имеет место в процессе развертывания кардинальных функций. Информанты позволяют локализовать действие в пространстве и времени. Эти категории послужат основой нашего дальнейшего изложения. Однако мы не будем разделять катализы и ядра, поскольку они составляют единое целое. Отметим, что, хотя персонажи определяются на основе системы индексов, они проявляют себя прежде всего в развитии действия в качестве его движущей силы, или, если обратиться к устоявшемуся термину, в качестве актантов. Наконец, мы проанализируем только три вида информантов: место действия, предметы и жесты. В каждом случае мы будем стремиться определить теоретически норму и возможные отклонения от нее. При этом мы будем придерживаться следующего порядка в описании:
1. Ядра.
2. Персонажи и индексы.
3. Информанты.
4. Актанты и отношение между персонажами и актантами.
3.1. ЯДРА
Два ядра могут следовать друг за другом. Эта последовательность может принять вид кольца или ступени, по выражению Шкловского (Chklovsky 1966) [1], в зависимости от того, исчерпываются ли в конечной фазе первого ядра все возможности развития действия или, наоборот, эта конечная фаза обусловливает начальную фазу следующего ядра. Смерть героя может окончательно исчерпать конфликт, в котором он был замешан, и тогда мы имеем кольцо; в противоположном случае смерть, даже будучи завершением действия, может вызвать новый конфликт между наследниками или преемниками, тогда перед нами ступень. Новое ядро может вставляться в развитие другого ядра, поэтому всегда возможно создание общего обрамления (главное ядро по отношению к внутренним ядрам). Наконец, в хронологии повествования могут чередоваться различные фазы развития двух ядер5.
3.1.1. Сокращение. 3.1.2. Добавление. Возможно, что фигуры добавления и сокращения связаны прежде всего с числом ядер. Конечно, в отношении этого числа не существует никаких норм, и автор по своему усмотрению может увеличивать или уменьшать его. Тем не менее если повествование соотнесено с референциальной темпо-ральностыо, то появляется новая категория — норма правдоподобия6, обусловленная социокультурными навыками. Конфликт в «Сиде», безусловно, порождается нравственной проблемой: «честная девушка не может стать супругой убийцы своего отца», но он осложняется также тем фактом, что поединок и обручение происходят в один и тот же день (если оставить в стороне другие подвиги, совершенные Родриго в тот же день).
Может быть, при сравнительном изучении эволюции таких жанров, как вестерн, детектив, мелодрама, удалось бы выявить фигуры добавления и сокращения не только в плане дискурса (эллипсисы и распространения), но и в плане повествования (убыстрение хода событий, растягивание не заполненных действием промежутков времени). Но подобное исследование, будучи диахроническим, не соответствовало бы нашим задачам.
Однако и в плане повествования можно наблюдать явления данного порядка. За спокойной чередой дней могут внезапно последовать лихорадочные действия; за суетой будней следует воскресный покой и отдых. Здесь проявляется оппозиция между повествовательными и описательными ядрами. Введение описательного ядра в развитие повествования, несомненно, представляет собой фигуру добавления. Необходимо отметить, что чаще всего в силу социокультурных императивов описательные ядра используются в дискурсе экономно; нельзя представить себе подробное описание того, как проводит свой уик-энд Джеймс Бонд, поскольку его бурная деятельность делает невозможными подобные задержки в дискурсе.
Наконец, развертывание катализа (принадлежа к универсуму повествования, он формулируется в терминах ре-ференционного времени) может принимать большие или меньшие размеры в пределах одного ядра. A priori здесь не может быть никакой нормы: когда звонит телефон, я могу по своему желанию подскочить к нему или спокойно пересечь комнату, зажечь сигарету, которую я держу в руке, и взять трубку. В каждом повествовании на конкретных примерах выявляются свои нормы, свои правила; катализ может быть длинным или кратким или длинным и кратким поочередно в зависимости от особенностей психологии данного персонажа. Отклонения могут быть определены только по отношению к норме, заранее установленной в самом повествовании. Рассмотрим простой пример. В фильме А. Хичкока «Неизвестный из экспресса» [1] Ги проводит теннисный матч. Главное ядро — матч — подразделяется на ряд внутренних ядер — сетов. С двумя первыми сетами Ги разделывается очень быстро; третий сет затягивается и кончается в пользу противника. Повествование, таким образом, обладает собственной динамикой, и для нас здесь не имеет особой важности то обстоятельство, что ей противостоит динамика дискурса, поскольку Хичкок растягивает два первых сета, а третий представляет в сжатом виде, прибегая к эллипсисам.
Добавление может быть повторным; в повествовании может повторяться одна и та же ситуация, одно и то же ядро. Напрасно Оливье троекратно призывает Роланда протрубить в рог («Песнь о Роланде»), трижды изгоняют Пьеро из Луна-парка («Мой друг Пьеро»).
3.1.3. Сокращение с добавлением. Здесь необходимо обратиться к приему «помещения в центр щита» (la mise ей abyme). Известно, какой успех имело это выражение, предложенное А. Жидом в «Дневнике фальшивомонетчиков» и подхваченное П. Клоделем в его анализе «Ночного дозора» (Claudel 1967). Мы хотели бы подробнее рассмотреть эту проблему. Жид мыслил прежде всего в терминах геральдики, поскольку слово abyme обозначает центр щита, в котором помещено изображение того же щита. Более яркий пример дают русские матрешки, возникающие одна из другой; ближе к нашей культуре пример коробок для сыра Бенжамина Рабье, украшенных рисунком, на котором воспроизводятся эти же коробки в виде сережек («Корова, которая смеется») [1]. Здесь происходит репродуцирование одних и тех же элементов в бесконечной перспективе. У Жида был другой замысел, касавшийся функций персонажей; действия рассказчика заменялись действиями персонажа, писатель Жид уступал место писателю Эдуарду. Подобным образом художник может изобразить святого Луку, причесывающего деву Марию; артист на сцене может играть роль актера во вставной пьесе, как это происходит в пьесе Петера Вайса «Преследование и убийство Жан-Поля Марата, представленное артистической труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством господина де Сада». Здесь происходит внутренняя замена, и в принципе она не отличается от замены, вводимой в повествование «Декамерона». Более интересен противоположный случай, когда персонаж размышляет о действиях читателя, зрителя. Такова пьеса в пьесе («Гамлет») или эпизод в фильме «Жить своей жизнью» («Vivre sa vie»), в котором героиня фильма Анна Карина смотрит «Страсти Жанны д’Арк» Дрейера.
«Помещение в центр щита» интересует нас здесь только в той мере, в какой оно происходит в пространстве повествования как такового, то есть когда объектом манипуляции являются элементы, отражающие элементы повествования.
«Помещение в центр щита» может произойти в начале повествования и фатальным образом предвосхитить то, что будет развито в последующих ядрах. Таково предсказание прорицательниц в «Макбете», таково троекратное вмешательство рока в «Царе Эдипе».
В заключительной фазе действия этот прием часто приобретает отрицательную значимость. В конце романа «Воспитание чувств» Фредерик вспоминает один день своей юности, когда он вместе с другом отправился в публичный дом, но вынужден был поспешно оттуда ретироваться, и, хотя он полагает, что «это лучшее, что было у нас в жизни!», в неудачном предприятии школьников мы обнаруживаем некоторое сходство с неудачным романом Фредерика с госпожой Арну, а также и предвосхищение исхода этого романа.
Рикарду показал, как прием «помещения в центр щита» может оспариваться в самом повествовании. Если Эдип полагается на предсказания Сфинкса именно из-за отсутствия дара предвидения, то рассказчика, находящегося в замке Родерика Эшера, настораживают странные совпадения между событиями, происходящими на его глазах, и событиями из книги, которую он читает; поэтому он вовремя убегает из замка, так как «уже знает конец истории» (Ricardou 1967, с. 171 — 179).
Когда рассматриваемый прием вступает в противоречие с содержанием повествования, когда он сам частично оспаривается в развитии повествования, можно говорить об отрицательном сокращении с добавлением.
3.2. ПЕРСОНАЖИ И ИНДЕКСЫ
3.2.0. Общие замечания. Барт обратил внимание на то, что некоторые исследователи неохотно приписывают определенный статус персонажам. Однако именно через персонажи, через их действия нам дается повествование. Мы хотели бы уяснить себе, во-первых, каким образом персонажи образуют систему, во-вторых, как эта система функционирует.
По мере продвижения повествования вперед персонажи получают характеристики, то есть происходит индексация персонажей. Индексы могут быть эксплицитными и имплицитными. В первом случае они прямо обозначаются в дискурсе («Это был добрый малый»), во втором случае они вытекают из характера действий, совершаемых персонажами. И в том и в другом случае индексы могут характеризовать какого-либо человека, происшествие или изменение. Они могут характеризовать персонаж с точки зрения его собственных качеств — «изнутри» (добр он или зол?) — или в его отношении к другим персонажам — «извне». Эта характеристика, внешняя или внутренняя, проходит через все повествование, проявляется в каждом ядре, в отношениях между ядрами и на уровне конечного целого.
В конце повествования возможно ретроспективное уточнение совокупности индексов, выявленных в дискурсе. Каждый момент, каждый фрагмент мыслится в пределах целого, которое им определяется, но от которого он в свою очередь получает приращение смысла. Так, в «Бри-танике» мы видим, как Нерон уступает Агриппине, Бур-ру, Нарциссу, в результате чего получаем четкое определение его внутренней слабости в общении с другими людьми (хотя он, по всей видимости, деятелен и энергичен). Мы также можем сравнить поведение Бурра и Нарцисса как советников Нерона и получим внешнюю их характеристику. Число индексов велико: от внешнего облика до характерщ' от одежды до речи. Норму можно выявить только интуитивно; она скорее является результирующей суммы отклонений, чем некоей первичной данностью.
3.2.1. Сокращение. Ограничение количества индексов, даже их отсутствие может представлять собой эффект дискурса (рассказчик по своему усмотрению дает то или иное описание персонажей). Случается, однако, что персонаж, особенно в детективе, может быть описан с «определенной точки зрения», то есть таким, каким он предстает в глазах другого человека. В романе Дотеля «Человек в зеленых перчатках» мы долгое время ничего не знаем о главном герое, за исключением того, что он ездит на шумном мотороллере и носит эти самые зеленые перчатки.
3.2.2. Добавление. Фигура добавления возникает при увеличении числа индексов, но особенно она ощутима, когда персонажи характеризуются «извне», для чего автор объединяет их в пары. Таковы знаменитые пары Дон Жуан и Сганарель, Дон Кихот и Санчо Панса, Ло-рель и Гарди [И. В этом случае происходит взаимообо^ гащение противоположностей, резко отличаются характеры и поведение персонажей, их внешность и аксессуары. По поводу этих фигур можно сказать то же самое, что и по поводу антитезы: это итеративные добавления.
Множественность проявлений одних и тех же индексов также представляет собой отклонение добавления. То же верно относительно персонажей, объединенных в пары (хозяин и слуга, дама и ее приятельница), которые подчеркивают характерные черты друг друга прямо, а не с помощью антитезы.
3.2.3. Сокращение с добавлением. Эта фигура может быть обнаружена на различных уровнях. Сюда относится контраст между видимостью и реальностью: элегантная одежда может скрывать вульгарность чувств. В фильме «Путешествие будет опасным» 12] господин Пикок оказывается пьяницей с манерами пастора; в фильме «Ноль по поведению» [3] директор коллежа — карлик. Подобные отклонения противоречат нормам когерентности. Противоречащие дру! другу индексы играют роль оксюморона повествования, то есть являются отрицательным сокращением с добавлением.
Фигура может также представлять собой одновременное наложение противоречащих друг другу индексов. Рабле показывает нам бедного Гаргантюа в состоянии недоумения, когда он не здает, оплакивать ли ему смерть своей жены Бадебек или радоваться рождению сына.
Наконец, фигура сокращения с добавлением может обнаруживаться в отношении между двумя персонажами со сходными функциями. Родольф и Леон в «Госпоже Бовари» выполняют одинаковую функцию по отношению к Эмме, но они отличаются друг от друга. А. Тибоде точно охарактеризовал их сходства и различия. Сходства: «И в фиакре, и в лесу оба мужчины всего лишь самцы под лупой энтомолога». Различия: «В отличие от Родольфа Леон в силу своих душевных качеств становится подчиненным самцом», и, «когда Омэ во время своего визита в Руан полностью завладевает им, конфискует его у Эммы, он подчиняется; сравните развязность, с которой Родольф на сельскохозяйственной выставке посрамляет всех болтунов» (Thibaudet 1963, с. 110).
3.3. ИНФОРМАНТЫ
3.3.1. Место действия. Согласно норме, указание на место действия должно было бы быть простым нейтральным информантом, который вписывал бы повествование в диететическое пространство. Но, с одной стороны, некоторые здания или помещения имеют определенную культурную и социальную функцию (церковь, кухня), которая обыгрывается в повествовании. С другой стороны, в повествовании часто используется противопоставление различных мест, в которых развивается действие, противопоставление закрытого пространства (комната, контора) открытому (улица, река, равнина). Конечно, эта оппозиция более ощутима в зрелищных видах искусства, поскольку в них повествование ведется в пространственных терминах, но она присутствует и в романе. В повествовании осуществляется синтез различных мест действия, когда в нем чередуются последовательно жизнь в уединении и пребывание в пути (в последнем случае на первый план выходит путешествие, его маршрут, в первом первостепенную важность приобретают внутренняя сосредоточенность и ожидание).
За пределами этого глобального отношения может развиться другой тип соотношения между закрытым и открытым пространством, которые представляются одновременно. В фильме «Веревка» А. Хичкока [1] все действие происходит в одной и той же квартире, но режиссер создает впечатление ясно ощутимого присутствия внешнего мира посредством градации интенсивности света, который проникает в комнату через большое окно, поэтому устанавливается неожиданное, таинственное соответствие между действием и пространством.
3.3.1.1. Сокращение. З.З.1.2. Добавление. Таким образом, пространство перестает быть безразличным к действию. Если оно используется для растягивания действия, можно говорить о добавлении; наоборот, если пространство противостоит действию в своей независимости от него, можно говорить о сокращении. Идея тесной связи между интимностью чувства и внешней обстановкой, которая это чувство питает, укоренилась с XVIII в. Ее можно обнаружить в Прогулках одинокого мечтателя» [2] или в размышлении на тему о руинах, внушенном Дидро полотном Юбера Робера; эта идея позволила Шатобриану обнаружить сходство между осенней порой и собственной меланхолией; она проявляется в подозрительном соответствии между обстановкой пансиона Воке и его владелицей («Отец Горио»), В каждом случае обстановка является отражением чувств героя.
Напротив, Флобер, который в первоначальном варианте своего романа собирался изобразить похороны госпожи Бовари на фоне дождливого дня, в окончательном варианте вписал их в атмосферу весны; в тексте подчеркивается несоответствие обстановки и действия: «Все кругом было полно всевозможных веселых звуков».
Подобные примеры нередки и в кинематографе. Отношение отражения: пейзаж в серых тонах долины По, где блуждает герой Антониони (фильм «Крик») [1]. Отношение противопоставления: бомбардировка в солнечный летний день 1940 г. в фильме «Запретные игры» [2].
З.З.1.З. Сокращение с добавлением. Этой фигуры не существует в повествовании. Ведь пространство не может быть объектом субституции. Тем не менее отношения между двумя или несколькими эпизодами могут быть проявлением сложной игры сходств и противопоставлений. В «Госпоже Бовари» перекликаются эпизоды с Леоном и Родольфом, однако места, в которых происходят эти эпизоды, противопоставлены друг другу: один эпизод развертывается в жилых комнатах, другой — на природе^ Жан Руссе, подчеркивая это противопоставление, в то же время указывает на обыгрывание контраста между открытыми окнами, когда Эмма чего-то ждет, и закрытыми окнами, когда счастье обошло ее стороной, между окнами фиакра и окнами ее комнаты в Руане (Rousset 1962, с. 121-135).
З.З.2.О. Предметы. Первичная функция предметов в повествовании аналогична их предназначению в действительности, тому, для чего они, собственно, и были созданы. Но они могут выполнять еще две других функции: декоративную — если используются лишь для создания обстановки действия, для помещения действия в диететическое пространство, и драматическую функцию — если используются в качестве движущей силы действия.
З.З.2.1. Сокращение. 3.3.2.2. Добавление. Первая оппозиция касается числа предметов. Такие художники, как Дрейер [3] или Брессон [4], сводят обстановку действия до минимума. Наоборот, Орсон Уэллс [5] или Макс Офюльс [6] насыщают декор сотнями предметов. Ионеско также часто прибегает к изобилию меблировки; в финале пьесы «Новый жилец» сцеца -загромождена мебелью и переезжающие тщетно ищут выхода.
Вторая оппозиция относится к взаимосвязи между предметом и действием, предметом и персонажем или его чувствами. Предмет играет роль или зеркала, или экрана. Функция отражения может состоять в указании на присутствие или отсутствие персонажа. Присутствие: знаменитая каскетка Шарля Бовари или комната, приготовленная к свадьбе («Госпожа Бовари»), Отсутствие: письма, портреты, подарки на память, дерево, которые напоминают мадам де Севинье о ее дочери.
Предмет становится экраном, когда лишается своей первичной функции. Такова дверь, которую с силой захлопывает раз и навсегда выпровоженный жених в «Площади Вашингтона» Генри Джеймса.
3.3.2.3. Сокращение с добавлением. Эта фигура проявляется прежде всего в искажении функций предмета, когда его первичная функция заменяется какой-либо иной. Кухонный нож в фильме Хичкока «Саботаж» [1] и разрезной нож для книг в фильме Ренуара «Собака» становятся орудиями преступления. Замена функций более заметна в кинокомедиях или повествованиях юмористического характера. В фильме «Старьевщик» Чаплин выслушивает будильник, словно врач больного, а затем вскрывает его, как банку сардин; смысл жестов и предметов извращается. В фильме Пьера Этекса «Большая любовь» [2] кровать становится средством передвижения.
Рассматриваемая фигура проявляется также в варьировании и метаморфозах предметов. Именно это имеет в виду Барт, когда описывает метафору глаза в романе Батайя «История глаза», в котором, исходя из инвариантных признаков (белизна и округлость), перечисляется ряд предметов, порождающих друг друга: глаз, яйцо, тарелка с молоком, яички быка (Barthes 1963).
Наконец, фигура сокращения с добавлением обнаруживается в установлении отношений между различными предметами, которые фигурируют в сходных эпизодах в пределах одного и того же повествования. У Мериме в «Маттео Фальконе» в обоих эпизодах подкупа юного Фортунато фигурируют одни и те же предметы: монета в пять франков и часы.
3.3.3. Жесты. Статус жестов двусмыслен. Хотя они относятся к индексам, поскольку являются характерными чертами персонажа, они определенным образом координируются в пространстве и вступают в связь с предметами. Отсюда вытекает необходимость рассматривать их как информанты.
З.З.З.1. Сокращение. 3.3.3.2. Добавление. И здесь мы обнаруживаем те же два ряда оппозиций, которые были выявлены при анализе предметов: противопоставление обилия жестов их немногочисленности и противопоставление отражательной функции жеста экранирующей. Но эти две оппозиции постоянно сопровождают друг друга. Чувства Маттео Фальконе в эпизоде убийства собственного ребенка не обнаруживаются ни в чем: здесь опущено описание их любых внешних проявлений, и в то же время внешнее спокойствие Маттео экранируют глубоко запрятанные чувства. Наоборот, проявления чувства матери Алексея перед трупом ее сына («Житие святого Алексея») многообразны, и каждое из них отражает ее горе.
3.3.3.3. Сокращение с добавлением. Мы уже показали, каким образом Чаплин изменял первоначальный смысл жестов и предметов. Можно привести в качестве примера также эпизод из фильма «Золотая лихорадка», в котором Чаплин навертывает на вилку шнурок, как если бы это были спагетти, и старательно обсасывает, словно кости, гвоздики от своего башмака. Обращаясь к более серьезным жанрам, можно вспомнить эпизод гибели Дональда Криспа от револьверной пули в фильме «Сломанные побеги» [1]: прежде чем упасть, он протягивает руку, словно приказывая противнику подождать, сдвигает кулаки, изображая парирование удара в боксе, и только после этого падает на землю, как бы сраженный апперкотом. Вместо умирающего человека мы видим боксера, падающего на ковер.
3.4. АКТАНТЫ И ОТНОШЕНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ К АКТАНТАМ
Персонаж представляет собой не только совокупность показателей его статуса, прежде всего он — участник действия и в рамках повествовательного ядра выполняет совершенно определенную функцию. Проппу, Сурио и Грей-масу мы обязаны сведением всего многообразия комбинаций, встречающихся в повествовании, к нескольким четко определенным функциям. Напомним, что Сурио, как и Греймас, выделяет шесть таких функций (Souriau 1950; Greimas 1966). У Сурио мы обнаруживаем следующие функции:
1) Ориентированная тематическая сила (la force the-matique orientee); это может быть страсть, например любовь Нерона к Юнии.
2) Воплощение желаемого блага, ориентирующей ценности, например Юния по отношению к Нерону.
3) Потенциальный получатель этой ценности: Британии.
4) Оппонент: Британии.
5) Арбитр, оценивающий благо: Агриппина, Нерон.
6) Помощник; удвоение одной из названных выше сил: Агриппина и Бурр в качестве оппонентов, Нарцисс в качестве помощника ориентированной тематической силы.
Греймас предпринял попытку категоризировать выделенные Сурио функции; так, он выделяет следующие противопоставления: субъект vs объект (1 и 2), адресат vs отправитель (3 и 5), помощник vs оппонент (6 и 4+6).
Модель Греймаса интересна тем, что в ней функции сводятся к бинарным противопоставлениям. Как в случае фигур, связанных с отправителем — получателем, операция сокращения с добавлением, объектом которой являются названные пары противопоставленных элементов, будет называться коммутацией. Актантная норма (если взять за основу модель Греймаса или ее прототип — модель Сурио) имеет, однако, особый характер, поскольку она требует раздельного выражения шести функций: один актант — один персонаж. Отклонения могут проистекать из удвоения функций (добавление персонажей) или из слияния функций в одном персонаже (сокращение персонажей). В последнем случае необходимо учитывать, являются ли объединяемые функции несовместимыми (объединение пары противопоставленных функций) или просто чуждыми друг другу. Таким образом, риторика актантов касается прежде всего отношения между актантами \ и выражающими их персонажами.
Набор шести функций предстает как мобильная совокупность. Действительно, если даже дискурс ограничивает наше прочтение повествования какой-либо одной точкой зрения, мы догадываемся, что любое действующее лицо может выйти на первый план и произвести переориентацию других функций. В этом смысле мы могли бы по-разному аранжировать вышеприведенный список функций, поскольку за исходную точку описания одних и тех же функций можно принять Британика и его любовь к Юнни или Агриппину с ее стремлением к власти. Эта изначальная мобильность совокупности функций, когда в рамках одного и того же действия каждому персонажу присуща своя особая точка зрения, сопровождается временной мобильностью, поскольку отношения между любыми персонажами могут изменяться: оппонент может оказать нам помощь, а друг стать нашим соперником.
3.4.1. Сокращение. В повествовании, в котором фигурируют всего два персонажа, происходит слияние функций: влюбленный юноша, ориентированная тематическая сила, сам ведет борьбу (выступая помощником самому себе), и с самого начала он может быть единственным потенциальным получателем блага; его возлюбленная может выступать поочередно желаемым благом, препятствием и арбитром. В данном примере мы предполагаем, что в дискурсе отражается точка зрения влюбленного юноши, поскольку в этом случае в результате операции сокращения сливаются функции, совместимые друг с другом, а противоречия, которые имплицируются функциями желаемого блага и препятствия, препятствия и арбитра, воспринимаются с некоторой внешней точки зрения.
Другой вид примет комбинация, если при наложении функций возникает антагонизм. Тогда каждое добавление новой функции нейтрализует осуществление первичной функции. Хичкок часто использует этот прием. В фильме «Я признаюсь» [1] ризничий Отто Келлер, переодевшись в священника, убивает одного шантажиста. Он признается в этом на исповеди. Священника на основании некоторых улик обвиняют в убийстве. Для исповедника желаемым благом является оправдание; помощником ему служат его же собственные показания, арбитром выступает он сам. Но он же является препятствием для самого себя, поскольку его сдерживает обязанность сохранять тайну исповеди. Добавление новой функции нейтрализует первичную функцию. Еще более сложна роль Бэннистера в эпизоде суда в фильме Орсона Уэллса «Леди из Шанхая» [2]. Будучи соперником Майкла, любовника своей жены, он оказывается его адвокатом, совмещая в себе функции оппонента и помощника. Однако в суд его вызывают в качестве свидетеля, и к своим функциям он прибавляет еще и функцию арбитра.
3.4.2. Добавление. Отклонение добавления может возникнуть при одновременном возникновении сходств между параллельно развивающимися действиями. В «Мещанине во дворянстве» Клеонт, влюбленный в Люсиль, дочь господина Журдэна, и его слуга Ковьель, влюбленный в Николь, служанку Люсиль, получают отпор от своих возлюбленных. Мольер усиливает сходство их положений, прибегая к одинаковому синтаксическому построению реплик, в которых они выражают свои жалобы, но противопоставляя семантические регистры их сетований.
С1. — Peut-on rien voir d’egal, Covielle, a cette perfi-die de 1’ingrate Lucile?
Co. — Et a celle, Monsieur, de la pendarde de Nicole? Cl. — A pres tant de sacrifices ardents de soupirs et de voeux que j’ai fait a ces charmes!
Co. — Apres tant d’assidus hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine!
Cl. — Tant de larmes que j’ai versees a ses genoux! Co. — Tant de seaux d’eau que j’ai tires au puits pour elle!
Cl. — Tant d’ardeur que j’ai fait paraitre a la cherir plus que moi-meme!
Co. — Tant de chaleur que j’ai soufferte a tourner la hroche a sa place!
Cl. — Elle me fuit avec mepris!
Co. — Elle me tourne le dos avec effronterie!
Cl. — C’est une perfidie digne des plus grands chati-ments.
Co. — C’est une trahison a meriter mille soufflets.
’Клеонт. Так что же сравнится, Ковьель, с коварством бессердечной Люсиль?
Ковьель. А что сравнится, сударь, с коварством подлой Николь?
Клеонт. И это после такого пламенного самопожертвования, после стольких вздохов и клятв, которые исторгла у меня ее прелесть!
Ковьель. После такого упорного ухаживания, после стольких знаков внимания и услуг, которые я оказал ей на кухне!
Клеонт. Стольких слез, которые я пролил у ее ног!
Ковьель. Стольких ведер воды, которые я перетаскал за нее из колодца!
Клеонт. Как пылко я ее любил — любил до полного самозабвения.
К о в ь е л ь. Как жарко было мне, когда я за нее возился с вертелом, — жарко до полного изнеможения!
Клеонт. Л теперь она проходит мимо, явно пренебрегая мной!
Ковьель. А теперь она пренагло поворачивается ко мне спиной!
Клеонт. Это коварство заслуживает того, чтобы на нее обрушились кары!
Ковьель. Это вероломство заслуживает того, чтобы на нее посыпались оплеухи .
Здесь две одинаково ориентированные совокупности функций проявляют себя каждая в отдельности, но одновременно. Будучи параллельными друг другу, они не могут вступить в противоречие. В «Смешной истории» Са-лакру происходит инвертирование фактов в двух параллельных совокупностях. Муж, в тот самый день, когда он оказался покинутым своей супругой, сбежавшей с любовником, приютил у себя своего лучшего друга и его любовницу, которая также бросила семейный очаг. Таким образом, каждый персонаж оказывается противопоставленным своему подобию в параллельной совокупности фактов.
3.4.3. Сокращение с добавлением. При операции сокращения с добавлением происходит перевертывание функций. Чаще всего это перевертывание сопровождается сменой индексов или расширением внутренней точки зрения (то есть изменением точки зрения не рассказчика или повествования, а точки зрения, которая выявляется в ходе размышлений или действий персонажа). Для всего творчества Фрица Ланга [1], от «Проклятого господина» до «Неправдоподобной правды», характерно это перевертывание порядка вещей, когда невинный оказывается виновным, а виновный — невинным. Желаемое благо для проклятого господина — это жертва, которую он преследует. Желаемое благо для общества — это проклятый господин, которого оно преследует. Важно то, что проклятый господин сам обнаруживает сходство ситуаций. Это перевертывание часто проявляется в эпизодах, которые перекликаются друг с другом, вступают в соответствие. Здесь слиты два процесса: процесс уподобления и процесс противопоставления. В «Красной императрице» Штернберга [2] юная Екатерина, которую увозит от семьи царский посланник, становится его любовницей. Затем происходит перекличка двух эпизодов. В первом эпизоде императрица Елизавета, находясь в своих покоях, просит Екатерину удалиться, но оставить открытой по-тайную дверь, через которую должен проникнуть ее любовник. Любовником оказывается упомянутый царский посланник. Во втором эпизоде Екатерина, уже императрица, приказывает тому же царскому посланнику (который еще питает к ней чувство) удалиться, но впустить в покои ее нового любовника. Сходство двух эпизодов бросается в глаза: оба они происходят в одном и том же месте; сходны п действия персонажей: а просит Ь впустить с. Двое из персонажей участвуют и в том и в другом эпизоде, но роли их меняются: Екатерина меняет роль b на роль а, а посланник меняет роль с на роль Ь. Такова расстановка персонажей. Что же касается их функций, то, поскольку оба эпизода описываются с точки зрения Екатерины, функции персонажей различны: в первом эпизоде, хотя желаемым благом для Екатерины является посланник, ей приходится быть помощницей своего оппонента (соперницы); во втором эпизоде она принуждает своего оппонента стать для нее помощником в достижении желаемого блага. При переходе от одного эпизода к другому изменились индексы: из племянницы императрицы Екатерина становится императрицей, а посланник из любовника первой становится добивающимся любви второй. Мы подробно проанализировали этот пример, потому что он хорошо показывает трудность интегрирования при анализе двух рядов: отношений между ядрами и отношений между функциями. Если речь идет о ядрах, можно говорить об итеративном добавлении, по отношению к функциям — о сокращении с добавлением.
Такое совмещение операций не свойственно фигурам повествования. Любые метаболы могут быть описаны in absolute с некоторой степенью точности, как, надеемся, нам удалось показать в этой книге. Однако речемыслительную реальность, как любую другую реальность, не всегда удается полностью обосновать рациональным методом.
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Автокоррекция 68, 74, 75, 85 актанты 333, 342 — 347 аллегория 91, 241, 249 — 252 аллитерация 65, 90, 105, 275 анаграмма 91, 114, 115 анаколуф 91, 147, 148 антанаклаза 73, 221 — 224 антиметабола 73, 222 — 224 антистрофа 115, 269 антитеза 90, 219, 220, 246 — 248 антифразис 91, 219 — 221, 252, 254, 325 антономазия 30, 31, 90, 188, 190, 208 апокопа 90, 100, 120, 269 арго 117, 118, 267, 268 аргумент 15, 33 архаизм 90, НО, 271, 273 архилексия, архилексема 90, 223, 224 асемия 90, 101 асиндетон 90, 134, 135 ассонанс 64, 65, 90, 104, 275 аферезис 90, 100 аффиксация 90, 131, 269
Басня 91, 249 — 251 безличность (см также неличность) 282, 283
Вводное слово (предложение) 90, 139, 153, 164, 165 верлан 65, 91, 118 включение (вставка) 153, 154
Генитивная конструкция 212, 213 гипаллаг 30 гипербатон 91, 127, 154, 155, 161, 163, 166
гипербола 90, 176, 207, 208, 227, 229, 244, 247, 248, 269 гиперсемема 207 гипограмма 112 графема 66, 98, 105
Декомпозиция (семантическое членение) 183, 184, 185,198, 199
дефиниция 203
диереза 90, 102
дизъюнкция 134, 135
дискурс 302, 306, 310 — 312
— кинематографический 308, 309
— литературный 306, 307, 326
— повествовательный 301, 306 — сценический 307 — 308 дистанция 14, 268, 269 добавление 86, 101 — 106, 118, 119, 137 — 143, 164, 165, 223, 244 — 248, 304, 305, 313, 315, 316, 319-321, 325, 326, 329, 330, 333-335, 337, 339, 340 — 3412, 344 — 346
— итеративное (повторное) 87, 88, 90, 103, 104, 128, 141, 298, 305, 325, 335, 347
— простое 87, 88, 90, 325 дополнительные структуры 43, 45, 60
Жанр 284 — 286, 309, 310
Заимствования (иноязычные слова) 91, ИЗ, 271
замена 165, 321
зевгма 90, 133, 154
знаки препинания 135, 136, 151, 152, 161
Избыточность 68, 74 — 79, 81, 84, 178
— грамматическая 76, 78
— графическая 75
— конвенциональная, см. конвенция
— семантическая 76 — 78
— синтаксическая 76, 78
— фонетическая 75, 76, 78
изменение 68, 85
изотопия 72, 73, 74, 212, 222, 247, 251, 309
имена
— абстрактные 186 — 188, 219, 253
— конкретные 186 — 188, 253 инвариант 68, 83 — 85, 108, 109, 189, 248, 250, 256, 257
инверсия, см перестановка инвертированная
индексы 332, 333, 336 — 338, 347 инфиксация 102
информанты 332, 333, 339 — 342 информация 14, 86
ирония 91, 207, 252, 254
— тонкая 255
Каламбур 91, 114, 120 каллиграмма 119 кардинальные функции, см.
ядра
катализы 332, 334
катахреза 30, 176, 231
квадратный период 130
квазиомонимичная подстановка ИЗ
классема, см. сема итеративная
колесо Вергилия 9, 273 коммутация 283 — 297 конвенция 77, 81 — 83 — дополнительная 82
— отменяющая 82 конкатенация 90, 140 коннотация 108, 110, 216 — 219, 250
Лексема 173, 174
лепория 33
лингвистика текста 18 литература 37, 47 литературность 37, 40 41 48, 203, 266
литота 90, 91, 234, 235, 242 — 244, 248, 253 — 255, 269
лицо 282
логический анализ языка 15, 236 — 240
Макроконтекст 275, 276
маркер 68, 78, 79, 85, 124, 176, 209, 249, 250, 255. 256
метабола 19, 22, 56, 65, 90
— пустая 266
метаграф 94, 96, 116, 118 — 120 металогизм 19, 56, 65, 67, 68, 80, 85, 90, 176, 207, 208, 225 — 260
метаплазм 56, 65, 66, 68, 80, 85_ 90, 92 — 120, 172, 203, 267 — 269
метасемема 19, 56, 65, 67, 73, 80, 84, 85, 90, 168 — 224, 225 — 230, 232, 233, 236, 239 — 242, 249, 251, 253, 267 — 268
метатаксис 19, 56, 65, 68, 76, 80, 85, 90, 98, 121 — 167
метатеза 91, 114
метафора 28, 29, 30, 34, 36, 44, 51, 168, 169, 175 — 177, 179, 194 — 214, 216, 218, 226, 227, 228, 232, 234, 235, 236, 240, 241, 249, 251, 269
— изобразительная 57, 200
— кинематографическая 321
— понятийная 200
— референциальная 200
— синтаксическая 148, 149,150' — скорректированная 200 — 203- — М. in absentia 91, 203 — 206, 209, 213, 234
— М. in praesentia 90, 203 — 206, 209
метонимия 28 — 30, 91, 175, 179, 190, 201, 214-219, 269
метрика 128
микроконтекст 275
молчание 233 — 234, 243, 244
морфема 67, 124
Нагромождение 140
назывные предложения 133, 134
наложение 221 — 224
нарушение нормы, см. отклонение
неличность 282, 283
неологизмы 91, ПО, 111, 271
неология НО — 112
новая критика 17, 28, 40
норма 20, 42, 49 — 51, 78, 121, 122, 126, 284, 285, 309, 310, 328, 329, 343
нулевая ступень 51, 52, 68 — 74, 79, 83, 84, 121 — 124, 172, 190, 204, 205, 213, 219, 220, 222, 245, 249, 256, 328
— абсолютная 69, 276
— реальная 70
Образ, образное выражение 30, 31, 37, 46, 204
387
образная ступень 74
образная речь, образность 58,
59
обрыв 90, 243, 244
сдушевленность/неодушев-
ленность 282, 283
оккупация 28, 255
оксюморон 91, 202, 219 — 221, 223, 297, 338
омофония, омофоны 105, ИЗ, 120, 222
ономатопея 94
операция
— отрицающая 87
— реляционная 85 — 87
— риторическая 79, 85 — 89
— субстанциональная 86 — 87
основа дискурса 83, 84
отказ 257
отклонение 20, 21, 41, 48 — 51, 68, 74, 75, 79 — 83, 85, 117, 176, 231, 309, 310, 343
— редукция о. (см. также автокоррекция) 42, 75, 83, 109, 178 — 179, 195, 196, 255, 256, 275
отрицание 252, 254 — 257
— двойное 254
отступление 139, 313 — 314
ошибка 74, 179
— категориальная 236 — 238
Палиндром 91, 115, 322
парагога 101
парадокс 91, 219, 220, 222, 257 — 259
параллелизм 142
паратаксис 90, 135, 162
парономазия 90, 113
— П. in absentia 114
пауза 84, 90, 101
перенос 129, 137, 154, 155
перестановка 87, 88, 114 — 116, 127, 152 — 159, 259 — 260, 321, 322, 325, 326, 329, 331
— акрофоническая 52, 64, 65, 91, 115, 169
— инвертированная 91, 115, 128, 155 — 158, 164, 322
— обычная 91
перечисление 90, 140
персонажи 333, 336, 337, 338, 342 — 347
плеоназмы 82, 90, 245, 246
повествование 280, 300, 301, 302, 310-312
— обрамленное 318
повтор (повторение) 64, 82, 90, 141 — 143, 158, 245, 246
подчеркивание 90 полисемия 174, 222 полисиндетон 90, 142 порядок слов 125 — 127 поэтика 57, 58, 60, 61 поэтический язык/речь 20, 43 — 46, 58, 60, 99
предложение 66, 67, 122, 123 преоккупация 255 приложение 211 — 212 приостановка 90, 243 притча 91, 249. 250 прозопопея 207 прономинация 28 протеза 90, 101
прямой (буквальный), переносный смысл 230, 231, 233, 235, 240. 250
Развертывание 139 — 141, 300 различительный признак (фе-ма) 66, 87, 98, 99. 101, 106 редупликация (см. также добавление итеративное) 103 — графическая 105 реклама 266, 267 реприза 90, 141 референт, референтная ситуация 54. 60, 67, 186, 216, 227, 228, 234, 235, 240, 245, 251, 252, 281
риторика 10, 27, 28, 57
— античная (классическая) 6-13, 29-31, 33, 53, 56, 57 — вторая, см. поэтика 60 — литературная 17 — 20 — новая 6. 13 — 15, 17, 22, 34, 40, 58
— общая 19, 22, 29, 37, 53 56, 116, 229. 230 — 232
— традиционная (старая) 29 30. 33, 34, 229, 230 — 232, 273 — французского классицизма 32 — 34, 35, 36 рифма 90, 104, 113 — ветвящаяся 105 — внутренняя 104
— конкатенированная 105
— омонимическая 105
— сквозная 104
— увенчанная 104
— для глаза 106
— рифма-эхо 104
Связка грамматическая 209
•семы 62, 63 67, 87, 109, 173, 174, 185, 251
— итеративные (классемы) 77, 178, 212, 219
— окказиональные 247
— сопутствующие 69
— существенные (главные) семы 69, 70, 80, 190 — 192, 193
— ядерные 219, 253
семема 67, 170, 173, 174, 251
силлепсис (смешанный троп)
91, 143 — 147, 221, 223
симметрия 90, 130, 142, 158, 165
синекдоха 29, 30, 70, 140, 171, 175, 179,188 — 194, 197,198 — 205, 213 — 215, 244
— обобщающая 90, 188, 189, 192, 198, 201, 207, 269, 298
— сужающая 90, 190, 192, 198, 206, 208, 249, 251, 269
синерезис 90, 100
синкопа 90, 100
синонимия 91, 107 — 110, 269, 270
синтагма 66, 67, 98, 124, 195
синезис 100
систола 100
слово 66, 67, 92, 93 95, 97, 98, 170
— складное 76, 90, 102, 103
— слово-сэндвич (см. также складное слово) 103
словотворчество 111, 112
слог 66
смежности принцип 183. 214.
соединение 44, 60
сокращение 86, 99 — 101, 120, 130 — 137, 160, 163, 242 — 244, 304, 312, 315, 317 — 318. 324 — 326 329 333 — 335, 337, 339, 340 — 342, 344
— полное/частичное 86 — 88, 90 сокращение с добавлением (см
также коммутация) 86, 88, 91, 106-114, 120, 143 — 152, 248 — 259, 283, 297, 315 — 316, 325, 327, 329, 331, 335, 336, 338, 340, 341, 342, 346
соразмерность 129, 130, 142, 150, 165
сравнение 90, 206 — 214 стилема НО, 270, 273 стилистика 6, 30 — 32, 35, 36, 262 — 263, 272
стилистический прием 274 — 276 стиль 41, 48, 51, 265, 272, 274, 276, 277
стирание 90 стихотворный размер 90, 128, 129, 142, 150 — 152, 158
структурализм 28
— французская школа 16, 17 стяжение 90, 131 субстанция
— визуальная 303 — 305
— выражения 302
— графическая 160, 302, 303, 305
— звуковая 303, 304, 305 — изобразительная 303, 304 субституция, см. сокращение с добавлением
субъективные вероятности (оправданные ожидания) 71 — 72, 83
суппорт (материал) 160, 302, 303
Теория аргументации 15, 34, 58 теория информации 72 теория массовых коммуникаций 14, 15
теория языковых уровней 62 — 65
тмезис 91, 153, 154 топография 29, 207 точка зрения 328, 329 троп 20, 168, 176, 205, 207, 229 тропология 33, 36
Удвоение 90 узус 229 — 232 умолчание 90, 255 упразднение 90
Фигуры 42, 49, 59, 229, 230 — воображения 36 — мысли (см. также металогизм) 19, 53, 67, 207, 240
— наполненные 36
— повествования 300 — 347
— принятые 36
— пустые 37
— речи, см. гроп
— риторические 17, 48, 64 — 65, 179, 207
— синтаксические 65
— словесные 65
— слоговые 65
— субстанции выражения 302 — 305
— фонемные 65
— формы выражения 306 — 332
— формы содержания 332 — 347
фонема 66, 98, 105
форма и субстанция 64, 263, 300, 301
функция
— игровая 45
— конативная 54, 293
— метаязыковая 54, 55
— миметическая 58
— поэтическая 19, 45, 54 55, 177, 266
— референциальная 46, 54, 59, 233
— риторическая 19, 45, 54, 55, 60, 73, 116, 177, 266
— фатическая 54
— экспрессивная 54, 55
Хиазм 82, 91, 150 — 151, 158
хронография 29
Число единственное/множест-венное 283, 296 — 297
Шифтер 176, 195, 284
Эвфемизм 91 248, 249, 252 эксплеция 90, 140, 164, 245 эксполиция 28 эктазис 102 эллипсис 84, 90, 101, 128, 132, 133, 161 — 162, 163, 165, 166, 243, 269, 318, 324, 334 эндоцентрический/экзоцентрический ряд 182 — 183, 185, 188 эпанортоза 255 эпентеза 90, 102 эпифонема 30, 245 этопея 30, 207 этос 21, 22, 37, 61, 71, 85, 219, 249, 261-278, 284 — автономный 265, 269 — 274 — контекстуальный 105, 265, 274 — 278
— ядерный 265, 266 — 269
Язык 54 — 55
ядра (кардинальные функция) 332, 333, 347
_________________
Распознавание текста — sheba.spb.ru
|