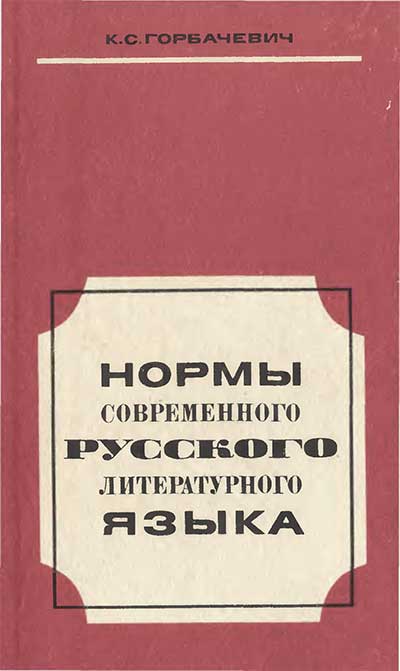ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КНИГИ
(есть ошибки и пропуски трудных фрагментов)
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава первая. Русский -литературный язык в наше время
Литературный язык и его свойства
Изменение социальной базы и структуры русского языка
Хронологические границы современного русского литературного языка
Письменная основа современного русского литературного языка
Богатство русского литературного языка и научно-техническая революция
Современный русский литературный язык и художественная литература
Дополнительная литература
Глава вторая. Природа норм литературного языка
Динамическая теория нормы
Вариантность и норма
Поиски критериев правильной нормы
Дополнительная литература
Глава третья. Нормы словоупотребления
Новые слова в оценке современников
Словотворчество писателей и литературный язык
Полезные и вредные заимствования
Требование смысловой точности и многозначность русского слова
Появление новых значений и ненормативное словоупотребление
Сочетания правильные, неправильные и необычные
О подлинной и мнимой тавтологии
Дополнительная литература
Глава четвертая. Нормы ударения
Особенности ударения в русском языке
Причины изменения и колебания ударения
Основные тенденции в развитии русского ударения
Колебания ударения у существительных мужского рода. Развитие наконечного ударения в падежных формах существительных мужского рода
Колебания ударения у существительных женского рода.
Изменение ударения у прилагательных
Изменение ударения у глаголов
Дополнительная литература
Глава пятая. Нормы произношения
Московское и ленинградское произношение 135
Сближение произношения с написанием 138
Произношение заимствованных слов 140
Сценическое произношение и его особенности 144
Устранение диалектного произношения 146
Произношение орфографического сочетания чн 148
Особенности перехода ё в о в современном русском языке 151
Дополнительная литература 159
Глава шестая. Нормы в морфологии 161
Причины вариантности в формах слова 162
Уподобление форм слова и функциональные особенности морфологических вариантов 164
Колебание в грамматическом роде у неологизмов типа липси, цунами и т. п. 171
Определение грамматического рода аббревиатур 176
Нормы употребления сложносоставных слов типа диван-кровать, вагон-лавка, кафе-ресторан и т. п. 179
Колебания в падежных формах 184
Дополнительная литература 191
Глава седьмая. Синтаксические нормы 193
I. Вариантность в форме управления
Причины изменения норм в управлении и функциональные особенности синтаксических вариантов 195
Распространение конструкций с винительным падежом 202
Конкуренция предложных и беспредложных сочетаний 212
Вытеснение приименного дательного падежа формой родительного падежа 215
Колебание управления в некоторых словосочетаниях типа цена деньгам — цена денег, подвести итоги соревнованию — подвести итоги соревнования 218
II. Вариантность в форме согласования 223
Распространение смыслового согласования сказуемого с подлежащим при обозначении женщины по ее профессии, должности
Распространение смыслового согласования скузаемого с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием 228
Дополнительная литература 233
Заключение 234
Список сокращений 237
Мой верный другг мой друг коварный, мой царь, мой раб — родной язык!
(В. Брюсов)
ВВЕДЕНИЕ
Трудно встретить сейчас человека, полностью, равнодушного к современной речи и удовлетворенного ее состоянием. На колебания и сложность норм русского литературного языка сетует стар и млад. Впрочем, образованная часть общества никогда не была безразличной к своему языку. Почти всегда находились сторонники языкового обновления, даже реформ языка, а с другой стороны, пуристы — ревнители чистоты и правильности старых, традиционных речевых навыков. Спор между ними — это непреходящий спор, чем-то похожий на извечную проблему «отцов и детей».
Но в последнее время интерес к родному языку стал носить отнюдь не отвлеченный характер. Беспокойная мысль (правильно или неправильно?), творческие муки слова вышли за пределы профессорских кабинетов и учебных аудиторий. Споры о языке, дебаты и прения о его красоте и богатстве, о порче и обеднении нашей речи происходят сейчас, как заметил Корней Чуковский, «в обстановке раскаленных страстей». Свидетельством этому служит хотя бы та широкая и горячая дискуссия, которая уже несколько лет ведется на страницах «Литературной газеты».
Неослабный и возрастающий интерес к языку и повышенные требования к форме речи знаменуют собой новый этап в культурном развитии нашего общества. Все более укрепляется в сознании современников то, что речь человека — это лакмусовая бумажка его общей культуры, что владение литературным языком составляет необходимый компонент образованности, интеллигентности и что, наоборот, «языковая малограмотность, — как еще говорил М. Горький, — всегда является признаком низкой культуры и всегда сопряжена с малограмотностью идеологической» (Открытое письмо А. С. Серафимовичу, 1934 г.).
Осознание общественной важности литературного языка и тревога о его судьбах естественно ведут к формированию целенаправленной языковой политики. Это звено современного научного мировоззрения принято называть учением о культуре речи. И хотя учение о культуре речи не сложилось еще как самостоятельная научная дисциплина, сейчас все же можно говорить об основных задачах и объекте этой гуманитарной области познания. Культура речи включает в себя, во-первых, требование правильности речи, знание и соблюдение языковых норм (норм произношения, ударения, словоупотребления и т. д.), во-вторых, стремление к выразительности, наибольшей эффективности высказывания (здесь назначение культуры речи смыкается с задачами стилистики языка). Мысль о разграничении двух сторон рассматриваемого понятия принадлежит в отечественном языкознании известному ученому Г. О. Винокуру. «Понятие культуры речи, — писал он, — можно толковать в двояком смысле, в зависимости от того, будем ли мы иметь в виду одну только правильную речь или же также речь умелую, искусную» (Из бесед о культуре речи. — «Русская речь», 1967, № 3, с. 10). Культура речи предполагает, таким образом, не только правильное, но и уместное (как теперь говорят, оптимальное) использование языковых средств в определенной речевой ситуации.
Понятие «культура речи» не сводится к мелочной опеке и погоне за отдельными уродливыми словечками и безграмотными оборотами. Метод отбора слов и выражений, установление действующих норм литературного словоупотребления и практические рекомендации (представленные в словарях, грамматиках и учебных пособиях) должны основываться на научном осмыслении языка в качестве объективного и непрерывно эволюционирующего феномена.
Борьба за культуру речи всегда ведется как бы на два фронта: против тех, кто безоглядно засоряет литературный язык ненужными и даже вредными новшествами, и против тех, кто упрямо противится всему новому, непривычному, но в то же время прогрессивному и полезному. Каждый языковед подписался бы сейчас под бессмертными словами И. С. Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками» («По поводу «Отцов и детей»). Сохранение ценностей, которые основываются на языковой традиции, — одна из задач учения о культуре речи. Но литературно-языковые традиции — это клад, но не кладовая с обветшалыми словечками и словосочетаниями. Традиция — то, что вышло из прошлого, живет и продолжает служить нам. Но безуспешно цепляться за идеалы минувшего, поклоняться старому языку как неприкосновенному кумиру. При нормативной оценке современной речи неуместны ни сладкоречивые восторги, ни гневные и тем более предвзятые осуждения. Позитивная программа языковой политики и совершенствования речевой культуры может быть сформирована только на основе спокойного и вдумчивого исследования, объективно-исторического анализа конкретных языковых фактов.
Все это имеет прямое отношение к преподаванию русского языка в школе. Нет необходимости доказывать, как велика роль школы в повышении культуры речи, в усвоении норм литературного языка. Школа — это основной канал сознательного коллективного воздействия на речевую практику. Именно в стенах школы исправляются и шлифуются языковые навыки, здесь формируется правильная литературная речь.
Однако средняя школа (как, впрочем, и высшие учебные заведения) не имеет пока ни четкой программы, ни пособия для изучения трудных и спорных фактов современного словоупотребления. В школьном преподавания не всегда учитывается диалектика языкового развития. Язык нередко представляется как нечто статичное и неизменное, а его нормы — вечными и нерушимыми. Исходя из традиционного (часто уже устарелого) или субъективного представления о правильности речи, учитель иногда отвергает то или иное новообразование, которое в действительности является перспективным и жизнеспособным, которое идет на смену отживающей норме.
Известно, что для русского литературного языка характерна неодинаковая обязательность (жесткость) и устойчивость нормы, широта ее действия. Учителю-сло-веенцку необходимо знать не только наиболее уязвимые и проницаемые участки современного словоупотребления, но и учитывать основные направления в развитии русского литературного языка. Для нормативной опенки спорных случаев современной речи часто недостаточно действующего в школе мерила: «правильно» — «неправильно». В литературном языке имеются тысячи вариантов, которые возникают вследствие развития языка и отражают временное сосуществование старого и нового качества. Часто случается, что оба варианта отвечают требованиям нормы, допустимы в пределах литературной речи, но обладают определенным функциональным своеобразием. Характеристика этих особенностей — нелегкая, но весьма важная задача обучения родному языку.
В этом пособии рассматриваются наиболее трудные факты письменной и устной речи, представлены наиболее острые конфликты в современном словоупотреблении. Во всех случаях автор стремился показать, как складываются нормы, пытался отыскать причину их колебаний и определить общее направление в развитии русского литературного языка. Хотя в последние годы о культуре русской речи написано немало интересных книг и статей, не все проблемы этой сложной области познания нашли одинаковое решение. В некоторых случаях в науке еще нет общепринятого взгляда на те или иные языковые процессы. В книге отмечаются основные точки зрения на характер норм литературного языка и приемы их исследования. Многие важные сведения читатель сможет получить из дополнительной литературы, списки которой приводятся в конце каждой главы.
Мир слов имеет свои закономерности, познание которых не менее увлекательно, чем, скажем, изучение биологии или химии. Объяснение фактов колебания и отклонения от современных норм, сопровождаемое историческими экскурсами («дыханием истории!»), пробудит интерес к языку, сделает процесс преподавания более живым и плодотворным и, что самое главное, будет способствовать выработке правильного, научного представления о нормах литературного языка и их развитии. Без этого едва ли можно решить задачи новых школьных программ по русскому языку, где особо подчеркивается важность освоения и совершенствования литературной речи.
Глава первая
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В НАШЕ ВРЕМЯ
О русском литературном языке написано множество книг и статей. В них рассказывается и о его сложной и прихотливой истории, и о богатстве и выразительной силе этого величайшего национального достояния, и о той важной роли, которую играет русский литературный язык в нашей стране и на международной арене. Являясь живой связующей нитью поколений, литературный язык впитал в себя все лучшее, здоровое из народной речи. Он воплощает мировоззрение русского народа, отражая, как в зеркале, достижения его национального духа и культуры.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО СВОЙСТВА
Долгое время среди языковедов бытовало мнение, что всякий литературный язык является чисто искусственным образованием. Некоторые ученые сравнивали его даже с оранжерейным растением. Считалось, что литературный язык далек от живого (естественного) языка и поэтому не представляет значительного интереса для науки. Сейчас такие взгляды полностью изжиты. Литературный язык, будучи продуктом длительного и сложного исторического развития, органически связан с народной основой. Часто цитируют слова М. Горького о том, что «деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами» (О том, как я учился писать. 1928 г.). Правда, при этом иногда суженно представляют круг людей, которых называют «мастерами слова», имея в виду исключительно писателей и ученых. В действительности же в процессе обработки народного языка принимают участие и общественные деятели, публицисты, учителя и другие представители русской интеллигенции. Хотя, конечно, роль писателей и поэтов в этом деле наиболее значительна.
Литературным языком называют исторически сложившу юс я высшую (образцовую, обработанную) форму национального языка, обладающую богатым лексическим фондом, упорядоченной грамматической структурой и развитой системой стилей. Сближаясь на разных этапах своего развития то с книжно-письменной, то с разговорно-устной формой речи, русский литературный язык никогда не был чем-то искусственным и совершенно чуждым народному языку. В то же время между ними нельзя ставить и знак равенства. Литературному языку присущи особые свойства. Среди его основных признаков выделяются следующие:
1) наличие определенных норм (правил) словоупотребления, ударения, произношения и т. д. (причем, норм более строгих, чем, скажем, в диалектах), соблюдение которых имеет общеобразовательный характер независимо от социальной, профессиональной и территориальной принадлежности носителей данного языка;
2) стремление к устойчивости, к сохранению общекультурного наследства и литературно-книжных традиций;
3) приспособленность не только для обозначения всей суммы знаний, накопленной человечеством, но и для осуществления отвлеченного, логического мышления;
4) стилистическое богатство, заключающееся в обилии. функционально оправданных вариантных и синонимичных средств, что позволяет достигать наиболее эффективного выражения мысли в различных речевых ситуациях.
Разумеется, эти свойства литературного языка появились не сразу, а в результате длительного и искусного отбора наиболее точных и весомых слов и словосочетаний, наиболее удобных и целесообразных грамматических форм и конструкций. Этот отбор, осуществлявшийся мастерами слова, сочетался у них с творческим обогащением и усовершенствованием родного языка.
ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ БАЗЫ И СТРУКТУРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
Социальная обусловленность языка вообще, а литературного языка в особенности естественно ставит изменение свойств и структуры литературного языка в определенную зависимость от общественно-исторических преобразований. Прежде всего это касается, конечно, самой социальной базы, т. е. состава носителей литературного языка.
Социальная база русского литературного языка в начале XIX в. была чрезвычайно узкой. Правда, судьбы русского литературного языка и его отношение к народа ной стихии уже тогда волновали часть общества и были предметом непримиримых споров. Достаточно вспомнить шишковистов с их проповедями патриархально-книжной «славянщизны» и карамзинистов, насаждавших столь же далекий от народной основы благопристойный и офранцуженный жаргон аристократических салонов. Но к этой спорящей о языке части общества принадлежало в лучшем случае всего несколько тысяч столичных и провинциальных дворян. И хотя в то время уже писали Пушкин и Крылов, опиравшиеся на самобытную и народную языковую основу, русским литературным языком владел тогда ничтожный процент русского населения. Ведь безграмотное крестьянство России говорило в ту пору преимущественно на диалектах (здесь, правда, нееобходимо отметить гораздо большую взаимную близость русских говоров общенациональной основе, чем, скажем, у раздробленных диалектов немецкого языка). Но, как бы то ни было, блестящие образцы русской литературной речи, представленные в классических произведениях первой половины XIX в., оставались, в сущности, неизвестными для подавляющего большинства русского народа. Даже много позже, по переписи 1897 г., грамотность населения России составляла только около 30% (из них преимущественно дворянство и представители других имущих сословий).
Неудивительно поэтому, что структура национального языка до недавнего времени и строилась в основном на противопоставлении: «литературный язык» — «террйториальные диалекты». Однако сейчас социальная база русского литературного языка несравнимо расширилась.
Коренные изменения общественного уклада, всеобщее образование, массовая"печать, радио, телевидение сделали литературный язык истинно всенародным достоянием, главным средством языкового общения подавляющей части населения. С другой стороны, уходят в прошлое, нивелируются территориальные диалекты. Они не только перестали быть питательной средой для литературного языка, но сейчас уже в самой глухой деревне трудно отыскать стариков-старожилов, сохранивших диалектную речь в чистом виде. Сельская молодежь практически уже забыла свой диалект и говорит на литературном языке лишь с некоторыми фонетико-морфологическйми особенностями и сравнительно редкими вкраплениями областных слов.
Итак, социальные преобразования в послереволюционный период существенно изменили структуру русского литературного языка, что наиболее ярко выражается в утрате прежней оппозиции: «литературный язык» — «территориальные диалекты». Возникает естественный вопрос: чему же сейчас противостоит русский литературный язык, что является, так сказать, его антиподом?
Едва ли перспективно искать противопоставление русскому литературному языку в особенностях речи социальных групп современного общества. Своеобразие профессиональной речи наших дней лишь на первый взгляд кажется чем-то принципиально значительным. В действительности же ее специфика имеет не качественный, а количественный характер и ограничена набором узкоспециальной лексики, особенностями ударения у нескольких десятков слов (искра, добыча и т. п.), образованием некоторых грамматических форм (клапана, ватмана и т. п.) и синтаксических конструкций (разведка на нефть, наблюдение больного, следить зверя и т. п.).
В 1963 — 1966 гг. Институтом русского языка АН СССР было проведено широкое социально-лингвистическое обследование степени употребительности разных речевых форм у современных носителей русского языка (главным методом исследования служило распространение вопросника, или, как теперь говорят, анкетирование, с последующей механизированной обработкой полученных ответов на машиносчетной станции ЦСУ СССР). Как показали результаты этой работы (они опубликованы в кн. «Русский язык по данным массового обследования». М., 1974), количественное различие ь предпочтении фонетических, акцентных и морфологических вариантов среди социальных групп сравнительно невелико. В историческом же плане социально-профессиональная обусловленность применения вариантов общеупотребительных слов, как и территориальные особенности произношения и ударения, испытывает тенденцию к уменьшению, постепенно заменяясь ситуативной зависимостью. Языковое своеобразие социально-профессиональных групп современного общества остается достаточно существенным лишь в плане лексической специализации (закрепленность профессиональной терминологии). Однако одно это обстоятельство еще не может служить основанием для выдвижения особенностей речи социальных групп в качестве принципиального противопоставления литературному языку (каковым было раньше противопоставление: «литературный язык» — «территориальные диалекты»).
Неверно было бы считать основным антиподом руо ского литературного языка и современные жаргоны (хотя, конечно, они находятся за пределами литературного языка). Впрочем, в наше время практически нет жаргонов в узком, буквальном смысле этого слова. В прошлом социальной основой жаргонов (т. е. обособленных и замкнутых речевых систем) являлись деклассированные элементы или представители келейных, засекреченных профессий (воровской жаргон, жаргон нищих, торговцев-офеней и т. д.). Непонятный неискушенному слуху набор словечек создавался обычно с целью конспирации, сохранения тайны ремесла. Такие жаргоны умерли, исчезли вместе с породившим их общественным укладом (правда, некоторые «осколки» прежних жаргонов сохранились в литературном языке, например: двурушник, буквально — протягивающий две руки за милостыней, из речи нищих; халтура, буквально — поминальная служба, из речи старого духовенства). То, что наблюдается в наше время, не является замкнутой речевой системой, и правильнее было бы обозначать это не жаргоном, а жаргонной (или жаргонизированной) лексикой. Эти-то словечки в качестве «инкрустаций» обычной литературной речи, к сожалению, еще используются в некоторых слоях современной молодежи (ср. в речи «стиляг»:
железно, потрясно, клёво, чувак, чувиха, хилять, корочки н т. п.).
О необходимости очищения языка от «паразитивного хлама» подобного рода писал еще М. Горький. Конечно, борьба против жаргонизмов не потеряла остроты и в наше время. Однако не следует преувеличивать их опасность для литературной речи. Известно, что запретный плод сладок, а поэтому предавать жаргонизмы публичкой анафеме и тем более наказывать за их употребление (а такие советы иногда даются) — значит повторять печальную историю с насильственным забвением Герострата. Увлечение жаргонными словечками — это как бы «детская болезнь «левизны» в языке. Их существование к речи, как и у всякой моды, обычно недолговечно (на моей памяти в речи школьников и некоторых взрослых еще нередко встречались такие сорняки, как буза, на ять, на большой палец и т. п., ныне практически исчезнувшие из обихода). Причины распространения новых жаргонных словечек, этой привлекательной для некоторой части молодежи словесной пены, кроются в погоне за мнимой образностью, оригинальностью речи. Примечательно, что особенно рьяными поклонниками жаргона оказываются те, у кого недостаточна литературная начитанность и беден собственный словарный запас. Путь очищения языка от жаргонной шелухи не в диктаторском запретительстве, а в обогащении речи молодежи истинными ценностями отечественной и мировой культуры.
Современный русский литературный язык противостоит не реликтовым проявлениям территориальных диалектов и не речевым особенностям отдельных социальнопрофессиональных групп (в том числе и молодежному «жаргону»), а более широкому кругу языковых фактов, которые можно было бы назвать «ненормированная речь». Норма — основной признак литературного языка. Все, что не соответствует норме, является отступлением от общепринятых правил, принадлежит к ненормированной речи.
Круг явлений, охватываемый понятием «ненормированная речь», весьма обширен и генетически неоднороден. В нее входят: а) остаточные элементы диалектного, или, точнее, полудиалектного характера (например: плотит вм. платит, броюсь вм. бреюсь, переведены вм. переведены, верба вм. верба, площадА вм. площади и т. н.);
б) архаичные формы, которые были в прошлом образцами словоупотребления, но перестали соответствовать норме (например: засуха вм. засуха, библиотека вм. библиотека, в лесе вм. в лесу, в дому вм. в доме, сторониться от кого-, чего-либо вм. сторониться кого-, чего-либо и т. п.); в) особенности социально-профессиональных наречий (например: рудник вм. руднйк, агонйя вм. агония, клапана, вм. клапаны и т. п.); г) новообразования, не признаваемые нормативными вследствие отрицательной общественно-эстетической оценки (например: звонит вм. звонйт, прйговор вм. приговор и т. п.); е) жаргонизмы и другие слова, находящиеся за пределами литературной лексики.
Особо следует остановиться на понятии «просторечие». Этот термин в современных исследованиях и словарях русского языка продолжает применяться в двух значениях. Под ним понимается один из стилей литературного языка с присущим ему особым кругом слов и форм, воспринимаемых на фоне других стилей (например: облапошить, дубасить, окочуриться, лоботряс и т. п.). Такие факты называют «литературным просторечием». Но иногда термином «просторечие» называют и те явления, которые не входят в литературный язык, принадлежат ненормированной, малограмотной речи (например: тро-лебус вм. троллейбус, инженера вм. инженеры, делов вм. дел и т. п.). Эта двузначность термина «просторечие» отмечается и в специальных словарях (см., например, Ро-зентальД. Э., Теленкова М. А. Справочник лингвистических терминов. Пособие для учителей. М., 1972). Думается, однако, что в целях большей терминологической точности «просторечием» следовало бы называть только стилистически сниженные (грубоватые, но нередко оправдываемые контекстом речи) факты литературного языка (башка, брюхо, пузо, жрать, дрыхнуть и т. п.), отграничивая их от тех явлений, которые находятся за пределами литературного языка (ненормированная речь, жаргонизмы и т. п.).
Изменение социальной базы, состава носителей литературного языка привело и к другим существенным преобразованиям его структуры. Изменилось социальное и эстетическое восприятие языка. Ушли в прошлое и снобистское любование словом, и пренебрежительно барское отношение к народной речи, свойственное отдельным кругам рафинированной дореволюционной интеллигенции. Культурой овладели широкие слои населения.
Следствием этого явилась демократизация литературного языка, сближение его с разговорно-просторечной стихией и профессиональной речью. Вот с какими словами обращалась к писателям и интеллигенции Мариетта Шагинян: «Пришло время обновить твой язык устной речью, прислушаться к изменениям и новизне в разговоре живых людей, современников, сойти из книжного шкафа в уличную толпу...» (Человек и время. — «Новый мир», 1975, № 3). Современные исследователи пишут о стилистической нейтрализации, т. е. расширении состава нейтральной лексики за счет стилистического обесцвечивания смежных лексических пластов. В самом деле, в «Толковом словаре русского,языка» под ред. Д. Н. Ушакова 1 слова перспектива, принцип, проблема, престиж, привилегия, тенденция и многие другие снабжены пометой «книжное». Это свидетельствует о том, что в 30-х годах приведенные слова были свойственны книжному стилю. Сейчас они употребляются уже без стилистических ограничений. Правда, другие слова, в прошлом не имевшие стилистической окраски (например, брюхо), перешли в разряд просторечных, однако основной, магистральный путь развития русского литературного языка состоит в сближении книжного и разговорного стилей (что, естественно, не исключает сохранения стилистической приуроченности у многих тысяч слов и их вариантов).
. Изменения в социальной базе и структуре русского литературного языка отразились на общих принципах и способах оценки языковых фактов. Если раньше основным признаком была, так сказать, пространственная характеристика («где, на какой территории или в какой социальной группе так говорят»), то теперь все более существенной становится функциональная характеристика («с какой целью, в какой ситуации так говорят»). От территориально-социальной обособленности наш язык движется к единой, взаимосвязанной и рациональной системе функционально загруженных элементов.
1 Далее название этого словаря дается сокращенно: Словарь Ушакова. О других принятых сокращениях часто упоминаемых работ, словарей и справочников см. в конце книги.
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Вопрос о хронологии современного русского литературного языка приобрел сейчас особенную остроту. Языковеды-русисты и преподаватели в средней школе обычно опираются на понимание современности от эпохи Пушкина до наших дней. Однако существенные изменения и в составе лексики, и в нормах словоупотребления вызывают необходимость пересмотра такой хронологизации.
Действительно, даже у Пушкина мы встречаем такие, например, устарелые ударения и формы слов: засуха, музыка, библиотека, кладбйще, эпигрйф, филолог, дальний, турка, вихорь, клоб (вм. клуб) и т. п. Глагол взойти в значении войти употребляли Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Никитин, Лажечников, Л. Толстой, Слепцов, Чернышевский и другие известные писатели прошлого. Ненормативная сейчас форма родительного множественного сапогов была совершенно нормальной для литературного языка XIX в. Особенно значительные изменения произошли в лексической и синтаксической сочетаемости.
Естественно, что во многих научных работах, в том числе и в Академических грамматиках (1953, 1954 и 1970), язык нашего времени если не противоставляется, то сопоставляется с языком эпохи Пушкина. Представление о таких хронологических рамках современного русского литературного языка иногда толкуется как расширительное, даже как дань традиции. Язык советской эпохи рассматривается в качестве нового этапа исторического развития русского литературного языка. В научной литературе нередко встречаются такие уточняющие наименования: «язык нового времени»,
«живая система языка» и т. п. В 1966 г. В. В. Виноградов высказал мысль о том, что границы современного языка — это время с 90-х гг. XIX — начала XX в. вплоть до наших дней («Вопросы языкознания», 1966, № 6, с. 8).
В особенно неблагополучном и двусмысленном положении оказывается нормативная и учебная лексикография, которая, с одной стороны, должна считаться с традиционной хронологизацией литературного языка (от Пушкина) и оберегать культурно-историческое наследие, а с другой — обязана отражать реальное языковое сознание носителей языка. Ориентация на язык классической литературы XIX в. нередко приводила лексикографов к неоправданному уравниванию старых и новых форм выражения. Например, в Словаре Ушакова и Большом академическом словаре признаются нормативными ботинок (мужской род) и ботинка (женский род). Действительно, в XIX в. преобладал вариант ботинка (Гончаров, Достоевский, Некрасов, Тургенев, Лесков, Григорович, Писемский, Мамин-Сибиряк, Салтыков-Щедрин, Л. Толстой, Чехов и Др.). Хотя форма женского рода встречается и в начале XX в. (М. Горький, Блок, Маяковский), сейчас она уже не соответствует современной литературной норме.
Поэтому при составлении сугубо нормативного словаря-справочника «Трудности словоупотребления» (1973) нижней границей современного литературного языка был признан период конца 30-х — начала 40-х гг. нашего века. Дело в том, что многое в языке 20-х — начала 30-х гг. оказалось эфемерным и не сохранилось. Относительно этого периода писали о языковой смуте, языковой разрухе, огрублении языка, болезни роста и даже гибели языка. В то время в связи с массовой миграцией населения (в основном приток крестьянского населения в города) усилилось влияние диалектных особенностей речи. На конец же Ю-х годов падает окончание важного этапа культурной революции. К этому времени складывается новая по социальному составу интеллигенция. Происшедшие в 30 — 40-е гг. изменения в составе населения крупнейших городов существенно влияют на нормы произношения и ударения. После I съезда советских писателей усиливается борьба за чистоту русского языка, начинается упорядочение общественной речевой практики, известная стабилизация языковых норм. Именно этот период (конец 30-х — начало 40-х гг.) характеризуется укреплением языковых норм, созданием художественных произведений, отличающихся, помимо прочих достоинств, образцовым языком.
Хронологизация русского литературного языка наших дней ждет своего подлинно научного освещения, при котором должны учитываться и «читаемость» художественной литературы XIX в., и ее культурно-воспитательное значение. Ни один языковед не призывает сбросить непревзойденные творения Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Тургенева с «корабля современности». Однако при всем этом нормативная оценка речевых фактов может производиться только с точки зрения языкового сознания наших дней. Поэтому и словарь-справочник «Трудности словоупотребления» (1973), и «Словарь трудностей» (1976) квалифицируют, например, форму сапогов (вм. сапог) как ненормативную, несмотря на то что ее употребляли Пушкин, Гоголь, Достоевский, Некрасов, А. К. Толстой, Л. Толстой, Чехов и другие выдающиеся писатели XIX в. Хотя форма предложного падежа в дому широко представлена в классической литературе (Пушкин, Фет, А. К. Толстой, Короленко и др.) и встречается даже у современных поэтов (Твардовский, Друнина, Ахматова, Цветаева, Прокофьев и др.), нормой стала форма в доме. Сейчас уже не могут считаться нормативными ударения гроббвый, громовый, несмотря на то что они были обычны для поэзии XIX в. (Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Полонский, Некрасов и др.).
ПИСЬМЕННАЯ ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Признание взаимосвязи и взаимообусловленности письменной и устной форм речи не снимает вопроса о преобладании одной из них при становлении и образовании норм литературного языка. С исторической точки зрения соотношение письменной и устной речи не было одинаковым. Этапы расхождения книжного и разговорного стилей сменялись их сближением и взаимопроникновением. В развитии норм русского литературного языка, как справедливо замечает Л. И. Скворцов, неоднократно происходила смена установок на «разговорность» («народность») или на «литературность» («книжность»). Известно, что при конкуренции форм больше шансов на выживание имеет та, которая поддерживается письмом, литературно-книжной традицией. Поэтому основатели .учения о культуре русской речи (Г. О. Винокур, Л. П. Якубинский, Л. В. Щерба и др.) закономерно искали норму национального языка в первую очередь в более устойчивой письменной основе. Справедливо об этом писал немецкий языковед XIX в. Г. Пауль: «Лишь благодаря закреплению на письме норма перестает зависеть от отдельных говорящих и может быть передана грядущим поколениям в неизменном виде» (Принципы истории языка. Рус. пер. М., 1960, с. 478).
В то же время многие исследователи пишут о вторичности письменной речи об ее отставании от устной и зависимости от тех закономерностей, которые присущи именно разговорной форме общения. Не случайно Л. В. Щерба сравнивал разговорную речь с кузницей, в которой куются все изменения языка.
Думается, что социальные преобразования последних десятилетий не только ускорили процесс сближения устной (разговорной) речи с письменной (книжной или профессиональной), но и укрепили приоритет письменной основы русского литературного языка. Не только в устном публичном выступлении, но и в обстановке непринужденной беседы мы все ощутимее чувствуем «оковы» письменной формы речи, влияние свойственных ей конструкций и словосочетаний.
Графические представления («орфографическая одежда», по выражению Л. В. Щербы) все прочнее укрепляются в нашем сознании. В связи с этим психологи обратили внимание на появление как бы «оптикографического» типа людей, воспринимающих нормы языка преимущественно через письмо. Возрастающая роль печатного слова, как полагают психологи, приводит к превращению письменной нормы из вторичной в первичную знаковую систему. Результаты уже упоминавшегося социолингвистического исследования (см.: Русский язык по данным массового обследования. М., 1974) свидетельствуют об усилении ориентации молодежи на письменную (лщгературно-традиционную) норму.
Таким образом, для современного состояния русского литературного языка при наличии тесного взаимодействия между письменной и устной формой речи характерно, что «ведущая роль остается за письменно-литературной разновидностью» (Филин Ф. П. Литературный язык как историческая категория. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции по теоретическим вопросам языкознания. М., 1974).
БОГАТСТВО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Русский язык по праву называют одним из наиболее богатых и развитых языков мира. Но каково количественное выражение сокровищ нашей национальной речи? Сколько слов в русском языке?
Думается, ни один ученый не возьмется отметить на этот коварный вопрос, имея в виду определенную цифру. Точными сведениями О словарном запасе живого языка наука не располагает и никогда не будет их иметь, так как язык находится в вечном обновлении и развитии. Количество слов не является постоянна величиной. Есть и другие причины, заставляющие нас отказаться от по пытки точно вычислить количество слов в языке. Это неосуществимо даже в наш век компьютеров и других сложных машин.
Известно, что Словарь Ушакова содержит 85 289 слов. Есть данные и о других словарях. Например, в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля — почти 200 тысяч слов, а в удостоенном Ленинской премии академическом семнадцатитомном словаре — 120 480 слов. Цифры разные, но, что самое важное, ни одна из них не соответствует действительному коли честву слов в русском языке.
Почему так происходит? Это нетрудно понять. Дело в том, что в словари литературного языка включается далеко не вся и не всякая лексика общенародного языка. Не помещаются, например, областные слова. Ведь еще и сейчас в отдельных местах РСФСР говорят мшара ( — болото), гашник ( = пояс), грудок ( = костер), баркан ( = морковь) и т. п. Таких, правда, теперь малоупотребительных слов сотни тысяч. И все они принадлежат русскому языку. Кроме того, в словари литературного языка не входит специальная терминология. А ведь количество терминов в современной науке измеряется семизначной цифрой и неуклонно растет. Могут возразить, что среди терминов много слов иноязычного происхождения. Это верно, но отнюдь не отрицает их принадлежности к нашему словарному запасу. Ведь многие слова, заимствованные в разное время и из разных языков (например: лошадь, деньги, комната, бумага, газета) , давно уже освоены русским языком.
Помимо диалектизмов и специальных терминов, в словари не включается еще огромная армия слов. Это — географические названия (в языкознании их называют топонимами). Несмотря на своеобразие, они тоже слова русского языка. К ним относятся и названия городов {Ярославль, Смоленск, Новгород, Брест, Брянск), и названия рек и озер (Волга, Десна, Волхов, Ильмень), и названия холмов, ручьев, болот, урочищ, угодий, и названия поселков, деревень, городских улиц и т. п. Сколько таких слов? На этот вопрос даже приблизительно трудно ответить. Подсчитано, правда, что в Советском Союзе около трех миллионов рек и водных протоков, больше двух миллионов озер. И ведь каждое имеет свое имя.
Но и это еще далеко не все. Русский язык обладает богатейшими словообразовательными возможностями. Проведем такой эксперимент. Будем прибавлять приставки пол-, сверх- и недо- к разным существительным, прилагательным и глаголам: полдороги, полдома, полгорода, полквартиры, полкниги, полстакана, полрюмки, полкастрюли... сверхмощный, сверхскоростной, сверхгениальный, сверхмнительный, сверхлюбопытный... недослушать, недо-плыть, недолететь, недослать, недолюбить, - недосчитать, недорассказать, недодиктовать. И т. д. чуть ли не бесконечно. Могут возразить: многих из этих «придуманных» нами слов нет в словарях. Да, конечно, нет. В целях сокращения объема издания такие потенциальные слова, как недолететь и сверхмнительный, не помещаются в словари. И это вполне оправданно. Их легко образовать по аналогии, а значение понятно из составляющих частей. Но в нашей реальной жизни эти слова существуют, хотя и не принимаются во внимание при подсчете.
Таким образом, если учитывать областные слова, топонимы, термины и производные слова, образуемые по активной словообразовательной модели, то окажется, что в русском языке несколько миллионов слов. Это действительно язык-миллионер.
Как и всякий язык, русский язык непрерывно обновляется и обогащается новыми словами — неологизмами. Приток неологизмов особенно усилился в -наш век научно-технического прогресса. Без преувеличения можно сказать, что каждый прожитый день рождает не одно новое слово. Словари не поспевают за темпом быстротекущей жизни. Видимо, лишь будущим историкам и языковедам предстоит определить размеры и последствия влияния научно-технической революции XX в. на судьбы русского литературного языка. Сейчас же можно со реей определенностью говорить о значительном пополнении русского языка с количественной стороны.
Однако ни бурный рост научно-технической информации, ни властный и закономерный переход специальной терминологии в общелитературный язык (ср., например, употребление термина акселерация в каждодневной печати), ни процесс рационализации, или, как теперь еще пишут, интеллектуализации, в области словотворчества не привели к качественным изменениям русского литературного языка. Напрасно было бы искать, как предлагают некоторые литературоведы, некий новый научно-технический стиль современной литературы. Неверно также и то, что между языком науки и общедоступным языком якобы образовалась непреодолимая пропасть. Научно-техническая революция не затронула основ, внутренней структуры русского литературного языка. Приток заимствованных терминов и увеличение удельного веса интернациональных слов вовсе не означает стирания национальных граней в области культуры. Наш литературный язык остается выразителем национального самосознания русского народа. «Под влиянием научно-технической революции литературный язык усложняется (подчиняясь при этом своим внутренним закономерностям), — пишут Ф. П. Филин и Л. И. Скворцов, — он лучше, тоньше и точнее служит человеку, но при этом отнюдь не «мехаиицируется» и не «логизируется», оставаясь живым языком» (Культура русской речи. — «Вестн. АН СССР», 1975, № 5, с. 101).
СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Известно, что понятие «литературный язык» не совпадает с понятием «язык художественной литературы». Последний выходит за пределы собственно литературного языка. «Язык художественной литературы со свойственной ему «установкой на выражение», — писал В. В. Виноградов, — имеет законное право на деформацию, на нарушение общелитературных языковых норм» (Литературный язык и язык художественной литерату-
ры. — «Вопросы языкознания», 1955, № 4, с. 4). В целях реалистического изображения жизни писатели включают в свои произведения нелитературные слова, формы слов и выражения, допускают оправданные контекстом отступления от норм литературного языка.
Таким образом, писателям, которые не только сообщают некие сведения, но и преследуют художественноэстетические цели, разрешен как бы сознательный выход за границы нормированного языка. Более того, неукоснительное следование норме, стерильно чистая, но в то же время невыразительная и однообразная речь для художественного произведения могут быть даже пагубными. Есть особая прелесть в обоснованных отступлениях от усредненного нормативного стандарта. Тургенев, познакомившись с посмертным изданием некоторых сочинений А. И. Герцена, писал так: «Язык его, до безумия неправильный, приводит меня в восторг...» (Из письма П. Анненкову от 18.Х.1870 г.). Вспомним также у Пушкина:
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
(«Евгений Онегин».)
Верно подмечено, что иностранцев часто узнают по слишком правильной речи. Что же касается художественной речи, то, как тонко заметил известный французский стилист Шарль Балли, она «почти всегда в какой-то мере отклоняется от нормы «хорошего слога» (Французская стилистика. Рус. пер. М., 1961, с. 219).
Однако каковы же могут быть границы таких отклонений? Так ли уж свободен художник от законов языка? Все ли дозволено ему и в какой мере эта «дозволенность» целесообразна в общественно-эстетическом отношении?
Эти вопросы правомерно ставят современные лингвисты перед современной литературой. И не случайно. Авторитет писателей, которые, по словам Л. В. Щербы, обладают «в максимальной степени оценочным чувством языка», играет основную, решающую роль в утверждении и укреплении норм литературного языка. Литература в глазах общества стала законодательницей речевого поведения. Поэтому столь велика ответственность писателя и перед современностью, и перед будущим.
Творчество классиков русской литературы Гоголя, Тургенева, Достоевского, Л, Толстого, Чехова и других в разной степени соответствовало нормам литературного языка своего времени (ближе других к общепринятой норме были, пожалуй, Тургенев и Чехов). Но никто из них не ставил задачи сознательного расшатывания норм литературного языка. Наоборот, нормированный, общелитературный язык создает в их произведениях, тот необходимый фон, ту основу, на которой можно было индивидуализировать речь персонажей, добиваясь высшей художественной правды. Соблюдать нормы литературного языка вовсе не значит сковывать себя условным кодексом «языковых приличий».-Нормы литературного языка — это и не прокрустово ложе, и не, аракчеевские казармы, как их окрестили некоторые современные нам приверженцы писательской вольницы.
Очевидно, что для литературного языка губительны как унылая стандартизация, так и речевая анархия. Норма как осознанная необходимость внутренне присуща творчеству большого художника. Никто не свободен от дисциплины языка. Трудно согласиться с требованиями некоторых писателей узаконить их право на мнимую свободу и безоглядное нарушение норм литературного языка. Так, поэт Евгений Винокуров считает-, что «хороший язык... это не дисциплинированный, а язык богатый». Это неправомерное противопоставление. Современная наука о русском языке освобождена от педантизма и слепого «грамматоедства». Ныне ни один языковед не требует от писателя причесанных фраз, обкатанных конструкций. Но освежить язык, создать эстетически полноценный образ, найти неожиданную и смелую цепь ассоциаций можно и без нарушения дисциплины литературной речи. Вспомним хотя бы творчество Чехова. Поистине незабвенными оказались слова А. П. Сумарокова из «Эпистолы о русском языке»:
Не нужно, чтобы всем над рифмами потеть,
А правильно писать потребно всем уметь...
Художественная литература — это не, только идеологическое оружие, но и средство эстетического воспитания. К сожалению, вот что мы встречаем у некоторых современных поэтов: у Л. Кондырева: с кувшином (вместо с кувшйном), у С. Острового: твоих окон (вместо окон).
у Ю. Друниной: странны (вместо странны), у Л. Хаустова: надолго (вместо надолго), у Г. Серебрякова: возданы (вместо возданы) и т. п. А. Филатов пишет: В сиреневой рубашке-апаше; у В. Аксенова встретилось сочетание булка черного хлеба; у М. Матусовского зафиксировано неоправданное применение формы наречия заутро (вместо заутра); Л. Мартынов пишет: превознемогая робость (вместо превозмогая)-, даже такой мастер, как Ф. Гладков, употребляет форму акваторий вместо акватория. Подобных примеров в современной литературе множество. Но главная опасность кроется даже не в этих ошибочных употреблениях. Находятся защитники подобных «поэтических вольностей», которые приписывают им особую выразительность и образность речи. «Но как бы ни был индивидуален талантливый писатель, — говорил, подводя итоги дискуссии о языке, директор Института русского языка АН СССР, член-корреспондент Ф. П. Филин, — он не стоит вне закономерностей развития языка, не может обращаться с ним волюнтаристически, при условии серьезного отношения к искусству» («Лит. газ.», 1976, 15 декабря).
Речь писателя, поэта сейчас ставят в пример, ей следует, подражает наш читатель, и поэтому неоправданные, немотивированные, иногда грубые нарушения общепринятой, узаконенной литературной нормы — непростительны.
Итак, современный русский литературный язык, ставший одним из мировых языков, обладает богатейшим лексическим фондом, упорядоченным грамматическим строем и разветвленной системой стилей. На нынешнем этапе развития он противостоит не постепенно исчезающим территориальным диалектам, а ненормированной речи и устарелым фактам словоупотребления. За время, отделяющее нас от эпохи Пушкина, в нормах русского литературного языка произошли существенные изменения. Однако это не разрушило его связи с богатой культурной традицией. Поэтому было бы ошибочным искусственно ограничивать современный русский литературный язык только фактами живой речи и произведениями советских писателей. Хорошо об этом сказал Л. В. Щерба: «Литературный язык тем совершепнее, чем богаче и шире его сокровищница, т. е. чем больший круг литературных произведений читается в данном обществе.
Из того, что в основе всякого литературного языка лежит богатство всей еще читаемой литературы, вовсе не следует, что литературный язык не меняется. Пушкин для нас еще, конечно, вполне жив: почти ничто в его языке нас не шокирует. И однако было бы смешно думать, что сейчас можно писать в смысле языка вполне по-пушкински» (Щерба Л. В. Литературный язык и пути его развития. — Избр. работы по русскому языку. М., 1957, с. 134 — 135). В русский литературный язык наших дней входят, конечно, и образцы классической литературы XIX в., однако нормативная оценка фактов языка прошлого столетия должна производиться с позиции современности.
Дополнительная литература
Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили. М., «Высшая школа», 1967.
Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., Гослитиздат, 1959.
Виноградов В. В. О теории художественной речщ. М.; «Высшая школа», 1971.
Вопросы социальной лингвистики. Л., «Наука», 1969.
Горбачевич К. С. Изменение норм русского литературного языка. Л., «Просвещение», 1971.
Горшков А. И. История русского литературного языка. М., «Высшая школа», 1969.
Ильинская И. С. О богатстве русского языка. М., Изд-во АН СССР, 1963.
Костомаров В. Г. Культура речи и стиль. М., Изд-во АОН при ЦК КПСС, 1960.
Костомаров В. Г. Русский язык среди других языков мира. М., «Просвещение», 1975.
Люстрова 3. Н., Скворцов Л. И., Д е р я г и и В. Я- Беседы о русском языке. М., «Знание», 1976.
Обнорский С. П. Пушкин и нормы русского литературного языка. — Избранные работы по русскому языку. М., Учпедгиз, 1960.
Поливанов Е. Д. Избранные работы. Статьи по общему языкознанию. М., «Наука», 1968, с. 75 — 89, 187 — 224.
Русский язык в современном мире. Под ред. Ф. П. Филина, В. Г. Костомарова, Л. И. Скворцова. М., «Наука», 1974.
Глава вторая
ПРИРОДА НОРМ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Еще полстолетия назад термин «норма» применительно к языку был малоупотребителен. Сейчас он прочно вошел не только в научный, но и в педагогический обиход. Хотя теперь уже мало кто усматривает в языковой норме фикцию или искусственную абстракцию (как об этом писал один из основоположников западного структурализма датский лингвист Л. Ельмслев), ее сложная и диалектически противоречивая природа раскрыта далеко не полностью. У неспециалистов в основе рассуждений о норме, выполняющей роль своеобразного языкового фильтра и являющейся как бы «паспортом грамотности», обычно лежит непосредственное чувство — одобрение или недовольство (даже возмущение), но весьма редко осмысленная теория. Огорчительно, что и среди языковедов еще бытуют упрощенно релятивистские или условно-правовые взгляды на характер языковых норм. Впрочем, здесь имеются трудности и объективного порядка, так как проблема общеязыковой нормы во многих случаях тесно переплетается не только с конкретными задачами функциональной стилистики, но и с изучением жанрово-контекстуального применения устаревающих или возникающих вариантов в языке писателя.
ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ НОРМЫ
В прошлом норма литературного языка часто рассматривалась как некое статическое понятие. Для этого существовали известные основания. Обычно говорят, что литературный язык соединяет поколения, и поэтому его нормы, обеспечивающие преемственность культурноязыковых традиций, должны быть максимально устойчивыми, стабильными. Французская Академия при создании в XVII в. нормативного словаря ставила перед собой задачу упорядочить язык «раз и навсегда». Представление о незыблемости норм было свойственно многим ученым и в других странах. Это, конечно, имело психологическую основу. Во-первых, язык в целом изменяется медленно, постепенно. Для существенных, ощутимых сдвигов, как правило, недостаточно жизни одного поколения. Незаметное развитие языка иногда образно сравнивают со зрительно невоспринимаемым движением часовой стрелки. Уже одно это создает иллюзию неизменяемости языка. Во-вторых, все новое, непривычное, входящее в речевую практику, нарушает автоматизм пользования языком, несет за собой временное неудобство, и поэтому, естественно, вызывает оборонительную реакцию.
Впрочем, передовые мыслители уже давно понимали неизбежность и даже оправданность языковых преобразований. «Жалким ослеплением и смешным заблуждением» называл Белинский поведение тех, кто любое новшество оценивал как искажение и порчу языка, непомерную же похвалу ветхим словам и оборотам Чернышевский окрестил «литературным староверством». Естественнонаучная философия стала рассматривать язык как живой организм, в котором непрерывно отмирает одно и нарождается другое. Оборонительная реакция постепенно угасает, и то, что сначала казалось разрушительным для языка и вызывало гневное осуждение, впоследствии нередко оказывается необходимым и даже благодетельным. Известный русский ученый XIX в. Я. К. Грот так, например, характеризовал процесс освоения новообразований: «Вначале слово допускается очень немногими; другие его дичатся, смотрят недоверчиво, как на незнакомца... Мало-помалу к нему привыкают, и новизна его забывается: следующее поколение уже застает его в ходу и вполне усваивает его» (Народный и литературный язык. — «Филологические разыскания», т. II. Спб., 1899, с. 17).
Современное языкознание освободилось от догматического представления о незыблемости норм литературной речи. Норма отражает поступательное развитие языка, хотя ее и не следует механически выводить из языковой эволюции. Динамическая теория нормы, опираясь на требование «гибкой стабильности», совмещает в себе и учет продуктивных и не зависящих от нашей воли тенденций развития языка, и бережное отношение к капиталу унаследованных литературно-традиционных речевых навыков.
В работах Л. В. Щербы, Г. О. Винокура и других известных советских языковедов была развенчана программа идеологического и вкусового пуризма, который, как метко заметил Г. О. Винокур, «хочет только того, чтобы правнуки непременно говорили так, как в старые и лучшие годы говаривали прадеды» (Проблема культуры речи. — «Русский язык в советской школе», 1929, № 5; с. 91). Наука о русском языке уже распрощалась с тенями прошлого и не цепляется за мертвые формы выражения. Но при определенных исторических условиях пуризм играл и положительную роль. Она отчетливо проявилась, например, в борьбе за национальную культуру, против необоснованного внедрения в язык заимствованных слов, Спор с пуристами полезен и для тех не в меру ретивы языковедов-нормализаторов, которые, по меткому выражению Салтыкова-Щедрина, идут «впереди прогресса». Это особенно важно в настоящее время, когда, как пишет Ф. П. Филин, «нам больше грозит не гипертрофия оглядки назад», а легкомысленное отношение к литературноязыковым традициям и языковой преемственности» (Об изучении общественных функций языка, — «Изв. АН СССР. Серия лит. и яз.», 1968, т. XXVII, вып. 4, с. 285).
ВАРИАНТНОСТЬ И НОРМА
Верно подмечено, что в обычной жизни люди сталкиваются с лингвистическими проблемами всякий раз, когда имеются вариантные способы выражения. Колебания при выборе более правильной или более уместной языковой формы знакомы всем.
Действительно, сосуществование параллельных, или, как теперь принято говорить, вариантных, форм — распространенное явление живого литературного языка. Приведем некоторые примеры тех случаев, когда к специалистам обращаются с вопросом: «Как правильно сказать: творог или творог, пётля или петля, индустрия или индустрия, жёлчь или желчь, булочная или було[шн]ая, инструкторы или инструктора, в отпуске или отпуску, торжествен или торжественен, спазма или спазм, сосредоточивать или сосредотачивать, национализовать или национализировать, туристский или туристический, согласно приказу или приказа, исполненный отвагой или отваги, ждать поезда или поезд и т. п.?»
Многие считают, что наличие подобных дублетов является несовершенством, болезнью языка, и обвиняют языковедов в чрезмерной терпимости и даже в губительном попустительстве. Общественность нередко призывает ученых принять решительные меры (в виде декрета!) для искоренения вариантности.
Однако такие суждения глубоко ошибочны, а призывы радикалистов устранить колебания декретом сверху неосуществимы. Дело в том, что варьирование формы — это объективное и неизбежное следствие языковой эволюции. Язык же развивается и совершенствуется медленно, постепенно. Недаром существует парадокс: «Язык изменяется, оставаясь самим собой». В этом смысйе наличие вариантности, т. е. стадии сосуществования старого и нового качества, не только не вредно, но даже полезно, целесообразно. Варианты как бы помогают нам привыкнуть к новой форме, делают сдвиг нормы менее ощутимым и болезненным. Например, в XVIII — XIX вв. нормой было ударение токарь. Колебания (токарь и токарь) начались в конце прошлого столетия и продолжались до 20 — 30-х гг. (в Словаре Ушакова ударение токарь характеризуется как устарелое). Теперь уже мало кто и помнит о старой акцентологической норме (все говорят токарь), но еще можно встретить варианты: бондарь и бондарь (новое ударение бондарь впервые зафиксировано в Словаре Академии 1895 г.).
Но, помимо того, что варианты как бы поддерживают преемственность речевых навыков и избавляют нас от слишком крутых поворотов в истории языка, многие из них вовсе не тождественны и уже поэтому не могут рассматриваться как избыточные, как балласт нашей речи. Напротив, присущая вариантам особая функциональная нагрузка превращает их в важное стилистическое средство литературного языка, которое, наряду с синонимикой, способствует уточнению мысли. Например, преподаватели средних школ называют себя учителя, но, когда речь идет об основоположниках какого-либо учения (например, о классиках марксизма-ленинизма), обычно, употребляют вариант учители. В строго официальной речи говорят и пишут в отпуске, в цехе, в непринужденной же беседе допустимы формы в отпуску, в цеху.
В процессе развития литературного языка количество и качество вариантов не остается постоянным. Варьирование формы — неизбежное следствие-языковой эволюции, по вовсе не постоянное, так сказать, перманентное свойство конкретных языковых единиц. Колебание продолжается более или менее длительный период, после чего варианты либо расходятся в значениях, приобретая статус самостоятельных слов (например, невежа и невежда, в прошлом необразованного человека можно бьь ло назвать и невежей; ср. у Крылова: Невежи судят точно так: В чем толку не поймут, то все у них пустяк), либо продуктивный вариант полностью вытесняет своего конкурента (так случилось, например, с упоминавшимися выше вариантами токарь и токарь).
В целом для истории русского литературного языка характерно некоторое сокращение количества вариантов, что объясняется многими причинами (подробно они рассматриваются в соответствующих главах книги). Здесь же упомянем только основные — это ослабление влияния территориальных диалектов и «мод-.. ных» иностранных языков, усиление роли письменной формы речи и сознательной унификации в области орфографии и орфоэпии. Важно отметить, что произошло и качественное изменение в соотношении вариантов: многие параллельные формы, применявшиеся ранее безразлично, как полные дублеты, получили функциональную специализацию. Преобразование полных, избыточных вариантов в неполные, отличающиеся друг от друга со стилистической или иной стороны, является ярким показателем совершенствования русского литературного языка.
Таким образом, сосуществование многочисленных вариантных форм на всех языковых уровнях (акцентологическом, морфологическом и т. д.) — неоспоримый факт современного русского литературного языка. Из-за наличия вариантов и необходимости выбора, в сущности, н возникает острая проблема нормы. И решать ее путем искусственного устранения, точнее умалчивания, той формы, которая представляется менее значимой (правильной или эстетически приемлемой), можно лишь на начальной стадии обучения языку. Более же глубокое освоение родной речи не мыслится без анализа и характеристики реально существующих вариантов литературной нормы. В современной науке стал общепризнанным тезис Л. В. Щербы о том, что «очень часто норма допускает два способа выражения, считая оба правильными» (Опыт общей теории лексикографии. — «Изв. АН СССР» 1940, № 3, с. 97). В том же духе высказывался и выдающийся советский языковед Е. С. Истрина: «Иногда даже приходится признать нормой самое наличие двух вариантов» (Нормы русского литературного языка и культура речи. М. — Л., 1948, с. 5).
ПОИСКИ КРИТЕРИЕВ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ
Известно, что наряду с вариантами, допускаемыми нормами литературного языка, существует и множество отклонений от нормы, как принято говорить, речевых ошибок. Причем в большинстве случаев такие отступления не случайны, а обусловлены либо непоследовательностями и противоречиями во внутренней системе литературного языка, либо воздействием внешних факторов (территориальных или социальных диалектов и т. д.). В 1929 г. швейцарский ученый Анри Фрей в составленной им «Грамматике ошибок» справедливо отметил, что многие ошибки, в сущности, закономерны и подсказываются аналогией или другими системными проявлениями живого языка.
Таким образом, и добрые всходы, и сорные травы произрастают на одном и том же поле. Каждый нормализатор-практик (в том числе и учитель русского языка) поставлен перед труднейшим вопросом: как отделить продуктивные и полезные новообразования от речевых ошибок, если причины появления и тех и других иногда совпадают? Где критерии разграничения правильного и неправильного?
Некоторые исследователи полагают, что основным признаком правильной речи служит сама устойчивость, стабильность языковой формы. Однако, как это уже следует из признания динамической теории нормы, данный критерий не является надежным. Хотя в целом язык (а за ним и норма) действительно изменяется медленно, постепенно, есть немало случаев резкого сдвига нормы, совершающегося при жизни одного поколения. Например, в Словаре Ушакова еще рекомендовалось произношение беспроволо[шн]ый телеграф-, нормой ударения в родительном падеже считалось: пруда, блиндажа, метража. Сейчас такое употребление признается ненормативным. В то же время признаком устойчивости могут обладать и речевые ошибки. Так, встречающееся и сейчас ударение портфель отмечено еще в 1842 г., ударение документ — в 1885 г.
Было бы также опрометчиво целиком опираться лишь на степень употребляемости, распространенности той или иной языковой формы. Конечно, количественные показатели весьма существенны при анализе языка и нормативной оценке. Особенно ценными представляются результаты подлинно массовых социолингвистических обследований. Но нельзя абсолютировать формально-числовые данные, полагаться при установлении нормы только на статистику. В ряде случаев, как подчеркивает Ф. П. Филин, решающими оказываются не количественные, а культурно-исторические факторы. Ударение квартал, например, является весьма распространенным (статистически, возможно, и преобладающим). Однако литературная норма оберегает традиционный вариант квартал (подробнее об ударении в этом слове см. с. 106 — 107).
Кроме того, статистика применительно к языкознанию еще не нашла строгой методики в выборе исчисляемых объектов. В этом случае, по выражению видного советского языковеда Р. А. Будагова, «статистика превращается в элементарно неточную науку». Поэтому у французских писателей братьев Гонкур в свое время были основания, правда по другому поводу, записать в дневнике: «Статистика — это самая главная из неточных наук». Скептическое отношение к якобы универсальной и главенствующей роли математики — царицы наук — высказывал известный советский кораблестроитель и математик А. Н. Крылов. Он любил повторять слова естествоиспытателя Томаса Гекели: «Математика, подобно жернову, перемалывает то, что в него засыпают, и как, засыпав лебеду, вы не получите пшеничной муки, так, исписав целыестраницы формулами, вы не получите истины из ложных предпосылок». Поучительны в этом
смысле и слова известного советского математика Н. Н. Моисеева: «Сегодня мы, математики... отлично понимаем, что лишь небольшая часть проблем, стоящих перед человечеством, поддается математической формализации и описанию на языке математики. И это не следствие слабости математики. Эта ситуация отражает тот факт, что человек познает истину не только с помощью чисто логических процедур» («Лит. газ.», 1973, 1 янв.).
Для советского языкознания неприемлемы эстетические и прагматические теории, провозглашенные некоторыми зарубежными лингвистами. Так, согласно лингвоэстетической концепции профессора романской филологии в Мюнхенском университете К. Фосслера, главным признаком правильной речи служит «чувство вкуса», индивидуальная интуиция. Но еще в 1911 г. русский языковед В. И. Чернышев справедливо писал: «Стилистические мерки и вкусы существуют для известного времени и меняются так же, как меняется язык» (Правильность и чистота русской речи. — Избранные труды, т. I. М., 1970, с. 444).
Нет нужды доказывать, что интуиция и. субъективное ощущение (чувство вкуса) — весьма ненадежные советчики при нормативных оценках общеязыковых явлений. Нельзя согласиться и с прагматической теорией, предложенной другим немецким языковедом — Г. Клаусом, который в кндге «Сила слова» высказывает мысль о том, что нормы языка лишены всякой ценности с точки зрения истины (а следовательно, и не нуждаются в научно-историческом осмыслении).
Суждения об условной (законодательно-этической), а не объективной природе языковых норм разделяются и некоторыми исследователями русского языка. Конечно, представленные в виде своеобразного кодекса (в словаре, грамматике и т. п.) нормы языка чем-то напоминают правовые нормы (характер закона, например, имеют орфографические нормы, нарушение которых влечет за собой даже определенные социальные санкции). Однако отождествлять нормы языка и нормы права было бы ошибочным. Языковые нормы, особенно нормы такого развитого литературного языка, как русский язык, — это явление более сложное и многоаспектное, отражающее и общественно-эстетические взгляды на слово, и внутренние, независимые отвкуса и желания говорящих закономерности языковой системы в ее непрерывном развитии и совершенствовании.
Соотношение нормы и системы языка стало особенно привлекать научное внимание после работ известного зарубежного лингвиста Э. Косериу (Синхрония, диахрония и история. — В кн.: Новое в лингвистике, вып. III. М.,. 1963, и др.). Согласно этой теории, система охватывает «идеальные формы реализации определенного языка, то есть технику и эталоны для соответствующей языковой деятельности» и как бы отвечает на вопрос, как можно сказать, используя потенциальные возможности данного языка. Действительно, знание системы позволяет судить о языковом новшестве научно, объективно, рассматривая его как реализацию определенной возможности, заложенной в системе. К, сожалению, даже такой подход не гарантирует нас от ошибок при разграничении: «норма» — «ненорма». Например, в современной устной (особенно профессиональной) речи весьма распространены формы лектора, лекторов (вместо лекторы, лекторов). Система русского литературного языка в самом деле открывает возможность образования форм на -а (-я) у существительных мужского рода, имеющих ударение не на последнем слоге (ср.: доктор — доктора, директор — директора). Таким образом, с точки зрения системы форма лектора правильна, однако она еще никак не может быть признана нормативной.
Широкой популярностью среди исследователей пользуется критерий нормы, предложенный в 1948 г. Е. С. Истриной: «Норма определяется степенью употребления при условии авторитетности источников» (Нормы..., с. 19). Действительно, ссылка на литературные примеры — обычный прием для доказательства правильности того или иного выражения. Картотеки цитат из классической и советской литературы составляют естественную и наиболее надежную базу современных нормативных словарей. Конечно, при анализе текстов необходимо учитывать и развитие языка, и мотивированные художественным замыслом отступления от общелитературных норм, и возможность небрежного, невнимательного отношения или ошибок диалектного характера, которые встречаются даже у авторитетных писателей и поэтов (ср. у Твардовского: с подвезенным зерном вм. подвезенным; у Грибачева: завклуб вм. завклубом; у Т. Тэсс: командировочный инженер вм. командированный; у А. Гусева: яблоней вм. яблонь и т. п.).
Авторитет источника, таким образом, может оказать и плохую услугу при нормализации речи. Поэтому для установления нормы на основе наблюдений над текстами художественной литературы необходимо, с одной стороны, привлечение широкого и разнообразного по жанрам круга источников, а с другой стороны, критическое отношение к тексту и строгое разграничение собственно авторской речи и имитации языка персонажей.
Заслуживает внимания принцип целесообразности, выдвигаемый в качестве основного критерия языковой нормы. Собственно говоря, такой подход к языку далеко не нов и обозначился еще у философов-мате-риалистов XVIII — XIX вв. Например, Д. И. Писарев так понимал «красоту языка»: «По нашим теперешним понятиям красота языка заключается единственно в его ясности и выразительности, то есть исключительно в тех качествах, которые ускоряют и облегчают переход мысли из головы писателя в голову читателя» («Реалисты»), Принцип целесообразности выводит понятие «норма» из узкой сферы системных соотношений внутри языка или исканий расплывчатых художественных идеалов в области практической речевой деятельности и соотношения языка и мышления, языка и действительности. Такой подход к норме представляется весьма заманчивым, так как высшая цель совершенствования языка (и его норм) — это, действительно, сделать язык наиболее удобным, наиболее эффективным средством общения между людьми.
Существенно, однако, подчеркнуть, что сам принцип целесообразности рассматривается по-разному. С одной стороны, это целесообразность, эффективность той или иной языковой формы для понимания высказывания вообще, а с другой — ее пригодность, оправданность в данной, конкретной речевой ситуации. Вторая, ситуативная трактовка нормы была наиболее отчетливо сформулирована видными советскими языковедами В. Г. Костомаровым и А. А. Леонтьевым («Вопросы языкознания», 1966, № 5). Авторы писали: «... самое норму следует, видимо, рассматривать не как нечто изолированное, а как систему норм, варьирующихся от случая к случаю» (с. 8). Очевидно, что при таком функционально-стилистическом подходе («от случая к случаю») имеются в виду нормы речи, а не нормы общелитературного языка.
Если же ставить задачу отыскания именно норм языка, отвлекаясь от частных, не поддающихся исчислению информационных заданий, то необходимо обратиться к принципу целесообразности в его более общем толковании. В самом упрощенном и обобщенном виде он может быть выражен так: целесообразно, а следовательно, и правильно то, что способствует пониманию высказывания; наоборот, нецелесообразно, а следовательно, и неправильно то, что мешает ясности выражения или что трудно произнести или запомнить. В этом аспекте целесообразность предстает уже не как ситуативноречевая, а как структурно-языковая предпочтительность данного варианта, данного способа выражения, что в известной мере связано с общим направлением в развитии языка. Такой подход обеспечивает органическую связь нормы с эволюционирующей системой языка, которая перестраивается вследствие преодоления противоречия между изменяющимися потребностями общения и наличными средствами и техникой языка.
Необходимо подчеркнуть, что в принцип целесообразности нормы входят не только формально полезные свойства языковых единиц (облегчение произношения, упрощение парадигмы склонения и спряжения, устранение грамматической омонимии и т. п. — подробнее об этом рассказывается в соответствующих главах книги), но также культурно-историческое содержание и эстетическая значимость данного способа выражения. Это заставляет нормализаторов при характеристике сосуществующих вариантов (прожил — прожйл, договор — договор, тракторы — трактора, в цехе — в цеху, сто граммов — сто грамм, сосредоточивать — сосредотачивать и т. п.), несмотря на продуктивность образования и даже количественно преобладание некоторых новых форм, отдавать предпочтение традиционным вариантам прожил, договор, тракторы и т. д.
Таким образом, норма литературного языка — сложное, диалектически противоречивое Тг динамическое явление. Оно слагается ШЗ многих существенных признаков,- ни один из которых не может быть признан решающим и самодовлеющим при всех обстоятельствах. Норма — это не только социально одобряемое правило, но и правило, объективированное реальной речевой практикой, правило, отражающее закономерности языковой системы и подтверждаемое словоупотребле-нием авторитетных писателей.
Признание нормативности (правильности) языкового факта опирается обычно на непременное наличие трех основных признаков: 1) регулярную употребляемость (воспроизводимость) данного способа выражения; 2) соответствие этого способа выражения возможностям системы литературного языка (с учетом ее исторической перестройки); 3) общественное одобрение регулярно воспроизводимого способа выражения (причем роль судьи в этом случае обычно выпадает на долю писателей, ученых, образованной части общества).
Как двуликий Янус, норма обращена и к языковому прошлому, озаренному доброй культурной традицией, и к настоящему, которое поддерживаетс-я полезными свойствами новообразований и продуктивными тенденциями литературного языка. Преодолевая недоверие к сознательной и научно обоснованной языковой политике (вспомним лозунг писателя А. Югова: «Русский язык сам собой правит»), нормализаторы в то же время должны знать и пределы своим возможностям. Крылатым выражением стали слова римлянина Марцелия, обращенные к императору Тиберию: «Nec Caesar non supra grammalicos» («Даже император не превыше грамматиков», т. е. и император не властен над языком). Воспитывая уважение к минувшему (черту, по словам Пушкина, отличающую образованность от дикости) и отвергал пришибеевскую страсть к запретительству, учитель русского языка путем вдумчивого, исторического анализа может и обучить своих питомцев осмысленному владению нормами литературного языка, и привить им благородную любовь к родному слову.
Итак, объективный, динамический и противоречивый характер норм русского литературного языка диктует необходимость сознательного и осторожного
подхода к оценке спорных фактов современной речи. Нормализаторский радикализм, как свидетельствует история языкознания, был отнюдь не лучшим оружием языковой политики. К сожалению, не во всех научно-популярных книгах и массовых пособиях по культуре речи обнаруживается научно обоснованное и в достаточной мере деликатное решение сложных проблем литературной нормы. Наблюдаются и факты субьектив-но-любительской оценки, и случаи предвзятого отношения к продуктивным новообразованиям, и даже проявления администрирования в вопросах языка. Действительно, язык принадлежит к числу тех феноменов общественной жизни, относительно которых многие считают возможным иметь свое, особое мнение. Причем эти личные мнения о правильном и неправильном в языке высказываются нередко в самой безапелляционной и темпераментной форме. Однако самостоятельность и категоричность суждений не всегда означает их истинность. Дилетантизм и самонадеянность в освещении и трактовке языковедческих проблем не менее опасны, чем проявление этих свойств в других областях познания. Современный этап научной разработки русского литературного языка предполагает необходимость компетентных и профессиональных решений. Рассмотренный выше комплексный подход к установлению нормы в известной мере гарантирует от ошибок при разграничении правильного и неправильного. Хорошими помощниками учителю служат современные нормативные словари. Правда, и в них не всегда можно найти готовый рецепт на все случаи жизни. Только знание общих закономерностей и тенденций в развитии русского литературного языка поможет учителю определить конкретную тактику поведения при столкновении с разнообразными казусами современной речи.
Дополнительная литература
Актуальные проблемы культуры речи. М., «Наука», ] 970.
Бельчиков Ю. А. О нормах литературной речи, — В сб.: Вопроси культуры речи. Вып. VI. М., 1965.
Будагов Р. А. Человек и его язык. Изд-во МГУ, 1974.
Виноградов В. В, Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры. — «Вопросы языкознания», 1961
Головин Б. Н. Как говорить правильно. Горький, 1966.
Горбачевич К. С. Изменение норм русского литературного языка. Л., «Просвещение», 1971.
Денисов П. Н. Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии. Изд-во МГУ, 1974.
Истрина Е. С. Нормы русского литературного языка и культура речи. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1948.
Ицкович В. А. Языковая норма. М., «Просвещение», 1968.
Костомаров В, Г., Леонтьев А, А. Некоторые теоретические вопросы культуры речи. — «Вопросы языкознания», 1966, № 5.
Люстроза 3. Н., Скворцов Л. И. Мир родной речи. М., «Знание», 1972.
Обнорский С. П. Правильности и неправильности современного русского языка. — Избранные работы по русскому языку. М, Учпедгиз, 1960.
Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., «Высшая школа», 1974.
Пешковский А. М. Объективная и нормативная точка зрения на язык. — Избранные труды. М., Учпедгиз, 1959.
Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. М., «Высшая школа», 1974.
Скворцов Л. И. Основы нормализации русского языка, — «Русская речь», 1969, № 4.
Филин Ф. П. Несколько слов о языковой норме и культуре речи. — В сб.: Вопросы культуры речи, вып. VII. М., 1966.
Филин Ф. П. Об изучении общественных функций языка. — «Изв. АН СССР». Серия лит. и яз., 1968, т. XXVII, вып. 4.
Чернышев В. И. Правильность и чистота русской речи. — Избранные труды. Т. I. М., «Просвещение», 1970.
Шмелев Д. Н. Некоторые вопросы развития и нормализации современного русского литературного языка. — «Изв. АН СССР». Серия лит. и яз., 1962, т. ХХГ, вып. 5.
Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., «Наука», 1974, с.- 24 — 37, 265 — 278.
Глава третья
НОРМЫ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ
Под нормами словоупотребления обычно понимается правильность выбора слова и уместность применения его в общеизвестном значении и в общепринятых сочетай и-я х. Особая важность соблюдения лексических норм определяется не только культурно-престижными факторами, но и необходимостью полного взаимопонимания между говорящим (пишущим) и слушающим (читающим), что, в свою очередь, составляет саму суть языкового общения.
Между тем как раз в области лексики, более тесно связанной с историческими изменениями в материальной и духовной жизни общества, а поэтому исключительно проницаемой для разного рода внеязыковых воздействий, становление норм идет крайне сложным и извилистым путем. Лексическая система плохо поддается унификации и формализации. Судьбы слова часто глубоко индивидуальны- и своеобразны. Оценка приемлемости слова, правильности употребления его в том или ином значении в большей мере, чем, скажем, ударение и произношение, связана с идеологией, мировоззрением носителей языка, степенью их культурно-образовательного уровня и глубины освоения литературной традиции. Поэтому именно здесь вспыхивают наиболее ожесточенные споры о правильном и неправильном, именно здесь чаще всего встречаются категорические суждения, основанные на субъективном восприятии языковых фактов.
Вот лишь некоторые примеры критически воинственного (но подчас незаслуженного и не всегда объяснимого) отношения к отдельным словам у русских писателей и общественных деятелей прошлого. Поэт и драматург XVIII в. А. П, Сумароков слова предмет, обнародовать, преследовать считал непристойными. Известный филолог и журналист XIX в., редактор реакционной газеты «Северная пчела» Н. И. Греч жаловался на проникновение слов вдохновить, вдохновитель, клеймя их как варварские и «беспаспортные». Друг Пушкина поэт П. А. Вяземский порицал в качестве «площадных выражений» слова бездарность и талантливый. Известно, что Л. Н. Толстой не любил слово зря и избегал его в своих произведениях, считая совершенно бессмысленным. Небезызвестный юрист начала XX в. П. С. Пороховщи-ков (П. Сергеич), чья книга «Искусство речи на суде» была переиздана в 1960 г., отвергал такие заимствованные слова, как интеллигент, травма и др.
Выражение антипатии к отдельным словам («лексической идиосинкразии») наблюдается й у современных писателей. Например, К. Федин осуждал слово киоскёр, а Б. Лавренев испытывал физическую ненависть к словам учеба (вм. учение) и зачитать (вм. прочесть или прочитать). С непримиримой враждебностью относился к слову учеба и Ф. Гладков. Как вспоминает К. Чуковский, с Ф. Гладковым сделался однажды сердечный припадок, когда его собеседник (по образованию геолог) вздумал защищать слово учеба (об истории этого слова и его литературной правомерности в наши дни рассказывается в статье О. Д. Кузнецовой — «Русская речь», 1975, № 5). Не затихла полемика о словах боевитость, боевитый. Некоторые писатели резко осуждают их употребление. «Дается хождение ужасному слову боевитость», — с, возмущением пишет К. Федин («Писатель. Искусство. Время»). «Ко многим словам, — замечает К. Паустовский, — таким, как поприветствовать, боевитый (их можно привести много), я испытывал такую же ненависть, как к хулиганам» («Книга скитаний»), В то же время в статье языковеда С. И. Ожегова использование слов боевитость, боевитый признается соответствующим нормам литературного языка (Вопросы культуры речи, вып. II, 1959).
Отсюда ясно, что нормативная оценка генетически разнородных и стилистически неравноценных фактов современной речи не может основываться лишь на мнении писателей (пусть даже авторитетных). Для того чтобы получить научно-объективное представление о нормах словоупотребления, необходимо историческое и всестороннее изучение значительного лексического материала. Очевидно, также и то, что проблема лексических норм носит весьма широкий характер. Прямое отношение к ней имеют и развитие смыслового значения слова, и стилистическое расслоение лексики, и необходимость оправданного выбора слова в конкретной речевой ситуации, и понятие активного и пассивного лексического запаса, и социальное распределение лексики (в особенности отношение к диалектизмам и жаргонизмам, доставляющим еще много хлопот учителю средней школы), и многие другие аспекты сложной и многогранной жизни слова. Из этого обширного круга вопросов здесь рассматриваются лишь некоторые, на наш взгляд, наиболее актуальные для общественно-речевой практики и повышения языковой культуры.
НОВЫЕ СЛОВА В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННИКОВ
Появление новых слов (лексических неологизмов) — явление обычное и закономерное. Каждое новое или обновленное понятие должно получить свое наименование. Поэтому борьба за культуру речи вовсе не означает огульного охаивания новых слов. Однако столь же естественной является и реакция сопротивления новому — осуждение и даже отвержение некоторых неологизмов. Закрепление новых слов в языке — дело капризное, а их шансы получить права «литературного гражданства» далеко не равноценны. Проблема осложняется еще и тем, что приток неологизмов в современном языке принял массовый характер, а быстротекущая жизнь нашей эпохи укорачивает испытательный срок новых слов.
В 1931 г. М. Горький писал: «Слово универмаг стало обычным. Если бы вы сказали его пятнадцать лет назад, на вас бы вытаращили глаза». Эти слова писателя сейчас можно применить к слову универсам. В Словаре Ушакова еще нет слова магнитофон, теперь оно известно дошкольникам. На наших глазах, отмечает писатель Л. Таковский, умерло слово чернорабочий, а родилось удачно найденное — разнорабочий. В 1971 г. вышел в свет первый отечественный словарь неологизмов («Новые слова и значения». Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов), охвативший около трех с половиной тысяч слов и выражений, вошедших в употребление в 50 — 60-е годы (кофеварка, километровка, кормоцех, круиз, комикс, в рабочем порядке, на общественных началах, спустить на тормозах и т. п.). Но жизнь идет вперед, и новые тысячи слов вливаются в общий словарь языка. Примечательно, что многие неологизмы заметно укрепили свои позиции. Так, слово стыковка, отмеченное впервые в Словаре новых слов (1971) применительно к соединению космических аппаратов, стало употребляться в более широком смысле; например: стыковка ведомственных интересов («Лит. газ.», 1976, 10 марта) и т. п.
Для нормативной квалификации неологизмов представляется существенным определить хотя бы наиболее продуктивные способы их образования в современном языке.
В последние годы стал особенно активным процесс включения. Так называют образование одного слова из привычного словосочетания. Например, из сочетания прилагательного и существительного (шоссейная дорога) возникает слово — шоссейка. В данном случае определяемое дорога как бы включается в определяющее шоссейная. Вместо двух слов образуется одно. Таких новых слов, полученных посредством включения с помощью суффиксов -к(а), -лк(а), сейчас сотни. Вот лишь некоторые из них: электричка (из электрический поезд), малотиражка (из малотиражная газета), зачетка (из зачетная книжка), самоходка (из самоходное орудие), прогрессивка (из прогрессивная оплата), узкоколейка (из узкоколейная дорога), зенитка (из зенитное орудие), зажигалка (из зажигательная бомба), читалка (из читальный зал), раздевалка (из раздевальная комната)] и т. п. В современных газетах используются: курилка, дежурка, аморалка, персоналка, анонимка, неотложка, комиссионка, короткометражка, непрерывка, попутка, полуторка, газировка, грунтовка, бетонка и мн. др.
Естественно возражение: разве такие слова, как раздевалка, неотложка, читалка и т. п., могут быть признаны литературными? Не имеем ли мы здесь дело с разговорно-просторечной лексикой, не входящей в строго обработанный, нормированный литературный язык?
Конечно, почти все подобные слова начинают свою «жизнь» на периферии литературного языка, в обиходноразговорном стиле речи. С течением времени, однако, многие из них постепенно входят, а некоторые (узкоколейка, безрукавка, стометровка, зенитка, электричка, полуторка и др.) уже вошли в литературный язык.
Так, слово электричка сейчас уже стало свободно употребляться в нейтральном стиле речи. Например: С мерно нарастающим гулом проходят вдали электрички (Паустовский. Золотая роза); Впереди и сзади темнеют фигуры людей, идущих вместе с нами с электрички (Казаков. Голубое и зеленое); Движение пригородных электричек было приостановлено («Известия», 12.V.64); Предстоит создать принципиально новые типы электричек — еще более быстроходных и комфортабельных («Веч. Ленинград», 1964, 14 марта). Многие не любят (и автор этих строк в их числе) слово раздевалка. Но и оно все чаще и .чаще встречается в современной речи: Вадим встретился с ним в раздевалке, и они вместе поднялись наверх (Трифонов. Студенты); Он появился в цеху раньше, чтобы поболтать в раздевалке с знакомыми (Б. Полевой. Горячий цех). Примечательно, что хотя слово раздевалка снабжается в словарях обычно пометой «разговорное» и определяется: то же, что раздевальня, оно все чаще встречается не только в обиходно-разговорной речи, но и в нейтральном стиле речи. 14 то же время его якобы нейтральный вариант раздевальня выходит из речевой практики.
При нормативной оценке новых образований с суффиксом -к(а) полезно вспомнить о судьбе слова открытка (из словосочетания открытое письмо), которое появилось в письменной речи на рубеже XIX — XX вв. и сначала было встречено ревнителями чистоты языка более чем недружелюбно. Вот что писал в 1922 г. автор книги «Муки слова», лингвист и литературовед А. Г. Горн-фельд, признаваясь в собственном вкусовом пуризме: «Перед лицом живых явлений как страшно быть доктринером. Лет двадцать пять тому назад слово открытка казалось мне типичным и препротивным созданием одесского наречия; теперь его употребляют все, и оно действительно потеряло былой привкус уличной бойкости» (Новые словечки и старые слова. Пг., 1922, с. 56).
Пример запоздалого раскаяния и реабилитации слова открытка, конечно, вовсе не означает, что все образования такого рода обязательно войдут в лексический фонд литературного языка, Но и чрезмерная предвзятость по отношению к ним вряд ли оправданна. На моей памяти студенты еще стеснялись при пожилом преподавателе называть «зачетную книжку» — зачеткой, прибегая к старомодному эквиваленту матрикул. Сейчас зачетка теряет просторечную окраску и все шире входит в обиходную речь. Обычно считают, что Публичка — это слишком фамильярное (а потому и незаконнорожденное) словечко для наименования старейшей и всеми почитаемой Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Конечно, слово Публичка недопустимо в официально-деловой или научной речи. Но, описывая подвиги скромных библиотекарей в дни блокады, ленинградский журналист Эд, Аренин преднамеренно и последовательно пользуется именно им (наша Публичка!), вкладывая в это слово отнюдь не пренебрежительный смысл, а скорее чувство уважения и трогательной гордости. Так происходит стилистическая переоценка слова в условиях контекста. С другой стороны, известно, что в присутствии художника Павла Корина ни в коем случае нельзя было произносить неуважительное слово Третьяковка. Следовало именовать галерею Третьяковской или галереей, собранной Павлом Михайловичем Третьяковым.
Многие выражают сейчас недовольство легковесным словом неотложка, бойко ворвавшимся в последние годы на страницы периодической печати и даже в художественную литературу (впервые помещено в Словаре новых слов, 1971). Хотя слово неотложка (из словосочетания неотложная помощь) еще часто заключается в кавычки, что указывает на его некоторую неполноценность, сама серьезность обстановки, при которой это слово применяется, не позволяет видеть в нем чисто стилистическое средство современной речи. Например: — Мама... Ну чем помочь? Чем? Скажи... Вызвать неотложку? (Бондарев. Родственники). Не будем гадать, войдет ли слово неотложка в нейтральный слой лексики литературного языка. Возможно, оно окажется «эфемеридой» и исчезнет подобно многим другим модным, но не прижившимся в языке словечкам. Бесспорно, однако, что сама модель образования новых слов.посредством включения (т. е. возникновение одного слова из словосочетания) с помощью суффиксов -к(а) и -лк(а) является сейчас особенно продуктивной.
В сфере производственно-технической лексики все более активным становится суффикс -к(а), образующий отглагольные имена от различных основ глаголов совершенного и несовершенного вида. Не только в специальной (технической) литературе, по уже и в публицистике, в газетных хрониках на производственную тематику все чаще употребляются слова: сушка, мойка, резка, отливка, прессовка, центровка, отбраковка, оцинковка, сверловка, маркировка, откачка, наладка и т. п. Правда, на всех подобных словах сейчас лежит печать профессионального употребления. Применение их в строго литературном языке обычно вызывает нарушение стилистической нормы. Однако значительный и быстрый количественный рост подобных образований, проникновение в газетные жанры могут впоследствии привести к их стилистическому перемещению и вхождению в общелитературный язык.
В последнее время весьма продуктивным стало также образование глагольных имен без суффикса. Все чаще говорят и пишут: подогрев, разогрев, промыв, полив, отжим, обжиг, подкорм и т. п. Эти бессуфиксные имена успешно конкурируют теперь не только с традиционными именами на -ание (разогревание, промывание, поливание), но и с сравнительно новыми словами на -к(а): промывка, поливка, подкормка. Если еще несколько лет назад уделом бессуффиксных образований (полив, подогрев и т. п.) была главным образом профессиональная речь, то теперь подобные слова стали обычными в газетах и журналах, они даже проникают в современную прозу и поэзию. Ср.: Ночи установились безветренные, знойные, сад ждал полива (Федин. Сад),
Из тяжелего шланга Производят соседи полив Этих высшего ранга Крупных яблонь, черешен и слив.
(Ваншенкин. Вечерняя поливка.)
Конечно, бессуффиксные имена (полив, разогрев), как и многие существительные на -к(а), не приобрели еще полных прав общелитературной, стилистически нейтральной лексики. Но многие из них, видимо, находятся на пути к этому вследствие выраженной экономичности
формы. Ср.: прогрессивная оплатам прогрессивка; поли-ваниеполивкаполив и т. п. Во всяком случае объявлять подобные продуктивные образования незаконнорожденными и подвергать остракизму (как это делается иногда в пособиях по культуре речи) было бы неосторожно (тем более, что многие из них существовали издавна в народном употреблении, еще в Словаре Даля находим полив и поливка). Современная норма ограничивает сферу употребления некоторых таких слов, но не отрицает самой модели словообразования.
Нередко осуждаются и не признаются полноправными «гражданами» литературного языка многие сложные, составные и сложносокращенные слова (в первую очередь звуковые и буквенные аббревиатуры). Однако в самом принципе (если не считать некоторых неудачных случаев сокращений) такое мнение едва ли оправданно. Создание сложносокращенных слов — это веяние времени, продуктивная словообразовательная модель, по существу активизировавшаяся в последние полстолетия. Справедливо выступает в защиту ее лингвист Д. И. Алексеев, который пишет: «Самый факт длительного и непрекращающегося использования сокращенных слов в русском и других языках... в известной мере утверждает приемлемость нового типа слов. Трудно поверить в неполноценность наименований, которые десятки лет обслуживают общество и в своей массе не подвергаются замене» (Аббревиатуры как новый тип слов. — В сб.: Развитие словообразования современного русского языка. М., 1966, с. 13). Сотни аббревиатур стали обыденными, привычными словами, часто уже не воспринимаемыми как сокращенные образования. Ср. свидетельство К. Чуковского: «К слову загс до того привыкли, что стали уже забывать, из каких четырех слов оно склеено. Я, например, совершенно забыл» (Живой как жизнь. М., 1962, с. 90). Аббревиатура загс образована из словосочетания: запись актов гражданского состояния. Вот лишь несколько разных по типу образования сложносокращенных слов, появившихся в последние десятилетия, но уже завоевавших себе место в системе общепринятых наименований: ЮНЕСКО, АПН, ЦРУ, Ж.ЭК, КВН, ВДНХ, бриз (бюро по рационализации и изобретательству), самбо (самозащита без оружия), лавсан (Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук СССР), НОТ (научная организация труда), лазер (от англ. laser — light amplification by slimulaled emission of radiation — усиление света посредством стимулированного излучения) и мн. др.
Конечно, при образовании сложносокращенных слов и пользовании ими необходима умеренность, чувство такта. Специалист по словообразованию Е. А. Земская в книге «Как делаются слова» (М., 1963) указывает на примеры неудачных, непонятных для многих говорящих по-русски аббревиатур: ВШПД (Высшая школа профессионального движения), ВТО (Всероссийское театральное общество) и др. Вспомним, как высмеивали наши писатели такие неуклюжие, засоряющие литературный язык сокращения. Например:
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома»
(Маяковский. Прозаседавшиеся.)
Значительно пополнился словарный состав современного русского языка и за счет словосложения — словообразовательного способа, продуктивного и в прошлом. Появились такие новые, но уже общеупотребительные и вполне общепризнанные слова, как атомоход, вертолет, электровоз, рельсоукладчик, шлакобетон, электролечение, картофелекопалка, мясохладобойня и мн. др. Чтобы представить себе поток сложных слов, хлынувших в современную речь, перечислим лишь некоторые, образованные совсем недавно с помощью части слова авто (автомобильный): автобензин, автобензовоз, автобуфет, автовокзал, автовыставка, автогараж, автогорючее, автодело, автодорожник, автозаправщик, автоиндустрия, автоинспекция, автокафе, автокросс, автолавка, автомастерская, автопавильон, автопансионат, автопарк, автоперевозка, автоприцеп, автопрокат, автопромышленность, автопростой, автопутешествие, автосервис, автосигнал, автослесарь, автоспорт, автостанция, автостоянка, автостроитель, автотранспортник, автотрасса, автотрест, автотягач, автоуправление, автофургон, автохозяйство, автоцистерна, автошкола и мн. др.
Эти слова (их более 150) не представлены в Словаре Ожегова (1972), но уже встречаются в периодической печати. Время покажет, какие из них закрепятся в литературном языке, какие окажутся однодневками. Однако сам способ образования является, несомненно, продуктивным и рациональным.
В последние десятилетия резко возрос также «наплыв» сложносоставных слов. Это отчасти связано с усложнением новых обозначаемых понятий (многофункциональность обозначаемого, комплексное восприятие действительности). Обычными для современной прессы стали: музей-квартира, школа-интернат, кафе-столовая, матч-турнир, диван-кровать, кресло-кровать, салон-вагон, ракета-носитель и т. п. Очевидно, что указанные образования не равновероятны с точки зрения закрепления в языке. Характерной приметой возникновения сложносоставного слова из словосочетания служит постепенная утрата склоняемости первой частью. Например: из салон-вагона (Б. Полевой. Саянские записи); в салон-вагоне (Ата ров. Зимняя свадьба); второй тур матч-турнира (Толуш. Первенство мира по шахматам); победа в матч-турнире («Труд», 1973, 1 мая) и т. п.
Еще и сейчас некоторые аббревиатуры, сложносокращенные, сложносоставные слова иногда режут слух, вызывают раздражение и даже возмущение. Проходит, однако, время, и многие из них отлично уживаются в языке, становясь не только нужными, но и незаменимыми словами. Трудно было бы представить себе современную речь без таких аббревиатур, как СССР, ТАСС, вуз, или таких сложных и составных слов, как электровоз, теплоход, пылесос, телефон-автомат и т. п.
Но богатство словообразовательных возможностей русского языка таит в себе и определенную опасность. Образование слов по модели нередко наталкивается на неожиданные лексические ограничения. Мы говорим: лисица, львица, ежиха, слониха, но никак не наоборот: лисиха, львиха — ежица, слоница. Есть слова клепальщик, рисовальщик, сигнальщик, строгальщик, фехтовальщик, шлифовальщик, но, как отмечал Л. В. Щерба, писальщик, читальщик, ковыряльщик никогда не входили и не входят в словарь, но могут быть всегда сделаны и правильно поняты. Наличие параллельных словообразовательных типов заключает в себе не только некоторые трудности и условности создания слов (от мыслить — мыслитель, от говорить — говорун, от рассказывать — рассказчик, от продавать — продавец, от толкать — толкач, от шутить — шутник, от играть — игрок, от пахать — пахарь), но и создает основу для вольной или невольной словообразовательной переориентации, что, в свою очередь, нередко превращается в уродованье, коверканье слов, «словесное фокусничанье» (М. Горький). На этой основе рождается множество случайных (окказиональных) и действительно противозаконных словечек, представляющих собой грубые нарушения литературных норм.
Против них-то и должны быть направлены усилия учителей, языковедов, все, кому дорога чистота родного языка. Борьба эта отнюдь не бесплодна. В 1935 г. известный советский языковед С. П. Обнорский выступил с специальной статьей о неправомерности глагола ис-пользовывать, весьма широко употреблявшегося в 20 — 30-х гг. И действительно, в современной письменной речи этот словесный сорняк практически не встречается. Но появились другие слова-уроды: глажка брюк, дача советов и справок, обилетить пассажиров, озадачить (вм. дать задание), телик (вм. телевизор), велик (вм. велосипед), прелюд (вм. прелюдия) — таковы лишь некоторые из типичных фактов нарушения современных лексических норм. Не без помощи некоторых журналистов бесцеремонно рвется на страницы печати глагол задействовать с винительным падежом прямого объекта (задействованы группы по борьбе с наводнением); раньше подобное ненормативное употребление встречалось лишь как профессионализм у военных. Проникновение таких «перлов» в речь молодежи вызывает закономерное чувство беспокойства и озабоченности.
СЛОВОТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
Вхождение новых слов в общелитературный язык в значительной мере связано с творческой работой писателей. Из массы слов, беспрестанно рождаемых кипящей жизнью общества, в художественной литературе оседают и закрепляются лишь некоторые, наиболее удачные и содержательные, отвечающие требованиям времени и нормам языка. Но под пером писателей и поэтов не только фильтруется и шлифуется уже готовая продукция созидательного духа народа. Властное стремление к свежему, не банальному слову естественно толкает их к словотворчеству. И нередко случается так, что сугубо индивидуальное слово, непригодное для общего, обиходного языка, становится счастливой находкой в контексте художественного произведения, играет роль важного, а порой и незаменимого стилистического средства. Поэтому в русской литературе XIX — XX вв. встречается довольно много индивидуально-авторских неологизмов. Правда, установление авторской принадлежности новых слов — дело не простое. При выдаче «метрических свидетельств» новорожденным словам нередки неточности и ошибки, так как одно и то же слово может родиться самостоятельно дважды и трижды под пером разных писателей. В задачу данной работы не входит ни уточнение даты рождения писательских неологизмов, ни анализ их художественной значимости в конкретном контексте. Здесь достаточно указать лишь на некоторые индивидуально-авторские новообразования, с тем чтобы проследить их дальнейшую судьбу и отношение к нормам общелитературного языка.
Как известно, Пушкин сравнительно редко прибегал к словотворчеству (особенно в художественных произведениях зрелого периода). Пушкинские неологизмы рождались обычно в шутливой или иронической речи; например: стихоткач, полуподлец, стишистый, хандрливый, дамоподобный, вицеканцлерша, а также образования от имен собственных: кюхельбекерно, огончарован, ольде-копничать, воейковствовать. Появление некоторых неологизмов связывают с именем Достоевского, который, действительно, прибегал к редким словечкам, вкладывая их обычно в уста персонажей. Например: срамец, шлепо-хвостница, куцавеешный, белоручничать, всемство, недо-развитка и др. Сам писатель гордился тем, что ему удалось пустить в общий обиход два слова: стушеваться и стрюцкий. Однако в более поздних исследованиях (Л. Я. Боророй, 10. С. Сорокин и др.) подлинность авторства Достоевского ставится под сомнение. В самом деле, глагол стушеваться в значении сделаться менее отчетливым, заметным встречался еще в 40-х гг. XIX в.
Меткие и яркие новообразования засвидетельствованы у Герцена (цензороквизиция — по аналогии с инквизиция, цензурократы, людосек, людокрады, шпионица, розгословие, секолюбивый, плетолюбивый, умоотвод,
околичнословия, обофицеренный и др.), у Л. Толстого (главным образом в письмах): самообманывание, свободолегкомыслие, исчаклость, нестоющесть, мягкоступы, побеждание, донкихотно и др. Мастером виртуозной имитации под народную речь был Лесков. Придуманные им гибридные словечки прозрачны по форме и емки по со-пержанию: клеветой, стричь пупоны, долбица умножения, публицейские ведомости, пищеприемная зала, мелкоскоп, нимфозория, буреметр и т. п. Но, конечно, особенно заметный след в создании политически острых, наполненных иронией и сарказмом слов и выражений оставил Салтыков-Щедрин. Вот лишь некоторые из них: умоне-лепствовать, белибердоносцы, отуманиватели, пасквилянствовать, душедрянствовать, ежеворуковичный смысл, подслушивательный интерес, заднекрылечное знакомство, хныкательная эссенция и т. п. Блестящий, неповторимый юмор чеховских писем в какой-то мере обязан и талантливо придуманным словам. В эпистолярном наследии Чехова содержится более ста авторских неологизмов (не представленных в словарях русского языка). Например: обадвоштиться, опреподобиться, окошкодо-хлиться, напоэтиться, безденежствовать, пассажирство, офицерия, толкастика, левитанистый, трехполенно, драмодел, прозоплет, благоутробие, храмоздатель, блиноед, тугоподвижно сть, кувырколлегия, мордемондия и мн. др.
Тонкое чувство языка позволило В. И. Ленину широко использовать прием словотворчества в публицистических целях для борьбы с тем, что мешало победе революции. Выразительные и эмоциональные неологизмы Ленина (хвостизм, левоглупизм, архиреволюционность, ка-питалолюбие, капиталопослушный, полициебоязненный, кадетофилы, кадетолюбие, глупизм, шарлатанизм, на-плевизм, комхвастовство, комчванство, комбюрократизм, комвранье, пустоболтунство и мн. др.), продолжавшие традиции передовой русской публицистики, сыграли важную роль в разоблачении и осмеянии враждебной политики и идеологии.
Справедливо говорят, что Маяковский как поэт-новатор неотделим от Маяковского — творца и создателя сотен новых слов и словосочетаний. Только в поэтических произведениях Маяковского, по подсчетам одного из исследователей, содержится 2840 новообразований (впрочем, некоторые слова, приписываемые Маяковскому, например читака, встречались и ранее в ненормированной или иронической речи). Здесь нет необходимости приводить длинный список неологизмов поэта. Способы их создания крайне разнообразны. Причем, несмотря на поэтическую страстность и «яростную гиперболу», словотворчество Маяковского носило целенаправленный и осмысленный характер. Им было использовано все: и арсенал церковнославянизмов, и устарелые исконно русские слова, и свойство живой народной речи, и неслыханная дерзость соединения своеобычного и чужестранного. Например: евин, нянь, рьянь, звездь, слонячий, королиха (вм. королева), едение, звончище, молоткастый, серпа-стый, крикогубый, громогромыхающий, словоблудьище, гысячесилье, разулыбить, шпористый, нью-йоркистей и т. п.
Немало авторских неологизмов и у современных писателей и поэтов. Вот лишь некоторые: злинка (Луговской), невредимка (Боков), бесприютник, кирпичность, тупизна (Мартынов), низколобье (Кирсанов), суетория (Твардовский), дорогиня, комсохоль-ство (Асеев), сосновость (Агеев), неуют (Шефнер), солнцеглазый (Ж аров), песнястый (Леонов), буддообразно (Федин), од но колыбель ники (Цветаева), новожил (Нагибин), холеным (Кирсанов), безлепица (Булгаков), соловьино (Малышки н), завесневеть (Луконин), отъюбилеить (Обухова) и мн. др. Особенно часто прибегают к словотворчеству А. Вознесенский (свистопад, осенебри, человолки, язлыки, Дамоклово, лабазно, ракетно и др.) и Е. Евтушенко (глыбастость, просквоженность, скользкость, слезность, крупняк, верхота, неумелым, ирландым и др.).
Таким образом, если собрать все индивидуально-авторские неологизмы в особый словарь (а такие предложения делались), то получилась бы внушительная и весьма интересная коллекция слов. Но именно коллекция, так как значение этого разношерстного конгломерата никак не может быть сопоставлено с ролью регулярной армии общеупотребительных слов. Авторские новообразования, не соответствуя общепринятым лексическим нор мам, выполняют подчас важные, но весьма специфические и кратковременные функции. Большинство из них имело разовое применение, другие воспроизводятся (извлекаются из памяти) от случая к случаю, при возникновении особой речевой ситуации.
Слова, придуманные даже талантливыми писателями и выдающимися общественными деятелями, сравнительно редко осваиваются языком. Четыре раза употребил Пушкин полюбившееся словечко кюхельбекерно, но оно так и осталось продуктом индивидуального словотворчества. Хотя вслед за Чеховым слово драмодел применяли М. Горький, В. Фролов, Г. Рыклин, оно не стало от этого достоянием общего языка. Стихи Маяковского завоевали мировую известность, но его авторские новообразования не привились (кроме, пожалуй, глагола прозаседаться, включенного в последнее издание Словаря Ожегова). Отдельные примеры индивидуально-авторских слов, прочно вошедших в фонд литературного языка (хвостизм и партийность Ленина, будущность Карамзина, щедринские пенкосниматель, головотяп, головотяпство, благоглупости; обломовщина Гончарова, бездарь И. Северянина), не меняют существа дела. Благодетельная роль писателей проявляется в большей мере в отборе и закреплении наиболее удачных слов, рожденных общенародной и стихийной речевой практикой, чем в преднамеренном (хотя и стилистически оправданном) словотворчестве.
Таким образом, словотворчество писателей, проявляющееся в создании новых слов, имеет весьма относительную ценность для развития национального языка. Интересна в связи с этим точка зрения видного русского языковеда И. А. Бодуэна де Куртенэ. «Я безусловно отрицаю мнение, — писал он, — которое приписывает од н ом у человеку первенство в каком-либо языковом нововведении» (Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию, т. II. М., 1963, с. 207). Более того, безудержное стремление к словесному новаторству может идти вразрез с общим направлением в развитии литературного словоупотребления. Выдвинутый в начале XX в. сомнительный лозунг обновления языка и исключительного, ничем не сдерживаемого права поэта на создание новых слов обосновывался с внешней стороны желанием освободиться от банальных, «захватанных» наименований. «Лилия прекрасна, — писал теоретик футуризма А. Крученых, — но безобразно слово лилия, захватанное и «изнасилованное». Поэтому
я называю лилию еуы — первоначальная чистота восстановлена» (Апокалипсис в русской поэзии. — Цит. по кн.: Гофман В. Язык литературы. Л., 1936, с. 193).
Очевидно, однако, что мания языкового реформизма, свобода «зауми» и погоня за словесными выкрутасами в действительности выражали собой недоверие к речетворческим способностям народа, вели к обособлению поэтической речи, к поддержке идеалистического принципа «искусство для искусства», к расшатыванию лексических норм общелитературного языка. Теоретическое прожектерство и словарное экспериментаторство символистов и футуристов, явились шагом назад в развитии языковедческой науки. Впрочем, как мистические утопии «звездного языка», так и выдуманные их авторами словечки (например, у В. Хлебникова: будет ляне, охотея, любавица, летатель, летоба, летизна, леторадость и т. п.) быстро канули в небытие, не оставив и следа на здоровом теле русского языка.
ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
Горячие споры о соотношении в языке «своего» и «чужого», о пользе и вреде заимствованных слов не стихают уже многие десятилетия. Именно здесь наиболее отчетливо обнажились разноречивые взгляды на общественные и воспитательные функции языка, именно здесь обнаружились крайние проявления как охранительноконсервативного пуризма националистического толка, так и вседозволяющего либерализма, которому чужды патриотическая гордость и национальное самосознание. Отношение к заимствованным словам — это не только языковедческая, но и идейно-политическая проблема, требующая вдумчивого и осторожного решения.
Известно, что процесс заимствования слов — явление нормальное, а в определенные исторические периоды даже неизбежное. Вспомним огромную и весьма положительную роль, которую сыграли греческий и латинский языки в Европе, старославянский язык в славянском мире, арабский — на мусульманском Востоке. Вполне объяснимо и во многом оправданно широкое проникновение западноевропейской лексики в русский язык в эпоху петровских реформ. Т1о уже в ту пору наметились две группы иноязычных слов. Одни — полезные, обозначающие
новые понятия и неизвестные ранее предметы, а поэтому обогащающие язык; другие — бесполезные, дублирующие уже имевшиеся исконно русские наименования, а поэтому не обогащающие,, а засоряющие речь. Именно эта мысль о наличии двух принципиально разных типов иностранных слов и о вреде употребления их без надобности (вспомним слова В. И. Ленина: «К чему говорить «дефекты», когда можно сказать-недочеты или недостатки или пробелы?» — Соч., т. 40, с. 49) и лежит в основе ленинской заметки «Об очистке русского языка». Слова первой группы . (среди них множество интернационализмов, созданных на греческо-латинской основе) прочно укрепились в русском языке, стали органической и неотторжимой частью его словарного состава (например: культура, республика, партия, коммунизм, реализм, университет, академия, аптека, театр, студент, солдат, радио, телевизор и т. п.). Но, осваивая эти и тысячи подобных слов, русский язык освобождался от словесного иноземного шлака, от слов-дублетов и от модных в прошлом словечек, отражавших чуждые, наносные явления общественной жизни (например: комильфо, бомонд, фриштик, рандеву, адюльтер и т. п.).
В долгой и ожесточенной борьбе мнений о роли и ценности иноязычных слов сталкивались в начале XIX в. шишковисты и карамзисты, в середине XIX в. славянофилы и западники, носители реакционной идеологии правящего класса и представители передового революционно-демократического мировоззрения. Напуганный событиями французской революции ярый консерватор адмирал Шишков (занимавший посты министра просвещения и президента Российской академии) рьяно нападал не только на такие «опасные» иноязычные слова, как республика и революция, но предлагал заменить и безобидные галоши словом мокроступы, и биллиард — шарокатом. Классовый антагонизм русского общества середины XIX в. наглядно обнаружился в отношении к иностранному слову прогресс. Завоевав популярность в кругах демократической и либерально настроенной интеллигенции, это слово встретило резкие нападки русских ретроградов. И неудивительно. Когда в 1858 г. слово прогресс попалось на глаза Александру II, он начертал такую революцию: «Что за прогресс!!! Прошу слова этого не (употреблять в официальных бумагах».
Трезвую позицию по отношению к иностранным словам занимали передовые русские писатели и публицисты. Осуждая ложный («квасной», по выражению Герцена) патриотизм опекунов «славянщизны» (ср. безнадежные попытки устранить слова эгоизм, инстинкт, фонтан, кучер, гримаса и воскресить или создать русские замены — ячество, побудка, водомет, возница, рожекорча), В. Г. Белинский в то же время решительно протестовал против применения иноязычных слов без надобности. «Употреблять иностранное, когда есть равносильное русское слово, значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус, — писал он. — Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова утрировать вместо преувеличивать» (Взгляд на русскую литературу 1847 года).
Эти слова Белинского можно было бы написать на знамени борьбы с иноязычными словами в наши дни. А такая борьба необходима. Лавинообразный процесс нарождения терминов в эпоху научно-технической революции и неизбежность заимствования некоторых слов для обозначения новых понятий никак не оправдывают наплыва англицизмов (точнее, американизмов) ни в специальную литературу, ни тем более в обиходную речь. Нашествие импортных словечек приводит к тому, что, как замечает Ф. П. Филин, на смену ушедшему «французско-нижегородскому жаргону» появляется не менее безобразный, принижающий национальное достоинство «американо-ростовский сленг».
Тревожное положение усугубляется тем, что многие люди в век расцвета науки стали стыдиться говорить просто. Из-за этого вредного языкового снобизма, стремления всегда и везде выражаться внушительно и наукообразно слова-чужеземцы легко расширяют захваченные плацдармы. Писатели К. Чуковский, К. Паустовский, Б..Тимофеев и др. возмущались неоправданным употреблением таких слов, как апробация, пролонгировать, лимитировать, функционировать и т. п. «Лингвистическим провинциализмом» окрестил Г. О. Винокур чрезмерное увлечение иностранными словами. Но советы писателей и ученых пока что прививаются плохо. Еще недавно от радиокомментаторов мы слышали: Внести поправки в таблицу чемпионата. Теперь вносят коррективы, и даже — коррекции. Дети подражают взрослым и говорят:
пионерлагерь еще не функционирует (!). В школьных сочинениях не к месту употребляются слова гарант, компонент, индифферентно, коллизия и т. п. М. Горький не советовал без нужды употреблять слово конденсация, а в «Комсомольской правде» (1976, 17 янв.) говорится удивительный конденсат (!) страсти миллионов болельщиков. Газета «Советский спорт»предлагает интенсифицировать тренировочные занятия (1972, 22 июля). Вместо простого и скромного слова размер в моду вошло наукообразное — параметры. В специальной (научной или технической) литературе употребление этого термина вполне оправданно, но так ли уж необходим он во фразе: Хорошенько изучить параметры воротника («Известия», 1975, 5 июля). Непрошеные гости вторгаются на страницы молодежных журналов, в художественную литературу. Бездумная мода привела к тому, что на этикетках морковного сока пишут джус, а убийц в судебном очерке именуют киллерами!
И все это было бы еще полбеды (всякая мода преходяща), если бы не находились убежденные апологеты (воспользуемся и мы чужеземными словами) бесконтрольного и безграничного импорта слов. Их доводами служат ссылки на некоторые преимущества интернациональной терминологии. Но при этом часто забываются другие, не менее важные национальные ценности. Отвечая на вопрос корреспондента «Ленинградской правды» Жанны Маниловой, директор Института русского языка АН СССР Ф. П. Филин с горечью говорил; «...богатство словообразовательных возможностей русского языка используется у нас до обидного мало. Больше того. Даже те открытия, которые принадлежат нашйм ученым, потом часто именуются по-английски (например, праймер вместо первоначального русского наименования — затравка)» («Ленинградская правда», 1975, 9 авг.).
Выступления Ф. П. Филина, направленные против применения иностранных слов без надобности, вызвали живой отклик и сочувствие читателей. Борьба с злоупотреблением модными иноязычными словами является важным звеном пропаганды и укрепления русского языка как мирового языка нашего времени. И естественно, что основы вдумчивого, бережного и патриотического отношения к родному слову должны быть заложены еще в школе.
ТРЕБОВАНИЕ СМЫСЛОВОЙ ТОЧНОСТИ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ РУССКОГО СЛОВА
Одним из основных требований норм словоупотребления является, конечно, уместное применение слова в присущем ему лексическом значении. Ошибки здесь особенно непозволительны, так как могут привести к неправильному пониманию высказывания. Стоит, например, перепутать глаголы ошвартоваться (стать у причала ) и отшвартоваться (отойти от причала) или наречия ничком (вниз лицом) и навзничь (вверх лицом), как мы. получим противоположный смысл фразы. К сожалению, недостаточно четкое осознание слов — далеко не редкое явление даже среди интеллигенции. Одна студентка ЛГУ на экзамене долго не могла разобраться в различии слов эмигрант (человек, выехавший в чужую страну) и иммигрант (человек, поселившийся в чужой стране); например, писатель Бунин с нашей точки зрения был эмигрантом, а для французов — иммигрантом. Даже в стихах молодых поэтов обнаруживается ошибочное осмысление многих слов. Например, прилагательное обетованный понимается некоторыми как «обитаемый» (между тем слово обетованный употребляется лишь тогда, когда говорят о желанной земле, где царят довольство, изобилие, счастье). Иногда пишут: торная изба. Но слово торный означает гладкий, ровный, наезженный и применяется в современном языке только к существительному дорога.
Часто указывают на непростительный промах поэта В. Волженипа, написавшего: Приходи вечор, любимый... Ведь просторечное слово вечор означает вчера вечером (ср. у Пушкина: Вечор, ты помнишь, вьюга злилась...). прочем, незаконное с точки зрения современных лексических норм и как будто бы даже нелепое употребление , (приходи вечор, т. е. вчера вечером) получает оправдание, если обратиться к значению этого наречия в некоторых говорах и устном народном творчестве (см. об этом в статье И. А. Попова — «Русская речь», 1974, № 2).
Особенно много опасных подводных камней скрывается среди паронимов (так называют в языкознании слова, близкие по звучанию, ко не совпадающие по смыслу). Путаница нередко возникает из-за неточного употребления таких слов, как. командированный (гостиница для
командированных) и командировочный (командировочное удостоверение), волосной (волосной покров) и волосяной (волосяной матрац), туристский (туристский лагерь) и туристический (туристический журнал), дипломник (студент-дипломник Политехнического института) и дипломант (дипломант Всесоюзного конкурса пианистов). Смешение паронимов весьма типично для сочинений школьников и абитуриентов. Там можно встретить: у Павла Власова рождается гордыня (вм. гордость)-, не с т е р пи мое положение (вм. нетерпимое)-, дождливая туча (вм. дождевая)-, хищное истребление лесов (вм. хищническое)-, эффектные меры (вм. эффективные) и т. п. Своеобразие значений подобных слов рассматривается в словаре-справочнике КХ А. Бельчикова и М. С. Панюшевой «Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка» (М., 1968).
На первый взгляд требование смысловой точности представляется самоочевидным и не нуждающимся в особых комментариях. Стоит лишь знать истинное значение слова! В действительности же все обстоит гораздо сложнее. Каким образом возникает и остается ли неизменным значение слова? Что такое истинное значение? Где границы правильного применения слова? Эти вечные проблемы науки о языке сохраняют свою остроту.
Нередко истинное значение слова видят лишь в его первоначальном, исконном (этимологическим) смысле. Но если с этой точки зрения взглянуть не только на художественную, но и на обычную, обиходную речь, то окажется, что она вовсе не точна и не соответствует истине в таком ограниченном ее понимании. Солнце садится, косить сено и т. п. — это общепонятные и, конечно, нормативные употребления, но они не сообразуются с исконным (точным!) значением слов садиться и сено. В художественной литературе дело еще более усложняется. Один из критиков «Евгения Онегина» усомнился в правильности выражений стакан шипит, камин дышит, неверный лед и т. п. Защищая правомерность этих ясных метафорических и метонимических сдвигов, Пушкин справедливо возмущался: «Неужели вместо камин дышит, нужно говорить пар идет из камина? Неужели, обязательно нужно сказать Ребятишки катаются на льду, а не Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед?».
Наивная этимологизация и мнимое понимание точности смысла слова нередко приводят к необоснованным запрещениям пуристского толка. Есть люди, которые приходят в негодование, усматривая в выражениях торговая сеть, финиш пятилетки и т. п. грубое нарушение лексических норм. Нет необходимости опровергать эти поспешные и малодоказательные обвинения. Наблюдаются, однако, более сложные и переходные случаи. Например, в Ленинграде, в доме № 114 по Невскому проспекту, расположен магазин с броским названием «Товары в дорогу». С точки зрения строгой языковой логики, это название не только неточно, но и рискованно. Слово товар в русском языке имеет два основных значения: 1) продукт труда, изготовленный для обмена, продажи; 2) то, что является предметом торговли. Из этого ясно, что всякий купленный предмет перестает быть товаром. В до-рогу берут не товары, а вещи (если, конечно, не предполагают перепродавать их). Но вывеска прижилась, к ней привыкли, и постепенно традиция употребления берет верх над буквальной точностью смысла слова.
Жизнь слова не укладывается в жесткие рамки первоначального смысла. Появление новых значений и развитие многозначности (полисемии) естественно, а во многих случаях неизбежно, так как в этом коллективном психолингвистическом процессе как раз наиболее рационально и экономно отражается реальная взаимосвязь явлений внешнего мира. В истории известны, правда, попытки искусственно устранить многозначность (которая якобы делает речь «двусмысленной и темной») путем создания универсального, логического языка в духе рационалистической философии XVII — XVIII вв. Эти попытки были заранее обречены на провал. Многозначность — это не зло, а величайшее благо, позволяющее языку развиваться и поспевать за опытом жизни, а большим писателям — заглянуть в «бездну» возможностей самого слова.
Конечно, некоторая опасность непонимания или.недопонимания при наличии многозначности у слова всегда существовала и существует (в особенности на первой стадии развития значения или при резких различиях собеседников в культурно-образовательном уровне). Эти свойства многозначного слова (а также омонимов) часто служили поводами для каламбуров и игры слов. Вот как, например, было использовано новое значение глагола трагать вызывать сочувствие (по происхождению это перевод французского глагола toucher) в пьесе А. А. Шаховского «Новый Стерн». Б ответ на реплику князя: Добрая женщина, ты меня трогаешь! — крестьянка говорит: Что ты, барин, перекрестись! Я до тебя и не дотронулась! Однако в обычной обстановке живой речи опасность смещения значений легко устраняется контекстом. Там же, где многозначность слова действительно нежелательна (например, в терминологии), на помощь приходят сознательная замена слова. Например, стремление исключить ненужные смысловые ассоциации потребовало от химиков замещения прилагательного элементарный (.„элементарный анализ органических соединений) словом элементный.
Итак, точность словоупотребления вовсе не заключается в догматичном следовании исконному (иногда, кстати, утраченному или угасающему) значению слова. Это понятие складывается из суммы признаков: распространенность и регулярная воспроизводимость данного значения слова, соответствие его общему психолингвистическому механизму семантического развития, созвучность традиционным и культурно-историческим факторам, общественно-эстетическая оценка и, наконец, уместность в конкретной речевой ситуации. С этой точки зрения многие смысловые неологизмы наших дней (баланс — равновесие, контакты — связи, финиш — конец вообще, вакуум — пустота в отвлеченном смысле, горящий — срочный , практически — по сути дела , фактически и др.) не противоречат нормам словоупотребления.
Но возможности расширительного употребления слова в литературном языке определенного исторического периода не безграничны. Правда, в живой, обиходной речи и особенно в художественной литературе непрестанно рождаются индивидуальные (окказиональные) оттенки смысла, наблюдаются неожиданные и иногда смелые смысловые сдвиги. Естественно, такие отклонейия не соответствуют общим нормам словоупотребления. Однако и тут грани условны и подвижны. Многие так называемые индивидуально-авторские употребления в действительности имеют общественно-исторические и общественно-эстетические корни. С другой стороны, поиски свежего образа, создание необычной, дерзкой метафоры, так сказать, писательская игра словом могут быть при известных условиях абсолютизированы, возведены з художественный принцип сомнительной ценности. Так случилось, например, с поэзией имажинистов, для которых фигуральное использование слова из средства конкретизации идеи превратилось в самоцель. Такой перенасыщенный метафорами поэтический язык, где, по выражению Гете, «мысли страдают под тяжестью образов», становится оторванным от действительности, бесплодным и теряет всякую общественно-культурную ценность.
ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ И НЕНОРМАТИВНОЕ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЕ
Как известно, обогащение языка происходит не только путем создания новых слов (лексических неологизмов), но и посредством появления новых значений (семантических неологизмов). Однако наряду с добрыми и полезными всходами в современной речи часто нарождаются и сорные травы. Как отделить пшеницу от плевел? Противоречивые мнения о ценности новых употреблений отдельных слов, вкусовой подход к оценке того или иного смыслового новообразования вызывают необходимость определить хотя бы некоторые общие принципы их квалификации. Естественно, что рассмотрение этих зыбких и животрепещущих фактов должно быть лишено всякой предвзятости. Анализ может вестись только объективноисторически, с учетом целесообразности конкретного языкового явления и его соответствия типовым моделям смыслового развития лексики русского языка.
Представляется оправданным и с нормативной точки зрения приемлемым возникновение новых значений в ниже указанных случаях.
1. При отсутствии в лексической системе языка однословного наименования (т. е. отдельного слова, а не словосочетания) для обозначения нового предмета или понятия (а также для предметов или понятий, получивших особую актуальность в общественной жизни). Появление нового смысла как бы восполняет пробел в системе обозначений: «знак — понятие». Причем применение старого слова в новом значении оказывается экономичнее, чем употребление описательного оборота. К этому следует добавить и наличие в ряде случаев устойчивых и полезных ассоциаций (ср. новое: морж — любитель зимнего купания и старое: морж — северное морское животное), укрепляющих новое значение в качестве факта языковой системы.
Приведем несколько примеров. Слово абитуриент сравнительно недавно закрепилось в новом значении: человек, поступающий в высшее учебное заведение, освободив тем самым, нас от необходимости каждый раз употреблять описательное выражение (однословного наименования этого понятия в русском языке до 50 — 60-х гг. не было). Утрата же словом абитуриент прежнего значения — оканчивающий среднюю школу (от нем. Abiturient — сдающий выпускные экзамены восходит к лат. abiturientis — собирающийся уходить) оказалась для языка не жизненно важной, так как в словарном составе уже до этого имелось другое (причем однословное!) обозначение данного понятия — выпускник.
Слово синтетика было впервые помещено в Словаре Ушакова с пометой «научное, философское» в значении метод исследования, рассуждения, приводящий к синтезу. У В. Брюсова, например, это слово употреблено в таком необычном для нас сочетании: синтетика поэзии. Новое значение слова синтетика — синтетические материалы, а также изделия из них — факт недавнего времени (впервые отмечено в Словаре новых слов, 1971). Оно оказалось удобным однословным обозначением актуального явления современной жизни и нашло структурную поддержку в системе русского языка (ср.: пластика, органопластика, косметика и т. п.). Старое лее значение этого слова было утрачено. Зато не так давно появилось новое слово синтетичность (впервые зафиксировано в Словаре новых слов, 1971). Оно употребляется в значении обобщенность. Ср.: синтетичность изображения («Звезда», 1969, № 2); синтетичность киноискусства («Советская культура», 1963, 7 марта).
В современной разговорной речи и далее в периодической печати нередко встречается полушутливое употребление слов именинник, именинница применительно к человеку в день его рождения, а не только именин, как это было преледе. Например: Имени н нику в день рождения преподносят подарки («Сов. Россия», 1963, 2 окт.). Есть основания предполагать, что новое употребление со временнем может стать фактом общелитературного языка. Дело в том, что в русском языке нет однословного наименования для этого понятия (слова рожденник не существует, а слово новорожденный обычно используется в прямом смысле — только что родившийся). Кроме того, сам обряд празднования именин устарел, молодежь уже не знает этих календарных дат. Все это, естественно, увеличивает вероятность закрепления и санкционирования у слова именинник нового значения.
2. Допустимыми представляются многие факты расширительного употребления слова при обязательном сохранении смыслового ядра. Такое употребление мотивированно и целесообразно потому, что оно основывается на использовании старой формы и традиционного, уже усвоенного смысла и, таким образом, не требует мыслительного напряжения для запоминания нового слова. Например: ас (не только о летчике, но и вообще о мастере своего дела, виртуозе; так теперь стали говорить и писать об инженере, ученом, о токаре, монтажнике, бегуне, лыжнике, шахматисте и т. п.), ассортимент (не только о товарах, но и о совокупности различных предметов или явлений: ассортимент дискуссионных вопросов («Сов. культура», 1970, 1 янв.), ассортимент поэзии («Лит. газ.», 1974, 24 апр.) и т. п.), инфляция (не только о бумажных деньгах, но и об обесценивании в широком смысле слова, например: инфляция образования («Наука и жизнь», 1971, № 10), инфляция художественного слова («Вопросы литературы», 1970, JY» 5), инфляция совести (Нагибин. Переулки моего детства) и т. п.). В этих случаях расширительное употребление не обусловлено требованиями обозначения (номинации). Оно появляется не для заполнения пробела в системе: «знак — понятие» (см. выше абитуриент и др.). Например, для понятия, которое обозначается словом ас в расширительном смысле, уже имелись однословные наименования: мастер, умелец, виртуоз, специалист. Причина закрепления этого и других подобных употреблений состоит в свежести и выразительности (экспрессивности) нового применения, что, кстати, является важным фактором обогащения языка.
Как уже отмечалось, смысловые возможности нормативного использования слова не беспредельны. В современной речи довольно часто наблюдаются факты немотивироваиного семантического смещения. Не касаясь здесь самоочевидных речевых ошибок, вызванных малограмотностью (например, употребление дилемма вместо проблема, алиби — вместо оправдание; вспомним также красноречивое в этом плане стихотворение Маяковского «О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах»), отметим наиболее характерные, на наш взгляд, причины нарушения норм словоупотребления.
При расширительном-употреблении незаметно утрачивается необходимая связь с традиционным смысловым ядром слова, в результате чего новое «значение» перестает соответствовать основному смыслу слова (вплоть до возникновения антонимических отношений). Например, в словах напарник, напарница заключена идея содружества, приложения совместных усилий при выполнении общего дела. Этот признак является весьма существенным. Пренебрежение им может привести к неоправданному смешению слов напарник и соперник. Например: Лидии Скобликовой выпало бежать в первой паре с канадской спортсменкой Марсиа Персоне. Свою напарницу она обошла почти на полкруга («Коме, правда», 1968, 28 янв.). Ясно, что в этой фразе автору следовало употребить слово соперница, а не напарница. В словаре-справочнике журналиста «Трудности русского языка» (МГУ, 1964) приводится весьма показательный материал неправомерного расширительного употребления слов дуэт, квартет, квинтет и трио. В этих случаях утрачивается признак общности и согласованности, единонаправленности действия группы лип. В результате забвения этого признака слова дуэт, квартет и др. стали ошибочно применяться к лицам, действующим не в общих, а даже в противоположных интересах, т. е. к противникам друг друга. Например: После трех туров турнирную таблицу возглавляет квинтет лидеров: по 1,5 очка при одной неоконченной партии набрали Штейн, Барцаи, Пеков, Трингов и Ваганян («Сов. спорт», 1971, 17 апр.).
2. Неоправданным представляется также такое применение слова, при котором утрачивается важный х а-рактеризующий признак, который как раз и выделяет обозначаемое понятие в ряду близких, но отнюдь не тождественных. В этом случае происходит смысловое обеднение содержания и как результат этого — непозволительное смешение слов. Примерами могут служить употребление слова вернисаж (торжественное открытие художественной выставки) вм. слова выставка, погода — вм. климат, роспись — вм. подпись и т. п.
3. Ненормативное употребление нередко возникает в результате нарушения соразмерности соединяемых понятий. Обычно в таких случаях важное, весомое слово-понятие, оказываясь в несозвучном соседстве, и само утрачивает многозначительность содержания. Неоднократное же употребление его в обыденных контекстах постепенно ведет к обесцениванию и утрате той самой выразительности, ради которой оно сначала и применялось в несвойственных сочетаниях. Так, слово форум означает широкое, представительное собрание, имеющее большое общественное значение. Говорят: форум ученых, Всемирный форум солидарности молодежи, выступить на мировом ф ор уме журналистов и т. п. Но нередко встречается и необоснованное (несозвучное!) использование слова форум применительно к обычным, малопримечательным собраниям или совещаниям местного значения. Если такое употребление не носит преднамеренно шутливо-иронического характера, оно является нарушением норм словоупотребления. Например: форум животноводов, форум модельеров и т. п. На наших глазах (не без помощи спортивных комментаторов) девальвируется высокое и отчасти торжественное слово корифей. Так можно назвать выдающегося писателя, философа, ученого, музыканта, художника. Но вряд ли оправданно говорить и тем более писать о «корифеях» футбола, хоккея, прыжков в длину и т. п.
Естественно, что намеченные признаки разграничения правильного и неправильного употребления имеют весьма общий характер и лишь относительную практическую ценность. История слов, развитие и закрепление их значений относится к области индивидуальных, часто неповторимых явлений языка, которые не укладываются в прокрустово ложе заранее созданных схем и образцов.
Рассмотрим поэтому более детально несколько спорных случаев современного словоупотребления.
Как употреблять слово кавалькада? G таким вопросом сейчас нередко обращаются к специалистам, о применении этого слова высказываются различные и даже диаметрально противоположные суждения., И это, конечно, не случайно. В последние годы слово кавалькада значительно расширило сферу своей сочетаемости. В прошлом оно имело достаточно определенное значение — группа всадников, движущихся размеренно, вереницей Поэтому, кстати, неправильным, тавтологическим является выражение кавалькада всадников. Но суть вопроса заключается не в этом. В современной речи стали обычными сочетания: кавалькада машин (автомобилей, велогонщиков, велосипедистов, мотоциклистов). Так пишут сейчас даже известные журналисты, например В. Песков, Б. Стрельников, и некоторые поэты.
В то же время большинство нормативных пособий с разной степенью категоричности отвергает подобное употребление. Действительно, словосочетание кавалькада машин противоречит исконному, этимологическому смыслу слова кавалькада (оно восходит к латинскому caballus, итальянскому cavallo — конь, лошадь). Однако забвение первоначального значения произошло уже и в языке-источнике: по-итальянски cavalcare ип asino означает ехать верхом на осле. Поэтому, как остроумно замечает языковед Ю. В. Откупщиков, не станем ли мы «большими роялистами, чем сам король», если запретим переносное, расширительное применение слова кавалькада, ссылаясь на его забытую этимологию? И дело не только в забвении исконного значения слова. Произошло изменение в самой действительности, в средствах передвижения. Конечно, для выражения понятия о движущихся цепью однородных предметов в русском языке есть другие слова (например, вереница автомобилей, повозок и т. п.). Но слово кавалькада прельщает журналистов броскостью и некоторой экзотичностью. Впрочем, это уже область языкового вкуса и стиля повествования. С точки зрения норм современного словоупотребления сочетание кавалькада машин не является ошибочным, однако неумеренное использование грозит превратить его в дурной штамп газетного языка.
К этому следует добавить еще и то, что если допустимо расширительное употребление слова кавалькада по отношению к некоторым видам транспорта (машины, мотоциклы и т. п.), то неоправданно применение его к вообще перемещающимся предметам, например: са-валькада облаков («Коме, правда», 1971, 13 июля) или к предметам, которые представляются движущимися, например: В проносящейся мимо кавалькаде скал, деревьев, кустов (Павленко. Счастье). Последнее, кстати, относится и к употреблению слова вереница. Говорят: вереница гусей, солдат, вагонов, повозок и т. п., но неправильно: вереница домов, деревьев, кустов и т. п.
Уже более десяти лет языковеды и писатели ведут борьбу против расширительного и стилистически неоправданного употребления слова автор. С горькой иронией пишет в журнале «Наука и жизнь» (1969, № 3) Б. Егоров: «Раньше говорили автор баллады, автор симфонии. А теперь в газете каждый день автор шайбы, автор гола, автор заезда, автор прыжка, автор удара в челюсть». В словарях и справочниках по культуре речи отмечается неуместность и таких словосочетаний, как автор рекорда, автор выдающегося результата и т. п. Ср.: Авторы анонимных телефонных звонков («Моск. правда», 1964, 10 дек.).
Но агрессия бракуемых сочетаний продолжается. В центральных газетах и популярных журналах, помимо авторов гола и шайбы, можно встретить и автора фирменных блюд («Сов. торговля», 1972, 20 янв.) и автора замечательных сортов яблонь («Правда», 1970, 22 авг.). Сдавшись на милость победителя, некоторые языковеды готовы признать нормативность подобных словосочетаний. Но с такой позицией невмешательства вряд ли можно согласиться. Есть веские основания для отвержения рассматриваемых употреблений. Они заключаются в несоответствии, несозвучности культурно-языковой традиции (автор романа, автор симфонии) и новых, весьма прозаических применений слова (автор прыжка, автор фирменных блюд). С другой стороны, нетрудно понять, почему так упорно сопротивляются нерекомендуемые сочетания. Естественно стремление говорящих и пишущих заменить описательное выражение: тот, кто совершил какое-либо действие (например, тот, кто забил гол) — однословным наименованием. Но такого обобщенного и в то же время стилистически нейтрального слова в языке нет (есть, правда, «книжные» синонимы: творец, создатель, созидатель, но они также не подходят для обозначения обыденных явлений). Отсутствие нужного слова приводит к тому, что временно, как бы напрокат, берется несозвучное слово из другой сферы общественной жизни. Не будем гадать, чем закончится соревнование между потребностью восполнить пробел в системе наименований и столь же оправданным стремлением к стилистической и жанровой соразмерности слов, объединяемых в сочетание. С точки зрения норм современного словоупотребления сочетание автор гола и т. п. — нежелательно, так как при этом нарушаются живые ассоциации с культурно-историческим содержанием слова автор.
Наша речь, как и одежда, бывает подвержена влиянию преходящей моды. Сейчас стали, например, фаворитами (кстати, и это слово приобрело незаслуженные симпатии в профессиональной речи спортсменов) прилагательные качественный, добротный, масштабный (например, качественное питание, добротный очаг культуры!). Не украшает и не упрощает современную речь злоупотребление научной и специальной лексикой, броскими и экзотическими словосочетаниями.
Только слепой модой и погоней за дешевым эффектом можно объяснить неумеренное применение слов эпицентр и плеяда. Первое, эпицентр означает область на поверхности земли, расположенная над или под очагом разрушительных сил (землетрясения, взрыва и т. п.) . Отсюда ясно, что даже в переносном употреблении слово эпицентр не теряет связи с понятием о разрушении. А вот как используют это слово в современных газетах: э п и-центр зимней Спартакиады профсоюзов («Сов. спорт», 1970, 27 окт.); эпицентр атаки минчан («Сов. спорт», 1963, 17 сент.); эпицентр страды («Известия», 1973, 28 сент.); эпицентр человеческой мысли («Лит. газ.», 1962, 10 апр.); эпицентр столицы («Коме, правда», 1976, 22 янв.); курортный эпицентр («Неделя», 1975, № 1); эпицентр актуальных забот («Коме, правда», 1974, 12 дек.).
Или другой пример. Слово плеяда восходит к греческой мифологии и истории: плеядами именовались семь дочерей мифического титана Атланта, превращенных после смерти в звезды и давших название группе семи поэтов, живших в III в. до и. э. Естественно, что даже при расширительном употреблении слово плеяда сохраняет историко-культурные ассоциации и поэтому ограничено в сочетаемости. Говорят; плеяда ученых, великих музыкантов, поэтов, блестящих полководцев и т. п. Но едва ли оправданно применение слова плеяда к выдающимся представителям любых, в том числе и будничных, профессий (например, плеяда кулинаров или плеяда: баскетболистов). И конечно, вовсе недопустимо употребление слова плеяда о тех, чье поведение вызывает неодобрительную оценку (плеяда молодых штурмовиков и громил. — «Коме, правда», 1968, 5 сент.) или применительно к неодушевленным предметам (плеяда тракторов. — «Известия», 1954, 5 авт.).
СОЧЕТАНИЯ ПРАВИЛЬНЫЕ, НЕПРАВИЛЬНЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ
Возможность сочетания слов друг с другом далеко не беспредельна. Известное выражение Пушкина «язык неистощим в соединении слов» справедливо по отношению к языку в целом (в особенности к художественной речи), но никак не может быть распространено на конкретные слова. Что касается последних, то для них выбор «соседей» всегда ограничен. При этом диапазон допускаемых соединений слов весьма различен. Наибольшей способностью вступать в свободные сочетания с другими словами обладают служебные слова (союзы, предлоги), вспомогательные глаголы (быть, стать), некоторые оценочные прилагательные (хороший, большой и т. п.). С другой стороны, есть немало слов, которые соединены, так сказать, законным браком с единственным избранником (бразды — правления, таращить — глаза, стрекача — задать и т. п.) или двумя-тремя синонимичными словами (закадычный — друг, товарищ, приятель; потупить — глаза, очи; щекотливый — вопрос, положение и т. п.). Между этими крайними группами лежит основная масса слов, сочетаемость которых также определенным образом ограничена и подчинена действующим в языке лексическим нормам. Хотя, как верно замечал Л. В. Щерба, сознательное группирование слов свойственно в основном письменной речи, соблюдение норм сочетаемости представляет собой важнейший и необходимый признак литературного словоупотребления.
Во-первых, сочетание слов не должно в принципе противоречить смыслу соединяемых понятий. С точки зрения логики жизни, нормального восприятия действительности нелепы, скажем, такие словосочетания: высоченный домик или маленький домище, радостное мыло или душистое событие. Уместны в контексте художественной литературы, но противоречат усредненным нормам словоупотребления многие окказиональные сочетания и оксюмороны: красный смех (Л. Андреев), седая юность (Герцен), живой труп (Л. Толстой), радостная печаль (Короленко), тоскливая радость (М. Горький), ненавидящая любовь (Шолохов), грустный восторг (Бондарев), конфетная боль (Вс. Иванов) и т. п.
В то же время известно, что связь между словами в языке и предметно-логические отношения в действительности не всегда совпадают. Летучая мышь отнюдь не является мышыо, громоотвод защищает нас не от грома, в трубах парового отопления теперь чаще циркулирует не пар, а горячая вода. Однако подобные нормальные для языка алогизмы, хотя и широко распространены, не являются все-таки общим правилом. Они основываются обычно на языковой привычке или на смысловых смещениях, опрадывающих такое «нелогичное» употребление; ср. выше: солнце садится; косит сено и т. п. В целом же логика сочетания слов следует за логикой жизни (кстати, слово громоотвод все чаще заменяется молниеотводом; ср. в Словаре Ожегова, 1972: громоотвод — прибор, называемый теперь молниеотводом). И это естественно, так как в мышлении (и языке) отражается и воссоздается реальный мир, связи слов в языке как бы накладываются на взаимоотношения вещей и понятий. В языке весьма много внешних аномалий и отступлений от объективной картины внешнего мира, но преувеличивать их роль — значит способствовать отрыву языка от мышления и в конечном счете от соотношения с реальной действительностью.
Вот почему неправильны, нелогичны отмеченные, например, в современной письменной речи сочетания слов. В газетах нередко встречается: родилась новая традиция, завести хорошую традицию. Но ведь слово традиция означает то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих. Традицией можно назвать лишь уже установившийся ранее обычай, но никак не только что совершенное действие (пусть даже самое благодетельное)..Поэтому традицию можно беречь, оберегать, хранить, сохранять, укреплять, поддерживать, ей можно следовать, но традиция не может внезапно родиться и ее нельзя в один прием завести.
В этом случае мы имеем дело с логическим (смысловым) нарушением норм сочетаемости. Слово уровень имеет два значения: 1) горизонтальная линия, являющаяся границей высоты чего-либо; 2) степень развития чего-либо. В обоих случаях уровень может повышаться или понижаться, но никак не увеличиваться или уменьшаться. А корреспонденты пишут: Вскрытие рек, особенно Оби и Енисея ... еще больше увеличило уровень воды в этих реках («Известия», 1966, 18 аир.); Уровень несчастных случаев на фабриках США из года в год увеличивается («Калининская правда», 1960, 2 февр .). Защищать в значении публично отстаивать выдвинутые положения можно проект, дипломную работу, диссертацию, но неправильно выражение: «защищать ученую степень». А такая ошибка встречается даже у писателей: Там все так же председательствует Егоров Филипп Иванович, у оке защитивший кандидатскую степень (Троепольский. Кандидат наук).
Едва ли следует спешить с одобрением и признанием нормой сочетаний выпить тост, поднять тост, возникших по аналогии с сочетаниями выпить бокал, поднять бокал и, действительно, широко распространившихся в устной речи. Однако значение слова тост краткая застольная речь еще достаточно живо в языковом сознании. Современные писатели употребляют слово тост, как правило, в сочетании с глаголами произнести, предложить, провозгласить и т. п.
Часто встречаются подобного рода алогизмы в школьных сочинениях. Например: счастливая година (по данным картотеки Института русского языка слово година употребляется в иных сочетаниях: година бед, испытаний, невзгод и т. п., година — голодная, горькая, грозная, злая, лихая, мрачная, недобрая, нелегкая, несчастная, суровая, траурная, трудная, тяжелая, тяоккая, черная и т. п.); посеять пашню; скакать на гарцующей лошади; его не интересовали жизненные (вместо житейские) мелочи; мизерный достаток; фашистские воины я т. п.
Не менее важно соблюдать те правила сочетания слов, которые основаны не столько иа логической целесообразности соединения данных слов, сколько на устойчивости и воспроизводимости всего оборота. Так, в силу языкового обычая (или, как говорят лингвисты, узуса) можно сказать: страх берет, тоска берет, смех берет, охота берет, но недопустимы сочетания: радость берет или удовольствие берет. Прилагательное неминуемый соединяется только со словами негативного смысла: гибель, смерть, провал и т. п. Выражать можно возмущение, восторг, восхищение, готовность, доверие, желание, изумление, интересы, любовь, мнение, надежду, недоверие, недовольство, недоумение, одобрение, озабоченность, опасение, признательность, протест, радость, симпатию, скорбь, согласие, сожаление, сочувствие, убеждение, уверенность, удивление, удовольствие, чаяния и т. п. Однако синонимичный глагол изъявлять в современном языке сочетается, по существу, лишь с двумя словами: желание и согласие; в XIX в. его сочетаемость была шире: изъявил сожаление (Пушкин), изъявил сомнение (Гончаров) и т. п.
Нарушения норм устойчивых словосочетаний — типичное явление устной речи. В силу автоматизма и недостаточного внимания к традиционным оборотам говорят: уповать, на лаврах (вм. почивать на лаврах), одержать первенство (вм. одержать победу или завоевать первенство), быть в поле внимания (вм. в поле зрения) и т. п. К сожалению, подобные неточности проникают и в письменную речь, даже в периодическую печать. Например: наращивать (вм. повышать) мастерство («Коме, правда», 1973, 22 июля), предпринимать (вм. прилагать) усилия («Правда», 1963, 11 дек.) и т. п.
Нарушения норм словоупотребления часто возникают из-за стилистически несоразмерного, несозвучною соединения слов, хотя с логической стороны связь данных смыслов, как таковых, как будто и не вызывает возражений (этот вопрос был уже отчасти затронут выше). Видимо, подобный стилистический диссонанс и имел в б ду В. Солоухин, когда писал: «Нельзя к цветку в виде дополнения подвесить шуруп. Нельзя к нитке жемчуга на женской шее присоединить в виде подвесок канцелярские скрепки. Нельзя к слову дворец присоединить слово бракосочетаний. Объяснить, почему этого нельзя делать, тоже нельзя. Дело сводится к языковому слуху, ко вкусу, к чувству языка, а в конечном счете к уровню культуры» («Осенние листья»).
Отсутствие необходимого языкового вкуса, умения различать стилистические свойства синонимичных слов приводят к таким, например, «незаконным бракосочетаниям»: воины купаются в реке; возвести свинарник, поведать о новом урожае; думы о пионерском сборе; грядущее курортное лето и т. п.
Впрочем, нормативно-стилистическая оценка сочетаний слов — дело весьма не простое, так как многое здесь зависит не только от значения, стилистической окраски отдельных слов и литературной традиции, но и от конкретных условий речи. Например, недопустимое соединение стилистически контрастных слов (высокое+просто-речиое) становится вполне оправданным в шутливом или ироническом контексте. К тому же прямолинейные суж -_ дения дидактического толка нередко ведут к незаслуженным обвинениям в порче языка. Так, в «Литературной газете» от 18 апреля 1973 г. осуждалось сочетание табун уток. Однако слово табун применяется в русском языке не только по отношению к стаду лошадей или оленей. Писатели (причем такие знатоки природы, как К, Аксаков, Тургенев, Арсеньев, Арамилев и др.) употребляют его значительно шире. Например: Над озером, заросшим травой, носились табуны уток (Арсеньев. По Уссурийскому краю). Во многих выступлениях пуристски настроенных «друзей» русского языка содержатся гневные филиппики по адресу выражений: ужасно ) рада, ужасно весело и т. п. Конечно, эти .сочетания допустимы лишь в разговорной речи, однако ни логического (смыслового), ни стилистического противоречия в них нет. Наречие ужасно здесь утрачивает связь со словами ужас, ужасный и приобретает значение очень, в высшей степени. Ср.: Полина им ужасно обрадовалась (Писемский. Тысяча душ); Н. К. Крупская вспоминает: Ходили несколько раз в Художественный театр. Раз ходили смотреть «Потоп». Ильичу ужасно понравилось. Поэт И. Сельвинский назвал одно из стихотворений «Ужасно хочется чуда...». Не случайно поэтому К. Чуковский в книге «Живой как жизнь» называет такие выражения «невинно осужденными».
Трудности нормативной квалификации словосочетаний значительно возрастают еще и потому, что в языке происходит непрерывный процесс перераспределения связей между словами, вызванный как обстоятельствами самой жизни, так и внутриязыковыми причинами. Многое из того, что было правильно и общепринято в языке XIX в., постепенно устаревает и становится необычным в наши дни. «Фраза из «Капитанской дочки» Все мои братья и сестры умерли во младенчестве никого, конечно, не шокирует, — замечал Л. В. Щерба, — а между тем иикто так не напишет: напишут попросту умерли еще маленькими или, немного в более строгом стиле, умерли в раннем возрасте» (Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 270). «Зачинщиком русской повести» назвал Белинский известного беллетриста А. А. Марлинского (Бестужева), в современном языке слово зачинщик сузило значение и употребляется только в сочетаниях типа: зачинщик ссоры (драки, беспорядков и т. п.). В XIX в. сфера сочетаемости прилагательного черствый была значительно шире, чем теперь. Тогда безвозбранно говорили и писали: черствое мясо (С. Аксаков), черствая курица (Салтыков-Щедрин), черствые волосы (Григорович), черствые руки (Гончаров) и т. п. Сейчас так обычно говорят лишь о хлебе, мучных изделиях или в переносном смысле (черствая душа и т. п.). Сужение круга возможных сочетаний у этого слова уловил еще Чехов. В первом варианте рассказа «Ариадна» было: От скуки покупал черствые груши у старой бабы («Русская мысль», 1895, № 12). При подготовке собрания сочинений Чехов заменил сочетание черствые груши более соответствующим норме: жесткие груши.
Изменение норм сочетаемости слов происходит иа наших глазах. Еще М. Горький и Н. Д. Телешов свободно употребляли: рассадник просвещения, сейчас так говорят только об отрицательных явлениях (рассадник заразы, инфекции, бандитизма и т. п.). Судя по материалам текущей прессы, слово очаг также стало заметно чуждаться соседства со словами цивилизация, культура, просвещение, наука и т. п. Более типичными для нашего Бремени становятся сочетания: очаг пожара (войны, агрессии, колониализма, эпидемии и т. п.). Правда, норма здесь еще окончательно ие определилась, но тенденция к сужению сочетаемости очевидна, что со временем может привести к изменению и значения слова. В последние десятилетия появились тысячи новых словосочетаний, уже узаконенных речевой практикой: конструктивные предложения, комплекс проблем, фундаментальные науки, обрывать телефон, горящая путевка, тянуть резину, кадило пропаганды, девальвация морали, эрозия творчества, микроб пошлости и т. п. Смысловые сдвиги создают совершенно неожиданные соединения слов. Нелепым на первый взгляд кажется сочетание продавать время. В газетном объявлении, однако, говорится: Вычислительный цен?р продает машинное время ЭВМ «Минск-32» («Веч. Ленинград», 12.III.76). Показательно в этом отношении высказывание В. Г. Костомарова: «Любой из нас знает фразу «Маяк» предлагает послушать ленту сегодняшнего дня, которая в недалеком прошлом вызвала бы лишь недоумение» («Русский язык в национальной школе», 1965, № 4, с. 9).
Из сказанного ясно, что нормы сочетаемости слов не могут быть слишком жесткими и тем более раз и навсегда заданными. Они обладают как бы некоторыми допусками. И чем дальше мы отходим от усредненного стандарта обиходно-разговорной или официально-деловой речи в область языкового творчества, тем больше становятся эти допуски норм. Художественная речь открывает почти безграничные возможности соединения «несочетаемых» слов. Причем нередко нарушение общепринятых связей оправдывается идейным замыслом, становится достоинством художественного творчества. Борясь против шаблонов будничной речи, писатель устремляется в поиски новых, далеких и близких метафор, отбирает и комбинирует старые слова и свежие и емкие словосочетания. Так появились у Гоголя именины сердца, эскадроны мух, вьюга вдохновения, у Салтыкова-Щедрина витязи правосудия, рыцари оплеухи, желудочные убеждения, у Есенина ситец неба, костер рябины красной и т. п.
В словаре Ожегова (1972) указывается, что прилагательное дремучий в значении густой, труднопроходимый употребляется в тех случаях, когда говорится о лесе. Это верно с точки зрения общепринятых норм сочетаемости. Писатели же выходят далеко за рамки нормативных предписаний: дремучая степь (Солоухин), дремучие болота (Яшин), дремучая трава (Твардовский), дремучая возвышенность (Леонов), дремучий хребет (Тихонов), дремучая пшеница (Казакевич), дремучие сады (Берггольц), дремучий ветер (Сельвинский), дремучие дожди (Кушнер). Нередко это слово писатели применяют к облику человека: дремучая борода (М. Горький, А. Н. Толстой, Сергеев-Ценский), дремучие волосы (Шолохов, Сергеев-Ценский),
дремучие глаза (Лидин). Кроме этого, в художественной литературе зафиксированы сочетания прилагательного дремучий со словами дед, старик, старуха, мужик, буквоед, формалист, дурак, глупость, невежество, невежда, память, душа, тоска, жизнь, уединение, дикость, пьянство, провинция, патриархальность и др.
Поистине необрзримые возможности соединения слов обнаруживаются при изучении эпитетов художественной речи. В русской литературе XIX — XX вв., например, при слове тишина встретилось около двухсот эпитетов: бездонная, беззвучная, беспробудная, вязкая, глубокая, глухая, гробовая, мертвая, могильная, немая, нерушимая, плотная, пустозвучная, сонная, стеклянная, стоячая, хрустальная, чуткая и мн. др. Среди них есть редкие, неожиданные эпитеты, представленные одним-двумя примерами: тишина — зеркальная (А. Н. Толстой), гордая (М. Кольцов), панихидная (Вишневский), золотая (Т. Тэсс), голубая (А. Грин), свинцовая (Дудин), стылая (Бондарев), липкая (Костерин) и т. п. А вот список лишь редких, индивидуально-авторских эпитетов к слову голос: безусый (Шагинян), белый (М. Горький), вешний (Брюсов), волнообразный (Скиталец), волосяной (Катаев), выцветший (Мамин-Сибиряк), вязкий (Шолохов), замшелый (Леонов), мазутный (Шолохов), матовый (Бунин), обветренный (Шолохов), прозрачный (Маршак), серый (М. Горький), утренний (Блок). Не менее богато эпитетами слово улыбка, среди них только окказиональные, встретившиеся по одному разу: гипсовая (Федин), домашняя (Ковалевский), замерзшая (Шолохов), заревая (Сельвинский), крылатая (Жаров), ломкая (Б. Полевой), лошадиная (Березко), лунатическая (Катаев), мерзлая (Бондарев), министерская (Твардовский), отчаянная (Кнорре), парламентская (Л. Успенский), резиновая (Бондарев), увилистая (Вересаев), уютная (Ковалевский).
Известно, что наиболее устойчивые связи между словами характерны для фразеологических выражений. Регулярная воспроизводимость традиционных словосочетаний с общим смыслом, не вытекающим из буквального значения составляющих их слов, — основной признак идиоматики языка. Деформация устойчивого фразеологического оборота ведет к нарушению норм словоупотребления. Речевые ошибки этого, рода: встречаются не только в устной, но и в письменной речи: львиная часть (вм. львиная доля), играть главную скрипку (вм. первую скрипку), пока суть да дело (вм. пока суд да дело), факир на час (вм. калиф на час), мороз по коже продирает (вм. подирает) и т. п. В газете «Сов. спорт» (1972, 16 июля) говорится: ахиллесова рана (вм. пята), в газете «Известия» (1964, 30 авг.) — пребывать в состоянии риз (вм. напиться до положения риз), у поэта Л. Конды-рева в стихотворении «Море» сказано: Вселенной недремное око (вм. недреманное), у писателя Г. Горышина в повести «Запонь» встретился сомнительный оборот: работает как волк (вм. как вол).
Однако устойчивость связи между словами, весьма характерная для фразеологии в целом, также является относительной применительно к отдельным, конкретным идиомам. Нормативной практике следует учитывать возможность исторической трансформации некоторых фразеологизмов. Например, наряду с традиционными оборотами дешевле пареной репы, сбросить со счетов широко употребляются варианты (проще пареной репы, сбросить со счета), браковать которые было бы неосмотрительным. Кроме того, в художественной речи нередко наблюдается намеренное и мотивированное контекстом обновление фразеологических выражений, сознательное наполнение их новым смыслом. Смелое преобразование русской идиоматики было особенно характерно для творчества Салтыкова-Щедрина, Чехова, Маяковского. Например, у Чехова фразеологизм бежать во все лопатки принимает такие неожиданные вариации: люби во все лопатки, целуй во все лопатки, браня во все лопатки, дождь порет во все лопатки, занимала нам во все лопатки деньги, пишите во все лопатки, стараться во все лопатки, а фразеологическое выражение кричать во всю ивановскую встречается в шутливых письмах писателя в не менее необычной форме: солнце блестит во всю ивановскую, луна светит во всю ивановскую, лупит во всю ивановскую дождь, хлопочем во всю ивановскую, во всю ивановскую трачу те деньги, которые получил за своего «Иванова» и т. п.
Естественно, что авторское преобразование устойчивых словосочетаний должно быть стилистически оправданным, соразмерным и сообразным контексту художественной речи. Искушение же выразиться оригинально и погоня за ложной экзотикой может привести и к печальным последствиям, подобным тем, к каким приводит неумеренная и избыточная метафоризация словоупотребления.
О ПОДЛИННОЙ И МНИМОЙ ТАВТОЛОГИИ
Во многих пособиях и справочниках по культуре речи справедливо порицается употребление тавтологических сочетаний: моя автобиография, коренной абориген, мемориальный памятник, мемориал памяти, сегодняшний день, первый пионер, смелый риск, житница зерна, броский эффект, маршрут движения и т. п. В этих сочетаниях определение или зависимое слово повторяет признак, уже содержащийся в главном слове. Подобные выражения не соответствуют нормам литературного словоупотребления, их следует избегать в речевой практике. Только недосмотром можно объяснить появление в печати таких, например, тавтологических сочетаний: главная суть («Лит. газ.», 1965, 29 февр.), преднамеренная провокация («Известия», 1965, 21 февр.), первое боевое крещение («Сов. педагог», 1966, 2 сент.), сильнейшие асы («Коме, правда», 1967, 6 апр.) и т. п. Очень распространено в сочинениях учащихся и абитуриентов тавтологическое выражение гуманность и человечность, хотя само слово гуманность и означает человечность, любовь к людям.
Однако нередко случается так, что прежде тавтологические, избыточные словосочетания перестают быть таковыми. Происходит это или в результате забвения буквального, исходного смысла слов, или в связи с изменением их значений, или по другим причинам. Например, критике со стороны пуристски настроенных ревнителей чистоты языка подвергалось выражение монументальный памятник. Действительно, если иметь в виду только прямое, исходное значение прилагательного монументальный (относящийся к монументу; являющийся монументом; например монументальное искусство), то выражение монументальный памятник может быть оценено как избыточное, тавтологическое. Однако еще в XIX в. па базе прямого значения прилагательного развилось переносное: монументальный — поражающий своими размерами, величественностью; грандиозный. Употребленное в этом значении (а на практике так чаше всего и бывает ) прилагательное монументальный в соединении со словом памятник не создает тавтологии. Немало случаев, когда определение, на первый взгляд тавтологическое, в действительности уточняет, конкретизирует обозначаемое понятие. Словосочетания подобного типа (реальная действительность, практический опыт, информационное сообщение и др.) не являются избыточными и не противоречат нормам современного словоупотребления. Ср. у писателей: Мастеровые вносили в конструкцию самолетов немало изменений, подсказанных практическим опытом (Саянов. Небо и земля); Эти люди накапливают громадный практический опыт (Тендряков. Среди лесов).
Призером перехода тавтологического сочетания в разряд сочетаний, допускаемых нормами современного словоупотребления, может служить история выражения свободная вакансия. Первоначально слово вакансия (от франц. vacance — свободное место) означало свободная, незамещенная должность. Впоследствии оно стало употребляться и в значении «должность вообще». Ср., например: Мои товарищи теперь еще ничто, а я на в а-канции полкового командира (Л. Толстой. Война и мир); Скверно только быть дьяконом в плохом приходе, да еще на дьячковской вакансии, с шестью душами детей и с больной женой (Потапенко. Шестеро). Это смещение значения, естественно, потребовало присоединения уточняющего определения. Выражение свободная вакансия стало употребляться выдающимися мастерами слова. Например: Приятно было сознавать, что, предложив Бременскому свободную вакансию, он поступил справедливо и по совести (Чехов. Дамы); Иногда знакомые, встречаясь... сообщают о свободных вакансиях на хороших судах (Новиков-Прибой. Море зовет); Должен вас предупредить, что свободных вакансий у нас нет (Ильф и Петров. Светлая личность). Постепенное забвение первоначального значения слова вакансия привело к появлению устойчивого (и всем понятного) сочетания свободная вакансия, уже практически не воспринимаемого как тавтологическое. Примечательно, что фраза: На медфаке нет ни одной свобод- ной вакансии — дается в качестве примера (т. е. нормативного речения!) еще в Словаре Ушакова. Все это приводит к выводу о том, что, хотя традиционное выражение есть вакансия является и более правильным с нормативной точки зрения, появившееся еще в XIX в. сочетание свободная вакансия сейчас уже вряд ли можно считать речевой ошибкой.
При нормативной оценке тавтологических сочетаний не следует упускать из виду, что многие из них служат стилистическим целям, являются одним из способов усиления признака, целенаправленной характеристики предмета высказывания. Не случайно поэтому соединение синонимов (или, как говорят специалисты, амплификация) и некоторые тавтологические сочетания имеют общую психологическую основу — задержку и концентрацию внимания на важном представлении путем повторения одних и тех же или родственных сигналов. «Мы, — замечал еще выдающийся русский ученый А. А. Потеб-ня, — чтобы выразить лучше нашу мысль, нагромождаем слова, которые значат приблизительно одно и то же» (Из лекций по теории словесности. Харьков, 1894, с. 47). В устном народном творчестве, в классической и современной литературе встречается много сочетаний слов, которые в той или иной степени повторяют (усиливают) основной признак выражаемого понятия. Но ведь никто не станет браковать такие, например, широко употребительные выражения, как истинная правда, всякая всячина, слыхом не слыхивать, сиднем сидеть, криком кричать, вокруг да около и т.п ., хотя они, в сущности, являются тавтологическими. Ср.: Это правда, истинная правдаI (Лермонтов. Бэла); Тебе от этой войны разор один. — А что, разве не разор? Истинная правда, — разноголосо загудели мужики (Г. Марков. Строговы).
Очевидно, что нормализация словоупотребления, наиболее тесно связанного с материальной и духовной жизнью общества, представляет собой задачу особой трудности. Динамичный темп современной жизни делает непрерывным и все более убыстряющимся процесс нарождения новых слов, появления новых значений (не случайно теперь планируется регулярный выпуск бюллетеней неологизмов). Думается, что в будущем следует ожидать еще более стремительного вхождения в литературный язык профессиональной лексики, значительною прироста рациональных аббревиатур и экономичных сложносоставных слов. В этом океане слов, где причудливо совмещается старое и новое, где соседствуют и переплетаются элементы разных стилей и жанров, где удачные, перспективные новообразования сосуществуют рядом с недолговечным словесным мусором, трудно плыть без надежного компаса. И конечно, лучшими путеводителями для учителя русского языка служат современные словари: толковые, фразеологические, синонимические, словари трудностей, словари паронимов и другие справочники нормативного характера.
В языке идет вечная борьба между его информационной и экспрессивной функциями, т. е. между стремлением к точности и недвусмысленности наименования, и тягой к расширительному и нетривиальному применению слов. Понятие правильности словоупотребления не является постоянным и абстрактным свойством. Как уже указывалось выше, оно слагается из суммы признаков: распространенность и регулярная воспроизводимость данного значения слова, соответствие его общему психолингвистическому механизму семантического развития, созвучность традиционным и. культурно-историческим факторам. При одобрении или осуждении какого-либо слова или словосочетания следует не упускать из виду того, что в области лексики с наибольшей силой проявляется воздействие речевой ситуации, именно здесь чаще всего происходит резкая переоценка нормативных и стилистических качеств слова в зависимости от условий конкретного контекста. На особом положении, разумеется, находится художественная литература, где неожиданная метафоризация и нарочитая раскованность словоупотребления часто служит изобразительно-характеризую-щим целям.
Широкий доступ в общенародный обиход многих производственных и научных терминов, возникновение на их основе новых метафор и фразеологических выражений — свидетельство роста и обогащения русского литературного языка. Но любым богатством нужно пользоваться умело и нерасточительно. Утрата чувства соразмерности и сообразности при сочетании слов ведет к проявлению дурного вкуса и нарушениям лексических норм. Злоупотребление научной и профессиональной лексикой, броскими эффектными словосочетаниями не украшает и не упрощает нашу речь. Чем выше уровень общей культуры, тем меньше претёнзий на оригинальность. Простота и скромность — вот непреходящие черты истинно культурной речи, черты, которые усиливаются вместе с ростом общественного сознания. Не случайно, говоря о временном характере условного ученого языка, А. И. Герцен в «Былом и думах» мудро заметил: «По мере того, как мы из учеников переходим к действительному знанию, стропила и подмостки становятся противны, — мы ищем простоты».
Дополнительная литература
Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., Учпедгиз, 1957.
Брагииа А. А. Неологизмы в русском языке. М., «Просвещение», 1973.
3емская Е. А Как делаются слова. М., Изд-во АН СССР, 1963.
Ильинская И. С. О богатстве русского языка. М. Изд-во АН СССР, 1963.
Калинин А. В. Лексика русского языка. Изд-во МГУ, 1971.
Лопатин В. В. Рождение слова. М., «Наука», 1973.
Люстрова 3. Н., Скворцов Л. И., Дерягиц В. Я. Беседы о русском слове. М., «Знание», 1976.
Максимов В. И. Точность и выразительность слова. Л., 1968.
Откупщиков Ю. В, К истокам слова. М., «Просвещение», 1973.
Нротченко И. Ф. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи. М., «Наука», 1975.
Скворцов Л. И. Культура речи и лексическая идиосинкразия. — «Русская речь», 1967, № 1.
Сороколетов Ф. П., Федоров А. И. Правильность и выразительность устной речи. Л., 1963.
Тимофеев Б. Правильно ли мы говорим? Л., 1971.
Филин Ф. П. Когда и как переводить на русский? — • «Лит. газ.» 1974, , 17 аир.
Шанский Н. М. В мире слов. М., «Просвещение», 1971.
Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. М., «Просвещение», 1972.
Шмелев Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка. М., «Просвещение»( 1964,
Глава четвертая
НОРМЫ УДАРЕНИЯ
Сложность и прихотливость русского ударения широко известны. Пожалуй, ни одна другая область русского языка не вызывает сейчас столько ожесточенных споров, недоумений и колебаний. Все хотят знать, как же все-таки правильно, петля или петля, творог или творог, индустрия или индустрйя, родйлся или родился? Находясь в добросовестном заблуждении, некоторые наивно полагают, что языковеды особым декретом могут (и даже должны!) «искоренить» колебания в ударении, установить раз и навсегда единые и незыблемые правила. Многие сетуют на то, что современные поэты расшатывают общелитературную норму, допуская в стихах, иногда даже в одной и той же строфе, акцентологические дублеты. Например:
. Мы с утра занимаем окоп.
Кочку каждую оберегая...
Я далёко, и ты далек...
Что ты скажешь, моя дорогая?
(Светлов. Двадцать восемь.)
Правильная постановка ударения является необходимым признаком культурной, грамотной речи. Есть немало слов, произношение которых служит как бы лакмусовой бумажкой уровня речевой культуры. Часто достаточно услышать от незнакомого человека неправильное ударение в слове (вроде: молодежь, магазин, изобретение, новорбжденный, инструмент, документ, процент, коклюш, свеклй, атлет, корысть, доцент, портфель, соболезнование, переведены, перевезены, облегчит, людям и т. п.), чтобы составить не слишком лестное мнение о его образовании, степени общей культуры, так сказать, уровне интеллигентности. Поэтому нет необходимости доказывать, как важно помочь овладеть правильным ударением в школе. Между тем нельзя сказать, что в этом отношении в нашей преподавательской практике все благополучно. Выпускники средних школ на устных экзаменах при приеме в вузы нередко допускают грубые ошибки в постановке ударения, обнаруживают полную неосведомленность в вопросе о нормах русского литературного ударения.
Хотя еще в IV в. известный филолог Диомед назвал ударение «душою речи», на него долгое время смотрели как на малосущественный объект науки о языке. Не случайно поэтому Я. К. Грот в 1876 г. замечал: «Известно, что одну из наименее обработанных частей теории русского языка составляют правила ударения» (Филологические разыскания, т. I. Спб., 1876, с. 317). Примечательно, что еще в 1927 г. Д. Н. Ушаков на вопрос, существуют ли законы правильной постановки ударения, ответил, что «установленных правил ударения нет». Действительно, нормализация русского ударения долгое время оставалась запущенным участком. Но в последние десятилетия появились серьезные теоретические исследования в области исторической и современной акцентологии (например, работы Р. И. Аванесова, В. В. Колесова, В. Л. Воронцовой, В. А. Редькина и др.), благодаря чему «капризы» в развитии ударения получили научное объяснение. Издано немало словарей и справочников, регламентирующих современное русское ударение. Однако еще не все в этой области оказалось достаточно разработанным. Оценка спорных фактов устной речи по-прежнему нередко осуществляется кустарным способом, на основе субъективного, и часто обманчивого, восприятия, без учета основных тенденций в развитии ударения. Многие продуктивные новообразования незаслуженно осуждаются, объявляются речевыми ошибками, а функциональные различия сосуществующих акцентных вариантов остаются неизвестными или не принимаются во внимание.
ОСОБЕННОСТИ УДАРЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучение и нормализация русского ударения наталкиваются на ряд объективных трудностей. Во-первых, силовое ударение в русском языке не просто акустико-физиологическое явление, оно выполняет несколько важных функций: выделяет слово в потоке речи и способствует его узнаванию (служит как бы «фонетическим паспортом»), играет роль важного смыслоразличительного средства и, наконец, участвует в ритмической организации не только поэтической, но и прозаической речи. Во-вторых, русское ударение отличается разноместностью и подвижностью (на это обычно жалуются иностранцы, изучающие наш язык). Действительно, в русском языке ударение может падать и на приставку (вырезать), и на корень (резать), и на окончание (вырезной); при словоизменении оно свободно переходит с одного слога на другой (земля, землю) и даже выходит за пределы орфографического слова (на землю).
Однако если разноместность и подвижность русского ударения и создают некоторые трудности при его усвоении, то зато эти неудобства полностью искупаются возможностью различать с помощью места ударения смысл слов (мука — мукй, трусит — трусйт, погруженный на платформу — погружённый в воду) и даже функционально-стилистическую закрепленность акцентных вариантов (лаврбвый лист, но в ботанике: семейство лавровых). Особенно важной в этом плане представляется роль ударения как способа выражения грамматических значений и преодоления омонимии словоформ. Ср.: анализ крбви (родительный падеж) — в крови (предложный падеж); руки не подаст (родительный падеж) — чистые руки (именительный падеж множественного числа); обрезать (совершенный вид) — обрезать (несовершенный вид); грузите (изъявительное наклонение) — грузйте (повелительное наклонение); пальто малб (краткая форма прилагательного) — спал мало (наречие); кругом (творительный падеж существительного круг) — кругом (наречие и предлог); молча (наречие) — молча (деепричастие); стоять вольно (наречие, обстоятельство) — вольнб ему было уезжать (категория состояния, сказуемое); мудрёно говорит (наречие, обстоятельство) — мудрено в этом разобраться (категория состояния, сказуемое).
Таким образом, разноместность и подвижность русского ударения не только устраняют монотонность речи, способствуя ее ритмической организованности, но и являются важным различительным (как говорят лингвисты, фонологическим) средством. Для соблюдения литературной нормы эти свойства ударения обычно не доставляют значительных хлопот человеку, усвоившему русский язык с детства.
Иное дело — акцентные варианты, которые, как правило, не различаются ни в лексическом, ни в грамматическом значении. Например: мышление — мышление, баржа — баржа, родйлся — родился, залитый — залйтый, верны — верны, в йзбу — в избу, на мост — на мост и т. п.
В некоторых лингвистических работах встречаются утверждения, что таких равноценных (и как будто избыточных) акцентологических дублетов сравнительно немного. Это неверно. В современном русском языке имеется более 5000 общеупотребительных слов, у которых зафиксировано колебание в ударении.
На первый взгляд наличие акцентных вариантов представляется несовершенством языка, злом, с которым, как многие считают, языковеды пока еще недостаточно активно борются. Однако такая оценка ошибочна и несправедлива. Колебания в ударении — это хотя и временный, но неизбежный этап развития языка, объективное следствие эволюции акцентологической системы. Более того, если посмотреть на это явление непредубежденно, учитывая необходимость сохранности устных речевых навыков и медленное привыкание к новообразованиям, то вариативность ударения заключает в себе даже некоторую пользу. Она обеспечивает менее резкий и болезненный переход от старой нормы к новой. Например, ударение кладбйще было общепринятым в литературном языке XIX в. (Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Никитин, Фет, А. К. Толстой и др.). Новый вариант (кладбище) стал постепенно входить в употребление в конце XIX в., но еще в Словаре Академии (1909) предпочтительным считалось ударение кладбйще. Этот устарелый вариант и сейчас еще нередко используется в поэзии (Маршак, Заболоцкий, Твардовский, Исаковский, Саянов, Симонов, Сурков, Смеляков, Ваншенкин, Жаров, Грибачев, Дудин, Шефнер, Берггольц) в версифика-ционных целях, преимущественно в рифме со словами:-пепелище, топорище, ручище, взыщет, отыщет и т. п. Временное сосуществование обоих вариантов, таким образом, содействовало плавному преобразованию литературной нормы.
Помимо этого, многие вариантные пары представляются равноценными лишь при поверхностном рассмотрении. В действительности же они имеют тонкие, но весьма существенные функциональные различия и поэтому служат обогащению стилистических ресурсов литературного языка.
Следует, наконец, иметь в виду и то, что, хотя развитие ударения представляет собой сложный и далеко не прямолинейный процесс, все же здесь возможно установить регулярные тенденции и достаточно отчетливые закономерности, что в известной мере облегчает освоение этого «трудного участка» нормализации русского литературного языка.
ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И КОЛЕБАНИЯ УДАРЕНИЯ
В русском литературном языке нет универсальной причины изменения ударения. В сложном и неустойчивом состоянии современного ударения обнаруживаются и отголоски распавшейся древней акцентологической системы, во многом зависевшей от интонационной и фонетической характеристики гласных звуков, и следы конкуренции книжной церковнославянской риторики и исконно русской народной стихии. Картина современного ударения значительно осложняется вследствие взаимовлияния территориальных и социально-профессиональных диалектов, а также воздействия иноязычной среды и многоконтактности при заимствовании. Хотя над проблемой причинности развития ударения ломали голову выдающиеся языковеды прошлого и настоящеУо, еще далеко не все факты получили однозначное объяснение.
До сих пор некоторые исследователи преувеличивают роль диалектного влияния на современное литературное ударение. Бесспорно, что диалектные расхождения были весьма существенны для периода становления акцентологических норм русского языка (XVIII — XIX вв.), а также для создания общих предпосылок в развитии ударения. Известно, например, что русское литературное ударение первоначально складывалось на северной диалектной основе, но впоследствии испытало мощное воздействие со стороны южнорусских говоров, вытеснивших многие старые акценты. Однако в связи с общим процессом нивелировки территориальных диалектов их роль в развитии общелитературных акцентологических норм
постепенно ослабевала и сейчас уже не может считаться главной причиной изменения ударения. Влияние диалектов на современные нормы результативно, по существу, лишь тогда, когда оно совпадает с внутренними устремлениями литературного языка. Проведенные Институтом русского языка АН СССР социолингвистические исследования показали, что территориальное распределение акцентных вариантов среди носителей современного языка в целом незначительно; наибольшее расхождение между Украиной и Севером составило 12,5% (Русский язык по данным массового обследования. М., 1974).
Разумеется, из этого не следует делать вывод, что в литературном, языке теперь уже вовсе не встречаются территориально ограниченные акцентные варианты. Упорно, на пример, конкурирует с общелитературным ударением кёта выходец с Дальнего Востока — вариант кета. Встречаются диалектные ударения и в современной поэзии, например южновеликорусские: вьюгй (Блок. Двенадцать; Л. Васильев. Голосом лучшего друга...), верба (Кондырев. Прилет грачей). Когда мы слышим в арии Томского в «Пиковой даме» необычное ударение девочкам, то не следует упускать из виду, что здесь вовсе не поэтическая вольность. В либретто оперы включено стихотворение Г. Р. Державина «Шуточное желание». Он же, как известно, унаследовал некоторые черты северных говоров, где до сих пор встречается это несвойственное литературному языку удареиие. Немало диалектных по происхождению ударений представлено в современной ненормированной речи: случай, ремень, повернешь, родится, брала, весело и т. п. Не следует при этом смешивать диалектные варианты с устарелыми. У некоторых поэтов нашего времени, например, еще встречается ударение засуха:
До отдаленного чуткого слуха
Вдруг долетела людская молва,
Будто под Курском все лето засуха,
Жухнут хлеба и желтеет трава.
(Боков. Тихая туча.)
Но сравнительно недавно (в Словаре Академии, 1903) засуха признавалось равноценным вариантом по отношению к новому ударению засуха. Ударение засуха еще было свойственно для поэзии первых десятилетий XX в.
(Есенин, Маяковский, Садофьев). Раньше же, в XVIII — первой половине XIX в., устарелое для нас ударение засуха и было нормой. Об этом свидетельствуют словари того времени, с таким ударением употребляли это слово Пушкин (...как поля, мы страждем от з асу хи), Крылов, Огарев, Некрасов и др.
Иногда утверждают, что колебание ударения вызывается недостаточным знанием самого слова и поэтому якобы наблюдается преимущественно среди малоизвестной, экзотической лексики. Действительно, у таких слов (например, локализмов) встречаются акцентные варианты: пимы (Симонов) — пймы (Авраменко). Однако, конечно, не это свойство отдельных слов, как и не влияние инородческой среды, служит основной причиной-акцентологического разнобоя в литературном языке.
В большей мере правы те исследователи, которые видят причины колебаний ударения в многоконтактно с т и при процессе заимствования слов и попеременном воздействии иноязычных акцентологических моделей. Действительно, появление вариантности нередко определяется особенностями ударения в языке-источнике или языке-посреднике. Например, в Словаре Ушакова равноправными признаются варианты револьвер и револьвер (в более поздних словарях норма только револьвер). Вариантность ударения возникла здесь вследствие того, что это слово возводили к разным языкам-источникам (французскому или английскому). Слово алкоголь было заимствовано в XVIII в. из немецкого языка и сначала произносилось с ударением на первом слогё: алкоголь (с таким ударением оно приведено в Словаре Академии Российской).
Впоследствии под влиянием модного французского языка акцент сместился на последний слог: алкоголь (вариант алкоголь перестал соответствовать общелитературной норме, он встречается в профессиональной речи медиков). Хотя взаимодействие между языком-источником и языком-посредником (например, польским) сказалось на судьбе многих слов, имевших колебание в ударении (документ, кафедра, ерётйк, климат и др.), сейчас уже и этот фактор не может считаться решающим. Новые колебания (профйт — профит, рефери. — рефери), возникающие из-за ложного любительского этимологизирования, естественно, также не влияют на общий ход развития Акцентологической системы современного русского языка.
До недавнего времени при характеристике колебаний русского ударения упор часто делался на наличие социально-профессиональных расхожедний. Некоторые языковеды и сейчас продолжают считать их чуть ли не глав-, ной причиной акцентологических сдвигов. Хотя в профессиональной речи, действительно, часто зарождаются живые и продуктивные тенденции (например, новые ударения ветровой, текстовой, фреза и т. п. были свойственны вначале социально ограниченному кругу лиц), нет оснований преувеличивать их значение. Дело в том, что со-циально-профессиона-яьная закрепленность сама по себе не является генетической причиной особенностей ударения. Вовсе не горняки Донбасса придумали форму до-быча, "а военные моряки — ударение компас. В первом случае, перед нами осколок старины — ударение, обусловленное аналогическим воздействием древних интонаций у приставочных глаголов. В прошлом ударение добыча не было социально ограничено. Эту форму без всякой стилизации употребляли поэты XVIII в.: Сумароков, Херасков, В. Майков и др.; она характерна еще для Крылова (Ягненка видит он, на дббычу стремится). Вариант компас также не изобретение моряков. Именно такая форма и соответствовала ударению в языке-источнике (итальянское — compasso).
Таким образом, установление социально-профессиональных особенностей ударения еще не объясняет причин их появления и не может служить ориентиром для определения путей развития ударения. Кроме того, мобильность современного общества и взаимопроникновение профессий и профессиональных наречий все более расшатывают в прошлом более прочную социальную закрепленность акцентных вариантов. Давно забыто церковное произношение (цена, терпйт, защитит и т. п.) и особенности семинарской речи (пед&гог, множественное число, катйстрофа и т, п.). Сейчас уже нет оснований для сословного разграничения акцентных вариантов, как это наблюдалось в XIX в. Например, аристократическое — принцйп (принсйп) и у разночинцев — принцип. Ср. у Тургенева: — Мы полагаем, что без принсйпов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер. Аркадий, напротив, произносил прЫнцип», налегая на первый слог), без принсИпов... тагу ступить, дохнуть нельзя («Отцы и дети»).
Отсутствие жестких социально-профессиональных ограничений в употреблении акцентных вариантов со всей очевидностью доказывается данными социолингвистиче-ского исследования (Русский язык по данным массового обследования. М., 1974). В результате опроса выяснилось, что расхождение между рабочими и служащими в выборе ударений практически ничтожно — менее 3%, да и самое значительное различие (между рабочими и писателями) не превышает в среднем 9%.
Перечень общеупотребительных слов, сохраняющих строго ограниченные варианты в ударении, сравнительно невелик. Не случайно в научно-популярных работах приводятся, как правило, одни и те же банальные примеры: агония (у медиков), атомный (у физиков), искра (у шоферов), комплекс (у математиков), рапбрт (у моряков), шасси (у летчиков) и т. п. Итак, при всей важности рассмотрения акцентных вариантов с точки зрения их "социально-профессиональных различий эти свойства ударения также не являются решающими в развитии и становлении акцентологических норм современного русского языка.
Нередко можно услышать упреки по адресу современных поэтов. Существует (даже среди лингвистов-профес-сионалов) ходячее мнение о том, что многие поэты небрежно относятся к языковым нормам, изменяют ударение в угоду рифме. Полагают, что эти отступления, так называемые поэтические вольности, затем воспринимаются молодежью как образцы художественной речи и, таким образом, ведут к порче литературного языка. Конечно, и у хороших стихотворцев встречаются неоправданные и досадные промахи, например: новорожденный (Мартынов), багрянец (Гатов), с кувшином (Кон дыр ев) и т. п. Однако в большинстве случаев поэзия на поверку оказывается невиновной в расшатывании норм ударения. Например, один литературовед незаслуженно обвинял Б. Пастернака в недозволенной поэтической вольности, усматривая ее в употреблении слова гондола с ударением на первом слоге. Однако ударение гондола является как раз исконным, отражающим итальянское произношение. Оно должно быть квалифицировано как устарелое, но не ошибочное или произвольное. Б. Пастернак как раз обдуманно применилэтот старый вариант в целях стилизации (кстати, ударение гондола встречается также в стихах Вяземского, Бальмонта, Брюсова и др.).
Так называемые поэтические вольности в ударении чаще всего представляют собой либо отражение старых или диалектных (социально-профессиональных) акцентов, либо являются смелым утверждением продуктивных, но еще не принятых обществом языковых новообразований. О тесной связи системы стихосложения и народной речи, о прямой зависимости метрики стиха от ритмической организации национального языка и поэтому мнимой причастности поэтов к порче литературного ударения писали выдающиеся русские языковеды и литературоведы: В. И. Чернышев, Л. А. Булаховский, Б. В. Тома-шевакий, Н. С. Поспелов, Л. И. Тимофеев и др.
Вот некоторые из таких высказываний. «Никак нельзя думать, что поэты допускают ради размера ударения, какие придется, лишь бы построить стих. Правда, у нас в школе и обществе живет еще это устарелое и совершенно неосновательное мнение; но для лиц, знакомых с поэзией и языком, все дело объясняется вполне естественно: в стихах поэта есть только то, что есть в языке его народа» (Чернышев В. И. Русское ударение. Спб., 1912, с. 42). «Особых замечаний требует один широко распространенный предрассудок. Многие думают, будто поэты по требованию ритма разрешают себе вольное обращение с ударением, доходящее иногда до искажений. На самом деле ни один культурный поэт никогда не позволял себе и не позволяет колебаний больших, чем те, которые реально существуют в литературном употреблении его времени» (Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка, т. I. изд. 5-е. Киев, 1952, с. 22). В качестве примера мнимой поэтической вольности Л. А. Булаховский приводит произношение слова музйка у Пушкина: Музыка будет полковая!.. Музйки грохот, свеч блистанье... («Евгений Онегин»). Кстати, в «Моцарте и Сальери» ударение музыка повторено несколько раз. Однако именно ударение музыка, отражавшее, видимо французское влияние, было нормой русского литературного языка того времени. У современных же поэтов этот устарелый вариант используется при исторической стилизации:
На неприступный Измаил
Ведя полки под вражьи клики,
Он барабанный бой ценил
Превыше всяческой музыки.
(Симонов. Суворов.)
При выяснении причин изменения и колебания ударения нет оснований вовсе сбрасывать со счетов воздействие перечисленных факторов (территориальные и социальные диалекты, межъязыковые контакты и пр.). Нужно, однако, помнить, что основными двигателями акцентологического развития в современном языке являются причины внутреннего характера. К ним в первую очередь относится влияние формальной аналогии, в конечном счете способствующей уподоблению слов по месту ударения и, следовательно, упрощению языковой системы. Существенную роль в образовании вариантов ударения играет противоборство между разнонаправленными устремлениями языка: ассоциациями по смежности и по сходству. Немалое значение имеет и тенденция к расподоблению грамматических форм и увеличению различительной роли словесного ударения.
Влияние формальной аналогии особенно очевидно при перестройке ударения «внутри» слова, т, е. между отдельными формами слова. В современном языке заметно, например, стремление к выравниванию ударения у кратких форм страдательных причастий. Традиционная норма обособляет ударение в форме женского рода: продан, продано, проданы, но продана; взят, взято, взяты, но взята; склонен, склонно, склонны, но склонна. Автоматизм живого говорения, напротив, как бы подстраивает форму женского рода к остальным, освобождает ее от излишнего различительного признака (она отличается от других уже своим фонетическим составом).
Поэтому современные словари (например, «Трудности словоупотребления», 1973) допускают уже ударения продана, взята, склонна, правда, пока на правах сниженных вариантов литературной нормы. При анкетировании в ЛГУ, проведенном В. В. Колесовым в 1967 г., выяснилось, что студенты решительно предпочитают ударение склонна (206 ответов), а не склонна (15 ответов). Ударение на корне, а не на флексии ставят нередко и современные поэты:
И это — дело прошлое,
И эта крепость взЯта.
— А все-таки мы дошлые,
Упорные ребята.
(Лебедев-Кумач. В доме отдыха.)
Три дня назад Самара взята.
Marchez!
В сраженье, демократы.
(П. Васильев. Прииц Фома.)
Процесс унификации захватывает постепенно и формы женского рода у некоторых прилагательных. Думается, что чересчур строгие предписания (в Словаре ударений, 1970.: только жестока) в данном случае не соответ-вуют акцентологической тенденции и едва ли помогут удержать традиционную норму.
Для современного русского ударения весьма характерна борьба между ассоциациями по смежности (стремление ударения сохранить словообразовательную зависимость, например: старое вихриться от вихрь) и ассоциациями по сходству (стремление ударения уподобляться более общему структурно однотипному разряду слов, например: вихрйться по аналогии с кружйться, вйться, носиться, змеиться и т. п.). Важно при этом.учитывать, что победителем в этом соперничестве все чаще выходят формы, следующие за прогрессивными ассоциациями по сходству, которые постепенно преодолевают консервативные по своей природе словообразовательные связи. Пользуясь грубым сравнением, можно сказать, что ударение в производных словах постепенно расстается с генетическими характеристиками (полученными по родству, от производящего слова), подобно тому как дети теряют некоторые наследственные признаки, все более приспосабливаясь к влиянию внешней среды.
Конечно, сказанное не является непреложным законом, действующим с фатальной неизбежностью. Отход ударения от словообразовательной зависимости — это скорее закономерность, широкая, но не универсальная тенденция. Как физики не могут предсказать поведение отдельного атома, а социологи — развитие, судьбу от-дельного индивидуума, так и лингвисты не способны с абсолютной достоверностью предугадать акцентологическое изменение конкретного слова, Згаже зная причины возникающих колебаний. Потеря словообразовательной -зависимости ударения характерна, например, для многих производных прилагательных: роскошный, тигровый, тормозной и т. п.; прежде они имели ударение на первом слоге: роскошный (от роскошь), тйгровый (от тигр), тбрмозный (от тормоз). Уже в XIX в. начал складываться четкий акцентологический стереотип у существительных на -йтель: мыслитель, избавйтель, утешитель и т. п. В XVIII — начале XIX в. эти слова имели еще акценты, соответствующие производящей основе: мыслитель (от мыслить), избавитель (от избавить), утешитель (от утешить). Например:
Мы знаем: роскоши пустой.
Почтенный мыслитель не ищет..;
(Пушкин. К Дельвигу.)
Менее последовательно происходит отрыв ударения от словообразовательной зависимости у имен на -ение. Некоторые из них, правда, уже перешли к структурной акцентологической обусловленности: вычисление, выпрямление, назначение, плавление (в словарях XVIII в.: вычисление, выпрямление, назначение, плавление). Другие: мышление и мышление, обнаружение и обнаружение, опошление и опошление, опрощение (в лингвистической терминологии) и опрощение — испытывают колебания. Наконец, третьи сохраняют в качестве нормы генетическое ударение: намерение, обеспечение, сосредоточение и т. п., хотя тенденция к формальному уподоблению и здесь настойчиво «подталкивает» ударение к общему структурному элементу -ёние; ср. распространенные отступления от нормы: обеспечение, сосредоточение.
, Картина акцентологического развития еще более усложняется там, где в дело вмешиваются смысловые и культурно-исторические факторы. Например, длительное колебание ударения в слове отсвет обусловлено одновременным воздействием трех притягательных сил: словообразовательные ассоциации (свет, просвёт, рассвет) удерживают ударение на конце слова — отсвет, в то время как смысловые и структурные связи (отблеск, отзвук, отклик) стимулируют перенос ударения на первый слог - — отсвет, С переменным успехом происходила конкуренция и вариантов искус и искус. Культурно-исторический фон и литературная традиция в последнее время заметно укрепили позиции исконного ударения — искус.
Весьма сложным представляется вопрос о фонетических причинах изменения ударения. Хотя в некоторых работах роль фонетических предпосылок (в том числе и количества слогов в слове) в процессе развития современного словесного ударения и отрицается, думается, это несправедливо по отношению к многосложным словам. Свобода русского ударения — понятие относительное. Еще в 1929 г. языковед Л. Л. Васильев отметил, что в многосложных словах «ударение, как бы боясь нарушить равновесие слова, чуждается конечных слогов и стремится занять срединный слог» (Сборник по русскому языку и словесности, I, вып. 3. Л., 1929, с. 143). Благодаря статистическим подсчетам известно, что русское ударение в многосложных словах тяготеет к центру слова или, точнее, к срединным слогам и что наиболее употребительные слова не имеют более трех неударяемых слогов подряд. Данные специальных исследований говорят о том,, что междуударный интервал, т. е. интервал между ударениями в соседних словах, чаще всего равен двум-трем слогам. Наша речь избегает как слишком больших междуударных интервалов (более четырех слогов), так и отсутствия интервала между ударениями у слов, составляющих речевой такт. Это своеобразие ритмического строя русской речи, не только поэтической, но и прозаической (естественной), обусловлено, вероятно, как физиологией дыхания, требующей относительно равномерной паузировки речевых тактов, так и особенностями синтаксического строя русского языка.
Отсюда неизбежно следует вывод о том, что в многосложных словах исконное ударение на боковом слоге (при возникновении, таким образом, трех-четырех или более безударных слогов подряд) окажется неустойчивым и в силу тенденции к ритмическому равновесию будет стремиться перейти на один из срединных слогов. Примеров исторического перемещения ударения у многосложных слов с фланга на центр или ближе к центру более чем достаточно. Например: наковальня наковальня, жеребьевщик жеребьевщик, выпиловочный выпиловочный, прадедовский прадедовский, аккомпанировйтьаккомпанйровать. Видимо, совместное воздействие аналогии и тенденции к ритмическому равновесию приводит к тому, что все чаще стали произносить переизбрана, перепродана, а не так, как требует старая норма: переизбрана, перепродана (опрошенные лица ссылались на неудобство произношения этих слов с наконечным ударением).
В некоторых работах выдвигаются наивные и незаслуженные обвинения по адресу торговых работников, якобы испортивших произношение прилагательного мальчиковый: было мальчиковый (Словарь Ушакова) — стало мальчиковый (Словарь Ожегова, 1972, Орфографический словарь, 1974). Дело, конечно, здесь не в безграмотности профессиональной речи, а в общем и закономерном стремлении многосложных прилагательных освободиться от ритмически неудобного (и поэтому неустойчивого) ударения на первом слоге. Кстати, по данным Обратного словаря только около 4% четырехсложных прилагательных сохраняет сейчас ударение в начале слова. Впрочем, стихийное стремление к ритмическому удобству и сознательные усилия нормализаторекой практики далеко не всегда совпадают. Оберегая культурную традицию и учитывая исторические, литературные и иные ассоциации, словари в некоторых случаях оправданно рекомендуют в качестве нормы ритмически неудобные акценты, например: гамлетовский, послушничать и т. п.
Итак, изменения и колебания современного ударения обусловлены действием неоднородных, разновременных и даже взаимоисключающих друг друга факторов. В некоторых случаях акцентологические сдвиги определяются сложным комплексом причин, не всегда поддающихся полному научному истолкованию. И все же многое в этой, еще недавно малоизвестной области знаний теперь стало достоянием науки. Установление же причинно-следственных связей весьма важно при определении основных тенденций в развитии русской акцентологической системы, без чего немыслима научно-объективная нормализация ударения.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ РУССКОГО УДАРЕНИЯ
Любознательному, но не искушенному наблюдателю, видящему отдельные, часто противоречащие друг другу факты (ср. винительный падеж: щёку, но губу; липу, но сосну; родительный падеж: монтажй, но массажа и т. nj, современное состояние русского ударения может показаться бессистемным и даже хаотичным. Между тем, несмотря на многие исключения и внутренние несоответствия, как в самой акцентологической системе, так и в тенденциях ее развития есть немало последовательного и регулярного. Естественно, что хотя бы самое общее знакомство с этими фактами представляет собой необходимое условие овладения нормами литературного ударения.
Первое, на что обычно обращается внимание, — это усиление грамматической функции ударения. При этом само направление в историческом перемещении акцентов может быть даже противоположным: на начальный слог (обух6бух, лёмёх лемех) — на конечный слог (губагуба, лыжня лыжня). Однако и в том и в другом случае изменение ударения было полезным, оправданным. В результате его возникло более четкое противопоставление грамматических форм. Ср.: родительный единственного числа губй, лемеха — именительный множественного губы, лемехй. Постепенная грамматикализация связана с ростом подвижного (перемещающегося) ударения, что соответствует общим свойствам народного языка. Нетрудно заметить, что ударение на флексии (у прудй, на холме, по лыжне) устраняет редукцию (т. е. нечеткое произношение) гласного в грамматически значимой позиции (старые формы: у пруда, на холме, по лыжне), способствуя тем самым узнаванию словоформы. Кроме того, это перемещение ударения укрепляет флективный (синтетический) строй русского языка (как известно, закрепление неподвижного ударения за начальным слогом слова послужило одной из причин разрушения флективного Строи в некоторых германских языках).
Важной особенностью развития ударения служит закрепление устаревающих или входящих акцентных вариантов за устойчивыми сочетаниями или фразеологическими оборотами. Ср.: ожидание утра, но с утрй (до утра,); о вёрстах, но в двух верстах; обеспокоен судьбами сыновей, но при восклицании — какими судьбами! Обычно говорят: ударить по лбу, но провести рукой по лбу; лезть на стену от боли, Но повесить картину на стену; за, город (в пригородную местность), но за город (по ту сторону городов); брать грех нй душу, но на душу населения. Зависимость уда-рения от конструктивно обусловленных смысловых различий отчетливо проявляется при употреблении кратких форм некоторых прилагательных: подвиги его велики, но ботинки (кому?) ему велики;- эти люди не худощавы, а полны, но они полнь1 (чего?) новых замыслов.
Известно, что у некоторых слов выбор ударения зависит от лексического значения (ледник — погреб со льдом, ледник — скопление льда в горах; мокрота, — сырость, мокрота — слизистое выделение; бронировать — покрывать броней, бронйровать — закреплять что-либо и т. п.). Не следует, однако, преувеличивать зависимость ударения от значения слова. Жесткие ограничения, которые декларируются во многих справочниках и пособиях по культуре речи (вроде: катит бочку, но катйт на велосипеде-, валит с ног, но валит снег), быстро забываются и не соблюдаются самими нормализаторами (побеждают, как правило, продуктивные формы: катит, валит). Даже в таком хрестоматийном разграничении, как пробйл дверь — пробил час, вариант с продуктивным-ударением на корне (пробйл) постепенно расширяет сферу своего применения, тесня традиционный вариант (пробил). Например: Час искупления пробйл (Радин. Смело, товарищи, в ногу); Куранты медленно пробили. Проплыл ночной протяжный гул. (Дудин. Красная площадь).
Таким образом, связь ударения только с одним определенным значением многозначного слова часто оказывается нестойкой, недолговременной. Основывать нормативную характеристику лишь на этом признаке представляется рискованным, так как сила формальной аналогии часто преодолевает смысловые различия акцентных вариантов. Например, при изменении ударения зеркальный на зеркальный авторы нормативных пособий безуспешно пытались так разграничить их употребление: зеркальный — относящейся к зеркалу (зеркальный шкаф), зеркальный — подобный зеркалу (зеркальный пруд). Однако вопреки этим рекомендациям продуктивное ударение зеркальный стало обслуживать оба значения слова.
Нормализатору-практику, в том числе и учителю русского языка, необходимо иметь хотя бы самые общие представления о направлении развития современного русского ударения. В результате сопоставительных наблюдений выяснилось, что в пределах даже одного и того же грамматического разряда слов, имеющих акцентные колебания, обнаруживается исторически разнонаправленное движение ударения: регрессивное — перемещение с последнего слога на начало или ближе к началу слова, прогрессивное — перемещение ударения с первого слога на конец или ближе к концу слова.
Исследования свидетельствуют о том, что регрессивное акцентологические развитие преобладает сейчас в следующих группах акцентных вариантов: а) у дву-, трехсложных имен мужского рода (русских и-заимствованиях): бондарь бондарь, обухдбух, прикус
прйкус, отсвёт отсвет, планёра планер, ракурсра-курс, каталогкаталог и т. п.; б) у трех-, четырех-, пятисложных глагольных форм в прошедшем времени: пост-лалй~постлала, разорваларазорейла, родилсяро-дйлся, приподнялсяприподнялся, дождались,дождались, перепродана перепродана и т. п.; в) у форм настоящего-будущего времени глаголов IV класса: дружйт дружит, включйт включит, прислонйтприслбнит, по-мирйтпомйрит, видоизменйтвидоизменит и т. п.
Прогрессивное акцентологическое развитие преобладает в следующих группах акцентных вариантов: а) у дву-, трехсложных имен женского рода на -а(-я): нуж-данужда, лыжнялыжня, фольгафольга, фрёза фреза, сыгровка сыгровка, макушкамакушка и т. п.; б) у производных трех-, четырехсложных прилагательных: тйгровыйтигрдвый, возрастныйвозрастной, завод скийзаводской, счастливый счастлйвый, праде-довский прадёдовский и т. п.; в) у дву-, трехсложных форм инфинитива: удить удить умалить умалить,
приструнитьприструнить, багроветьбагровёть, ржаветь ржавёть и т. п.; г) у некоторых двусложных приставочных глаголов в формах прошедшего времени: назвал назвал, отпилотпйл, налилналйл и т. п.; д) в падежных формах одно-, двусложных существительных и кратких формах прилагательных во множественном числе: холма холма, груздягруздя, стёблястебля; овцуовцу, йзбуизбу; блйзкиблизкй, вёрны верны, просты просты и т. п. Эта обобщенная сводка, естественно, не отражает не только общей картины акцентологического состояния современного русского языка, но и охватывает лишь самые актуальные факты.
Естественно, что для установления нормы ударения недостаточно знать только направление акцентологических перемещений. Тенденции в движении ударения — это необходимый, но лишь приблизительный ориентир. Понятие же нормы словесного ударения индивидуально и слагается из суммы признаков, важное место среди которых принадлежит сфере употребления конкретного слова, общественной оценке и осмыслению данного ударения на фоне историко-литературной традиции.
КОЛЕБАНИЯ УДАРЕНИЯ У СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА
Вариантные акцентные формы у существительных мужского рода наблюдаются преимущественно в дву-, трехсложных словах. Основной тенденцией в развитии ударения здесь служит историческое перемещение акцента ближе к началу слова. Это касается как исконно русских слов и старых заимствований (призраку призрак, обуху обух, прикупупрйкуп, заговору заговор и т. п.), так иноязычной лексики, сравнительно недавно освоенной русским языком (фундаменту фундамент, скульптору скульптор, суффйксу суффикс и т. п.). Однако регрессивное направление акцентологического изменения захватило неравномерно даже однородные группы слов. У многих существительных акцентная норма продолжает оставаться в неустойчивом состоянии. Рассмотрим подробнее несколько таких наиболее актуальных случаев колебания и изменения ударения.
Несколько лет нйзад на обложках школьных тетрадей среди типичных ошибок указывалось ударение договор, правильно;, договор. Действительно, именно наконечное ударение (договор) представлено как в классической поэзии, так и у большинства современных поэтов.
Зарецкий наш и честный малой
Вступили в важный договор,
Враги стоят, потупя, взор.
(Пушкин. Евгений Онегин.)
Однако за последнее время в употреблении и оценке варианта договор произошли изменения. Если в Словаре Ушакова и Большом академическом словаре это ударение характеризовалось как просторечное, а в Словаре Ожегова (1949) вообще не указывалось (т. е. считалось нелитературным), то в последующих словарях оценка ударения на первом слоге несколько смягчилась. Например, Малый академический словарь, Орфоэпический словарь, словарь-справочник «Трудности словоупотребления» (1973), Словарь Ожегова (1972), Словарь трудностей (1976) снабжают ударение договор пометой разг. (разговорное), допуская его, следовательно, как сниженный вариант литературной нормы в непринужденно-обиходной речи. В последнем же издании Орфографического словаря (1974) договор и договор приводятся без стилистических ограничений, т. е. как равноправные варианты. Что же произошло? Почему на наших глазах отступает традиционная норма?
Хотя ударение договор и является сравнительно поздним, оно находит аналогическую поддержку у слов с этим корнем и вообще соответствует живой народной тенденции переносить ударение на приставку у имен мужского рода (ср. церковнославянские формы воздух, возглас, призрйк, широко употребительные еще в книжном языке и поэзии XVIII в.). В XIX в. слово заговор произносилось еще с ударением на последнем слоге: Опальному изгнаннику легко Обдумывать мятеж и з а-говбр (Пушкин, Борис Годунов). В Словаре Академии (1847) и Словаре Даля указывается только заговор. Колебание (заговор — заговор) впервые отмечается в Словаре Академии (1898). Сейчас уже спор о том, как произносить это слово, возникает только у актеров, играющих в пьесах XIX в. (например, в «Горе от ума»). В значении тайное соглашение установилось устойчивое ударение: заговор; надо сказать, что и в другом значении — заклинание — также укрепляется ударение на первом слоге (лечить заговорами, заговор зубов). Примечательно, что и в самом корневом слове говор в XIX в. некоторые поборники чистоты языка считали правильнее ставить ударение на втором слоге: говор, а не говор. С другой стороны, традиционное ударение договор-подкрепляется аналогией со словами уговор, разговор.
Перемещение ударения у слова договор поддерживалось, видимо, и другими факторами: влиянием украинского языка и колебанием ударения в сложных словах (соцдоговор, колдбговдр), а также стремлением к акцентологической подвижности и разграничению форм единственного и множественного числа: договор — договора, причем сдвиг начался, вероятно, с формы родительного множественного: договоров договоров. Например;
Он предвещает схватку двух миров.
Он объясняет истинную цену Недавних пактов и договоров.
Как клятвопреступленье и измену. (Долматовский. Последний поцелуй.
Действительно, если в XIX в. употреблялась исключительно форма множественного числа договоры (Племен минувших договоры ... — Пушкин. Евгений Онегин), то сейчас форма договора проникает из разговорной речи в публицистику и художественную литературу. Причем. употребляется она.часто без намеренной стилизации. Ср.: Эти договора предвоенной Германии были лишь маскировкой к насильственному переделу европейской карты («Правда», 1968, 23 сент.). Форма договорй представлена у Маяковского, Полторацкого, Долининой, Грибачева, Чаковского, Меттера и др. современных авторов. В книге «Живой как жизнь» К. Чуковский предсказы-, вал, что, хотим мы этого или нет, не за горами то время, когда люди будут без всякой улыбки относиться к пародии 20-х гг., в которой встречалось выражение: подписать договора. Конечно, и сейчас форма множественного числа договора имеет стилистически сниженный характер, но считать ее неправильной уже нет оснований, тем более что Орфографический словарь (1974) допускает как равноправные договоры и договора. В свою очередь стремление ударения перейти во множественном числе на последний слог (договора) неизбежно подталкивает форму единственного числа к перемещению ударения на первый слог (договордоговор).
Сейчас еще трудно с уверенностью сказать, станет ли со временем ударение договор столь нормативным и эстетически приемлемым, как договор. Предпосылки для этого есть. Не только часть интеллигенции, но и некоторые современные известные поэты употребляет вариант договор.
Но ты не пугайся.
Я договор наш не нарушу.
Не будет ни слез, ни вопросов, ни даже упрека.
(Берггольц. Ничто ие вернется...)
Итак, предпочтительным сейчас является традиционное ударение договор, вариант же договор, хотя и не может рассматриваться как речевая ошибка, допустим лишь в обиходно-разговорной речи.
Немало хлопот доставляет ударение в слове приговор. Аналогично слову договор (но менее интенсивно) здесь развивается ударение на первом слоге (прйговор). Такое ударение до недавнего времени решительно браковалось нормативными словарями. Однако постепенное проникновение его из разговорной речи в поэзию (Безыменский, Корнилов, Симонов, Наровчатов, Френкель, Гито-вич и др.) приводит некоторых нормализаторов к уступкам; например, в Словаре Ожегова (1972) приговор и прйговор даны без стилистических ограничений. Думается, однако, что эта оценка слишком либеральна (во всяком случае для данного времени). Следует отметить, что квалифицированные юристы последовательно придерживаются традиционного варианта приговор. Известный судебный деятель П. С. Пороховщиков (П. Сергеич) так оценивал расхождения в ударении у этого слова: «Образованные люди в обществе, воспитанницы женских учебных заведений и члены сидячей магистратуры произносят: приговор! так же говорят подсудимые, то есть необразованные люди, знающие звуковые законы языка по чутью; чины прокуратуры, присяжные поверенные и их помощники, секретари судебных мест и кандидаты на служебные должности произносят: прйговор» (Искусство речи на суде. М., 1960, с. 38).
Помимо влияния профессиональной речи юристов, культивирующих, как правило, ударение приговор, позиции этого варианта укрепляются также отсутствием (или, точнее, слабым развитием) формы множественного числа приговора. Таким образом, несмотря на колебания (даже в языке поэзии), в качестве литературной нормы следует предпочесть ударение приговор. В «Словаре трудностей» (1976): приговор [разг. прИговор].
Произношение слова квартал все чаще привлекает внимание как специалистов-языковедов, так и широкой общественности. Словари и пособия по культуре речи единодушно отвергают вариант квартал, независимо от контекста речи. Таким образом, слово квартал во всех случаях (и в значении часть года, и в значении часть города) следует употреблять с наконечным ударением — квартал. Кстати, почти все заимствованные из романских языков слова на -ал сохраняют ударение на последнем слоге (капитал, филиал, оригинал, инициал, овал, потен- циал, провинциал и т. п.). Исключения: маршал, фельдмаршал, заимствованные через посредничество немецкого языка (колебание: вандал — вандал объясняется ассоциациями с названием германского племени).
Однако ненормативное ударение квартал сейчас чрезвычайно распространено, и этот факт не может оставаться безразличным для науки и тех, кто так или иначе связан с упорядочением литературной речи. Причины переноса ударения на первый слог в данном случае до конца не установлены. Высказывались мнения о влиянии некоторых народных говоров и даже латинского слова кварта (quarta — четверть). Под подозрение брались бухгалтеры и счетоводы, в профессиональной речи которых якобы зародилось неправильное ударение. Как показало анкетирование среди студентов ЛГУ (1974), ненормативное ударение на первом слоге чаще, действительно, наблюдается тогда, когда это слово употребляется в значении часть года. Например, в контексте План на второй квартал: квартал — 137, квартал — 102; в контексте Квартал новостроек: квартал — 222, квартал — 21.
Вероятнее, однако, что принявшее массовый характер перемещение ударения в слове квартал обусловлено более общими причинами, чем, скажем, профессиональная речь счетных работников. Установлено, что если прежде в русском языке у заимствованных существительных мужского рода действовали разнонаправленные тенденции в развитии ударения (абзацаабзац, бюджетбюд-жёт, но: титултйтул, конкурсконкурс), то позже стало наблюдаться преимущественно движение в одну сторону: переход ударения с конца слова на начало или ближе к началу слова (климатклймат, профйльпрд-филь и т. п.). Еще недавно общепринятыми ударениями были только планёр, каталог, дебаркадер, ракурс и т. п. Сейчас монополия наконечного ударения у этих слов практически утрачена. По данным анкетирования (ЛГУ, 1974): планер — 152, планёр — 42 (вариант планер зафиксирован у Жарова, Берггольц, Шошина, Винокурова); каталог — 179, каталог — 45 (работники библиотеки АН СССР также допускают колебание); дебаркадер — 148, дебаркадер — 86 (вариант дебаркадер преобладает у современных поэтов: Дудин, Аквилев, Мартынов, Сидоренко, Куклин и др.).,В словаре-справочнике «Трудности словоупотребления» (1973) новое ударение дебаркадер признано даже предпочтительным, так как этот русифицированный вариант в большей мере соответствует ритмическим закономерностям русской речи. Вспомним, что ударение в многосложных словах избегает крайних слогов (если, конечно, в слове не появляется побочное ударение). У многих заимствованных слов в Словаре Ушакова еще допускалось колебание ударения: доллар и доллар, суффйкс и суффикс, лексиколог и лексиколог, лексикограф и лексикограф и т. п. Прошло сорок лет, и наконечное ударение в этих словах уже окончательно - устарело.
Все это наводит на грустные размышления о том, что и у слова квартал (несмотря на поддержку аналогичных имен на -ал: капитал, овал и т. п. и прилагательного квартальный) со временем ударение может окончательно перейти на первый слог и стать даже новой нормой. Случилось же так со многими другими иноязычными словами: профиль, конкурс, климат и др. Однако если это и произойдет в отдаленном будущем, то закреплению начального ударения будет сопутствовать и переоценка ценностей. Пока же литературной нормой служит только ударение на последнем слоге (квартал) в обоих значениях этого слова.
Об интересном эпизоде в связи с колебанием ударения в слове километр рассказывают языковеды В. Г. Костомаров и А. А. Леонтьев. Покойный вице-президент АН СССР И. П. Бардин, крупнейший металлург и человек высокой культуры, на вопрос, как он говорит: километр или километр, дал такой ответ: «Когда как. На заседании Президиума Академии — километр, иначе академик Виноградов морщиться будет. Ну, а на Новотульском заводе, конечно, кйлометр, а то подумают, что зазнался Бардин» («Вопросы языкознания», 1966, №5, с. 5).
Действительно, акцентный вариант километр стал сейчас весьма употребительным: так произносят это слово не только шоферы, работники транспорта, по и значительная часть технической интеллигенции. Ударение километр встречается и у современных поэтов: Светлова, Симонова, Алигер, Тихонова, М. Цветаевой и др.
Ровно сорок на термометре,
Замерзает ртути нить.
Где-то на шестом километре
Ни курить, ни говорить.
(Симонов. Ночной полет.)
Существуют мнения о закономерности оттянутого ударения километр и целесообразности изменения самой нормы вслед «за народным употреблением». Так писал, например, известный лексикограф С. И. Ожегов в статье «Очередные вопросы культуры речи» (Вопросы культуры речи, вып. 1. М., 1955). В перемещении ударения на центральный слог (километру-километр) некоторые исследователи склонны видеть воздействие ритмических особенностей русской речи.
Думается, однако, что спешить с признанием ударения километр в качестве допустимого варианта общелитературной нормы не следует. Во-первых, традиционное ударение на -метр прочно сохраняется у других слов, обозначающих единицы измерения (сантиметр, дециметр, кубометр). Эта характеристика поддерживается и иными сложными наименованиями единиц измерения, у которых ударение также падает на последний слог (килограмм, гектолитр, киловатт). Во-вторых, ударение на последнем слоге у единиц измерения (сантиметр, кило-мётр и т. д.) полезно в различительном смысле, так как отграничивает эту смысловую группу слов от другой, куда входят слова, обозначающие измерительные приборы (барометр, манометр, термометр, хронометр и т. п,). Данные наименования имеют сейчас оттянутое ударение, хотя в XVIII и начале XIX в. многие из них произносились с ударением на последнем слоге (барометр, маномётр, термометр, хронометр). Наконец, не следует преувеличивать и воздействие в данном случае ритмических факторов. Влияние тенденции к ритмическому равновесию (вследствие чего ударение часто смещается к центру слова) проявляется главным образом у четырех-, пятисложных слов; ср. пример выше: дебаркадер у дебаркадер.
РАЗВИТИЕ НАКОНЕЧНОГО УДАРЕНИЯ В ПАДЕЖНЫХ ФОРМАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА
В современной науке установлено, что развитие подвижности ударения — одно из характерных свойств односложных (реже двусложных) имен мужского рода. Еще в XVIII — XIX вв. были широко употребительны такие, например, формы ударения в косвенных падежах: холма, холму, на холме; языка, языку, о языке и т. п. Сейчас ударение на корне в падежных формах у этих слов уже устарело. У многих слов сдвиг нормы происходит на глазах у нашего поколения. Например, еще в Словаре Ушакова нормативными признавались только формы родительного падежа с ударением на корне: моста, пруда; ударение моста характеризовалось даже как областная черта. Наконечное ударение угля, углём В. И. Чернышев (Русское ударение. Спб., 1912) считал особенностью жителей Петербурга. Словарь ударений (1967) и сейчас предлагает для дикторов радио и телевидения только ударение угля, углем. Возникает вопрос: оправданны ли столь жесткие ограничения для современной речи?
Хотя колебание ударения у слова мост продолжается и сейчас (ср. у Маяковского: И уселся у мост й. Травка выросла у моста), можно с уверенностью утверждать, что преобладающим становится наконечное ударение. Вот результаты анкетирования среди студентов: к мосту — 152, к мбсту — 76, в контексте Недалеко от моста: моста — 216, мбста — 27. Современные поэты (Исаковский, Твардовский, Дудин, Жаров, Алигер, Щипачев, Мартынов, Наровчатов и др.) все чаще предпочитают формы мостй, мостом и т. п. Естественно, что современные словари уже не могут игнорировать вариантов у моста, у пруда и т. п. Примечательно, что круг существительных, принимающих наконечное ударение в падежных формах, постепенно расширяется. В современной речи зафиксированы ненормативные ударения: жмыха, вьюка, гуртй, кряжа и даже гола. Причем, как выяснилось при опросе, молодежь даже предпочитает вариант гола, в контексте В ворота сборной забили два гола: гола — 152, гола — 87. Конечно, это вовсе еще не служит основанием для пересмотра современных нормативных оценок, но общая тенденция проступает здесь достаточно отчетливо.
Вряд ли удастся отстоять в качестве единственно правильных и традиционные варианты угля, углем и т. п. Дважды производившееся анкетирование свидетельствует о том, что сейчас решительно предпочитается наконечное ударение: угля — 145 (167), угля — 72 (75). Положение дикторов радио и телевидения, которые, согласно Словарю ударений, обязаны произносить только угля, углем (но ни в коем случае: угля, углём), осложняется еще и тем, что современные поэты (Маршак, Безыменский, Грибачев, Тихонов, Цыбин, Винокуров, Р. Рождественский, Авраменко, Смеляков и др.) беспрепятственно употребляют формы угля, углём.
И на стене, двухцветная, сырая, огромная, как милая земля, в дыму сражений, — карта фронтовая и черный график черного угля.
(Смеляков. Пейзаж.)
Привез художник и тетрадь
И белый холст на раме,
Углём он начал рисовать,
А мы карандашами.
(Маршак. Веселое путешествие от «А» до «Я».)
В стремлении переместить ударение на флексию в падежных формах слово уголь не является исключением. Эта тенденция свойственна и некоторым другим именам с мягкой основой. Видимо, наконечное ударение, устраняющее редукцию гласного в конце словоформы, является полезным с точки зрения лучшего различения грамматических форм. Колебание ударения особенно часто обнаруживается сейчас у слов локоть, стебель, гусь. Например, в результате анкетирования в ЛГУ (1967) выяснилось, что более половины опрошенных предпочло бракуемое словарями ударение гуся (146 человек), 70 человек высказалось за традиционный вариант гуся. Однако в современной поэзии ударение гуся, гусём встречается редко (Маяковский, Заболоцкий, Долматовский, Корнилов, Тихонов) и, как правило, употребляется в стилистических целях. Отвергаемое словарями и нормативными пособиями ударение локтём. встретил ось еще у А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума» (Петрушка, вечно ты с обновкой, с Разодранным локтём). Нёредко так произносят это слово и поэты-современники: Тихонов, Боков, В. Рождественский, Волобуева, Красиков и др.:
Дед считался силы, непомерной,
Ни локтём, ни словом не задень.
(Боков. Родина моя...)
И на заре, поднявшись на локтЕ.
Увидишь мир, где все цветы не те...
(Тихонов. Я снова посетил Донгузорун.)
Наряду с санкционированным нормативными словарями ударением на корне стебля, стеблю, стеблем, поэты (Брюсов, Грибачев, Яшин, Мартынов, Михалков, Акви-лев, Гордейчев и др.) свободно употребляют и варианты с наконечным ударением:
И я ли, идущий как сок по стеблю, отчизна, путями твоими, тебя, отступая, врагу уступлю, с твоими березами в дыме?
(Гордейчев. Штерянные дни.)
И от его мохнатого стебля,
Припавшего к моим разбитым скулам,
Родимая российская земля
Былинной силой на меня дохнула.
(Яшин. Не умру.)
Конечно, возрастающая употребительность новых вариантов с наконечным ударением (локтЕм, стеблЕм и т. п.) сама по себе еще не служит достаточным основанием для ломки акцентологической нормы. К тому же наконечное ударение возможно далеко не во всех контекстах, ср.: царапина на локте (на локтЕ), но только: чувство локтя. Однако в данном случае процесс переноса ударения на флексию: угляугля, стЕбля стебля и т. П., помимо фонетико-грамматической целесообразности (при этом устраняется редукция заударного гласного), поддерживается также аналогическим воздействием группы имен с мягкой основой, ужЕ переместивших ударение в этом же направлении. В XVIII — начале XIX в, произносили гвоздя, червя, груздя, сейчас (см. Словарь Ожегова, 1972) принято: гвоздя, червя, груздА. Таким образом, закрепление наконечногоударбния в качестве нормы происходит постепенно и избирательно, от слова к слову. Допуская на правах литературного варианта ударение угля, но отвергая пока акценты стебля, локтЯ, нормализаторы не вправе упускать из виду то, что в будущем возможна переоценка ударения и у этих слов.
КОЛЕБАНИЯ УДАРЕНИЯ У СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА
Вариантность ударения у существительных женского рода, как и у имен мужского рода, обнаруживается главным образом среди дву-, трехсложных слов, например: баржа и баржа, складчина и складчйна, прйгоршня и пригоршня и т. п. Общая акцентологическая тенденция здесь не так очевидна, как у имен мужского рода. Несколько упрощая проблему, можно сказать, что для многих существительных женского рода характерно прогрессивное развитие ударения, т. е. историческое перемещение его ближе к концу слова (ср.: цЕнаценй, плйтаплита, квакушка жвакЕшка, маслина маслина, сыгров-ка сыгровка и т. п.).
С нормативной точки зрения особенна примечательна судьба ударений у двусложных имен на -а(-я)) баржа, пЕтля, ровня и др., а также у группы иноязычных слов на -ия: индустрйя, кулинарйя и др.
Допустимо ли, например, сейчас наконечное ударение в слове петля? С таким вопросом нередко обращаются к специалистам.
Действительно, судя по словарям, в XIX в. нормой был только вариант петля. В словарях неправильностей и других пособиях ударение,петля.браковалось и продол,жает оцениваться как неправильное, не соответствующее литературной норме. Словарь Ушакова указывает, на областной, диалектный характер такого ударения. Словарь Ожегова (1949) и Малый академический словарь вовсе не приводят этого варианта, не признавая его литературным. Запрещает такое ударение петля и словарь-справочник «Правильность русской речи (Изд. 2-е. М., 1965).
Однако наблюдения над современной живой речью, выступлениями по радио, стихотворными произведениями последних лет показывают, что бракуемый вариант петля все шире входит в речевую практику. Вот лишь некоторые примеры из стихов поэтов:
И чудится злодеям, что шестерка
Искусно сплетена из конопли
И, ежели в нее вглядеться зорко,
Имеет вид затянутой пет лй.
(Маршак. Сатирические стихи.)
Волком был отец от этой жизни
Влезть в петлю не раз бедняк хотел.
(Кустов. Родники.)
Все туже смертная петля
На горле города-героя!
(Берггольц. Ленинградская поэма.)
Данные анкетирования среди студентов в ЛГУ (1974) свидетельствуют даже о преобладании нового варианта петля; в контексте Затянутая петля: петля — 206, петля — 41; в контексте Петля Нестерова: петля — 214, петля — 25.
Примечательно, что слово петля не одиноко в стремлении развить наконечное ударение в формах единственного числа. Аналогичный путь про шло существительное с мягкой основой лыжня (в Словаре Даля только лыжня; в Большом академическом словаре и Словаре Ушакова колебание лыжня и лыжня; в современных словарях только; лыжня). Есть основания говорить о начавшемся сдвиге ударения у имен хвоя и ровня. Например, при анкетировании в ЛГУ (1974) в контексте Он ей не ровня: ровня — 137, ровня — 107; ударение ровня, хотя и реже, чем традиционное ровня, встречается в современной поэзии (Твардовский, Кедрин, Казакова). Ударение хвоя обычно усердно запрещается (впрочем, в Словаре Ушакова и Большом академическом словаре дается с пометой разг.), но все настойчивее входит в поэтическую речь (Антокольский, Ошанин, Прокофьев, Хаустов, Ост-ровой, Боков, Авраменко, Дудин и др.).
Тропинку трава заплетала,
Траву засыпала хвоя.
В карельских лесах заплутаю
Военная юность моя.
(Дудин. Тропинку трава заплетала...)
Падают полчищем стрелы косые В гати в горелые пни и хвою.
Это земля моя, это Россия,
Я нараспашку у речки стою.
(Боков. Заросли, заросли...)
Пргжде чем приступить к нормативной характеристике новых вариантов петля, ровня, хвоя, следует попытаться определить причины данного акцентологического сдвига. В ряде научных и научно-популярных работ предлагается весьма упрощенное объяснение этого процесса. Считают, что ударение петля появилось вследствие влияния южновеликорусских говоров. Однако для изменения норм современного литературного языка (а проникновение нового варианта началось сравнительно недавно) одного диалектного воздействия недостаточно. Для этого должны быть [внутрисистемные основания И такие основания есть. Во-первых, перенос ударения у слов петля, ровня, хвоя лежит в общем русле прогрессивного развития ударения у двуслоговых существительных женского рода на -а(-я), т. е. перемещении ударения с. первого слога на последний. В прошлом слова губа, клюка, лихва, нужда, плита, резьба, слюда, струна, цена и др. имели ударение на первом слоге, т. е. произносилось губа, клюка, лйхва, нужда и т. д. Исконное ударение губа встречается еще у Некрасова и Огарева и сохраняется в выражении у него г уба не дура. Сравнительно недавно действие этой акцентологической тенденции сказалось на произношении слова ;баржа. Наряду с традиционной формой баржа, не только в живой устной речи, но и в поэзии (Асеев, Д. Бедный, Сель-винский, Жаров, Симонов, Маршак, Кирсанов, Луконин, Прокофьев, Кустов, Дудин, Яшин, Берггольц, Авраменко, Ваншенкин, В. Рождественский и мн. др.) сейчас употребляется и признан нормативным вариант баржа.
Но дело, по-видимому, не только в общей тенденция и аналогическом воздействии. Для развития наконечного ударения у имен с мягкой основой есть и фонетико-грамматические предпосылки. После мягких согласных весьма плохо опознаются заударные гласные (в особенности а), перенос же ударения на флексию (именительный петля, родительный петлй, дательный петле и т. д.) резко увеличивает различительные возможности форм и исключает смешение их из-за редукции гласных. При этом переход ударения на флексию наблюдается в единстветвном числе, что опять-таки полезно в грамматическом отношении, так как создается четкая противопоставленность форм числа: единственное петля, петлй, петле и т. д. — множественное петли, петель, пЕтлям и т. д. Нежелательное омонимическое совпадение, имевшееся при старом ударении (родительный единственного петли — именительный множественного петли), при новом ударении устраняется.
Думается, что грамматическая целесообразность наконечного ударения (петля), преобладание его в живой речи и принятие современными мастерами слова являются основанием для признания за этим вариантом прав литературной нормы (наряду с традиционной формой петля).
Разнобой в ударении наблюдается сейчас у некоторых иноязычных слов женского рода на -ия. Говорят индустрия и индустрйя, металлургиями металлургия и т. п. Акцентные колебания стали даже осознанно использоваться в современной поэзии. Вот как пишет поэт Б. Ручьев:
И какую разгадку найти ей,
Если дивную грозную — ту,
Кто Индустрией, кто ИндустрИей,
Кто Гигантом зовет красоту.
(«Индустриальная история».)
Неустойчивость ударения у четырех-, пятисложных существительных на -ия была характерна и для языка XVIII — XIX в. Причем тогда происходило фазнонаправленное перемещение ударения: с предпоследнего слога на третий от конца {академйя~академия, симпатйя) симпатия, но деспотиядеспотйя, драматургия — дра-матургйя). Эти колебания и изменения были вызваны главным образом смешением и взаимодействием греческой и латинской модели ударения, а также влиянием заимствований из западноевропейских языков.
В настоящее время заметно преобладание греческой модели (с ударением на -йя). Некоторые слова, в прсошлом имевшие устойчивое ударение на третьем от кбн-ца слова слоге: индустрия, металлургия и т. п., стали все чаще употребляться с акцентом на -йя: индустрия, металлургия и т. п. Вот результаты анкетирования (ЛГУ, 1974): индустрия — 162, индустрия — 83; кулинария — 201, ку- линарйя — 43. Колебания характерны и для современной поэзии: индустрия (Маяковский, Безыменский, Кирсанов, Светлов, Асеев, Смеляков, Авраменко, Филатов и др.), индустрия (Безыменский, Сельвинский, Корнилов, Смеляков, Твардовский, Боков, Исаковский, А. Вознесенский, Алигер и др.); металлургйя (Антокольский, Кирсанов, Авраменко, Сикорский), металлургия (Асеев, Долматовский, Борисова):
В который раз, в который раз
Он слышал рост металлургии
И где-то глубоко внизу —
Раскаты смутные, другие.
(Антокольский. Рождение нового мира.)
И даже, извините,
Вы — невежда
В вопросах металлургии цветной.
(Борисова. Стихотворение о воспитании.)
Очевидно, что современная литературная норма вынуждена мириться с наличием двух функционально не загруженных акцентных вариантов. Но что произойдет дальше? Какой из вариантов выйдет победителем в этом соревновании?
Некоторые считают, что больше шансов на победу имеют варианты с ударением но греческой модели на -йя (индустрйя, металлургйя и т. п.). Причину этого видят в сильном воздействии профессиональной речи врачей и стройности медицинской терминологии. Впрочем, и у самих медиков наблюдаются колебания: агонйя и агония, эпилепсйя и эпилепсия, логопедйя и логопедия, ее-теринарйя и ветеринария; дактилоскопйя, но гомеопатия: психопатйя, но эпизоотия и т. п. Вероятно, предпосылки колебаний скрываются в более общих свойствах акцентологической системы русского литературного языка.
Примечательно, что варьирование ударения наблюдается преимущественно у |четырехсло|жных (реже у; пятисложных) слов. Для трехсложных слов на -ия (их согласно Обратному словарю — 93) характерно устойчивое ударение на первом слоге (ария, гвардия, магия, рация, студия, хймия и т. п.); исключения (6 слов) — старые греческие и церковнославянские заимствования (вйтйя, мессия, стихия и т. п.). У многосложных слов Книжного характера ударение обычно падает на предпоследний слог (-йя), но при этом закономерно возникает побочное (второстепенное) ударение в начале цепот-ки безударных слогов: йдиосинкразйя, кинематография, микроцефалия, дактилоскопйя и т. п. Колебание ударения у четырехсложных слов (индустрйя), по-видимому, п вызвано одновременным, но разнонаправленным воздействием: с одной стороны, трехсложные слова (студия, ария и т. п.) как бы оттягивают ударение на третий от конца слог (индустрия,), с другой стороны, многосложные слова (идиосинкразйя и т. п.) притягивают ударение на предпоследний слог (индустрйя).
Какой из этих двух «магнитов» окажется сильнее, сейчас предсказать трудно. Думается, однако, что спешить с «отставкой» вариантов индустрия, металлургия и т. п. не следует, хотя Словарь ударений (1967) обязывает дикторов произносить только индустрйя, металлургия. И дело не только в том, что с количественной стороны нетерминологические слова с ударением на третьем от конца слоге (типа студия, магия и т. п.) преобладают. Процесс освоения книжной, терминологической лексики нередко ведет к утрате побочного ударения и перемещению основного ударения ближе к центру слова, т. е. опять-таки на третий слог от конца, например: флюорографйя флюорография, ветеринарйя ветеринария. Это обстоятельство укрепляет позиции традиционных вариантов индустрия, металлургия и т. п.
ИЗМЕНЕНИЕ УДАРЕНИЯ У ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В современном языке довольно много полных прилагательных с неустойчивым ударением. Говорят, например, кедровый и кедровый, сметливый и сметливый, текстовый и текстовой и т. п. Установлено, что основным направлением акцентологического развития полных прилагательных служит перемещение ударения ближе _ к концу слова, т. е. на суффикс или даже на флексию. Для поэтов XIX в. были свойственны, например, такие акцентные варианты: днЕвный (Пушкин, Батюшков, Майков), гробовый (Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Некрасов), громовый (Грибоедов, Жуковский, Полонский). В современной речи, наоборот, принято ударение дневной, гробовой, громовой. В словарях XVIII — XIX вв. указывалось лишь ударение вбзрастный (от возраст), в Большом академическом словаре и Словаре Ушакова допускаются оба варианта: возрастной и вбзрастный, последующие же словари в качестве нормы предлагают только ударение возрастной. Еще в начале XX в. ударение заводской осуждалось как речевая ошибка. Сейчас, напротив, в живой речи редко встретишь устарелый вариант заводский (от завод). Во многих случаях бросается в глаза то, что ударение у полных прилагательных постепенно теряет зависимость от места ударения в производящей основе и, перемещаясь ближе к концу слова, уподобляется более общему структурному типу слов.
Конечно, прогрессивное акцентологическое развитие охватило не все полные прилагательные. Во многих слу-чаяхпродолжается упорная борьба между старым и новым ударением.
Так, остается вариантным ударение у некоторых прилагательных с суффиксом -ист(ый). Нередко, например, спрашивают, как правильно: мускулистый или муску-лйстый? Интересное высказывание об ударении в этом слове помещено в журнале «Русская речь» (1967, № 1, с. 46). Вот что там говорится: «У актеров всегда возникает вопрос «а почему?». Действительно, почему словари под редакцией Р. А. Аванесова и С. И. Ожегова и последний словарь издания Академии наук рекомендуют произносить мускулистый, словарь под редакцией К. И. Бы-линского предлагает другое ударение — мускулйстый, а в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова предлагаются два варианта, причем второй называется «разговорным»? Но ведь произношение «разговорно» само по себе. Мы не наблюдали в жизни произношение мускулистый», — так отвечала на анкету журнала «Русская речь» И. П. Коз-лянинова, доцент, заведующий кафедрой сценической речи Государственного института театрального искусства цм, А. В. Луначарского,
Выше уже говорилось, что у четырех-, пятисложных прилагательных ударение на начальном слоге оказывается, как правило, неустойчивым и под влиянием тенденции к ритмическому равновесию стремится перейти на один из центральных слогов. В некоторых словах такое перемещение ударения уже произошло. Например, у прилагательных бйрхатистый, каменистый (имевших исконное ударение соответственно производящей основе бйрхат, камень) акцент переместился на суффикс -йст(ый): бархатйстый, каменйстый. У других слов колебание ударения продолжается: мускулистый — муску-лйстый, сахаристый — сахарйстый, фосфористый — фос-форйстый и т. п. Изменение нормы происходит здесь под воздействием двух побудительных факторов. Во-первых, ударение на суффиксе -йст(ый) весьма продуктивно. Во-вторых, ударение на начальном слоге (сахаристый) неустойчиво, так как в формах косвенных падежей при наличии среднестатистического определяемого (трехслогового, с ударением в центре) расстояние между словесными ударениями в речевом такте превышает критический интервал (4 слога): сахаристого раствора. Уменьшение интервала, происходящее при сдвиге ударения к центру (сахарйстого раствора), объективно способствует облегчению произношения. Примечательно, что Ълия-ния одной лишь структурной аналогии оказывается часто недоетаточно. Поэтому-то прилагательные, имеющие ударение на втором, а не на первом слоге (болотистый, закатистый, крахмалистый, наваристый, сосудистый, туманистый и т. п.), как правило, не испытывают стремления к перемещению ударения на суффикс -ист(ый): око и без этого находится не на «фланге», а на одном из центральных слогов.
Трудно сказать, как долго продержится в качестве единственно нормативного ударение мускулистый. Если учесть, что продуктивное ударение на суффиксе (мус-кулйстый) отмечается еще в Словаре Даля и что его не чуждаются известные поэты (Маяковский, Антокольский и др.), категорическое запрещение (например, в Орфоэпическом словаре: не мускулйстый), вероятно, малоэффективно. Вкусовое восприятие ударения — ненадежная опора. Ведь едва ли найдутся защитники, исконного ударения каменистый. Поэтому в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления» (1973), наряду с
традиционным и предпочтительным ударением мускулистый, в качестве допустимого варианта приводится и мускулйстый.
Ош.утимые изменения акцентологических норм произошли и у кратких форм многих прилагательных. Правда, вариантность ударения встречалась и в XIX в. (ср., например, в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: дома новы ... примеры мне не новы), однако распространенность этого явления в прошлом не идет ни в какое сравнение с происходящей сейчас экспансией наконечного ударения у прилагательных в кратких формах множественного числа. Правило, согласно которому1 ударение в кратких формах множественного числа должно строго соответствовать форме среднего рода (например, блйзко — близки, вЕрно — верны, просто — просты), (безнадежно устарело. Наконечное ударение (близкй, верны, просты и т. п.) захватывает все более широкий круг слов, причем натиск этих форм заметно усилился именно в последние десятилетия.
Количество исторически незакономерных наконечных акцентов неудержимо растет. Еще сравнительно недавно нормативные пособия отвергали, например, такие ударения, как близкй, верны, полны, просты и т. п. Сейчас подобный ригоризм нормы был бы едва ли оправданным. В самом деле, в современной поэзии наконечное ударение в кратких формах множественного числа становится общепринятым: близкй (Исаковский, Ошанин, Дудин, Гыленков, Васильева, Сидоренко), верны (Сурков, Берггольц, Грибачев, Друнина, Решетов), полны (Лебедев-Кумач, Заболоцкий, Жаров, Долматовский, Сурков, Грибачев, Саянов, Твардовский, Тихонов, Евтушенко, Смеляков, Мартынов, Рыленков, Шошин, Хаустов, Шефнер), просты (Исаковский, Щипачев, Дудин, Кирсанов, В. Рождественский, Р. Рождественский, Винокуров, Сидоренко, Шестинский, Островой, Друнина).
Современная молодежь, по данным анкетирования (ЛГУ, 1974), решительно предпочитает варианты с ударением на флексии, причем даже независимо от значения прилагательного. Например, в контекстах Заводы близки к городу: близкй — 217, блйзки — 19; Вы близки ей по духу: близкй — 209, блйзки — 33; Мы верны клятве: верны — 223, верны — 23; Ваши наблюдения верны: верны — 211, верны — 34; Решения задач оказались просты: простй — 228, прбсты — 15; Соседи были добродушны и просты: просты — 231, прбсты — 11.
Конечно, сами по себе данные опроса общественного мнения еще не служат основанием для изменения нормы. Так, например, в Словаре ударений (1970) только прбсты (форма просты не считается нормативной). Но наконечного ударения просты не чуждаются современные поэты:
Когда слова случайны и просты
И медленно беседы ткется пряжа,
Чужие, непривычные черты
Мне кажутся подобием пейзажа.
(В. Рождественский. Когда слова случайны и просты.)
Я то знаю, как это бывало тогда:
На восток шли его наградные листы,
А солдат шел на Запад, он брат города, —
У солдата обязанности, просты.
(Друнина. Разговор с сыном фронтовика.)
Современные нормативные словари уже не могут безапелляционно отвергать те новые акцентные варианты, Которые прочно вошли в речевую практику и признаны мастерами слова. Поэтому Большой академический словарь, Орфоэпический словарь, справочник «Трудности словоупотребления» (1973) и «Трудности русского языка» (1976) санкционировали ударение просты.
Но процесс перемещения ударения на флексию в кратких формах множественного числа продолжает расширять сферу влияния. Невзирая на запрещение словарей, поэты смело употребляют глухй, тихй, правы и т. п. По ночам, когда пустуют дворики И дома застенчиво тихй,
У домов чуть слышно ходят дворники — сочиняют метлами стихи.
(Казакова. Дворники.)
Они не оставляли крошек.
Тихй, глазасты и худы,
Они рассматривали кошек ,
Лишь как запас живой еды.
(Борисова, Ленинграду.).
Очевидно, что Оурное развитие наконечного ударения у прилагательных в кратких формах множественного числа не является случайностью или капризом поэтов, а имеет внутрисистемные предпосылки. Среди многих Предположений о причинах колебаний и переноса ударения наиболее вероятными представляются следующие: 1) влияние группы прилагательных, имеющих только наконечное ударение в кратких формах множественного числа: больны, хорошй, горячи, и т. п.; 2) закрепление за ударением на флексии определенной грамматической функции; ср. вЕрны слуги (в языке фольклора) — функция определения, слуги ему верны — функция сказуемого; 3) устранение нежелательной редукции гласного в грамматически значимой позиции и укрепление акцентологической противопоставленности форм единственного и множественного числа.
ИЗМЕНЕНИЕ УДАРЕНИЯ У ГЛАГОЛОВ
О состоянии и изменении глагольного ударения в русском языке написано немало научных работ. Считается, что основным направлением акцентологического развития у глаголов является, историческое перемещение ударения на корень (ср.,- например: избрал избрал, позвал позвал, постлала постлала, дождался дождался, красйт крйсит, варйт варит, заснежённый заснЕженный и т. п.). Однако это мнение справедливо по отношению не ко всем глагольным формам. Стремлению ударения закрепиться на корне противоречат факты противоположного движения — с корня на суффикс.
Это в особенности характерно для форм инфинитива, акцентологическая система которых сравнительно мало исследована. Между тем колебания ударения здесь весьма распространены (искриться и искрйться, ржаветь и ржавЕть, премировать и премйровать и т. п.), а корма не во всех случаях может считаться установленной.
Как оценивать, например, ударение в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: Вино на солнце искрится..?
Большинство опрошенных людей разных профессий ответило, что, хотя в их памяти еще живы некрасовские строки, они уже употребляют этот глагол с ударением на втором слогеискрйтся. Такое мнение, подтвердилось и результатами анкетирования (ЛГУ, 1974), в контексте
Снег искрится на солнце: искрился — 223, Искрится — 12; в контексте Вино искрится: искрйтся — 218; Искрится 25. Современные поэты (Тихонов, Алигер, Берггольц, Двраменко, Шотин, Друнина, Островок, Васильева и др.) также чаще употребляют новый вариант — искрйться (причем в разных сочетаниях), чем традиционное ударение Искриться, свойственное поэзии XIX в. (Тютчев, Некрасов, Майков, Никитин, Надсон и др.). Новое ударение искрИться впервые отмечено в Словаре Даля. Хотя некоторые современные словари пытаются оберечь традицию (Большой академический словарь: Искриться; искрИться с пометой «просторен.»; Словарь ударений, 1970, только: Искриться), ударение искрИться теснит своего соперника. Причина этого исторического •перемещения ударения достаточно очевидна. Здесь, как и во многих других случаях, сказалось могущественное воздействие формальной аналогии. Большинство глаголов на -иться имеют в инфинитиве и формах прошедшего времени регулярное ударение на суффиксе. Не удивительно, что и другие глаголы, имевшие исконное ударение на корне (лосниться, гнездиться, прохарчиться, сгрудиться и т. п.), уподобляясь - продуктивному акцентологическому типу, постепенно также приобретают ударение на суффиксе (лоснИться, гнездиться, прохарчиться, сгрудиться).
Особых замечаний требует акцентологическая норма глаголов,на -ировать. Какое ударение,например, считать правильным: премировать или премировать?
Все современные толковые словари в качестве нормы литературного языка указывают утрьннС премировать В некоторых справочниках и брошюрах по культуре речи другой,вариант премировать оценивается как неправильный, не соответствующий языковой норме. Но наблюдения над живой современной речью показывают, что второй, бракуемый нормативными пособиями вариант предпочитается многими говорящими. Такое ударение нередко можно слышать у людей с высшим образованием и высокой языковой культурой, даже в речи филологов-профессионалов. Порицая такое ударение, писатель Л. Раковокий вынужден признать широкую распространенность этой, по его мнению, речевой ошибки. Вот как он пишет: «Докладчик, а за ним и первый выступавший (оба люди с высшим образованием) упорно говорили:
премировать. Я не выдержал и невольно поправил с места: «премировать». Говоривший смутился и в последних фразах постарался правильно произносить злополучное слово. Второй оратор не нашел в себе мужества посягнуть на модное премйровать: он дипломатично обошелся без глагола, говоря: выставление на премию, соискание премии. Но следующий оратор, «ичтоже сумняшеся, вернулся к привычному премйрованию. Продолжали премйровать и все остальные ораторы. Как велика сила подражания и инерции» («Звезда», 1962, № 2).
Конечно, мнение известного писателя весьма существенно для нормативной оценки. И особенно заманчиво воспользоваться им при совпадении взглядов писателя и пишущего о языковой норме (как это наблюдается в данном случае). Но объективно-исторический метод исследования не позволяет спешить с выводами и основываться только на вкусовом восприятии языкового факта. Правильная же оценка конкурирующих вариантов премировать и премйровать может быть получена в результате анализа развития всей группы глаголов.
При сопоставлении словарей разных периодов отчетливо вырисовывается тенденция к переносу ударения у глаголов этого типа с последнего слога (-йровать) на третий от конца (-йровать). Так, в Словаре Академии (1847) ударение на последнем слоге указано у таких, например, глаголов; абонировйть, аккомпанировать, балансировать, баллотировать, бальзамировать, блокировать, буксировйть, вальсировать, копировать, лавиро-вйть, рецензировать, форсировать. В Словаре Академии (1895) многие из них приводятся уже с вариантным ударением: аккомпанйровать, буксйровать и т. п. Безуспешными оказались попытки задержать это перемещение акцента. Чем ближе к нашему времени, тем больший круг глаголов получил в качестве нормы продуктивное ударение на -ировать (аккомпанйровать, вальсйровать и т. п.). Во многих случаях произношение, свойственное еще литературному языку середины XIX в. (рецензировать, форсировать и т. п.), кажется просто неестественным. Постепенно в сферу нового типа ударения (-йровать) включались новые глаголы, которые и теперь продолжают испытывать колебания: премировать и премировать, щормирдвать и нормировать костюмировать и костюмйровйть, маркировать и маркировать и т. п,
Причины исторического перемещения ударения с последнего слога (-ировать) на третий от конца (-ировать) окончательно не установлены. Некоторые исследователи объясняют это явление исключительно влиянием не- мецкого языка: суффикс -ирова(ть) восходит к немецкому -iereri. Однако такое толкование наталкивается на ряд труднообъяснимых обстоятельств. Дело в том, что многие глаголы этого типа были заимствованы из немецкого языка еще в XVIII — ХГХ вв., но имели тогда несвойственное языку-источнику ударение (абонировать, бомбардировать и т. п.). Не исключая возможности более позднего (вторичного) влияния немецкого языка, следует, видимо, сопоставить этот акцентологический сдвиг с общей для русского языка тенденцией к ритмическому равновесию у многосложных слов. Исконное ударение на последнем слоге вело к неудобству произношения, так как междуударный интервал (расстояние между ударениями в соседних словах) часто оказывался больше критического (напомним, что критический интервал равен четырем безударным слогам подряд). Так, например, при исконном ударении на -йровать в речевом такте будет аккомпанировать интервал между ударениям:! равен шести слогам и поэтому ритмически неудобен; при оттянутом же ударении (аккомпанйровать) интервал уменьшается на два слога.
Таким образом, колебание ударения у слов премировать, нормировать и др. — это не следствие дурного вкуса или бездумного подражания, а объективный результат разнонаправленного влияния двух групп глаголов. К первой относятся глаголы, имевшие исконное ударение на -йровать или получившие впоследствии такое ударение (это обычно пяти-, шестисложные слова: абонировать, аккомпанйровать, дирижировать, идеализировать, рецензйровать и др.). Ко второй группе — четырехсложные глаголы, сохраняющие ударение на последнем слоге (лакировать, маршировать, формировать и т. п.). При этом есть основания говорить о неравномерном и неодновременном развитии ударения на -йровать. Ср., например, результаты анкетирования (ЛГУ, 1974): балансйровать — 242, балансировать — 1; нормйровать — 192, нормировать — 54 (нормйрованный — 178, нормированный — 63); премировать — 162, премйровать — 76.
Судьба отдельных слов оказывается прихотливой, и изменение ударения далеко не всегда идет строго по общей схеме. Так случилось, например, с глаголом бомбардировать. В Словаре Академии (1847) он указан с наконечным ударением (бомбардировать). В последующих словарях (Словаре Грота, Словаре Ушакова, Большом академическом словаре) допускался вариант бомбардйровать. Это, казалось бы, свидетельствуете развитии продуктивного ударения на -йровать. Но в последние годы вновь возобладало традиционное наконечное ударение. В Малом академическом словаре, Словаре ударений (1967), Словаре Ожегова (1972) в качестве нормы приводится только бомбардировать. Примечательно, что Орфоэпический словарь решительно бракует ранее допускавшуюся форму: не бомбардйровать. В то же время, по данным анкетирования (ЛГУ, 1974), применение акцентных вариантов у молодежи практически равновероятно: бомбардировать — 138, бомбардировать — 102.
Вернемся теперь к поставленному вопросу: премировать или премИровать?
Хотя в Большом академическом словаре допускаются как равноправные: нормировать и нормИровать, маркировать и маркИроватъ, а вариант премИровать объявляется допустимым в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления (1973) и книге Д. Э. Розенталя «Культура речи» (МГУ, 1964) , необходимо учесть усиление традиционно-книжного и осознанного начала в современном речевом поведении, а также направленность общественного внимания на некоторые слова (среди них и глагол премировать). Поэтому в качествешред-почтителъного ударения следует рекомендовать премировать.
Примечательно также перемещение ударения с корня на суффикс у глаголов ржаветь, лиловеть и др.
В большинстве словарей и нормативных пособий в качестве литературной нормы указывается только накоренное ударение — ржаветь. Новое ударение ржаветь в Большом академическом словаре квалифицируется просторечным, в Словаре Ушакова — областным, а в Академической грамматике (1953) — -ненормативным. Однако осуждаемое и изгоняемое ударение ржаветь (заржаветь, проржаветь и т. п.) не перестает быть обычным фактом живой речи современной интеллигенции. Судя по наблюдЕниям, оно становится преобладающим даже у мастеров художественного слова. «Ненормативный» вариант ржавЕть представлен у Твардовского, Саянова, Дудина, Грибачева, Суркова, Алигер, Радкевича, Замятина, Мартинова, Шестинского, Рыленкова, Гордейчева, Полторацкого и мн. др. Причем употребление его не обусловлено преднамеренной стилизацией:
Есть тайный смысл у каждой эпохи,
Там, где пути судьбы сошлись.
Ржавеют рыцарей доспехи,
Линейки зодчих рвутся ввысь.
(Рыленков. Каменная книга.)
В забытом окопе, затянутом ныне твоими наплывами, луг, ржавеет засевший в зеленой дернине оплавленный танковый люк.
(Гордейчев. Поле боя.)
При объективной оценке ударения ржавЕть нельзя не учитывать того, что и у однотипных глаголов новая норма с ударением не на корне, а на суффиксе (-вЕть) установилась лишь после долгой и ожесточенной конкуренции. Еще EL Долопчев в «Опыте словаря неправильности» (1909) строго осуждал ударение багровЕть. В XVIII — XIX вв. этот глагол, действительно», имел некоренное ударение — багроветь. Однако в современных словарях запрещавшийся вариант багровЕть признан единственно нормативным. Постепенно сдает позиции накоренное ударение и у некоторых других глаголов на -веть, например, лиловеть. Современные поэтыпредпочи-тают произносить не лиловеет, лиловело, а лиловЕет, ли-ловЕло (отмечено у Тихонова, Антокольского, Ваншен-кина, Борисовой, Казаковой, Чупурова и др.):
ЛиловЕет даль в морозном дыме,
Остужая красок кутерьму.
(Чупуров. Зимний вечер...)
А гром, за Гори уходил,
Там небо лиловело,
Всей пестротой фазаньих крыл
Земли светилось тело.
(Тихонов. Радуга в Сагурамо.)
Новые словари (Словарь ударений, 1970; Словарь Ожегова, 1972; словарь-справочник «Трудности словоупотребления», 1973; Орфографический словарь, 1974; «Словарь трудностей», 1976) признают нормативным именно ударение на суффиксе: лиловеть (а не лиловеть). Еще не признано литературным, но настойчиво стучится в дверь словарей ударение индеветь, заиндеветь, заинде-вЕлый. По данным анкетирования (ЛГУ, 1974), в словосочетании заиндевелая шинель ударение заиндевелая предпочло 217 человек, ударение зайндевелая — 3 человека. Материал современной поэзии убедительно свидетельствует также, о преобладании «нелитературных» вариантов индеветь, заиндеветь, заиндевелый (Твардовский, Солоухин, Щипачев, Дудин, Кустов, Регистан, Борисова, Гордейчев и мн. др.).
Таким образом, перемещение ударения с корня (ржаветь) на суффикс (ржаветь) не является одиночным и изолированным случаем. Помимо воздействия формальной аналогии со стороны других глаголов с ударением на -вЕть (розовЕть, лиловеть, черстветь, мертвЕть, пра-вЕть, кривЕть, сивЕть и т. п.), установление новой нормы, по-видимому, поддерживается и употреблением устойчивого сочетания нержавЕющая сталь. Поэтому (Продуктивное ударение на суффиксе ржаветь в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления» (1973) признано допустимым, а в «Словаре трудностей» (1976) — разговорным вариантом литературной нормы.
Но, пожалуй, ни об одном другом факте колебания ударения не спорят так упорно и ожесточенно, как о формах звонйт и звонит, позвонйт и позвонит. Нигде в такой мере не обнаружилось противоречие между. продуктивной и функционально оправданной акцентологической тенденцией и общественным, вкусом, социально оправданным мнением, направленным в защиту непродуктивной, но с эстетической точки зрения более приемлемой традиционной формы звонИт, позвонИт.
Писатели и.большинство современной интеллигенции решительно осуждают ударение звонит, позвонит. «Приходится, однако, признать. — сожалеет писатель Б. Тимофеев, — что это ударение — увы! — весьма прочно вошло в нашу бытовую разговорную речь. Так говорят и школьники, следовательно, ни дома, ни в школе их никто не поправляет. Печально...» (Правильно ли мы говорим? Л., 1961). А вот как остроумно высмеивает «неинтеллигентное» ударение другой ленинградский писатель Л. Раковский: «Патриарх ТЮЗа А. А. Брянцев рассказал мне об одном телефонном разговоре. Ему позвонили из школы: — Вам звонит преподавательница... — Не верю! — прервал Александр Александрович и повесил трубку на рычаг. Через минуту снова звонок и снова: — Вам звонит преподавательница... — Не верю! — и трубка опять повешена. В третий раз звонок: — Товарищ Брянцев, вам звонит преподавательница... Почему вы не верите? — Не верю, чтобы преподаватель мог неправильно говорить — звонит, — ответил в последний раз А. А. Брянцев» («Звезда», 1962, № 2).
Однако сами специалисты-языковеды вовсе не столь единодушны в осуждении ударения звонит, позвонит. Дело в том, что в науке уже давно установлен широкий и . практически непреодолимый процесс перемещения ударения у глаголов IV класса в формах настоящего-будущего времени с флексии (варИт, грузИт, дружИт, кру-жИт, курИт и т. п.) на корень (вАрит, грузит, дружит, кружит, курит. Для языка XVIII — первой половины XIX в. наконечное ударение, в сущности, было единственной нормой. Это подтверждается как показаниями словарей того периода, так и поэтическими текстами:
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.
(Пушкин. Чернь.)
Вот ваши сестры как хотят
А ведь ворон не жарят, не варят.
(Крылов. Ворона и курица.)
Сидят наездники беспечно,
Курят турецкий свой табак.
(Лермонтов. Измаил-Бей.)
Еще на рубеже XIX — XX вв. наконечные акценты (варят, грузят, дружат и т. п.) считались нормативными, а их жизнеспособные (как это потом показало время) конкуренты объявлялись нередко вне закона. Пуристски настроенный автор «Опыта словаря неправильностей» (1909) В. Долопчев категорически запрещал ударение дружишь; правильным признавалось только дружишь.
Однако постепенно накоренное ударение все шире входило в речевую практику, заставляя и словари служить велению времени. Если еще в Большом академическом словаре вариант дружишь снабжался указанием «в просторечии», то в Малом академическом словаре и Словаре Ожегова (1972) оба ударения (дружишь и дружИшь) приводятся как равноправные. Словарь ударений (1970) и словарь-справочник «Трудности словоупотребления»
(1973) пошли еще дальше, в первом — только дружишь, во втором — дружишь и устаревающее дружИшь.
Наконечное ударение типа дружйт, курйт, варйт и т. п. было свойственно церковно-книжному языку и северновеликорусским говорам (на Севере и сейчас еще можно услышать: он ко с йт сено). Вытеснение его некоренным ударением (дружит и т. п.) объяснялось обычно усилившимся во второй половине XIX в. влиянием южновеликорусских диалектов, а также свойствами живой разговорной речи. При этом развитие накоренного ударения не ограничилось сферой обиходной лексики (воротит, всадит, окатит, тужит и т. п.), его постепенно осваивают многие глаголы книжного характера: возложит, переоценит, преуменьшит и т. п. Еще недавно нормой считалось только видоизменйшь, видоизменйт. Словарь ударений (1967), словарь-справочник «Трудности словоупотребления» (1973) и «Словарь трудностей» (1976) признали допустимым и накоренное ударение: видоизменишь, видоизменит. Стремление акцента на корень охватило даже глаголы, свойственные поэтической речи: ударение манишь, манит встретилось у Твардовского, Жарова, Лебедева-Кумача, Недогонова, Берггольц, Заболоцкого, Ошанина, В. Рождественского, Евтушенко, Шошина и других современных поэтов.
В сущности, нет объективных внутрисистемных ограничений для распространения нового акцента и на глагол звонить. Общая тенденция и широкая употребительность форм звонит, позвонит послужили для некоторых лингвистов основанием признать их в качестве стилистически сниженных вариантов нормы (Пирогова Н. К. О нормах и колебаниях в ударении. — «Филологические науки», 1967, № 3). «Запрет ударения звонит, — полагает
В. А. Редькин, — носит.. искусственный характер» («Русская речь», 1971, № 4, с. 86). Формы звонит, позвонит в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления» (1973) и «Словаре трудностей» (1976) рассматриваются как стилистически сниженные, разговорные варианты.
Ударение этих слов взято сейчас под общественную оценку. Две трети студентов при анкетировании (ЛГУ, 1974) предпочли позвонйм — 159, а не позвоним — 74. Впоследствии, правда, опыт был усложнен. Испытуемым предлагались две фразы: Вы позвонит е мне завтра? и Позвоните обязательно! Оказалось, что различие в грамматическом значении одинаковых по составу звуков глагольных форм (изъявительное наклонение с вопросительной интонацией в первой фразе и повелительное наклонение — во второй) связывается в сознании многих студентов с местом ударения. При повторном эксперименте шансы ненормативного варианта-позвоните (при вопросительной интонации: Вы позвоните мне завтра?) значительно возросли.
Однако, хотя и общая тенденция в развитии накорен-иого ударения в глагольных формах, и полезная грамматическая нагрузка (разграничение изъявительного наклонения с вопросительной интонацией позвоните? и повелительного наклонения позвонйте) говорят о внутрисистемной целесообразности рассматриваемых вариантов, не следует переоценивать значения этих факторов на фоне выраженного социально осознанного непринятия такого ударения. Направленное общественное внимание и растущий престиж грамотной (культурной) речи, вероятно, еще долго сохранит в качестве литературной нормы традиционное ударение звонйт, позвонйт.
Итак, хотя русское ударение, действительно, представляет собой «трудный участок» нормализаторской работы и ошибки в выборе акцента, к сожалению, еще весьма характерны для современной речи, многое в этой области получило теперь научное истолкование и стало объектом регламентирующего воздействия. Успеху нормализации ударения способствует и то, что постепенно отмирают (или, во всяком случае, становятся менее ощутимыми) некоторые причины, порождавшие в прошлом акцентные варианты (например, влияние территориальных диалектов, «модных» языков и т. д.). В связи с этим значительно сузился круг слов, испытывающих колебание в ударении. Кроме того, многие сохранившиеся варианты получили ту или иную функциональную специализацию. Особенно явственна тенденция к усилению различительной роли ударения в грамматике и к улучшению опознаваемости словоформ (см. выше: пЕтля петля, угляугля и т. п.). Многие акцентные варианты закрепились теперь за особыми словосочетаниями и конструкциями и, следовательно, не могут считаться избыточными, бесполезными для языка.
Практическая значимость изучения ударения несом-. ненна. В последние годы издано немало полезных словарей, справочников и пособий для усвоения акцентологических норм. Однако словари часто не поспевают за темпом современной жизни, и не все спорные, факты находят в них научное освещение. Естественно поэтому, что знание общих закономерностей акцентологической системы и основных направлений в ее разбитии поможет учителю-словеснику вернее сориентироваться в сложном, но отнюдь не хаотическом состоянии современного русского ударения.
Дополнительная литература
Аванесов Р. И. Ударение в современном русском языке. М., Учпедгиз, 1955.
Булаховский Л. А. Ударение. — - В кн.: Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. М., Учпедгиз, 1954,
Воронцова В. Л. О нормах ударения в глаголах на -ить в современном русском литературном языке. — В сб.: Вопросы культуры речи, вып. II. М., 1959.
Горбачевич К. С. О фонетических предпосылках некоторых акцентологических изменений в современном русском языке. — «Вопросы языкознания», 1975, № 6.
Колесов В. В. Развитие словесного ударения в современном русском произношении. — В кн.: Развитие русского языка после Великой Октябрьской социалистической революции. Изд-во ЛГУ, 1967.
Колесов В. В. История русского ударения. Именная акцентуация в древнерусском языке. Изд-во ЛГУ, 1972.
Моисеев А. И. Русский язык. Фонетика. Морфолошя. Орфография. М., «Просвещение», 1975, с. 78 — 86.
Пирогова Н. К. О нормах и колебаниях в ударении (на материале глагола). — «Филологические иауки», 1967, № 3.
Глава пятая
НОРМЫ ПРОИЗНОШЕНИЯ
Трудно переоценить роль литературного произношения — одного из важных показателей общего культурного уровня современного человека. Правильное произношение слова имеет не меньшее значение, чем верное написание. Известно, что неправильное произношение отвлекает внимание слушателя от содержания высказывания, затрудняя тем самым обмен информацией. Между тем, наряду с высоко поднятым сейчас престижем орфографии, у нас еще наблюдается если не безразличное, то чересчур снисходительное отношение к нарушениям орфоэпических (т. е. произносительных) норм. Человек, написавший, скажем, што вместо что, подвергается осуждению (вплоть до административных санкций). В то же время произнесение [что] вместо рекомендуемого орфоэпией [што] не вызывает, как правило, серьезного общественного порицания.
Неблагополучное положение с выработкой и соблюдением норм литературного произношения вызвано несколькими причинами. Думается, что сама проблема орфоэпии еще не получила должного общественного признания и научно-методического разрешения применительно к практике средней школы. В 1928 г. Д. Н. Ушаков с горечью замечал: «Действительно, нашей школе еще совершенно чужда идея орфоэпии. В то время, как в Западной-Европе, например во Франции, высоко ценят правильное произношение, доходя до культа слова, у нас редкий учитель слышал слово «орфоэпия» (Русская орфоэпия и ее задачи. — «Русская речь». Новая серия, III. Л., 1928, с. 11).
Так было сорок лет назад. И хотя многое за это время существенно изменилось (повысились требования к правильной, литературной речи, изданы многочисленные пособия по орфоэпии, например: Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. Изд. 1-е — в 1950 г., изд. 5-е — в 1972 г.), работа над повышением произносительной культуры устного слова еще не заняла соответствующего ее роли места в школьном преподавании.
Нельзя также не признать, что установление норм звучащей речи связано с рядом объективных трудностей. По сравнению с лексическими и морфологическими нормами, обладающими письменной традицией, нормы устной речи более уязвимы и проницаемы со стороны всякого рода нежелательных инородных вторжений. Сам процесс живого говорения подчас исключает возможность обдумывания и сознательного упреждения даже известной говорящему речевой ошибки. Автоматизм устной речи укрепляет почву для различных аналогических влияний и уменьшает сопротивляемость общелитературной нормы во временном плане. Вследствие этого значительно расширяется сфера фонетической вариантности не» только с точки зрения стилей (или типов) произношения, но и со стороны возрастных или социальных особенностей говорящих.
Все это, естественно, еще более увеличивает значение орфоэпии как учебной дисциплины, требует объективноисторического исследования и описания произносительных норм и их вариантов. Следует иметь в виду, что роль правильного произношения особенно возросла в наше время, когда устная публичная речь на собраниях и конференциях, по радио и телевидению стала средством общения между тысячами и миллионами людей.
МОСКОВСКОЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ
Среди многих, в том числе и учителей-словесников, еще распространено представление о существовании московской и ленинградской (петербургской) произносительной нормы. Думается, однако, что в чистом виде ни московского, ни ленинградского произношения сейчас уже нет.
С XIV в. Москва стала центром Русского государства, и поэтому, естественно, произносительные нормы (как, впрочем, и некоторые другие признаки общелитературного языка) складывались на основе московского Говора. Его влияние особенно возросло в XIX в., после того как устарел высокий ораторский стиль славянской речи, служивший еще в XVIII в. произносительной основой поэтического творчества. Московская орфоэпическая норма окончательно сложилась к концу XIX в. Это было произношение старой московской интеллигенции. Оно впитало в себя характерные черты живого народного языка, за ним стояла непререкаемая традиция московского Малого театра. Не случайно поэтому В. И. Чернышев в 1915 г. писал: «Образованные люди во всех местах России говорят по-московски» (Законы и правила русского произношения. Пг., 1915, с. 13).
Но уже во второй половине XIX в. у московской нормы появился конкурент — петербургское произношение, которое постепенно усиливало свои притязания на роль общелитературного образца. Его главное отличие от московской нормы состояло в усилении книжного, «буквенного» произношения. Петербургское произношение не стало орфоэпической нормой, не было признано сценой, хотя некоторые его особенности оказали впоследствии существенное влияние на развитие системы русского литературного произношения.
Однако и московское произношение, сохранив своя главные, основные характеристики (например, аканье), во многих случаях утратило былую роль произносительного канона. Изменение состава населения Москвы, по мнению Л. В. Щербы, привело к тому, что «старое московское произношение изчезло безвозратно, так как дети даже «коренных» москвичей, учась в общей школе, уже не говорят так, как, может быть, говорят еще их родители; но я уверен, что и последние, будучи втянуты в общий жизненный поток, в той или другой мере забыли старые нормы» (О нормах образцового русского произношения. — В кн.: Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957, с. 110 — 111).
Действительно, многие черты «образцового» московского произношения теперь практически утрачены литературным языком. Например, согласно старой московской орфоэпической норме большинство глаголов 2-го спряжения в 3-м лице множественного числа произносилось с -ут, -ют (т. е. так же, как глаголы l-ro спряжения): (...)
ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ
Общий процесс русификации (освоения) иноязычных слов постепенно ведет их к «подчинению» произносительным нормам русского литературного языка. Однако приспособление «чужих» сочетаний звуков к фонетической природе заимствующего языка происходит весьма неравномерно и создает немалые трудности при произношении слов иноязычного происхождения.
Важной особенностью современного литературного языка по сравнению с языком XVIII — XIX вв. является унификация произношения (и написания) многих десятков иноязычных слов. Фонетико-орфографическое колебание вызывалось в прошлом разными причинами: многоконтактностью при заимствовании, влиянием языка-посредника, различным типом чтения иноязычных слов («эразмово»: театр, «рейхлиново»: феатр) и др. В письменных источниках XVII — XVIII вв. слово кофе имело, например, фонетико-орфографические варианты: кофий, кафей, кофей, кохвай, кохвий, кохвей, кофа, кафе, кофь. В XIX и даже начале XX в. вариантность была еще весьма значительной; ср.: амбра и амвра, анфилада и амфилада, паспорт и пашпорт, госпиталь и гошпиталь, бивак и бивуак, вакансия и ваканция, цензор и ценсор, комфорт и конфорт, галстук и галстух, цистерна и систерна, шнур и снур, штора и стора, шхуна и шкуна, кирка и кирха, аутентичный и автентичный, шкаф и шкап и мн. др. Колебания подобного рода возникали в силу действия разнородных исторических причин, и были обусловлены не свойствами фонетической системы русского языка. Сейчас они представлены остаточными фактами, главным образом среди «книжных» и «экзотических» слов (автовакцина и аутовакцина, акселерация и акцелерация, батыр и батырь, бисмутит и висмутит, дромадер и дромедар и т. п.), а также у некоторых общеупотребительных слов, имеющих стойкое традиционное произношение и написание (галоша и калоша, матрас и матрац, тоннель и туннель, хамса и камса).
При этом фонетико-орфографические дублеты часто закрепляются за определенным стилем речи или сферой употребления. Так, произношение галоша является единственно возможным в профессиональной и официальной речи, при непринужденном же разговоре допустимо двоякое произношение (галоша и калоша), а в устойчивом выражении чаще говорят калоша: сесть в калошу. Фонетико-орфографический вариант акцелерация обычно применяется в научно-технической литературе, а акселерация — в работах по биологии и антропологии. Хотя в Большой советской энциклопедии (Изд. 3-е, т. I, 1970) основной формой признается акцелерация (от лат. acceleratio — ускорение), в современной прессе и речи интеллигенции более употребительно произношение и написание акселерация (поддерживается известным термином акселератор).
(...)
СЦЕНИЧЕСКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Главным средством сценического искусства является живое, звучащее слово. Поэтому столь велика роль правильного произношения в театре. Иногда даже считают, что сценическое произношение — это особая форма устной речи, имеющая свои правила и каноны. Это неверно. Сценическое произношение является и должно быть нормативным с точки зрения общелитературного языка. Специалисты-искусствоведы справедливо видят его основное отличие от обычного, разговорно-бытового произношения в ясности, четкости речи, т. е. в дикции, способе произнесения (а не произношения) звуков. Сценическое произношение не может быть чем-то искусственно оторванным, изолированным от естественной жизни языка. Речь со сцены должна легко восприниматься зрителем.
С другой стороны, сценическое произношение в силу театральных традиций, самого содержания пьесы и необходимости воссоздания исторического колорита является глубоко осознанным и своеобразным речевым актом. Незаметные и малосущественные в обиходной речи оттенки звучания становятся на сцене важнейшим характерологическим средством. Традиционные произносительные особенности сознательно поддерживаются и культивируются в некоторых театрах, хотя и здесь на произношении актеров (особенно молодого поколения) не могло не сказаться существенное преобразование общих орфоэпических норм.
Так или иначе, театр не является сейчас законодателем современной орфоэпии. Сохранение многих традиционных черт произношения на сцене вовсе не направлено к тому, чтобы реставрировать старые нормы, повернуть вспять колесо истории языка. Отчасти «традиционализм» сценической речи определяется самой неустойчивостью, «разбродом и шатаньем» в современном произношении и естественным стремлением
к единообразию речи, звучащей со сцены. Главная же задача театра состоит в создании яркого и истинного речевого образа, в установлении внутреннего соответствия речи актера с воспроизводимым историческим персонажем.
Так, художественно оправданным представляется произношение иностранных слов с предударным о в словах костюм («Плоды просвещения», в речи дам-аристократок), с[о]фа, карб[о]нарий («Горе от ума»). В обычной же речи устарелое произношение к[о]стюм выглядело бы сейчас манерным. В пьесах А. Н. Островского, А. П. Чехова, М. Горького сохраняется старомосковское произношение глаголов 2-го спряжения: позвд[п у]т, нау[чу]т, выго[а у]т и т. п. В Малом театре говорят: Бобчинс[къй], Добчинс[къй]. В «Горе от ума» звучат со сцены: бадфсьй], статс[къп], турЕц[къй], ЗагорЕц[къй]. Актеры, занятые в спектакле «Царь Федор Иоаннович», говорят: велй[къй] царь, ум высб[къй], народ москдвс[къй], грех велй[къй] и т. п. Ср. в рифме: великой — улйкой; [Шаховской:] Иду на суд великой К царице я — вот с этою уликой! В то же время такое произношение в устах комсомольцев из современных постановок показалось бы архаичным и неестественным. Впрочем, некоторые знатоки сценической речи считают, что твердое произношение прилагательных с основой на заднеязычный (ширд[къй], т«(хъй] и т. п.) служит не только «речевой краской», но и вообще красивее, способствует лучшему «посылу» звука.
Конкуренция твердого и мягкого произношения возвратных частиц (в личных формах глагола и в формах прошедшего времени) сейчас практически завершилась победой мягкого варианта. Хотя в стихах современных поэтов еще встречается твердое произношение (в рифме: образ — горбясь у Долматовского, ус — боюсь у Кирсанова, волос — оторвалось у Асеева, полчаса — занялся у Корнилова), общепринятым стало мягкое произношение возвратных частиц: бою[с], собрал[са], а не бою[с], собрал[са], как это было свойственно старомосковской норме. Ср. данные анкетирования студентов: бою[с] — 214, бою[с] — 16, колеблются — 3; остаю[с] — 213, остаю{с] — 18, колеблются — 2 (Вопросы культуры речи, вып. II. М., 1959). Указывая на преобладание мягкого варианта как усредненной орфоэпической нормы,
Р. И. Аванесов ограничивает сферу применения старой нормы главным образом сценическим произношением. Работники театра, действительно, упорно и сознательно культивируют старомосковскую норму, основываясь при этом не только на языковой традиции, но и артикуляционно-акустических преимуществах твердого варианта. Мягкое произношение [са] приводит, как считают специалисты в области речи, к распространенному дикцион-ному недостатку, чрезмерному «свисту» при произнесении звука с (Русская речь, 1967, № 1, с. 44).). Причем, различие в произношении на сцене может играть роль и характеризующего средства. Отмечено, например, что актер, игравший в «Борисе Годунове» на сцене центрального детского театра роль Пимена (монаха-книжника), произносил звук с мягко, по-буквенному: несло[с ],
волнуя[с]. В речи же Григория, наоборот, воспроизводилось живое народное произношение того времени: снйло[съ], ручаю[с]. Неясно, впрочем, воспринимается ли такая «орфоэпическая тонкость» современным массовым зрителем.
УСТРАНЕНИЕ ДИАЛЕКТНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ
Хотя территориальные диалекты уже не играют существенной роли в образовании норм современного литературного языка, тем не менее многие особенности диалектной речи весьма устойчивы. Поэтому первая задача школы — это устранение усвоенных в раннем детстве диалектных черт произношения, которые как раз нередко предопределяют и орфографическую малограмотность учащихся. Ставя вопрос, как должна расценивать сельская школа диалектные особенности (относиться к ним терпимо, считая, что они вполне естественны для ребенка, выросшего на селе, или объявить им самую непримиримую войну), А. В. Текучев отвечает на него так: «Учитель обязан рассматривать диалектизмы как явление нежелательное, а в большинстве случаев и недопустимое» (Преподавание русского языка в диалектных условиях. М., 1974, с. 12).
Здесь нет необходимости приводить длинный перечень разнообразных диалектных отступлений от произносительных норм литературного языка. Среди них много грубых, режущих слух речевых ошибок. Например, факты диссимиляции согласных: (...)
Устранение диалектных особенностей произношения — нелегкая задача. Она требует от учителя не только знания произносительных норм, но и повседневного, настойчивого и в то же время корректного исправления речи учащихся. «Школы — замечает А. В. Текуче», — должны противопоставлять свое влияние на речь ученика тому влиянию, которое идет из окружающей ребенка диалектной среды во внешкольной обстановке» (Преподавание русского языка в диалектных условиях. М., 1974, с. 22).
ПРОИЗНОШЕНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО СОЧЕТАНИЯ ЧН
«Конкуренция» произносительных вариантов чн и шн представляет собой одну из ярких и поучительных страниц истории русского языка. Специальная работа об этом фонетическом явлении написана С. П. Обнорским (Сочетание чн в русском языке. — В кн.: Обнорский С. П. Избранные работы по русскому языку. М., 1960). Если иметь в виду последние два столетия, то общая тенденция очевидна: произношение чн постепенно вытесняло вариант шн. Это изменение произносительной нормы началось еще в XIX в. В Словаре Академии Российской (1789 — 1794) приведено значительное количество слов, орфография которых явно указывает на их произношение в то время, например: галстушный, колпашный, копеешный, лавошник, лодошник, мушной, платошный, пуговиш-ный, табашный, фабришный, чесношный, шляпошный, яблошный и мн. др. В Словаре Академии (1847) таких орфограмм, прямо указывающих на произношение, сравнительно немного. Примечательно, впрочем, что произношение чн преобладало уже в стихотворной практике М. В. Ломоносова; ср. в рифмах: сердечный — вечный, заочно — не нарочно, конечно — вечно и т. п.
Наблюдения над поэзией XIX в. свидетельствуют, что тогда существовали значительные колебания в произношении чн и шн. Ср., например, у А. С. Пушкина:
1. Произношение шн:
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный...
(«Евгений Онегин».)
Рифмуются: скучной — равнодушной,
2. Произношение чн:
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
(Зимняя дорога.)
«Согласенt — говорит отец, —
Ступай благополучно,
Мон Наташа, под венец:
Одной в светелке скучно».
(«Жених».)
Рифмуются: скучной — однозвучный, скучно — благополучно. С. П. Обнорский отмечает, что у А. С. Пушкина чаще наблюдалось произношение чн, а не шн (свойственное московской норме). Однако частично, в произношении отдельных слов (особенно — скучный), эта произносительная система А. С. Пушкина раздвоилась, испытав воздействие окружающей народной среды.
Подобные колебания в произношении встречаются и у Н. А. Некрасова:
Что тебя доконало, сердешного?
Ты за что свою душу сгубил?
Ты захожий, ты роду нездешнего,
Но ты нашу сторонку любил...
(«Похороны».)
Почивай же, дружок! Память вечная!
Не жива ль твоя бедная мать?
Или, может, зазноба сердечная
Будет таять, дружка поджидать?
(«Похороны».)
В первом случае рифмуется: сердешного — нездешнего, во втором: сердечная — вечная. Однако чаще в поэзии Н. А. Некрасова все-таки наблюдается произношение шн, свойственное живому, народному языку середины XIX в.
(...)
Глава шестая
НОРМЫ в МОРФОЛОГИИ
Хотя морфологический строй русского языка основательно исследован как с исторической, так и с описательно-структурной стороны, в современной речевой практике возникают тысячи вопросов относительно правильности употребления тех или иных форм слова. Немало часов уделяется изучению морфологии в школьной программе. Однако морфологическая система русского языка нередко рассматривается как нечто статичное, неизменяемое. В школьных и даже вузовских грамматиках, главной целью которых является описание типичного, регулярного и стабильного, анализ многих противоречивых и динамически неустойчивых фактов современной речи отодвигается на второй план. Иногда учитель сознательно обходит трудные случаи вариантности в морфологии. Естественно, это не только не способствует проникновению в сложный механизм развития языка, но и отчасти делает сам процесс преподавания сухим, малоувлекательным.
Между тем даже школьная программа по литературе дает в руки учителя богатейший материал для показа исторического движения морфологических норм. Разве не интересно и не полезно, например, объяснить учащимся, почему употребление варианта оспоривать (И не оспоривай глупца...) оправданно у А. С. Пушкина, но неуместно в наши дни. Как следует относиться к формам инфинитива несть, свесть, перевесть, встречающимся в романе «Евгений Онегин», или формам множественного числа домы, неделей, используемых в «Мертвых душах», вместо принятых сейчас нести, свести, перевести, дома, недель. Исторические комментарии при характеристике колебаний нормы и при оценках ненормативных фактов речи школьников (ср. отмеченные А. В. Текучевым диалектизмы лошадя, в супу, поймал мыша и т. п.) помогут более глубокому усвоению родного языка.
Как и в системе ударения, основная трудность изучения морфологических норм заключается в наличии вариантных форм. Несмотря на стихийное и сознательное стремление к унификации и постепенное устранение неустойчивых форм, морфологическая вариантность распространяется еще на весьма значительное количество слов. Например, только в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления» (1973) приведено более трех тысяч пар морфологических вариантов.
ПРИЧИНЫ ВАРИАНТНОСТИ В ФОРМАХ СЛОВА
Колебания в словоформах и неустойчивость морфологических норм русского литературного языка объясняется различными причинами, одни из которых восходят к историческому прошлому языка (даже к его древнему строю), а другие представляют собой абсолютные и непреходящие закономерности живого, развивающегося языка.
Пожалуй, наиболее общей и характерной предпосылкой вариантности в морфологии является смешение и аналогическое взаимодействие старых, унаследованных от прошлого языкового состояния типов склонения, спряжения и других способов образования грамматических форм. Например, колебание в родительном падеже единственного числа (меда — меду и т. п.) отражает смешение типов склонения в древнерусском языке, зависящих тогда от гласного основы. Слова с бывшей основой на о (родъ, волкъ, столъ) имели в родительном падеже окончание -а. Слова же с бывшей основой на и — их было немного: волъ, верхъ, домъ, медъ, сынъ и некоторые другие — оканчивались в родительном падеже на -у. Со временем началось взаимодействие, смешение типов склонений. Некоторые слова с основой на и (сынъ, волъ) рано усвоили окончание на -а, Зато другие повлияли на близкие в смысловом отношении и слова с основой на о. Например, слова воскъ, юрохъ, исконно принадлежавшие к типу склонения с основой на о и, следовательно, имевшие в родительном
падеже окончание -а, под влиянием слова медь (в родительном падеже — меду) стали употребляться также и в форме воску, гороху.
Неустойчивость морфологических норм в некоторых случаях связана своздействием территориальных диалектов (например, неразличение заударных флексий в акающих говорах жниво — жнива способствовало колебанию в грамматическом роде), а у заимствованных слов объясняется иногда особенностями языка-источника или языка-посредника. Однако влияние этих внешних факторов на установление норм русского литературного языка в наше время становится все менее заметным.
Значительно большую роль в образовании морфологических вариантов играют сейчас факторы внутреннего характера. Так, вариантность в грамматическом роде нередко является следствием противоречия между формой и содержанием языковой единицы. Например, несоответствие между морфологическим обликом слова (существительные домина, холодина обладают формальной приметой имен женского рода) и словообразовательной мотивированностью грамматического рода (производящие основы мужского рода — дом, холод) приводит к колебаниям: высоченный (высоченная) домина, ужасный (ужасная) холодина.
Более или менее продолжительное варьирование возникает на переходных этапах, в неокрепших звеньях перестраивающейся системы языка. Это часто случается при грамматической специализации функционально перегруженных аффиксов и закономерном стремлении освободиться от омоформ, а также в процессе преодоления различных аномалий грамматического строя. Так, например, происходит при устранении двувидовости. Прежде глагол арестовать употреблялся в совершенном и несовершенном виде. Видовая избыточность была устранена в результате появления новой суффиксальной формы несовершенного вида — арестовывать. Теперь уже употребление формы арестовать в несовершенном виде устаревает. Ср.: Солдаты были рады тому, что начальство ведет себя смирно и никого в дивизионе не а р е.с-туют [вм. арестовывают] за прошлое (Лебеденко. Тяжелый дивизион). Однако у других глаголов еще продолжаются колебания. Так, глагол атаковать
пока остается двувидовым, несмотря на новообразование несовершенного вида атаковывать. Поэтому и появляются вариантные формы выражения: противник беспрерывно атаковал (атаковывал).
Особенно устойчивыми являются те колебания морфологических форм, которые предопределяются воздействием нескольких факторов. Например, варьирование в форме родительного падежа множественного числа у слова рельс (часто говорят и пишут; поезд сошел с рельсов к поезд сошел с рельс) вызвано не только смешением и гибридизацией типов склонений у слов, которые преимущественно употребляются во множественном числе, но и колебанием грамматического рода; рельс и рельса (форма женского рода встречается еще у современных авторов: М. Горький, Федии, Антокольский и др.).
Предпосылками колебания морфологических фррм могут служить и фонетические признаки слова; количество слогов, характер конечного согласного звука основы и др. Так, например, вариантность словоформ у существительных свойственна главным образом дву-, трехсложным словам, в особенности с основой ня сонорный звук (л, м, н, р). В разговорной речи нередки колебания в грамматическом роде у слов типа вежеталь, стапель, станиоль, шампунь и т. п. В этом случае нарушения нормы встречаются даже в произведениях известных писателей. Ср., например, употребление слова стапель в женском роде вместо мужского: На опустевшей стапели... бригада рабочих производила уборку (В. Кожевников. Последний рейс). Варьирование в именительном и родительном падежах множественного числа также наиболее характерно для слов с сонорным звуком в конце основы: тополи — тополя, токари. — токаря, секторы — сектора; апельсинов — апельсин, помидоров — помидор, оглоблей — оглобель, сходней — сходен, косулей — косуль, русел — русл, сопел — сопл и т. п.
УПОДОБЛЕНИЕ ФОРМ СЛОВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ
Известно, что в процессе длительного и сложного развития морфологическая система русского языка претерпела существенные изменения. Могучее воздействие грамматической аналогии вело к уподоблению Паралич дельных форм, к убыванию вариантности и, в конечном счете, к упрощению морфологического строя. Однако результаты этого стремления к унификации оказались неодинаковыми. Если иметь в виду самую общую закономерность, то можно сказать, что влияние продуктивных грамматических категорий отразилось в первую очередь на судьбе сравнительно малоупотребительных слов, не имевших к тому же значительной и твердой опоры в письменной традиции.
Так, например, притяжательные прилагательные с суффиксом -ин (мамин, бабушкин и т. п.) в родительном и дательном падежах мужского и среднего рода прежде имели формы с кратким окончанием. Нормой было: у мамина стола, к мамину столу, у бабушкина кресла, к бабушкину креслу. Например: — Только съезди ты, поклонись гробу матери твоей да и бабкину гробу кстати (Тургенев. Дворянское гнездо); Из хозяй-кинш кармана было тут тысячи три, не больше (Чер нышевский. Что делать?),
Однако сейчас эти формы уже едва ли соответствуют речевой практике. Они активно вытесняются полными формами: у маминого стола, к маминому столу, у бабушкиного кресла, к бабушкиному креслу и т. п. Этот процесс, как отмечает известный советский лингвист
В. И. Чернышев, начался еще в XIX в. Приведем некоторые примеры из его книги «Правильность и чистота русской речи» (1915): Отец уже сидел... возле матушкиного кресла (Тургенев. Первая любов); Алексей Сте-паныч... вызвался пособить сестриному горю (С. Ак-саков. Семейная хроника). Подобные же формы употребляли Достоевский, Лесков, Салтыков-Щедрин. И все же В. И. Чернышев считал такое склонение притяжательных прилагательных неправильным, хотя тут же замечал, что оно встречается «не только в современной периодической печати, но даже у знаменитых писателей». Сейчас, конечно, полностью победила эта («неправильная»!) полная форма. Ср. у современных писателей: На палубе один из них стер полотенцем кровь с расшибленного Петькиного лба (Лавренев. Срочный фрахт); Никита прислонился головой к матушкиному плечу (А. Н. Толстой. Детство Никиты); — Придется потерпеть до маминого приезда (Карпов, Сдвинутые берега).
Причиной замены краткого окончания родительного и дательного падежей (сестрина, сестрину) полным (сестриного, сестриному) у прилагательных мужского и среднего рода на -ин явилось постепенное ослабление продуктивности группы прилагательных с суффиксами -ов и -ин и, как следствие этого, подравнивание их к склонению более жизнеспособных прилагательных с полными окончаниями. Впрочем, притяжательные прилагательные на -ов и -ин (в меньшей степени на -ин) вытесняются прилагательными с более продуктивными суффиксами (отцовский, материнский и т. д.), а также конструкциями с родительным беспредложным.
Сравнительно быстро устраняются и другие избыточные (т. е. не имеющие особой функциональной нагрузки) варианты морфологических форм. Так, значительно сузилась сфера вариантности в родительном падеже множественного числа у слов среднего рода с основбй на -ц. В литературном языке XIX в. практически равноправно употреблялись: зеркалец и зеркальцев, одеялец и одеяльцев, полотенец и полотенцев и т. п. Большинство из них, как и отмечал С. П. Обнорский в статье «Правильности и неправильности современного русского литературного языка» (1944), усвоило форму с нулевой флексией: зеркалец, одеялец, полотенец и т. п. В современном языке колебания встречаются практически только у шести подобных слов: волоконце, донце, копытце, корытце, поленце, щупальце. Ср.: Несколько волоконцев белого мягкого куриного мяса... (Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке); Из курчавых волоконцев спрядались пушистые «теплые» нити («Правда», 1969, 18 февр.); В мышечном волокне находится более тысячи очень тонких волоконец («Здоровье», 1970, № 3); Колебания волоконец вызывает раздражение особых чувствительных клеток (Кабанов. Учебник анатомии и физиологии человека).
Хотя в Орфографическом словаре (1974) по традиции и сохраняются формы болотцев, копытцев, корытцев, оконцев, предпочтительность форм с нулевой флексией (полотенец и т. п.) и функциональная незагружен-ность варьирования типа волоконец — волоконцев дают основания предполагать в последующем полную унификацию таких форм и утверждение в качестве нормы вариантов с нулевой флексией (волоконец, корытец и т. п.),
Однако во многих случаях мы сталкиваемся с очевидным фактом продолжительного колебания форм. Это, во-первых, касается слов с устойчивой книжнописьменной традицией и, во-вторых, тех морфологических вариантов, которые обладают определенными функциональными особенностями. Наличие дополнительной нагрузки не дает оснований считать такие формы полностью избыточными и как бы оправдывает длительность сосуществования вариантов.
В чем же выражаются эти функциональные особенности морфологических вариантов?
При сравнительном анализе нередко обнаруживается противопоставленность общелитературного варианта (например, георгин, желатин, идиома, метаморфоза, рея, спазма) форме, характерной для научной или профессиональной речи (например, георгина, желатина, идиом, метаморфоз, рей, спазм). Профессионалы-садоводы еще говорят георгина, для научной речи характерны выражения: метаморфоз горных пород, метаморфоз органов растений, метаморфоз товаров, моряки придерживаются варианта рей (а не рея), специалисты-медики обычно употребляют форму спазм (спазм кровеносных сосудов), а не спазма, как это принято в обиходной речи и художественной литературе (вариант спазма зафиксирован у Достоевского, Л. Толстого, Короленко, Брюсова, М. Горького, А. Н. Толстого, Леонова, Серафимовича, Шолохова, Катаева, Паустовского, М. Кольцова, Бе-резко, Пермитина, Лаптева, Гранина, Бондарева, С. Смирнова и др.). Выраженную приуроченность к профессиональной речи обнаруживают многие новообразования именительного падежа множественного числа на -а(-я), например: вентиля, дизеля, клапана ниппеля, пульмана, рашпиля, ригеля, стапеля, танкера, штуцера и т. п.
Еще более заметно закрепление морфологических вариантов за определенным стилем литературного языка. Например, в строго нормированной (обычно письменной) речи употребляются формы корректоры, секторы, токари; обусловливать, сосредоточивать; в цехе, в отпуске и т. п. Применение же вариантов корректора, сектора, токаря; обуславливать, сосредотачивать; в цеху, в отпуску и т. п. допустимо лишь в непринужденной, обиходно-разговорной или профессиональной речи.
По сравнению с литературным языком XIX в. значичительно сузилась сфера употребления инфинитивов на -ть (типа: несть, отвезть, произнесть, цвесть ш т. п.). Между тем в конце XVIII — середине XIX в. формы инфинитива на -ть не только количественно преобладали, но и были нейтральны в стилистическом отношении. Они приводились в словарях в качестве общепринятых образцов, их без намеренной стилизации употребляли писатели-классики, например: Нан есть оскорбление (Гоголь. Мертвые души); Принесть большое удовольствие (Достоевский. Униженные и оскорбленные) ; Вы приезжайте, когда у меня сад будет цвесть (Чехов. Письмо А. С. Суворину). Ср. у Пушкина:
Утратить жизнь — и с нею честь,
Друзей с собой на плаху весть...
(«Полтава».)
Остаток горьких юных дней Провесть наложницей презренной...
(«Бахчисарайский фонтан».)
Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака не сть)
С Онегиным желал сердечно
Знакомство покороче свесть.
(«Евгений Онегин».)
Нормативно-стилистическая переоценка вариантов на -ть произошла, в сущности, лишь в последние десятилетия. Нормативными стали формы инфинитива на -ти (нести, цвести и т. п.). Однако варианты на -ть не ушли из языка художественной литературы и сохраняются на правах особого стилистического средства, так называемого «литературного просторечия». Не только в поэзии (Есенин, Маяковский, Прокофьев, Грибачев, Дудин, Евтушенко, Гордейчев и мн. др.), где их применение вызвано обычно требованиями стихотворного размера, но и в современной прозе отмечены многочисленные примеры форм инфинитива на -ть. В этом случае их употребление мотивировано речевой характеристикой персонажей или служит для достижения естественности и непритязательности повествования, Например: После обеда бабы начали гресть (Шолохов. Тихий Дон); Сегодня старухе не принесть молока из деревни (Пришвин. Времена года); Им [яблоням] предстояло зацвесть, им предстояло вырасти и стать со временем целым садом (Лидин. Весенний рассвет). В то же время употребление форм принесть, зацвесть, приобресть и т. п. в нейтральном (и тем более — в научном или официальном) стиле речи является теперь речевой ошибкой, нарушением норм современного литературного языка.
При изучении морфологических норм весьма существенно учитывать грамматическую зависимость выбора вариантов. Например, слово народ (в значении нерас-члененное множество людей) стойко сохраняет форму на -у в количественно-разделительном значении родительного падежа (обычно в сочетаниях: много, мало, уйма, тьма и т. п. народу). Вариант народу в этом случае преобладает и в современной художественной литературе (см. у Сергеева-Ценского, Телешова, А. Н. Толстого, Шолохова, Твардовского, Фадеева, Фурманова, Вс. Иванова, Тынянова, Соколова-Микитова, Л. Успенского и др.). С другой стороны, при отложительном или .выделительном значении родительного падежа нормативной является только форма на -а (из народа, среди народа и т. п.). Данные социолингвистического обследования убедительно свидетельствуют о резко выраженной синтаксической обусловлености вариантов предложного падежа на -е и на -у. Форма в снегу преобладает при употреблении в функции обстоятельства: Вороны ищут корм (где?) в снегу; форма в снеге — при употреблении в функции дополнения: Живописности (в чем?) в снеге нет. Известно также, что применение вариантов предложного падежа на -е поддерживается наличием определяющих слов, которые ослабляют обстоятельственное грамматическое значение. Ср. употребление вариантов в бреде — в бреду у одного автора; Арбузов забылся в прерывистом, тревожном, лихорадочном бреде. Но в бреду, как и наяву, он испытывал такую же чередующуюся смену впечатлений (Куприн. В цирке).
Вариантность форм родительного падежа сохраняется нередко в определенных синтаксических конструкциях (без разбору — без разбора, спору нет — спора нет), причем для многих фразеологизмов форма на -у является предпочтительной или даже единственно возможной (не до жиру; ни слуху ни духу; дать маху; не за понюшку табаку и т. п.). Стойкая вариантность в предложном падеже привела во многих случаях к достаточно отчетливой смысловой и синтаксической закрепленности форм на -е и на -у (на краю оврага, но на переднем крае; готовить на газе, но на полном газу и т. п.). Конструктивная обусловленность обнаруживается и у вариантов именительного падежа множественного числа годы и года. Форма годы (в отличие от года) употребляется в сочетании с существительным в родительном падеже (годы войны, молодости, учебы и т. п.), с порядковыми числительными для обозначения десятилетия (семидесятые годы) и в конструкции за последние годы.
При разграничении дублетных морфологических форм справедливо указывают на их смысловую специализацию: лагеря (пионерские, туристские) и лагери (общественно-политические группировки), образа (иконы) и образы (изображения; литературные типы, характеры). Ср., например:
Сквозь шесть веков глядящие глаза.
Живут они! И видятся без спора:
Он образы писал, не образа
На стенах новгородского собора.
(В. Соколов. Феофан Грек.)
Особенно часто традиционные морфологические варианты закрепляются за переносным значением слова. Например, в прямом значении слова тормоз употребляют форму тормоза (нажать на тормоза), а в переносном — обычно тормозы (тормозы общественного развития). В значении придавать твердость путем нагревания и быстрого охлаждения предпочитается вариант закаливать, а в значении делать стойким, выносливым — традиционная форма закалять.
Хотя стремление к смысловому расподоблению действительно сопутствует морфологическому варьированию и его следует учитывать при нормативных рекомендациях, оно далеко не всегда приводит к конечному результату — строгому закреплению варианта за определенным значением. Более того. Часто смысловые разграничительные тенденции заглушаются воздействием продуктивного с формальной стороны варианта. Так, уже появляется в печати форма тормоза и в переносном значении слова: охранительные тормоза («Лит. газ.», 1974, 13 марта), нравственные тормоза («Веч. Ленинград», 1974, 28 мая). Постепенно выходит из употребления непродуктивная форма уголья (так говорили о тлеющих кусках дерева), заменяясь общепринятой формой угли.
В этом плане некоторые лексикографические рекомендации имеют слишком жесткий и прямолинейный характер. Например, в Словаре Ожегова (1972) форма несовершенного вида затапливать закрепляется только за омонимом затопить — зажечь топливо в чем-н., а вариант затоплять — исключительно за омонимом затопить — 1) залить водой поверхность чего-н.; 2) погрузить в воду, в глубину. В действительности же вариант затоплять употребляется и в значении зажигать, разжигать. Например: [Служанка] расположилась затоплять печку (Достоевский. Подросток); Мать... пошла затоплять баню (Ф. Абрамов. Две зимы и три лета); Стала я печь затоплять (Николаева. Рассказы бабки Василисы). С другой стороны, вариант затапливать широко применяется в значении заливать водой. В таком смысле его используют Паустовский, Герман, Ажаев, Закруткин и другие современные писатели. Таким образом, рекомендация словаря справедлива в отношении общего смыслового тяготения вариантов затоплять и затапливать, но не может служить в качестве строго грамматического предписания.
Ниже приводятся сведения о некоторых наиболее сложных и актуальных случаях колебания морфологических норм современного русского языка.
КОЛЕБАНИЕ В ГРАММАТИЧЕСКОМ РОДЕ У НЕОЛОГИЗМОВ ТИПА ЛИПСИ, ЦУНАМИ И Т. П.
Хотя вариантность грамматического рода в русском языке в целом явление убывающее (в литературном языке XIX и даже начала XX в сотни существительных испытывали колебание в роде, например: ботинок и ботинка, браслет и браслета, коленка и коленко, жабо, ср. и м. р., фиаско, ср. и м. р., портмоне, ср. и м. р., госпи-таль, м. и ж. р, кадриль, ж. и м. р., тополь, м. и ж. р. и др.), в современном языке все же насчитывается несколько десятков имен, не имеющих однозначной родовой характеристики. Как р устной, так и в письменной речи, например, можно встретить: вольер и вольера, заусеница и заусениц, клавиша и клавиш, лангуст и лангуста, манжет и манжета, надолб и надолба, проток и протока, ставень и ставня, унт и унта и т. п. Впрочем, у имен с выраженными морфологическими показателями (на твердый согласный звук — мужской род, на -а — женский род, на -о — средний род) варьирование в роде ие является продуктивным и постепенно отмирает. В тех же случаях, когда колебания продолжаются, родовые варианты часто приобретают функциональную специализацию.
Однако не у всех разрядов существительных установление грамматического рода является делом простым и очевидным. Многие имена с невыраженными морфологическими показателями (например, существительные на -ль: вежеталь, выхухоль, гонобобель, стапель, станиоль и т. п.), а также несклоняемые заимствованные слова {авеню, баккара, виски, кофе, пенальти и др.) обнаруживают не только колебания в роде, но и представляют значительные трудности при выборе правильной, нормативной формы (ср. широкое авеню или широкая авеню).
Известно, что в современном русском Языке грамматический род неодушевленных существительных чаще всего определяется формально, по окончанию, т. е. независимо от характера обозначаемого предмета или явления и логического значения слова. Прямая содержательная мотивировка грамматического рода уже давно утрачена. С точки зрения здравого смысла необъяснимо, например, почему живот — мужского рода, а пузо и брюхо — среднего, почему вяз и клен — мужского ро- да, а сосна и осина — женского. «У подавляющего большинства имен существительных, — замечал В. В. Виноградов, — у тех, которые не обозначают лиц и животных, форма рода нам представляется немотивированной, бессодержательной. Она кажется пережитком давних эпох, остатком иного языкового строя, когда в делении имен на грамматические классы отражалась свойственная той стадии мышления классификация вещей, лиц, явлений действительности. Теперь же форма рода у большей части существительных относится к .области языковой техники» (Русский язык. М., 1947, с. 58).
С точки зрения «языковой техники», т. е. по формальному признаку, все несклоняемые существительные, обозначающие неодушевленные предметы, относятся к среднему роду (исключения немногочисленны: кофе, сирокко — мужского рода, кольраби, салями — женского). Естественно, это общее правило распространяется и на несклоняемые неологизмы: бикини, липси, сиртаки, манки, цунами и т. п. И хотя Словарь новых слов (1971) предлагает для большей части подобных неологизмов именно такую родовую характеристику: средний род (исключение: сиртаки, м., иногда ср.), в современной речи они употребляются то в одном, то в другом грамматическом роде. Возьмем, например, слово цунами. В среднем роде: Цунами, возникшее в Тихом океане («Сельская жизнь», 1972, 6 авг.); Крупнейшее цунами обрушилось («Соц. индустрия», 1970, 20 марта); Туристское цунами, заставшее нас врасплох, сказывается на сохранности природы (Лит. газ», 1974, 30 янв.); Снежное цунами прошло («Коме, правда», 1976, 14 февр.); Гигантский вулканический взрыв вызвал цунами, которое опустошило северное побережье (Баландин. Пульс земных стихий). В женском роде: Та же цунами слизнула и весь поселок («Лит. газ.», 1974, 25 сент.); Цунами шла (Мезенцев. Энциклопедия чудес). Ненормативное употребление наблю дается и у других неологизмов. Так, слово липси согласно общему правилу должно относиться к среднему роду. Нередко, однако, мы слышим: модный липси. Ср.: Им (молодым) все одно плясать — что барыню, что модный липси (В. Кузнецов. Молодые).
Как же объяснить эти реальные факты колебаний в роде у слов-нелогизмов, не унаследовавших двоякое выражение рода от старого строя языка?
Очевидно, что для современного состояния русского литературного языка влияние грамматического рода слова в языке-источнике (этот фактор служил причиной возникновения многих родовых вариантов в XVIII — XIX вв.) не имеет существенного значения. Ведь никто из говорящих не восстанавливает (да это и не всегда возможно сделать) исконный грамматический род таких заимствований, как бикини, липси, цунами и т. п.
Причина родовой вариантности слов-неологизмов заключается в ином. Оказывается, немотивированность (бессодержательность) категории рода и принципиальная независимость формальных родовых характеристик от содержания (значения слова) проявляется в чистом виде лишь при рассмотрении изолированного слова в его отношении к обозначаемому, при, так сказать, атомистическом подходе к слову. Но родовая принадлежность слова часто мотивируется с содержательной стороны косвенно, т. е. определяется с точки зрения смысловых и словообразовательных связей между словами. Непосредственная немотивированность рода у заимствованных несклоняемых существительных часто предрасполагает к подсознательному (а иногда и осознанному) подведению слова с конкретным значением под более общее, родовое понятие (genus) и перенесение родовой характеристики слова, обозначающего это понятие, на еще малознакомый и грамматически неусточивый неологизм. Так, слово липси ассоциируется с общим понятием танец (и потому нередко употребляется в мужском роде), а цунами, связываясь с понятием волна, порождает формально ненормативные сочетания цунами шла, обрушилась и т. п.
Такая морфологическая вариантность, вызванная абсолютным в своем проявлении противоречием между формой и содержанием (в данном случае — косвенной, или, точнее, ассоциативной, мотивированностью рода), является естественным и неизбежным этапом освоения нового слова. Вспомним, что сходный путь проделали и многие другие заимствованные слова. Слово такси, например, ассоциируясь то с автомобилем, то с машиной в период вхождения в широкое употребление, использовалось не только, как сейчас, в среднем роде, но также в мужском и женском, ср.: Такси остановился
(А. Н. Толстой. Эмигранты); Моя такси (М. Кольцов. Три дня в такси). На наших глазах слово галифе под влиянием родового понятия (брюки) теряет принадлежность к среднему роду и все чаще употребляется как существительное pluralia tantum (т. е. имеющие только множественное число). Согласование слова галифе с прилагательными во множественном числе (широкие галифе, синие галифе и т. п.) зафиксировано у Шолохова, Н. Островского, А. Н. Толстого, Первенцева, Малышкина, Пантелеева В, Беляева, Наседкина
Примечательно, что у некоторых подобных неологизмов обнаруживаются позиционно-сочетаемостные особенности родовых вариантов. Например, слово авеню в свободных сочетаниях встречается в среднем и женском роде (ассоциация со словами улица, аллея), ср.: авеню Тореза широкое прямое (А. Старков. Товарищи в борьбе); озеленить асфальтовое авеню («Лит. газ», 1973, 12 сент.) и широкая, тенистая авеню де Версай (Ру б а кин. Над рекою времени). В сочетаниях же с порядковыми числительными авеню зарегистрировано только как существительное женского рода! первая, вторая и т. д. авеню, а не первое, второе и т. д. авеню. В этом случае, видимо, смысловая аналогия преобладает над формальным признаком слова (в языке-источнике: фр. avenue — слово женского рода). Gp.: Пятая авеню упирается в арку Вашингтона («Правда», 1972, 8 апр.); Па всю Десятую авеню (В. Катаев. Святой колодец).
Родовая характеристика, таким образом, иногда оказывается зависимой не только от внешних (формальных) признаков, но и от лексико-семантических взаимоотношений, словообразовательных связей между словами, психологических ассоциаций, наконец, культурноисторической традиции, вступающих в противоборство с воздействием формальной аналогии. Борьба противостоящих притягательных сил: формального признака и ассоциативной мотивированности рода — является в современном языке одним из основных источников вариантности рода у слов-неологизмов.
Нормативная практика, нацеленная на сохранение устойчивой и единообразной грамматической системы (но не сводящаяся к искусственной унификации), не может не учитывать структурного, стилистического и сочетаемо-стного своеобразия родовых вариантов (ср.: широкое и широкая авеню, но только: пятая авеню). Хотя есть веские основания говорить об общем преобладании силы формальной аналогии над косвенно-содержательной мотивированностью рода (т. е. в будущем авеню,, цунами и т. п., видимо, станут словами среднего рода), общая формализация и насильственное искоренение живых типов родовых вариантов едва ли оправданно и вряд ли осуществимо за короткое время. Следует, кроме того, считаться с избирательным капризом литературного языка, который нередко удерживает в качестве нормы непродуктивные с формальной точки зрения варианты (например, кофе, сирокко — мужского рода). Кстати, в непринужденной речи интеллигенции и даже у известных современных писателей слово кофе нередко употребляется в среднем роде, например: «Я обменял на это кофе коробку табака (Паустовский. Повесть о жизни); Необыкновенно вкусным кажется кофе, поданное в крошечной чашечке (Соколов-Микитов. Гогубые дни); Во всем теле Богданов чувствовал легкость. А сам думал: «Сейчас она уже проснулась. Кофе не согрето» (Лазутин. Суд идет).
Установление единой грамматической нормы — это не единовременный акт, а различный по длительности процесс, в особенности если вариантность форм (хотя и временная) вызвана теми живыми внутрисистемными причинами, которые, в сущности, и определяют общее направление языковой эволюции.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО РОДА АББРЕВИАТУР
Согласно существующему правилу грамматический род звуковых аббревиатур определяется по стержневому слову. Из этого следует, что ТАСС — среднего рода (стержневое слово — агентство), ВАК — женского рода (стержневое слово — комиссия), а роно — мужского рода (стержневое слово — отдел). Однако это общее правило непрерывно расшатывается речевой практикой. Правда, известный поэт С. В. Михалков употреблял еще слово ТАСС в среднем роде:
Сообщало миру ТАСС
Просто, скромно, без апломба,
Что, мол, атомная бомба
Есть у вас и есть у нас.
(«Мартышка и Орех».)
Но в обычной речи сейчас вряд ли кто-нибудь последует за таким употреблением. По радио, телевидению чуть ли не ежедневно слышим: ТАСС уполномочен заявить... ТАСС передал... и т. п. Звуковые аббревиатуры, окончивающиеся на твердый согласный: ЖЭК, НОТ, ВАК, бриз и т. п., стали осознаваться как слова мужского рода (хотя их стержневые слова: контора, организация, комиссия, бюро). Наряду с применением стар-ых форм (где род определяется по стержневому слову), сейчас все чаще говорят и пишут: получить справку я ЖЭКе, ЖЭК отказал, внедрение НОТ а, рекомендуется НОТом, решение ВАКа, утверждено ВАКом, начальник бриза, в молодежном бризе и т. п. Многие новые аббревиатуры (например, БАМ) сразу получают родовую а-рактеристику по конечному звуку основы (наш БАМ, на БАМе, помощь БАМу), а не по стержневому слову (магистраль — женского рода).
Изменения в грамматическом роде наблюдаются и у звуковых аббревиатур, оканчивающихся на гласный звук. Говорят и пишут: роно закрыто, роно дало указание и т. п. Например: Район о подобрало документы («Коме, правда», 1973, 28 февр.). Подобное употребление можно встретить в разговорной речи учителей, отлично знающих, что в соответствии с стержневым словом (отдел) аббревиатуры роно, районо должны бы относиться к мужскому роду.
В связи с этим возникают два вопроса: чем объяснит неустойчивость грамматического рода у многих звуковых аббревиатур и как квалифицировать приведенные выше типичные отступления от правила установления рода?
Колебания в роде у аббревиатур и мнимые нарушения норм обусловлены, во-первых, внутренним противоречием между " этимологической и морфологической (формальной) мотивированностью рода. Для современного восприятия слова с конечным твердым согласным — это, как правило, существительные мужского рода (ср. таз, рак, кот, низ и т. п.). По аналогии с ними и аббревиатуры ТАСС, ВАК, НОТ, бриз, которые теперь воспринимаются нерасчлененно, как целостные слова, становятся именами мужского рода. Подобным же образом аббревиатуры роно, районо, райфо и т. п. были автоматически сближены со словами среднего рода на -о. Этот бессознательный, но совершенно неизбежный процесс подравнивания в грамматическом роде по аналогии с другой, значительно большей группой слов послужил основной причиной изменения родовых характеристик.
Другой причиной колебаний явилась и сама трудность этимологической расшифровки, словосочетания, послужившего основой для создания той или иной аббревиатуры. Автор этих строк опросил десятки людей (конечно, не специалистов-медиков) относительно грамматического рода широко известной аббревиатуры РОЭ (ср. взять кровь на РОЭ, у него повышенное РОЭ). Почти все причислили это сложносокращенное слово к среднему роду (по формальному признаку). Мало кто вспомнил (а некоторые и не знали) о стержневом слове аббревиатуры (РОЭ — реакция оседания эритроцитов).
Таким образом, целостное восприятие аббревиатуры как самостоятельного слова, легко подводимого по морфологическому признаку (конечному звуку основы) под тот или иной категориально-родовой разряд существительных, а также сложность установления стержневого слова (иногда полное забвение его) приводят к существенному перемещению аббревиатур в отношении родовой принадлежности.
Нуждается, видимо, в пересмотре и само правило, предписывающее аббревиатуре иметь грамматический род ее стержневого слова. Вряд ли, например, сейчас кто-нибудь причислит аббревиатуру загс к женскому роду (хотя, строго рассуждая, мы должны бы так поступить в соответствии с родом стержневого слова — запись; загс — запись актов гражданского состояния). Поэтому современный нормативные словари во многих случаях перестали следовать общему правилу. Например, в Словаре сокращений русского языка (1963): гороно, ср. р.; ЖЭК, м. р.; роно, ср. р., ТАСС, м. р. В словаре-справочнике «Трудности словоупотребления» (1973): ВАК, ж. и допустимо м. р.; РОЭ, ср. и ж. р.; ТАСС, м. и устаревающее ср. р. и т. п.
Но означает ли все это, что поскольку правило определения грамматического рода по стержневому слову у многих аббревиатур теперь нарушается, то оно устарело вообще и должно быть исключено из практических руководств?
Нет, такое скоропалительное решение было бы неосторожным. Дело в том, что большинство буквенных аббревиатур (которые произносятся по названиям букв, например, ОТК — о-тэ-ка), а также многие звуковые аббревиатуры со стержневым словом женского рода сохраняют традиционную этимологическую мотивированность рода. Так, ОТК. (отдел), НП (пункт) относятся к мужскому роду, а ТЭЦ (централь), ГЭС (станция), ГРЭС (станция) — к женскому роду. Правда, и среди них теперь встречаются нарушения нормы. Например: От реки... поднимался пар. В реку спускали теплые воды ГРЭС А и коксохимического завода (Первенцев. Испытание).
Таким образом, установление у аббревиатур грамматического рода по формальному признаку происходит постепенно, через стадию колебания и варьирования в роде. Неизбежность же временного сосуществования родовых вариантов (роно — м. и ср. р.; РОЭ — ж. и ср. р.) предопределяется самой природой этого явления, отражающего характерное для грамматики живого языка преодоление противоречия между формой и содержанием языковых единиц.
НОРМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛОЖНОСОСТАВНЫХ СЛОВ ТИПА ДИВАН-КРОВАТЬ, ВАГОН-ЛАВКА, КАФЕ-РЕСТОРАН и т. п.
Нередко сама жизнь ставит перед нормативной грамматикой новые проблемы. Как известно, в последние десятилетия значительно возросло количество разного рода сложносоставных слов. Для современной речи, становятся обычными кафе-столовая, кафе-молочная, кафе-бар, кафе-ресторан, кафе-магазин, магазин-ателье, диван-кровать, кресло-кровать, кресло-качалка, салон-вагон, вагон-лавка, вагон-клуб, ясли-сад, музей-квартира, вечер-встреча, концерт-загадка, смотр-конкурс, матч-реванш, матч-турнир, марш-парад, марш-бросок, театр-студия, ракета-носитель, самолет-снаряд и мн. др. За счет составных наименований активно пополняется и терминология: альфа-распад, вольт-секунда, эхо-импульс, вектор-функция и т. п.
В научной литературе нет ни твердых грамматических правил, ни даже единства мнений о нормах употребления новых сложных слов с дефисным написанием. Отстраняясь здесь от выяснения побудительных факторов резкого роста подобных образований и от рассмотрения колеблющихся правил их написания (см. об этом: Розенталь Д. Э. Вопросы русского правописания. Изд. 3-е. М., 1970; Б. 3. Букчина, Л. П. Калакуцкая. Сложные слова. М., 1974), остановимся лишь на двух возникших грамматических трудностях. Во-первых, не всегда ясна общая родовая характеристика тех сложных слов, компоненты которых принадлежат к разному грамматическому роду. Например: кафе-столовая открылось (или открылась), кресло-кровать поставлено (или поставлена) в углу, вагон-лавка прибыл (или прибыла)? Во-вторых, у многих таких слов даже в письменной речи обнаруживаются колебания в склоняемости первой части. Например: из вагона-ресторана и из вагон-ресторана, под диваном-кроватью и под диван-кроватью, на матче-реванше и на матч-реванше. Посколько эти трудности употребления оказываются отчасти взаимосвязанными, их удобнее рассматривать в совокупности.
Если воспользоваться предложенным Н. М. Шанским (см. Шанский Н. М. В мире слов. М., 1978) разграничением подобных дефисных образований на две группы (составные сложные слова и слитные сложные слова) и не затрагивать пока вопроса проникновения составных слов в слитные, то современное грамматическое состояние этих языковых единиц может быть представлено следующим образом.
Признаками составных сложных слов являются: 1) относительная расчлененность восприятия и большая, информативная значимость первой части сложного слова (второй компонент в этих случаях служит как бы определением к первой части; например: телефон-авто-мат — автоматический телефон, вагон-редакция — редакционный вагон); 2) склоняемость перво])) части (например: у телефона-автомата, в кресле-кровати, из вагона-лавки, диплом инженера-электрика, работать ре-дактором-консультантом и т. п.); 3) соответствие общей родовой характеристики сложного слова грамматическому роду первого компонента (например: новый диван-кровать стоял в углу, платье-костюм сшито, лекция-показ назначена, встреча-банкет состоялась, письмо-жалоба получено, многоступенчатая ракета-носитель стартовала и т. п.).
Такое решение вопроса о грамматическом роде и склоняемости первой части составных сложных слов подтверждается их употреблением в современной художественной литературе и прессе. Например: Вагон-редакция вступил в (телефонную связь со всеми участниками строительства (Б. Полевой. Саянские записи); из вагона-ресторана (Твардовский.
За далью — даль); проектирование современного вагона-клуба («Правда», 1975, 22 ноября); Я усаживаюсь в свое любимое кресло-качалку (Горбунов. Загорелся кошкин дом); Кресло-кровать, которое раскладывается на ночь... (Б е р е з к о. Необыкновенные москвичи); в кресле-кровати (Кукушкин. Хозяин); у молодежного театра-клуба («Коме, правда», 1975, 12 мая); нашего театрасту дию («Сов. культура», 1974, № 5); двухэтажные коттеджи яслей-сада («Здоровье», 1972, № 6); проведение смотров-конкурсов («Коме, правда», 1975, 21 дек.).
Иные лексико-грамматические признаки обнаруживаются у слитных сложных слов. Для них характерны: 1) большая смысловая слитность компонентов и информативная значимость второй части (в этих случаях уже первый компонент нередко служит как бы определением ко второй части; например: генерал-прокурор — генеральный прокурор дизель-мотор — дизельный мотор вакуум-камера — вакуумная камера); 2) неизменяемость первой части при склонении сложного слова (например: спросить у шеф-повара, вызвать инженер-капитана, генерал-лейтенанта; в яхт-клубе, на матч-реванше и т. п.); 3) соответствие общей родовой характеристики сложного слова грамматическому роду второго, а не первого компонента (например: зеленая плащ-палатка, новая плащ-накидка, охлажденная крем-сода, роман-г азет а получена, дивизионная штаб-квартира и т. п.).
К слитным сложным словам (первая часть которых может быть аббревиатурой) относятся тиногие наименования лиц по должности, профессии, общественному положению (премьер-министр, приват-доцент, лорд-канцлер, камер-юнкер), воинские звания (генерал-полковник), а также значительное количество специальных терминов (люкс-секунда, эхо-импульс, вектор-функция, альфа-распад, грамм-масса и т. п.).
Грамматические особенности слитных сложных слов (отсутствие изменяемости у первого компонента и установление общего грамматического рода по второй части) подтверждаются материалом современной письменной речи, например: из салон-вагона (Б. Полевой. Саянские записи); в салон-вагоне (А таро в. Зимняя свадьба); Один суточный переход при нормальном марш-броске... (Чаковский. Блокада); повсюду состоятся марш-парады («Труд», 1975, 27 февр.); участники марш-парада... («Ленинградская правда», 1975, 8 ноября); квалификация шеф-ки-но механика («Известия», 1955, 11 июня);работать шеф-поваром... (Панова. Спутники); район пресс-городка («Сов. спорт», 1972, 10 сент.); О кабан-рыбе вы уже знаете (Могилевский. Дальневосточный центр науки).
Однако предложенная схема разграничения составных п слитных сложных слов может служить лишь общим ориентиром в нормативной практике. Дело в том, что в жизни языка беспрерывно происходит процесс перераспределения языковых единиц между намеченными группами. При этом для современного состояния русского литературного языка характерно усиление слитности компонентов и постепенная утрата склоняемости первой частью. Кстати, в разговорной речи подобное явление наблюдается у многих словосочетаний, нерасчлененно обозначающих конкретное общеизвестное поня-тире; ср.: в полном стиле произношения — был в доме отдыха и в беглой устной речи — был в дом отдыха. Конечно, такие факты не отвечают требованиям литературной нормы, но иметь их в виду при нормативной работе необходимо.
Тенденция к утрате склоняемости первым компонентом коснулась уже некоторых образований, охарактеризованных выше в качестве составных сложных слов. Ср., например, колебания: в вагоне-ресторане (Б. Егоров. Как это делается) — в вагон-ресторане (Симонов. Парень из нашего города); у вагона-лавки («Известия», 1973, 19 апр.) — в вагон-лавке (Конецкий. Заиндевелые провода); размещение планов-заказов («Известия», 1969, 27 марта) — формирование план-заказа («Известия», 1969, 2 ноября). В непринужденной речи встретилось даже, естественно, ненормативное употребление сложного слова диван-кровать с несклоняемой первой частью: Куда, действительно, стариков девать? Сами на диван-кроватях спим, чтобы интерьер не портить («Лит. газ.», 1976, 31 марта).
Сложность установления смысловой значимости компонентов у некоторых слов, тенденция к их нерасчленен-ному восприятию и активный процесс утраты склоняемости первой частью в сложных словах, свойственных в особенности профессиональной речи, не дают возможности во всех случаях диктовать жесткую грамматическую норму. Ср., например, употребление неизменяемых первых частей сложных слов в официально-деловой речи: Сдать в эксплуатацию... винодельческий комплекс в совхоз-заводе «Оргеевский» («Труд», 1975, 25 февр.); Недавно предприятие начало выпуск изящных камин-баров («Коммерческий вестник», 1973, № 23). С другой стороны, в связи с введением в 1971 г. новых воинских званий, у которых на первое место вынесено название офицерского чина (лейтенант-инженер, капитан-инженер и т. д.), увеличилось число употреблений составных слов со склоняемой первой частью: у лейтенанта-инженера, с капитаном-инженером и т. п. Однако эти факты едва ли поколеблют общую тенденцию к потери-склоняемости первым компонентом сложного слова.
Колебание в грамматическом роде у рассматриваемых сложных слов наблюдается сравнительно реже. В этом отношении примечательны сложные слова с неизменяемой первой частью кафе: кафе-столовая, кафе-молочная, кафе-бар, кафе-магазин и т. п. Оказалось, что наличие второго компонента с более сильным морфоло гическим показателем (на -а-я) определяет, как правило, и общую родовую характеристику (по женскому роду) : кафе-столовая открылась, новая кафе-молочная и т. п. Например: Показалась за углом лучшая в нашем городе каф е-к ондитерская (В. Беляев. Старая крепость). В тех же случаях, когда вторым компонентом является слово мужского рода, наблюдается обычно согласование сказуемого с первым, неизменяемым компонентом (по среднему роду), например: В Комсомольске-на-Амуре открылось кафе-дансинг (М. Кольцов. О маленьком городе); С 16 часов до 2 часов ночи открыто кафе-бар «Мюнди» («Лит. газ», 1968, 12 июня); В Душанбе открылось кафе-магазин «Сарез» («Правда», 1975, 10 ноября).
Таким образом, хотя общее распределение сложных существительных с дефисным написанием на составные (телефон-автомат) и слитные (генерал-майор) обозначилось достаточно ясно, грамматическая норма у некоторых из них еще находится в процессе становления и допускает варьирование (изменяемость или неизменя-
емость первой части, зависимость грамматического рода сложного слова от первой или от второй части). Причем характерным для развития этих языковых единиц является стремление к смысловой слитности и к утрате склоняемости первым компонентом сложного слова.
КОЛЕБАНИЯ В ПАДЕЖНЫХ ФОРМАХ
История именного склонения подробно освещена в трудах крупнейших русских лингвистов — А. А. Потебни, А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, В. А. Богородицкого, В. И. Чернышева, С. П. Обнорского, Л. А. Булаховского, П. С. Кузнецова, Ф. П. Филина и др. В их исследованиях прослеживается историческая судьба падежных форм, указываются случаи варьирования и некоторые причины, определившие смешение и изменение падежных окончаний. Немало учебного времени уделяется изучению этих сложных (и даже спорных) фактов русского языка в школьной программе. Однако соотношение орфологических вариантов в наши дни (в особенности их функциональные различия) рассматриваются не всегда достаточно полно. Отчасти это вызвано тем, что самые капитальные работы нормативного характера построены в основном на материале литературного языка XIX в., уже не всегда отражающего современное соотношение морфологических вариантов.
Обширная научная литература посвящена истории и конкуренции форм родительного падежа на -а (-я) и на -у(-ю): сахара — сахару, чая — чаю. Принято считать, что постепенно устаревающую форму на -у(-ю) в современном языке сохраняют следующие разряды имен: 1) вещественные существительные при обозначении части целого (кружка квасу, кусок сыру) , 2) некоторые собирательные и отвлеченные существительные (много народу, мало жару)-, 3) некоторые существительные в предложных сочетаниях (из лесу, с испугу) и в составе устойчивых фразеологических оборотов (с миру по нитке, нашего полку прибыло, сбиться с панталыку). В остальных случаях рекомендуется употреблять форму на -а (-я): вкус чая, производство сахара, среди народа пт. п. Обычно указывается также на стилистическое различие этих падежных форм (оно было отмечено еще М. В. Ломоносовым): формы на -у(-ю), в отличие от нейтральных форм на -а(~я) стилистически несколько снижены, носят разговорную окраску.
Эти правильные выводы о соотношении конкурирующих вариантов нуждаются все же в некоторых дополнениях и уточнениях.
Во-первых, формы родительного падежа на -у(-ю) дольше удерживаются у односложных или двусложных слов (исконно русских или ранних заимствований): квас, чай, воск, сыр, лук, сахар, творог, табак и т. п. При этом некоторые из них чаще даже принимают флексию -у, чем -а. Например, в литературном языке XIX в. полностью господствовал вариант квасу; в современной литературе зафиксировано: квасу (М. Горький, В. Катаев, Никитин, Замятин, Шукшин, Герман, Саянов, Сартаков, Соколов-Микитов, Проскурин и мн. др.), кваса (Л. Леонов, Нилин, М. Алексеев, Г. Марков). Варианты чаю и чая у современных писателей оказались равновероятными. Зато у трехсложных заимствованных слов (шоколад, лимонад, нафталин, рафинад и т. п.) значительно интенсивнее распространяются формы на -а(-я). Для многосложных же слов (беспорядок, переполох, пирамидон и т. п.) окончание -у(-ю) вообще малохарактерно.
Во-вторых, отчетливо обнаруживается зависимость выбора форм на -у(-ю) или -а(-я) от синтаксических конструкций. Если в именных словосочетаниях при обозначении части целого допустимо употребление обоих форм: кусок сахара (сахару), чашка чая (чаю) и т. п., то в глагольно-именных словосочетаниях (при наличии переходного глагола) естественной и нормативной для современного языка продолжает оставаться форма на -у(-ю): положить сахару, заварить чаю, нарезать сыру, налить супу и т. п. Примечательно, что в этих случаях В. И. Чернышев особенно настойчиво рекомендовал сохранять форму на -у(-to), оценивая новые варианты как мнимо грамотные (см.: Правильность и чистота русской речи. Пг., 1915). Вот некоторые примеры из современной художественной литературы, где применение формы на -у(-ю) обусловлено управляющим переходным глаголом, а — формы на -а(-я) зависят от управляющего имени: Ты только садись и поешь супу... [Она] налила ему полную тарелку супа с вермишелью (Лидин. Индийский гость); Зиновий Семенович еще отпил чаю... — Принесите по стакану чая (Герман. Я отвечаю за все).
В-третьих, формы на -у(-ю) прочно удерживаются (и дахсе являются предпочтительными) при употреблении в родительном падеже уменьшительных имен медку, чайку, сахарку, кофейку и т. п. Это, очевидно, вызвано типичными синтаксическими и контекстными условиями употребления уменьшительных имен (наличие переходного глагола, эмоционально-экспрессивный характер высказывания).
Следует, наконец, отметить, что выбор форм родительного падежа находится в некоторой зависимости и от особенностей предлогов. Например, с предлогом от, который, обозначая внешнюю и внутреннюю мотивировку действия, качества или состояния, способствует большей расчлененности представления, употребляются чаще продуктивные формы на -а(-я): от голода, от смеха и т. п. Наоборот, с предлогом с(со), обозначающим только внутреннюю причину состояния и употребляющимся в кругу разговорных выражений, предпочтительными оказываются формы на -у(-ю): с голоду, со смеху и т. р.
Лексико-синтаксическая обусловленность наблюдается также и у некоторых вариантов родительного падежа множественного числа. Как известно, грамматическая норма особенно неустойчива у отдельных наименований единиц измерения (граммов — грамм), у слов, обозначающих фрукты, плоды, овощи (апельсинов — апельсин), а также в наименованиях парных предметов (носков — носок).
Относительно конкурирующих форм родительного множественного слова грамм (сто граммов или грамм?) высказывались весьма разноречивые мнения. Во многих пособиях и руководствах по стилистике форма с нулевой флексией (сто грамм) категорически запрещается. В современных словарях предпочтение отдается традиционной форме — граммов. Например, в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления» (1973): граммов и допустимо грамм. Смягчение нормативной оценки формы грамм (вм. граммов) вызвано массовым вхождением этого варианта не только в устную, но и письменную речь. Примечательны статистические данные, приведенные исследователем Л. К. Граудиной: при магнитофонной записи устной речи все 400 информантов употребили форму грамм (а не граммов). Бракуемая форма грамм широко представлена и в современной художественной литературе, в произведениях Лавренева, Берггольц, Вс. Вишневского, Германа, Овечкина, Троепольского, Солоухина, В. Кожевникова, Р. Рождественского, Лукннц-кого, Ф. Абрамова, Р. Казаковой, Бека и др. В защиту ее выступил знаток русского языка, писатель К. Чуковский. Вот что он писал в. книге «Живой как жизнь» (1962): «Теперь мне даже странно вспомнить, как сердило меня на первых порах нынешнее словосочетание: сто грамм. «Не сто грамм, а сто граммов!» — с негодов|нием выкрикивал я. Но мало-помалу привык, обтерпелся, и теперь эта новая форма кажется мне совершенно нормальной».
Не менее распространено в разговорной речи и колебание в формах родительного множественного у названий фруктов и овощей (в особенности у слов с основой на сонорный согласный, что, как отмечалось выше, предрасполагает к формальному варьированию). Весьма выразительны записи устной речи (1962 — 1963 гг.): абрикос — абрикосов — 452 (цифра слева обозначает число форм с нулевой флексией, справа — форм на -ов), апельсин — апельсинов — 1000, банан — бананов — 1139, баклажан — баклажанов — 1000, гранат — гранатов — 482, мандарин — мандаринов — 473, помидор — помидоров — 3946 («Русский язык и советское общество». М., 1968). Употребление форм апельсин, мандарин (вм. апельсинов, мандаринов) встречается и в художественной литературе у М. Горького, Есенина и других советских писателей.
Однако было бы опреметчивым признать равноправность форм на -ов и форм с нулевой флексией. И дело здесь не только в престиже традиционной формы на -ов, предпочитаемой в письменной (особенно научной и официально-деловой) речи. Весьма существенно то, что рассматриваемые морфологические варианты обнаруживают определенную зависимость от значения падежа и характера словосочетаний. Так, варианты с нулевой флексией не только свойственны разговорной речи, но и употребляются обычно в стандартных количественных сочетаниях со словами, обозначающими единицы измерения (сто грамм, килограмм апельсин, тонна помидор). При обозначении же, например, отдельных, считаемых предметов или в других значениях родительного падежа применяются только формы на -ов (пять мандаринов, запах апельсинов, ящик из-под помидоров и т. п.).
Таким образом, помимо наличия стилистической окрашенности, формы родительного множественного с нулевой флексией постепенно приобретают особую и синтаксическую специализацию, употребляясь преимущественно в счетных словосочетаниях. Это подтверждает предположение С. П. Обнорского о взаимосвязи нулевых флексий в родительном падеже множественного числа с «представлением о счетности», например двое грабель, но продажа граблей (и грабель).
Поистине драматической страницей в русистике остается судьба форм именительного множественного на -ы(-и) и -а(-я). Горячие споры о правомерности и границах употребления новых вариантов на -а(-я) не стихают уже более столетия и вышли за стены научных учреждений и учебных аудиторий.
Общее направление развития языка и следующей за ним переоценки форм здесь как будто очевидно — это все более широкое вхождение и нормативное признание продуктивных форм на -а(-я). Форма домы была обычной для литературного языка XIX в. (Гоголь, Жуковский, Майков, Полежаев, Гончаров и др.), она встречалась еще в поэзии начала XX в. (Блок, Асеев), но уже совершенно неприемлема в наши дни. Грубой ошибкой считалась в конце XIX — начале XX в. форма поезда, сейчас, наоборот, странно было бы услышать рекомендуемую учителями гимназий форму поезды. Пуристски настроенные блюстители языковой нравственности еще и сейчас поднимают голос протеста против таких, уже узаконенных даже словарями форм, как директора, профессора и т. п. Но жизнь берет свое, и все новые и новые имена мужского рода принимают в именительном множественного ударную флексию -а.
В словаре-справочнике «Трудности словоупотребления» (1973) формы слесаря, токаря квалифицировались как разговорные варианты, в Орфографическом словаре (1974) и «Словаре трудностей» (1976) формы слесари и слесаря, токари и токаря признаются равноправными. Действительно, форма слесаря широко представлена в современной художественной литературе (причем в авторской речи) в произведениях Сельвинского, А. Грина, Кассиля, М. Кольцова, Паустовского, Полторацкого, Гайдара, Солоухина, Кочетова и др. Например: Бетонщики и слесаря, плотники и землекопы... бежали к среднему протоку (М. Кольцов. Только одна страница);
Гру&чики, железнодорожники, слесаря с неотмываемы-ми тенями вокруг глаз... (Кассиль. Вратарь республики); За перегородкой... десятники, слесаря и паров-щики (Полторацкий. В дороге и дома).
Нормативно-стилистическая переоценка коснулась значительного количества новообразований на -а(-я). В 1944 г. С. П. Обнорский считал литературно нормализованными только формы редакторы, прожекторы, ка-теры, секторы, крейсеры. Новый орфографический словарь (1974) узаконил в качестве допустимого варианта письменной нормы не только формы редактора, прожектора, катера, сектора, крейсера, но и бухгалтера, договора, корректора, табеля и др.
И все-таки, несмотря на массовое вхождение новых форм на -а(-я) и даже нормативное признание, многие из них (например, бухгалтера, договора, корректора и т. п.) производят впечатление второсортности, стилистической сниженности. Причем даже проникновение их из профессиональной речи в художественную литературу не может служить надежным доказательством стилистической равноценности новообразований на -а(-я) и традиционных форм на -ы(-и). Большинство новых вариантов на -а(-я) остаются функционально ограниченными: ими не следует, например, пользоваться в научной, официальной и тем более в торжественной речи.
Современные лингвистические взгляды на соотношение рассматриваемых морфологических вариантов опираются главным образом на их стилистическую противопоставленность (многие формы на -а(-я) относятся к сфере просторечия и профессиональной речи), социальную приуроченность (формы на а (-я) чаще наблюдаются у рабочих, служащих и студентов-нефилологов), а также смысловое разграничение: считается, что слова с предметным значением свободнее принимают флексию -й(-я), чем, скажем, слова, обозначающие лиц (Русский язык по данным массового обследования. М., 1974).
Кроме того, есть и чисто формальные ограничения для распространения и признания нормой флексий на -а(-я) в именительном падеже множественного числа. Оказывается, их получают сейчас главным образом дву-, трехсложные существительные мужского рода с основой на сонорный (в особенности — плавный) звук, например: тополя, купола, клевера, якоря и т, п, Напротив, многие односложные слова (суп, торт, план и т. п.), как и многосложные (ср.: токарь — токари и токаря, но библиотекарь, только — библиотекари), сохраняют традиционные формы: супы, торты, планы и т. п. Впрочем, и среди односложных слов есть немало таких, у которых утвердилась новая флексия: года, снега, тома и т. п.
При оценке конкурирующих вариантов падежных форм нельзя не учитывать влияния и изменения социальных факторов: повышения общеобразовательного уровня, роста авторитета книги и литературно-письменной традиции. Так, в последние годы обнаружился некоторый спад в употребляемости форм на -а(-я), вызванный реакцией на натиск просторечной стихии, активным вмешательством школы, общественным признаком и одобрением охранительно-языковой политики.
Хотя морфологические нормы русского литературного языка изучены и описаны в грамматиках достаточно обстоятельно и, будучи представленными на письме, сравнительно легче поддаются регламентации (чем, скажем, нормы ударения), и в этой области мы непрестанно сталкиваемся с колебаниями и сомнениями. Дело в том, что, несмотря на устойчивость письменной традиции, морфология также оказалась ареной борьбы между разнонаправленными притягательными силами, порождающими новые варианты и создающими конфликт нормы. Достаточно вспомнить такие, например, слова, как холодина или цунами, у которых колебание в грамматическом роде вызвано противоборством между формой и содержанием.
Следовательно, происшедшее относительное уменьшение количества вариантных пар в морфологическом строе современного языка по сравнению с XIX в. вовсе еще не говорит о том, что варьирование форм окончательно преодолено. Вечная эволюция языка подтачивает даже закрепленные на письме и охраняемые грамматическими пособиями правила образования форм. С другой стороны, дублетность в морфологии современного русского литературного языка уже не представляется целиком избыточной. Многие вариантные формы приобрели ту или иную функциональную нагрузку, став при этом важным стилистическим ресурсом языка (ср.: в отпуске и в разговорной речи в отпуску; сыновья и в торжественной речи сыны, например: сыны отечества). Весьма существенной является закрепленность параллельных морфологических форм за определенными синтаксическими конструкциями (ср.: чашка чая, тарелка супа, но в сочетании с переходными глаголами обычно: налить чаю, супу). Такая приуроченность форм, свидетельствующая об их функциональном своеобразии, не может не учитываться в нормативной практике и при обучении русскому языку в школе.
Дополнительная литература
Алексеев Д. И. Аббревиатуры как новый тип слов. — В сб.: Развитие словообразования современного русского языка. «Наука». М., 1966.
Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М., «Наука», 1963.
Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. М.., Учпедгиз, 1954.
Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М.. — Л., Учпедгиз, 1947.
Граудина Л. К. О нулевой форме родительного множественного у существительных мужского рода. — В сб.: Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., «Наука», 1964.
Граудина Л. К. Опыт количественной оценки нормы (форма род ед. чая — чаю). — В сб.: Вопросы культуры речи. Вып. VII. М., 1966.
Граудина Л. К, Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи (Опыт частотно-стилистического словаря вариантов). М., «Наука», 1976.
Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы. М.., «Просвещение», 1975.
Дружинина А. Ф. Изобилующие глаголы. — «Учен. зап. МОПИ им. Н. К. Крупской», 1967, т. 204, вып. 14.
Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., «Наука», 1967.
Иванова Т. А. Именительный множественного на -а (рода, тенора, госпиталя) в современном русском языке. — В сб.: Развитие русского языка после Великой Октябрьской социалистической революции. Изд-во ЛГУ, 1967.
Мучник И. П. Категория рода и ее развитие в современном русском литературном языке. — В сб.: Развитие современного русского языка. М., Изд-во АН СССР, 1963.
Обнорский С. П. Именное склонение в современном русском языке. Вып. 1. Л., Изд-во АН СССР, 1927; вып. 2. Л., Изд-во АН СССР, 1931.
Обнорский С. П. Очерки по морфологии русского глагола. М., Изд-во АН СССР, 1953.
Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. М., «Высшая школа», 1974.
Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. М., «Наука», 1968.
Русский язык по данным массового обследования (Опыт социально-лингвистического изучения). М., «Наука», 1974.
Соколова М. А. Очерки по исторической грамматике русского языка. Изд-во ЛГУ, 1962.
Текучев А. В. Преподавание русского языка в диалектных условиях. М., «Педагогика», 1974.
Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. М., «Наука», 1972.
Чернышев В. И. Правильность и чистота русской речи. — Избранные труды. Т. I. М., «Просвещение», 1970.
Шанская Т. В.. О роде сложносокращенных имен существительных в современном русском языке. — «Русский язык в школе», 1964, № 1.
Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. Изд. 4-е. М., Учпедгиз, 1941.
Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., Учпедгиз, 1957.
Глаза седьмая
СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Развитию и описанию синтаксического строя русского языка посвящено немало научных трудов. Во многих из них указывается на отмирание старых и нарождение новых форм грамматической связи, рассматривается состояние и изменение синтаксических норм. Однако большинство из таких работ рассыпано в специальных научных зданиях, практически мало доступных для учителя средней школы.
Между тем в области синтаксиса (особенно в формах управления и согласования) чрезвычайно широко представлена вариантность способов выражения, ожесточенно идет борьба между традицйонной синтаксической нормой и новыми, зарождающимися моделями сочетания слов. Общеизвестны трудности, возникающие как при выборе форм управления и согласования, так и при практическом усвоении грамматических правил в школе. Не случайно Л. В. Щерба, подчеркивая необходимость создания активной грамматики русского языка, обращал особое внимание на распространенные ошибки и колебание норм именно в управлении и согласовании (см.: Щерба Л. В. Трудности синтаксиса русского языка для руеских учащихся. — «Русский язык в советской школе», 1936, № 3).
I. ВАРИАНТНОСТЬ В ФОРМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Выбор правильной формы управления едва ли не самое трудное в современной устной и письменной речи. Как следует сказать: отзыв о диссертации или на диссертацию, контроль над производством или за производством, способен на жертвы или к жертвам, памятник Пушкину или Пушкина, вершить судьбами или судьбы? На сотни подобных вопросов регулярно отвечает справочная служба Института русского языка Академии наук СССР в Москве и Ленинграде.
Серьезные затруднения в этом плане возникают и при обучении русскому языку в школе. Каждый учитель знает, как часто, к сожалению, встречаются в сочинениях ошибки: уверенность в победу (вм. в победе), настал предел терпения (вм. терпению) и т. п. В разговорной речи то и дело можно услышать: уделять внимание на внеклассную работу (вм. уделять внимание чему — внеклассной работе), оплачивайте за проезд (вм. оплачивать что — проезд), подчеркнуть о необходимости созыва собрания (вм. подчеркнуть что — необходимость созыва собрания) и т. п.
Трудности в выборе формы управления в значительной мере предопределяются сложностью этого языкового явления и отсутствием специального нормативного справочника. До настоящего времени проблема управления остается решенной не до конца. Нет общего мнения о сущности и разновидностях управления, способов отграничения его от других типов подчинительной связи. Многие ученые справедливо указывают на двойственную природу этого синтаксического явления. Управление — это факт и лексики, и грамматики. Форма здесь особенно тесно связана с конкретным содержанием и индивидуальной судьбой данного слова, как бы заряженного определенными синтаксическими потенциями. «Следует предостеречь, — замечал еще Л. В. Щерба, — от общераспространенного предрассудка, будто, управление слов определяется грамматикой; на самом деле оно чаще всего оказывается принадлежностью каждого слова, а поэтому является фактом словаря» (Преподавание иностранных языков в средней школе. М. — Л., 1947, с. 96).
Вывод Л. В. Щербы, вероятно, слишком категоричен. Существуют определенные семантические разряды слов с более или менее однотипными формами управления. Однако для большого числа слов форма управления, действительно, остается «индивидуальной принадлежностью», обусловливаемой не только значением управляющего слова, но и значением управляемого, а иногда зависящей даже от характера и лексического наполнения более сложной конструкции. Так, например, говорят обращать (направлять, устремлять и т. п.) внимание на кого, на что. Однако при сочетании с другими глаголами норма управления меняется: уделять (оказывать) внимание кому, чему; проявлять (приковывать, усиливать) внимание к кому, к чему; сосредоточивать (акцентировать, задерживать, заострять, останавливать, фиксировать) внимание на ком, на чем.
Многие ошибки в форме управления объясняются неразличением близких, но не тождественных по смыслу слов. В одном из школьных сочинений встретилась, например, такая фраза: Важно различать друзей от врагов. Неправильное употребление вызвано смешением глаголов различать и отличать, имеющих разные формы управления. Типичная ошибка абитуриентов уверенность в победу родилась под влиянием конструкции с синонимичным словом вера (вера в победу). В результате контаминации (так называют языковеды синтаксическое преобразование в результате смысловой или формальной аналогии) появляются также, например просторечные обороты, как преимущественно над кем, над чем н превосходство перед кем, перед чем вместо правильных: преимущество перед кем, перед чем и превосходство над кем, над чем.
Чтобы избежать ошибок в форме управления, следует различать не только лексическое значение слов, но и грамматическое содержание той или иной конструкции. Например, слово памятник в значении скульптурное сооружение в честь какого-либо лица в обороте, указывающем на адресат, употребляется с дательным падежом — памятник кому; например: памятник Пушкину, Суворову и т. п. При указа1ии же на исполнителя (фамилию скульптора) ставится родительный падеж принадлежности — памятник кого; например памятник Аникушина, Козловского и т. п. Между тем высокая продуктивность родительного приименного и невнимание к грамматическому содержанию нередко приводят к синтаксическим ошибкам, типа памятник Пушкина.
Причины изменения норм в управлении и функциональные особенности синтаксических вариантов
Как и другие правила, касающиеся употребления язы-. ковых единиц, нормы управления не являются вечными и нерушимыми. Более того. Есть основания говорить об их особой подверженности к изменению и вариативности. Возможно, это объясняется различиями в свойствах долговременной памяти (где «хранятся» слова) и оперативной памяти (где «формируется» сообщение), а также тем, что способ нормативного соединения элементов при всей его важности имеет все же меньшее значение для передачи мысли (как говорят лингвисты, коммуникативное значение), чем сами элементы. В основе акта понимания лежит содержание слов (ср. возможность правильного осознания неграмотно построенной фразы, вроде «Я — театр — идти — хотеть» как Я хочу пойти в театр). Хотя нарушение норм соединения слов и ведет нередко к смысловым неточностям и даже непониманию, это, по-видимому, представляет собой меньшую опасность для языкового общения, чем несоблюдение норм употребления самих слов — строительного материала нашей речи.
Конечно, такая оценочная характеристика коммуникативной значимости языковых единиц и способов их соединения весьма относительна и условна. В то же время известно, что даже опытный, хорошо владеющий литературным языком лектор, выступая без подготовленного текста, почти всегда допускает отклонения от синтаксических норм. Примечательно, что многие нарушения такого рода практически не влияют на содержание речи и часто даже остаются не замеченными слушателями (обнаруживаясь уже впоследствии при чтении стенограммы).
С другой стороны, требования логической стройности и последовательности самого мышления, как и стремление к упорядочению форм соединения слов, ведут к постепенному сокращению вариантности и в управлении.
Мнение некоторых исследователей о росте синтаксической вариантности в современной устной и письменной речи в целом представляется сомнительным. Напротив, есть свидетельства того, что вариантность управления в прошлом была гораздо большей. Например, слово надежда управляет сейчас только винительным падежом с предлогом на-, надежда на выздоровление. В текстах же XVIII в. встретились четыре формы управления: 1) надежда о чем; например: Уже не имел надежды о его исцелении (Болотов, Записки); 2) надеокда к чему; например: Надежда к возвращению здравия ее была незрима (Елагин. Приключения марки за Г.); 3) надежда чего; например: Надежды бел-возмездия (Радищев. Житие Ушакова); Надежда выигрыша («Московский журнал», 1791);
4) надежда на что; например: Надежда на правосудие судей («Московский журнал», 1791).
Как и при варьировании на уровне слова (колебания .в ударении, произношении и т. д.), вариантность форм управления является следствием развития языка и определяется внутрисистемными и внешними факторами (к последним, например, относятся синтаксические галлицизмы, влияние украинского языка и т. п.) Важно подчеркнуть, что в настоящее время основные причины изменения и колебания форм управления заключены, так сказать, внутри самого русского литературного языка. Внешние факторы временны, преходящи и, как правило, лишь активизируют возможности, запрограммированные системой языка.
Таким образом, причинами перестройки управления и возникновения синтаксической вариантности в современном русском языке являются: а) приведение в соответствие формы и содержания языковой единицы; б) смысловая и формальноструктурная аналогия; в) семантическое преобразование главного компонента словосочетания; г) воздействие формы управления у производящей основы; д) появление стандартизованных словоблоков, что нередко ведет к переразложению структуры словосочетаний и к разрушению традиционных синтаксических связей.
Можно думать, что в процессе эволюции синтаксических форм находит отражение и общее развитие человеческого мышления в сторону абстрагированности и замены конкретно-пространственных представлений более отвлеченными формами соотношения понятий.
В этом смысле показательна, например, утрата предлога от в конструкциях, генетически связанных с пространственными взаимоотношениями. Например, глагол сторониться в литературном языке XIX в. употреблялся во всех значениях с предлогом от: Люди сторонились от черных фур с трупами (Герцен. Былое и думы); — Хорошо ли будет, если я буду избегать общества, сторониться от каждой женщины? (А. Островский.
Блажь); Агент сторонился от ухаживаний и долго отказывался от обедов (Чернышевский. Что делать?) ; Он никогда не отличался общительностью, а за последний год стал еще больше сторониться от людей (Куприн. Лесная глушь). Хотя конструкция сторониться от кого, от чего еще и встречается у советских писателей (М. Горький, Лаптев, Лебеденко и др.), нормой современного языка становится беспредложный (и лишенный пространственного представления) оборот сторониться кого, чего: сторониться транспорта, друг друга, общества, людей, развлечений и т. п.
Следует отметить, что в реальной жизни языка изменение синтаксических потенций слова происходит обычно в результате воздействия не одного, а нескольких указанных выше факторов. Типичным примером варьирования, возникшего в связи с неэквивалентностью содержания и формы и последующим воздействием аналогии, может служить параллельное управление у глагола вео-шить: вершить что (судьбы) или вершить чем (судьбами). Судя по письменным источникам прошлого, глагол вершить в XVIII — XIX вв. был переходным и употреблялся в значении оканчивать, совершать с узким кругом семантически близких слов (вершить суд, дело, судебное дело). «Валентность» этого глагола начинает практически изменяться лишь в XX в. Он вступает теперь уже в сочетание со словами история, судьба и т. п., первоначально опять-таки требуя от управляемых существительных только винительного падежа: вершить историю ( Слуцкий), вершить судьбу (Фадеев). Воздействие нового окружения (т. е. новой формы) приводит к появлению нового содержайия — значения распоряжаться, управлять. Этому содержанию перестает соответствовать старая форма — винительный падеж. Под влиянием внешней аналогии глагол вершить перенимает новую форму управления (творительный падеж) у синонимичных слов управлять, распоряжаться.
Такова одна из общих и очень продуктивных схем образования варьирования и сдвига нормы в управлении.
Естественно, что действие аналогии ведет не только к изменению нормы, но и. к многочисленным ошибкам в управлении. Например, появление нового значения у глагола тормозить — мешать, препятствовать сопровождается автоматическим подравниванием в форме управления синонимичным глаголом. Возникает форма тормозить кому, чему вместо правильного управления тормозить что (тормозить работу, строительство и т. п.). Ср. в прямой речи: — Бригадир тормозит мне {Т р о е-польский. У крутого яра). Под влиянием конструкции пренебрегать кем, чем возникает ошибочное употребление у глагола игнорировать: игнорировать кем, чем вместо правильного игнорировать кого, что. Например: Руководители вышеуказанных колхозов явно игнорируют дальнейшим развитием производства («Колхозный путь», 1960, № 32). Нередко отступления о; норм являются следствием воздействия форм управления у однокоренных слов. Ошибочные конструкции: участник в борьбе, удивленный решению (вм. участник борьбы, удивленный решением) появились в результате незаконной подстановки формы управления слов участвовать (в чем), удивляться (чему).
При нормативной оценке вариантных форм управления закономерно возникает трудноразрешимая и, в сущности, вечная проблема: как отграничить реальные и неизбежные изменения синтаксических норм, обусловленные воздействием аналогии и других факторов, от речевых ошибок, которые часто вызываются практически теми же причинами?
К сожалению, единого и строго объективного критерия такого разграничения нет, что, в общем-то, и естественно, так как многие продуктивные новообразования зарождаются в разговорно-просторечной стихии и на первых порах часто вызывают неодобрение и даже резкое осуждение. Думается, впрочем, что некоторые общие принципы различения правильного и неправильного мо-гуть быть найдены. Так, если новая форма управления позволяет четче разграничивать разные значения слова (т. е. содействует осуществлению принципа единства содержания и формы) либо несет функционально-стилистическую или иную полезную нагрузку и при этом регулярно воспроизводится в письменной речи (особенно у писателей), то ее уже вряд ли можно считать отклонением от нормы.
Так, едва ли правы те, кто осуждает весьма продуктивное и жизнеспособное управление поражаться чему, возникшее под влиянием синонимических конструкций удивляться чему, изумляться чему и отграничивающее новое значение глагола поражаться (сильно удивляться) от исконного подвергаться поражению. Ср. у современных писателей: Мы поражаемся размаху и стремительности строительства новой жизни (Н. Островский. Рапорт X съезду ВЛКСМ); Наблюдая работу Ленина над книгой, я всегда поражался его особому умению быстро отделять пшеницу от плевел (Кржижановск и й. Ильич); До последнего дрался «Стерегущий», весь мир поразился его отваге (С а рта ков. Хребты Саянские); Климин... поразился возбуждению и злости, которые играли на лице Стальмахова (Ли бед ин с кий. Неделя); Когда он до конца понял ее, то поразился той выносливости, которой отличалась эта-тихая светловолосая женщина (Николаева. Жатва). Я поражаюсь благородству лиц (Борисова. Фотографии в музее революции). С другой стороны, конструкция поражаться чем (отвагой, мужеством, благородством и т. п.) постепенно выходит из употребления.
Конечно, степень освоения литературным языком новых форм управления различна. Нормативные «рецепты» для каждой из многих сотен нарождающихся синтаксических конструкций могут быть даны лишь в словаре, подчиненном этой особой задаче. Следует при этом учитывать, что расшатыванию традиционной синтаксической нормы способствуют как стилистические и иные свойства самого управляющего слова, так и различные фразовые особенности употребления. Например, широкий диапазон варьирования форм управления характерен для некоторых разговорных слов: убиваться по ком, по кому, о ком; умиляться кем, кому, на кого; чутье чего, на что, к чему. Активизация употребления и расширение смысловых и лексических связей ведет к росту вариантных форм управления стимул чего, для чего, к чему; прогноз чего, о чем, относительно чего.
Ослабление нормативных синтаксических связей наблюдается при отрыве (так называемой дисконтактно-сти) управляющего слова и управляемого. Правильно: получать доход от чего (от промышленности, от торговли и т. п.), но извлекать доход из чего (из промышленности, из торговли и т. п.). Однако при инверсии и отрыве управляемых слов даже в авторитетных изданиях можно встретить, например, такие фразы: От реализации продукции предприятие извлекает (вм. получает) значительные доходы.
Амортизация норм управления происходит в результате влияния устойчивых сцеплений слов (словоблоков) и переразложения трехчленных словосочетаний (например: подвести итоги — соревнованиюподвести итоги — соревнования; подробнее см. ниже), а также вследствие усечения (эллипса) синтаксических конструкций.
Не следует думать, что варьирование форм управления всегда является избыточным и поэтому лишь препятствует речевой практике. Наряду с действительно излишними синтаксическими дублетами имеется немало таких параллельных форм, которые обладают определенным функциональным своеобразием. Чаще всего это выражается в особой лексической сочетаемости, связанной с оттенками значения управляющего слова.
Например, слово договор в обобщенном значении соглашение употребляется с предлогом о: договор о мире, о дружбе, о взаимопомощи, о соревновании и т. п. В более конкретном значении деловое, торговое соглашение; контракт употребляется и конструкция договор на что: договор на перевозку грузов, на поставку оборудования, на продажу тары и т. п. В издательской практике используется только конструкция договор на что: договор на книгу, на брошюру, на сборник и т. п.
Показательны в этом отношении и особенности форм управления у слова контроль. Судя по материалам современной литературы и прессы, конструкции контроль за чем и над чемв одинаковой мере допустимы в сочетании со словами глагольного происхождения, обозначающими действие, процесс. Например: контроль за (или над) выполнением, соблюдением, использованием, расходованием, распределением, внедрением и т. п. Применительно же к отвлеченным словам типа промышленность, запасы, средства, ресурсы, энергия, оружие, финансы и т. п. чаще употребляется конструкция контроль над. Обычно говорят: контроль над расходами («Известия», 1975, 23 окт.), контроль над рождаемостью («Лит. газ.». 1974, 9 янв.; «Коме, правда», 1976, 14 янв.). Употребление беспредложной конструкции (контроль чего), как правило, ограничено рамками официальной и профессиональной речи: контроль деятельности администрации, диспетчерский контроль движения поездов и т. п.
Социально-профессиональная закрепленность характерна и для многих других вариантных форм управления. Например, у геологов в ходу такие обороты, как разведка на нефть, на золото. В профессиональной речи сохраняются прямое дополнение при глаголе наблюдать и приименной родительный при существительном наблюдение. Например, у военных: наблюдать движение пехоты, наблюдение цели; у врачей, биологов: наблюдать больного, наблюдение природы; у астрономов, метеорологов: наблюдение светил, наблюдать направление ветра н т. п.
Разнообразны и лексико-грамматические особенности в применении вариантных форм управления. Многие традиционные способы синтаксической связи сохраняются и остаются предпочтительными в фразеологических выражениях, в инверсированных оборотах, при вопросительной интонации и т. д.
Так, постепенно устаревающий дательный приименной прочно удерживается в некоторых глагольно-именных словосочетаниях и устойчивых выражениях. Например, в обычных именных сочетаниях говорят конец чего: конец веревки, конец рабочего дня, у конца села, в конце вимы. Форма с дательным падежом (конец чему) употребляется в особых конструкциях: класть (положить) конец чему, наступил (настал) конец чему, нет (не будет) конца чему, а также с предшествующим местоимением (всему, этому и т. п.). Ср. в типичных фразах: положить конец зверствам, настал конец войне и в классической литературе: А капризам ее нет конца (Гоголь. Сорочинская ярмарка); Всему в мире есть конец (С. Аксаков. Семейная хроника).
Распространение конструкций с винительным падежом
Притягательная сила винительного прямого объекта и увеличение числа конструкций с этим падежом за счет других форм (главным образом родительного и дательного) — очевидный факт современной речи. О выраженной тенденции употреблять винительный приглагольный вместо иного падежа писал еще в 1930 г. Л. В. Щерба.
Известно также, что в процессе развития русского языка сфера употребления родительного неполного объекта постепенно суживалась и, наоборот, расширялись возможности применения винительного падежа (рубить дрова, посмотреть город и т. п.). Многие глагслы (например, благодарить, бранить, окурить, насиловать, поносит, судить, терпеть, укорять, хвалить и др.) утратили управление дательным падежом и стали сочетаться с винительным прямого объекта. В классической литературе XIX в. еще встречаются формы с дательным падежом. У Белинского, например, сказано: насилование языку, Лермонтов писал:
Но пищу принял русский пленник И знаком ей благодарил.
(«Кавказский пленник».)
Теперь мы бы сказали насиловать кого, что; насилование языка (а не языку), благодарил ее (а не ей). Глагол презирать в XIX в. употреблялся в значении пренебрегать, управляя творительным падежом: презирать кем, чем. Например: Вы презираете отцами (Пушкин), Не презирай ее дарами (Веневитинов), Презирать мелочами (Белинский). Сейчас такое употребление уже окончательно устарело: нормой стало — презирать кого, что. Практически вытеснен винительным падежом и так называемый родительный временного пользования; ср. еще у Тургенева: Не можете ли вы одолжить мне карандашика («Новь»).
Конечно, изменение формы управления происходило не всегда в сторону укрепления винительного падежа. Есть примеры и обратного направления в историческом развитии: от винительного — к другим падежным формам. Так, например, потеряли переходное значение .глаголы воевати. правити, управляти, вредити, клеветати, мстити (ср. у Мельникова-Печерского: мстить свою обиду) и др. Еще в литературном языке XIX в. были широко представлены сочетания типа дирижировать оркестр, оперу; руководить младшего брата; протежировать сестру и т. п. Переходными тогда были и глаголы внимать и пренебрегать. Например:
Они поют, и с небреженьем
Внимая звонкий голос их..
(П у ш к и н. Евгений Онегин.)
Законы мудрые природы Я безрассудно пренебрег...
(Лермонтов. Тамбовская казначейша.)
Эти глаголы постепенно утратили значение переходности, нормой современного языка уже служит дирижировать чем, руководить кем, чем, протежировать кому, внимать кому, чему, пренебрегать кем, чем.
Однако если в прошлом колебание форм управления разрешалось по-разному и далеко не всегда в пользу винительного падежа, то для современного языка характерно все большее распространение и укрепление именно конструкций с винительным прямого объекта (здесь мы не касаемся фактов утраты переходности, вызванной изменением значения глагола). Причем наиболее ожесточенная борьба идет сейчас между родительным и винительным падежами. В некоторых случаях традиционная норма (родительный падеж) уже серьезно расшатана. Примечательно, что «агрессия» винительного падежа происходит, так сказать, по всему фронту, т. е. там, где имеется и лексическая (глаголы с достигательным и отложительным значением), и синтаксическая (словосочетания со значением неполного объекта и с отрицанием) обусловленность употребления родительного падежа. Забегая вперед, следует отметить, что нормой, или, точнее, ее предпочтительным вариантом, и сейчас остается традиционная форма .родительного. В то же время и многие конструкции с винительным уже не могут быть отвергнуты как ненормативные.
Среди глаголов с общим достигательным значением (конкретный объект желания, стремления обозначается управляемым именем) новая форма управления (винительный падеж) наблюдается чаще всего у слов ждать, искать, просить, требовать.
Действительно, в современной литературе весьма широко представлена конструкциядасдать ч то (вместотрадиционной формы ждать чего). Например: ждут автобус (Лебеденко. Однажды на курорте); ждали автобус («Коме, правда», 1976, 11 янв.); жду машину (Чаковский. Год жизни); ждали машину («Лит. газ», 1973, 14 ноября); долго ждали «скорую» (Г е р м а н. Я отвечаю за все); ждать следующий теплоход (Балтер. Проездом); ждать ре-
монтный поезд (Бораненков. Гроза над Десной); ждал зиму (Лидин. Под облаками); жду веснц (Федосеев. Пашка из Медвежьего лога); ж д ал и этот день (Тендряков. Свидание с Нефертити); ждут новый хлеб (Шест и некий. Хлеб наш насущный); жду утреннюю сводку (Вс. Вишневский. Дневники военных лет); жду результат (Богомолов. В августе сорок четвертого...); встречу ждет (Фатьянов. На переднем нашем крае); ждал встречу (Феофанов. Репортаж о мужественных); ждали новогодний праздник (Коптелов. Возгорится пламя); ждал посылку («Лит. газ.», 1974, 13 марта); жду сценарий («Учит, газ.», 1970, 1 янв.); ждать покорно беду (Полозов. Хождение за три моря); указ ждете (Проскурин. Горькие травы).
Таким образом, налицо возможность сдвига литературной нормы не только для конкретных существительных (жду автобус), но и для отвлеченных (жду встречу). Однако все же образцовым, предпочтительным в наше время следует признать управление родительным падежом; ждать встречи (а не ждать встречу). Обычно говорят ждать случая, решения, помощи, приказа, приговора, ответа, возвращения и т. п. Особенно упорно сопротивляется традиционная норма при сочетании глагола ждать с именами во множественном числе: ждать встреч, распоряжений, приказаний. Это и понятно, так как в этом случае при употреблении винительного множественного возникает опасность смешения с формой родигельного падежа единственного числа (ждать встречи, распоряжения, приказания). Естественно, только родительный падеж по-прежнему употребляется в устойчивых выражениях ждать у моря погоды, ждать как манны небесной и т. п.
Вариантность формы управления у глагола искать возникает, как правило, в сочетаниях с существительными отвлеченного характера. Говорят и пишут: искать опоры и опору, искать поддержки и поддержку, искать дороги и дорогу, искать ночлега и ночлег, искать спасения и спасение и т. п. Колебание нормы находит отражение в современной литературе. Ср. при соотносительных значениях в родительном падеже: ищет выхода
(Вс. Вишневский. Дневники военных лет)-; искал выхода («Лит, газ.», 1975, 3 дек.); ища спасения (Никал дров. Седой Каспий); искать счастья (Лидин, Майский дождь); искать иного счастья (Яшин. С матерью наедине); ища ответа (Бондарев. Родственники); в винительном падеже: ища выход (Бакланов. Июль 41 года); ищут выход («Известия», 1973, 28 сент.); искать выход («Ленинградская правда», 1975, 4 ноября); искал спасение (Федин. Необыкновенное лето); искать легкое счастье (Тендряков. Свидание с Нефертити); счастье-долю искать (Ф едоров. Сосновый острог); ищет ответ (Бондарев. Берег).
Показательно, что в литературном языке XIX в. заметно преобладали конструкции с родительным падежом. Пушкин писал так: Он [Дубровский] встал и пошел искать дороги домой. Наш современник в этой фразе охотнее употребил бы форму винительного падежа: ...пошел искать дорогу домой. Устаревающим представляется и такое, например, сочетание с родительным: искать следов, мы сказали бы сейчас: искать следы. Но ср.:
Издавна мудрые искали
Забытых истины следов.
(Пушкин. Истина.)
Распространение и укрепление в современном языке конструкций типа искать опору, искать пути решения, искать резервы, искать истину и т. п. — самоочевидный факт. Браковать такие употребления уже нет оснований. Более того, в некоторых устойчивых словесных блоках винительный падеж становится даже более естественным (например: и ска т ь выход из создавшегося по~ ложения). С другой стороны, при наличии у глагола искать смыслового оттенка добиваться, стремиться предпочтительной все же остается традиционная форма родительного падежа: искать сочувствия, любви, славы, покоя и т. п.
В отдельных случаях можно говорить о взаимозависимости формы управления и степени определенности объекта. Ср.: искать брода и брод, искать дороги и дорогу. Конструкции с винительным обычно связываются с большей определенностью объекта (именно этот брод, именно эту дорогу). Они характерны и при употреблении отвлеченного существительного в опредмеченном значении, Ср. норма: искать любви, но в стихах И, Сель-
винского мы встречаем: Иной читает только в дороге, Пейзаж пропускает, ищет любовь. В этом примере речь идет о более конкретном — описаниях любви.
Реже встречаются конструкции с винительным у глаголов просить, попросить. Традиционная норма управления прочно сохраняется в словосочетаниях с отвлеченными именами: просить помощи, совета, разрешения, извинения, помилования, пощады, снисхождения и т. п. Правда, винительный падеж закрепился в выражении просить милостыню (А. Островский, Чехов, М. Горький и др.). Колебания зарегистрированы: просить, попросить слова (М. Горький, Каверин, Офин и др.)- — просить, попросить слово (Николаева, Матвеев, Бабаевский, Уксусов и др.). Конструкция с винительным стала встречаться и с несвойственным ей прежде лексическим наполнением: просить работу (Матюшина), просить прощение (М. Горький, Ратнер), просить отставку (Софро-нов) и т. п. В разговорной речи становятся обычными: просить деньги, расчет, аванс и т. п. Видимо, и здесь сказывается аналогическое влияние сочетаний с винительным типа: просить (попросить) стакан, иголку и т. п.
Значительно шире, чем у глагола просить, распространяются конструкции с винительным при глаголе требовать (возможно, это объясняется тем, что винительный падеж вообще характерен для глаголов, которые выражают наиболее активное и непосредственное воздействие на лицо. См. об этом: Скобликова Е. С. Согласование и управление в русском языке. М., 1971, с. 143). Правда, в большинстве типичных словосочетаний сохраняется традиционная норма с родительным: требовать внимания, совета, помощи, поддержки, ответа, объяснения, денег, прибавки и т. п.
• Колебание в форме управления у глагола требовать началось еще в XIX в. При наличии устойчивого управления требовать денег, уже у А. Островского и Чехова встретились конструкции с винительным падежом тре-довать деньги. В современной же литературе употребление винительного падежа (вместо традиционного родительного) стало весьма характерным. Например: требует ответ (Маяковский. Легкая кавалерия); требовал деньги (Ильф и Петров. Граф Средиземский); требовали деньги («К°мС- правда», 1976, 11 янв.); требовал дополнительные сведения (Закруткин. Сотворение мира); требует справку (Лиходеев. Хищница); требую прибавку (Л. Борисов. Шутка); требовали свекольник (С. Антонов. Разноцветные камешки); требует обед (Розов. Человечный человек) и т. п. Поэтому словарь-справочник «Трудности словоупотребления.» (1973) конструкцию с винительным (требовать что) допустил на правах разговорного варианта современной нормы управления.
Распространение конструкций с винительным в меньшей мере затронуло глаголы с отложительным значением (в сочетаниях с ними выражаются объектные отношения с оттенком удаления, лишения). Большинство из них или сохраняют беспредложное управление родительным падежом (лишать, лишаться, пугаться, остерегаться, стыдиться и др.), или имеют новую форму управления с предлогом от (бежать, избавиться, удаляться и др.). ,
Факты проникновения винительного беспредложного здесь единичны и, как правило, или ограничены профессиональной речью (бежать кросс, стометровку и т. п.), или имеют резко выраженный разговорно-просторечный характер.
Так, хотя и сейчас литературной нормой служит традиционная конструкция с родительным падежом (бояться папы, стесняться сестры, избегать тещи), в просторечии нет-нет и проскальзывает употребление этих глаголов с одушевленным существительным в винительном падеже (бояться папу, стесняться сестру, избегать тещу). Встречаются подобные конструкции и в современной литературе. Например: Б а б у ш к у-т у р ч а н к у мы боялись не меньше, чем дед (П а у с т ов с к и й. Далекие годы); — Проводи меня, а то я боюсь Полю (Грекова. Летом в городе); Бойтесь этого коварного мужчину (Жуков. Земная тревога); Гурьяныч и сам побаивается бабушку (Федо сеев. Пашка из Медвежьего лога); Он начал избегать Женьку, ссориться с ней (Солнцев. По ту и по эту сторону).
Заметно увеличение количества конструкций с винительным падежом в словосочетаниях, где зависимое слово обозначает объект, подвергающийся действию не полностью (частично). Традиционная норма требует в этих случаях родительного падежа: купить сигарет, на-
лить супу, отвеоать квасу, отхлебнуть пива и т. п. Однако «ненормативные» обороты с винительным падежом весьма широко представлены в современной литературе (чаще, правда, в функции характеризующего средства). Например: — Я сейчас, я куплю сигареты (Берез-к о. Необыкновенные москвичи); Когда приходил муж, она наливала ему суп (С. Антонов. Тетя Луша); Он отхлебнул пиво, с аппетитным хрустом стал грызть соломку (Бондарев. Родственники).
Смысловые оттенки определенности и неопределенности, целостности и частичности объекта, имеющиеся при переходных глаголах в одних сочетаниях, часто размываются, стушевываются в других и не препятствуют взаимозамене форм родительного и винительного падежей, что подготавливает почву для возникновения синтаксической вариантности и значительно осложняет нормативную оценку подобных явлений.
Особенно сильное варьирование в выборе падежных форм обнаруживается в сочетаниях лексически. ограниченных количественных переходных глаголов (прибавить, сбавить, убавить и т. п.) с существительными, обозначающими нерасчлененный объект {ход, шаг, газ, скорость и т. п.), ср.: прибавить шагу (Лермонтов, Гончаров, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Григорович, Л. Толстой, Короленко, Куприн, Фадеев, Маршак, Симонов, Закруткин, Шукшин, Федосеев и др.) — прибавить шаг (Бакланов, Вершигора, Федосеев, А. Гончароз, Нариньян); прибавить газу (В. Кожевников, Б. Половой) — прибавить газ (Бек, Бубеннов); сбавить ходу (Герман) — сбавить ход (Шолохов, Поповкин, Сартаков, Галин, Жаров, Горбатов); сбавить шагу (Достоевский, Мамин-Сибиряк, Федин) — сбавить шаг (Федин, Б. Полевой, Сартаков). Очевидно, что в этом случае продуктивная конструкция с винительным соответствует современной норме.
Рост конструкций с винительным падежом наблюдается даже в тех случаях, когда при управляющем переходном глаголе имеется отрицание (как известно, употребление винительного допускается, если существительное зависит не от самого глагола, а от инфинитива, подчиненного глаголу с отрицанием; например: я пишу стихи — я не пишу стихов, но я не умею писать стихи). В современной разговорной речи и художественной лите-
рат-уре немало фактов, противоречащих этому правилу, например: — Даже до Минска не дошел, не увидел плоды усилий! (Симонов. Последнее лето); — Я здесь двадцать с лишним лет работаю.. И не искал славу (Воеводин. Научи меня жить); В столовой дома отдыха никто не заказывал лапшу с курицей (С. Ан-тонов. Разноцветные камешки). Согласно традиционной норме здесь следовало бы применить форму родительного падежа: не увидел плодов, не искал славы, не заказывал лапши.
Колебания в употреблении количественных числительных в распределительном значении в сочетании с предлогом по начались еще в конце XIX в. Стали говорить и писать не только по пяти, по семи, по двадцати и т. д., но и по пять, по семь, по двадцать и т. д. Эти колебания не касаются числительных два, три, четыре, двести, триста, четыреста, которые с предлогом по всегда употребляются в Еинительном падеже (по два, три, четыре рубля, по двести и т. д. рублей). Развитие и закрепление новой формы ynp-авления (с винительным падежом) нашло свое отражение в оценках современных словарей и языковедов. В Словаре Ушакова конструкции с винительным типа по пять, по семь квалифицируются как простеречные. Но уже Большой академический словарь, словарь-справочник «Трудности словоупотребления» (1973) и «Словарь трудностей» (1976) характеризуют их как разговорные. «Все больше и больше прав, — замечал В. В. Виноградов, — приобретают в разговорной речи конструкции: по пять рублей, по двадцать штук, по сто рублей (по сту рублей — понимается уже как архаическое выражение)» (Русский язык. М., 1947, с. 297).
Специально проведенные наблюдения показали, что в разговорной речи сейчас действительно преобладают сочетания с винительным: по пять, по десять. Эта форма управления весьма широко представлена и в художе- ственной литературе. Современная норма допускает обе возможности: по пяти рублей и по пять рублей. Хотя в письменной (особенно официально-деловой и научной) речи предпочтительной остается конструкция с дательным (по пяти), браковать и изгонять новую форму из речевой практики уже нет оснований. Более того, можно полагать, что именно продуктивная конструкция
с винительным (по пять) в будущем станет полноправной нормой управления.
Итак, за последние десятилетия возможности употребления винительного падежа (вместо родительного и дательного) значительно расширились. Каковы же причины этого явления? Хотя в науке пока нет обстойтель-ного объяснения данного процесса, мбжнб, йд-вйДйМому, считать основной его предпосылкой влияние однотипных сочетаний с традиционным винительным падежом.
Например, новое употребление ждать автобус, ждать праздник складывается не без воздействия аналогии со стороны таких типичных сочетаний с винительным, как ждать маму, встречать автобус, провожать праздник и т. п. Конструкция искать дорогу (взамен искать дороги) могла укрепиться под влиянием как сочетаний с предметными существительными (искать кошелек, иголку и т. п.), так и типичных словосочетаний других глаголов с винительным прямого объекта (найти дорогу, потерять дорогу, увидеть дорогу, рызыскать дорогу и т. п.). Общность формы управления у понятийной группы глаголов (люблю, обожаю, жалею, почитаю, обижаю, огорчаю — кого: папу, маму, сестру и т. п.), возможно, я служит предпосылкой бессознательного (автоматического) подравнивания и появления конструкций боюсь папу, маму, сестру и т. п. наряду с традиционными боюсь папы, мамы, сестры и т. п.
Думается, немалую роль в этом плане сыграла и лексическая стандартизация, создание устойчивых слово-блоков. Например, стандартизованное, регулярно воспроизводимое словосочетание пути решения (задачи, проблемы и т. п.) целиком, так сказать в готовом виде, вступает в устойчивую связь с глаголами найти, нащупать, отыскать, исследовать, выяснить и т. п. Очевидно, что в такой же форме оно, естественно, войдет и в сочетание с глаголом искать: искать пути решения (задачи, проблемы и т. п.). Не исключено при этом, что употребление винительного пути, а не родительного путей поддерживается и стремлением сократить цепочку родительных (ср.: искать путей решения задачи).
Большая сила психологического воздействия в словосочетаниях с винительным прямого объекта (ср.: советовать, рекомендовать кому, но уверять, убеждать к о-го) соединяется у них, как уже отмечалось, с выраже-
нием определенности: искать дороги (вообще) — искать дорогу (именно эту). Данная особенность (определенность, конкретизация объекта) предрасполагает к широкому применению винительного падежа в профессиональной и научной речи, стремящейся к максимальной точности выражения мысли. В свою очередь, этот вид речевой деятельности оказывает сейчас существенное влияние на нормы общелитературного языка. При этом, однако, не следует абсолютизировать факторы социального порядка, как это делают некоторые зарубежные лингвисты, объясняя, например, «аккузативизацию» в современном немецком языке развитием техники, социальным планированием и т. п. (см. об этом: Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. М., 1976).
Конечно, распространение винительного прямого объекта следует рассматривать лишь как общую тенденцию, а не как замену прежней нормы управления. Несмотря на сильное воздействие аналогии (бранить, ругать, укорять и т. п. — кого), глаголы выговарить и пенять сохраняют традиционную норму управления дательным падежом: выговаривал брату, пенял сестре. Например: — Не машина — скрипка, ей богу, скрипка, — шумел он, перебивая инструктора, выговаривавшего ему за лихачество (Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке) ; Анна Афанасьевна с игривой ворчливостью пеняла ему, что он совсем избалует ее девочек (Куприн. Молох).
Становление новой формы управления (винительный падеж) происходит, таким образом, избирательно, от слова к слову. Сейчас она еще значительно лексикалй-зована, т. е. свойственна не всем сочетаниям (ср.: он ищет дорогу — винительный, но он ищет славы — родительный), и нередко обнаруживает приуроченность к разговорной или профессиональной речи.
Конкуренция предложных и беспредложных сочетаний
Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Всем памятны и как-то особенно дороги эти простые слова из наивно-трогательного письма пушкинской Татьяны. Но все ли здесь правильно с точки зрения нормы современного литературного языка? Ведь многое в бессмертном по содержанию и силе художественного воздействия романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» с языковой стороны устарело и нередко требует исторических комментариев. Можно ли, например, сейчас говорить: Я к вам пишу?
Известно, что структура многих глагольно-именных словосочетаний в современном языке существенно отличается от их эквивалентов в языке XIX в. Причем наиболее характерным изменением нормы была постепенная замена беспредложных сочетаний предложными. Так, например, без предлога прежде употреблялись глаголы бежать (избегать), трепетать, следить, надеяться и мн. др. Например: Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волге к Москве (Герцен. Былое и думы); Нет надобности разбирать каждую пьесу порознь, рассказывать содержание, следит ь развитие действия (Добролюбов. Темное царство); Печорин сказал Грушницкому, что если он промахнется, то не должен надеяться промаха с его стороны (Белинский. «Герой нашего времени» Лермонтова). Нормой же современного языка служит: трепетать перед кем, перед,, чем, следить за кем, за чем, надеяться н а ко-го, на что. Стремление к замене беспредложного управления предложным обнаруживается у многих именных сочетаний: акт проверкиакт о проверке, ателье ре-монтаателье по ремонту, документация строительных работдокументация на строительные работы, причастный искусствупричастный к искусству, характеристика сотрудника Иванова характеристика на сотрудника Иванова (предложная конструкция встречается в канцелярской речи) и т. п.
На фоне этого общего процесса развития и утверждения предложных конструкций особенно интересным представляются сравнительно редкие факты обратного движения нормы — от предложного сочетания к беспредложному.
Вернемся к начальной строчке. Писать к кому или писать кому? Как сложилась судьба этих синтаксических вариантов?
В XVIII в. глагол писать в значении обращаться к кому-либо с письмом; слать письма кому-либо употреблялся, как правило, с предлогом к. В немецко-латинском и русском лексиконе (1731) и Словаре Академии Российской (1789 — 1794) приведены такие типичные речения, т. е. образцы словоупотребления того времени: К кому пи-сати, письма отправляти. Я к нему писал. Петр I в своих письмах и официальных документах употреблял словосочетания с предлогом к. Например: К князю Федору Юрьевичу Ромодановскому... будто я, холоп ваш, к в а м, государю, не пишу (Письма и бумаги Петра I). Конст-струкция с предлогом к обнаруживается и в большинстве текстов XVIII в.: Тот кардинал к королю писал («Московские ведомости», 1703 г.); Пиши к родителю (Сум а роков. Хорев); Писать письмо к жене, и к братьям, и к друзьям (Ф о н в и з ин. Ко-рион); Он ко мне обо всем пишет (Карамзин. Письма русского путешественника). Примеры же употребления беспредложного оборота (писать кому) в это время крайне редки.
Конкуренция между этими конструкциями началась в XIX в. И та и другая форма управления широко представлена в письмах Пушкина. Ср.: Я не писал к тебе, во-первых, потому, что мне было не до себя (В. А. Жуковскому, январь 1826); Я писал тебе на днях — и послал некоторые стихи (П. А. Вяземскому, январь 1825).
Конструкция с предлогом к долго держалась в художественной литературе XIX в. Она представлена у Лермонтова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Чернышевского, А. Островского, Короленко и мн. др. Например:
Я к вам пишу случайно; право,
Не знаю, как и для чего.
(Лермонтов. Валерик.)
К концу XIX в. предложная конструкция идет явно на убыль (в переписке Л. Толстого, Чехова и других, как правило, встречается: писать кому, а не писать к кому). В наше время варьирование практически закончилось и литературной нормой стало беспредложное управление: писать кому. Примечательно, что изменения в форме управления произошли и у существительного письмо. Еще А. П. Чехов назвал свои рассказы «Письмо к репортеру» (1884), «Письмо к ученому соседу» (1880). В наши дни в таких случаях чаще наблюдается беспредложная конструкция письмо кому, а не письмо к к о м у.
Аналогично сложилась и судьба вариантных конструкций адресовать к кому и адресовать кому. Ср. в XIX в.: Заранее меня уведомь, куда к тебе адресовать письма (Грибоедов. Письмо С. Н. Бегичеву, 18 сент. 1818); Я вам из Штеттина напишу, куда мне адресовать письма (Тургенев. Два приятеля). В XX в. предложное управление адресовать к кому становится весьма редким.
Чем объяснить победу беспредложной формы управления в словосочетаниях со словами писать, адресовать и письмо? Видимо, оттенок пространственных отношений, передаваемый предлогом к, ранее осознавался четче. Со временем чисто объектные отношения, выражаемые беспредложной конструкцией, полностью возобладали в сознании, что и привело к постепенному устранению в этих случаях предложной формы управления.
Вытеснение приименного дательного падежа формой родительного падежа
Выше уже отмечалось, что синтаксическая вариантность, как и другие виды варьирования, постепенно сокращается. Причем наблюдается не только количественное уменьшение колеблющихся форм. Как правило, происходит и качественное преобразование вариантности: полные варианты, т. е. замещавшие друг друга безотносительно к контексту, постепенно становятся неполными, относительными, более или менее строго регламентированными условиями высказывания.
Показательна в этом отношении вариантность управления у слов — названий лиц по их отношению к другим лицам, предметам или явлениям (свидетель, изменник, хозяин, друг, товарищ, враг, владыка, слуга и т. п.). В современном языке колебания в управлении (родительный или дательный), в сущности, наблюдаются только у двух первых слов. Говорят свидетель происшествия, события, преступления и свидетель происшествию, событию, преступлению.
Особенно часты колебания формы управления у слова изменник: изменник чего или изменник чему. Приведем несколько примеров употребления с родительным падежом: Умолк и закрывает вежды Изм.енник русского царя (Пушкин. Полтава); — Все погибли, но изменниками Родины не стали (И. Козлов. В крымском подполье). Примеры употребления с дательным падежом: — Ведь вы изменник своему отечеству (Чехов. На чужбине); — Это все Потапов!.. Изменник честным убеждениям (Короленко. С двух сторон); — Только изменники Дону и казачеству могут говорить о сдаче власти Советам (Шолохов. Тихий Дон); Он оказался шпионом, изменником родине (Лукницкий. Ленинград действует...).
Однако наличие колебаний в выборе падежа даже у современных писателей, мастеров слова, вовсе не говорит о безразличном употреблении этих вариантных форм. Иное дело — в языке XVIII в. Тогда употребление подобных конструкций не было каким-либо образом дифференцировано. Писали даже хозяин (чего) дома и хозяин (чему) дому. Например: Молвил, что хозяин дома не законный сын (Ч у л ко в); — Некогда увидел отдыхающий Осел, что Хозяин дому в ласку крайнюю пришел (Тредиаковский).
С течением времени применение фрмы дательного падежа при словах свидетель, изменник, хозяин и др. шло на убыль. Дательный падеж уступал место родительному, более полно передающему определительнообъектные отношения. Употребление формы дательного падежа в современном языке оказалось регламентированным определенными лексико-синтаксическими условиями; 1) предикативное, т. е. в составе сказуемого, употребление стержневых слов (свидетель, изменник, хозяин); 2) препозиция зависимого компонента; 3) выражение зависимого компонента местоимением, субстантивированным прилагательным (илипричастием). Ср.: — Я тому делу свидетель! (М. Горький. Трое); Сам был свидетелем этому (Казакевич. Сердце друга); Некоторым событиям он был свидетелем (Крон. Дом и корабль).
Употребление дательного падежа при слове изменник (изменник кому, чему) поддерживается влиянием соотносительного глагола (изменять кому, чему) и, помимо указанных выше условий, связано еще с лексической избирательностью. В сочетании со словами клятва, убеждения, дело предпочтительнее форма дательного падежа: изменник, клятве, убеждениям, делу революции и т. п. (а не изменник клятвы, убеждений, дела революции и т. п.). Однако в сочетании со словами родина, отчизна, отечество теперь все чаще наблюдается применение родительного падежа: изменник родины, отечества и т. и.
Только реликты вариантности управлений (дательный или родительный) обнаруживаются у других существительных со значением лица: хозяин, слуга, друг, враг и др. Устарели такие словосочетания, как хозяин дому, друг дому, друг сердцу, друг человечеству, враг христианству, слуга истине и т. п., встречавшиеся в языке XVIII и даже XIX в. Употребление дательного падежа при слове хозяин ограничено в современном языке фразеологическими оборотами с предикативным значением (хозяин своему слову, сам себе хозяин, хозяин своим поступкам), встречается при намеренной стилизации речи и препозиции зависимого компонента. Например: — Эй! — стучит он в дверь палкой. — Есть хозяин дому сему? (Горбатов. Большая вода); — Или ты, Петр Матвеевич, и ты, Пимен Иванович, своему колхозу не хозяева? (Николаева. Жатва). Однако сила вторжения родительного падежа настолько велика, что в современной (особенно в устной, ненормированной) речи он наблюдается даже во фразеологически связанных сочетаниях, где по традиции следовало бы ожидать употребление дательного падежа. Ср.: — Вы, и только вы одна, — хозяйка своих поступков (Пщгодин. Сонет Петрарки).
Так постепенное вытеснение приименного дательного формой родительного падежа сужает сферу вариантности в управлении, превращая полные варианты в лексически и синтаксически ограниченные.
Каковы же причины столь широкой «экспансии» формы родительного падежа, появляющейся теперь даже при предикативном значении стержневого слова? Помимо общей продуктивности родительного приименного, видимо, немалую роль здесь сыграло образование и регулярное воспроизведение устойчивых именных сочетаний. Костяк таких сочетаний с родительным падежом сложился уже в XVIII — XIX вв.: друг — народа, свободы, человечества, природы, истины и т. п.; враг — веры, государства, отечества, народа, науки и т. п.; хозяин — дома, магазина,
завода, города, страны, природы, положения, судьбы и т. п. Если сохранение формы дательного падежа в XIX в. было отчасти обязано книжным штампам, возникшим еще под церковнославянским влиянием, то распространение родительного падежа находится в определенной зависимости от лексических стандартов языка нового времени.
Таким образом, элементы стандартизации в лексике, регулярная повторяемость устойчивых сцеплений слов (что в конечном счете обусловлено социальными факторами) стимулируют унификацию в управлении и ведут к сужению сферы синтаксического варьирования.
Колебание управления в некоторых словосочетаниях типа ЦЕНА ДЕНЬГАМ — ЦЕНА ДЕНЕГ, ПОДВЕСТИ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЮ — ПОДВЕСТИ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ
Наличие колебаний при выборе формы управления (дательный или родительный) в некоторых сочетаниях со словами цена, итог, предел, мера, причина — распространенный факт не только разговорной, но и письменной речи. Варьирование управления у перечисленных выше слов особенно характерно для трехчленных (глагольноименных) словосочетаний.
В научной литературе история конкуренции дательного и родительного приименного освещена недостаточно полно, современное же положение этих вариантов в системе литературного языка охарактеризовано лишь в самых общих чертах. Начиная с языковедов XIX в. А. X. Востокова и Н. И. Греча, исследователи обычно указывают, во-первых, на первичную (или производную) глагольность дательного приименного, и, во-вторых, на постепенное отмирание дательного и замену его родительным падежом.
Вариантные формы управления (дательный или родительный падеж) при существительных цена, предел, причина и др. весьма широко представлены, еще в языке XVIII в. Ср.: Для того установляется вещам цена (Козельский. Философские предложения); Едва ли не все житейские бедствия происходят от того, что люди не знают цены вещей (Пантеон иностранных слов); Но он сам причина своему бедствию (Радищев.
Дневник одной недели); Но смертоубийство сие не было ли принуждено? Не причиною ли о наго сам убитый асессор? (Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву). Употребление, наряду с дательным падежом, родительного приименного в XIX в. было обычным явлением. Более того. Родительный приименной иногда встречался даже в тех конструкциях, где сейчас мы бы предпочли традиционную форму дательного падежа. Конкуренция вариантов шла, таким образом, не только по пути постепенного вытеснения дательного падежа родительным. Изменялся сам характер вариантности. Выбор формы управления стал более зависим от лексикосинтаксических условий употребления стержневых слов (цена, предел, итог и др.).
Управляемое слово в дательном падеже Управляемое слово в родительном падеже
— Я сам из простых вышел, знаю цену всякой работе (М. Г о р ь к и й. Старик) Цену радостям нашим Я знаю теперь (Д у д и н. Хозяйка) — Никогда я не нуждался и не знал цену деньгам (Ч е х о в. Именины). Майка... усмехнулась, словно подводя итог нашему старому с ней спору (О ф и н. За счастье молодых) Подвести итоги развитию науки («Лит. газ.», 1965, 3 окт.) Люди, у которых жизнь высушила сердце, знают цену такого существования (М. Горький. Извозчик) От первой же жены было две дочери; старшая, Ванда, величавая красавица, знавшая цену своей красоты (Л. Толстой. За что?) Станислав... не знал настоящей цены денег («Смена», 1965, 4 сен.) И вот сейчас... подводя итоги этого путешествия, спрашиваю себя о самом главном (Б. Полевой. За тридевять земель) Подводились итоги работы за прошлый год («Коме, правда», 1973, 27 июня)
В современном языке варьирование дательного и родительного наблюдается главным образом в составе трехчленных глагольно-именных словосочетаний «гла-гол+существительное в винительном падеже+существи-тельное в дательном или родительном падеже».
Однако само наличие глагола в составе словосочетания еще не определяет ни возможности вариантности, ни ее характера. Важную роль здесь играют два обстоятельства: типичность (устойчивость) лексической связи между компонентами и их внутреннее взаимоотношение в структуре словосочетания. Видный русский ученый А. М. Пешковский в работе «Русский синтаксис в научном освещении» отмечал, что дательный падеж зависит часто не от отдельного слова (глагола или имени), а «от целого словосочетания, иной раз многословного». Советский языковед Н. Н. Прокопович указывал на процесс синтаксического переразложения, когда падеж существительного (дательный или родительный) определяется тем, зависит ли оно от глагольно-именного словосочетания (сжал руку — кому? — Самгину), или входят в субстантивное словосочетание (сжал — что? — руку Сам-гина). В первом случае норма требует употребления формы дательного падежа, во втором — родительного (см. Прокопович Н. Н. О процессах структурного преобразования словосочетаний в современном русском языке. — В сб. Развитие синтаксиса современного русского языка. М., 1966, с. 141 — 142).
Нечто подобное происходит и при вариантности управления у слов цена, предел, причина, итог и др. в современном языке. В двучленном именном словосочетании слово итог управляет только родительным падежом (итог соревнования). В трехчленном же сочетании вариантность возникает в зависимости от нашего сознательного (или бессознательного) членения этого словосочетания, выделения в нем главного и зависимого компонентов: подвести итог — чему? — соревнованию (дательный падеж), подвести — что? — итог соревнования (родительный падеж). Это, естественно, является упрощенной моделью творимых в речевой практике сочетаний слов. Выбор (или, точнее, предпочтение) формы управления зависит от многих других лексико-синтакснческих условий.
Наблюдения над фактическим материалом позволяют наметить следующие особенности применения дательного и родительного приименного.
Для употребления дательного падежа характерно:
1. Наличие в предложении устойчивой глагольно-именной конструкции: знать цену чему, положить предел чему, потерять меру чему и т. п. Например: Мы знаем цену благородству аристократов (Н. Островский. Никогда неуспокоюсь на достигнутом); Мы знаем цену каждому мгновенью (Мартынов. Торговцы тенью); Животовский... положил предел моему любостяжанию (Короленко. История моего современника); Она уже совсем потеряла меру силам своим (Фадеев. Молодая гвардия).
2. Выражение предикативности в различных односоставных или.неполных предложениях (в особенности при вопросительной или восклицательной интонации) также предсказывает, а иногда и диктует употребление именно дательного падежа. Прежде всего это относится к устойчивым предикативным оборотам со словами цена, мера, и АР- , грош цена чему, цены нет чему, нет меры чему и т. п. Например: — Цены нет парню, — хвалили товарищи (Гарин-Михайловский. История одной школы); — Грош цена нашей дружбе (Амлинский. Музыка на вокзале); Н ет меры хмелю русскому. А горе наше меряли? (Некрасов. Кому на Руси жить хорошо).
3. Употребление дательного падежа наблюдается также при инверсии управляемого существительного и при наличии у него согласованного определения. Например: [Вожеватов:] Всякому товару цена есть (А. Островский. Бесприданница); Каждому дереву — своя цена (Солоухин. Владимирские проселки).
4. Форму дательного падежа, как правило, приобретает управляемое слово, выраженное местоимением, а также субстантивированнным прилагательным или причастием (в особенности в препозиции к управляющему компоненту). Например: Всему есть мера (Вересаев. Без дороги); Подвести всему итог (Шишков. Алчность); Какая тому причина? (М. Горький. Тронуло); Причиною этому всегда бывает гордость (Тургенев. Ася).
Употребление формы родительного падежа при словах цена, предел и др. менее регламентировано, чем условия применения дательного приименного. Родительный падеж обычен при определенной лексической устойчивости именного сочетания: мера сил (горя, страданий), предел возможностей (мечтаний, совершенства), итог соревнования (выполнения, тренировки, эксперимента) и т. п.
Вероятно, именно увеличение числа типичных, регулярно воспроизводимых именных словосочетаний (итог соревнования, предел возможностей) и приводит к постепенному перераспределению зависимости компонентов и замещению дательного падежа родительным. Не случайно наличие предикативности и инверсии (что препятствует организации устойчивого именного словосочетания) предопределяет сохранение дательного падежа (грош цена ему, тренировкам подведены итоги, знать цену себе и т. п.). В остальных случаях, даже в сочетаниях устойчивого типа знать цену чему, форма родительного падежа теснит дательный приименной. Многие пособия, словари и справочники по культуре речи отвергают такое словосочетание как ненормативное. Однако у современных писателей эта форма управления все чаще находит применение (причем без стилизации). Например: Законы дружбы высоки. Светло звучанье слова «друг». Знай силу собственной рукии цену верных братских рук (А л иге р. Зимой этого года); [Серпилин] не знал и не мог еще знать в ту ночь полной цены всего уже совершенного людьми его полка (Симонов. Живые и мертвые); Тот, кто сам стремится к немалым целям, тот знает цену поиска и борьбы (Николаева. Битва в пути); — Давайте выпьем за таких друзей, которые знают цену дружеского долга (Лазутин. Суд идет); Я отныне знаю цену Слов неспешных и скупых (В. Рождественский. Возвращение).
Синтаксическая вариантность слов цена, итог, предел, причина, мера представляет собой в современном языке весьма сложное семантико-синтаксическое явление. Смысловая обусловленность вариантности управления у этих слов проявляется в отвлеченности лексического значения (цена — значение, ценность чего-либо; мера — величина, степень охвата какого-либо явления). Лексико-синтаксическая же зависимость вариантности рассматриваемых слов заключается, с одной стороны, в образовании типизированных именных сочетаний с приименным родительным (итог соревнования), что служит одной из причин переразложения трехчленного словосочетания и изменения синтаксических свойств стержневого слова. С другой стороны, сохранение дательного падежа связано с наличием лексически ограниченных структур с предикативным значением (грош цена чем у).
Синтаксическая зависимость варьирования обнаруживается в позиционных условиях (инверсия, наличие определяющих слов) и предикативном или непредикативном употреблении стержневого слова, что обычно сопровождается паузой и особой интонацией.
Нормативная характеристика рассматриваемых синтаксических вариантов, естественно, не может быть ни поспешной, ни слишком категоричной: «правильно» — «неправильно». Она должна отражать сложную природу этого явления на переходном этапе его развития.
II. ВАРИАНТНОСТЬ В ФОРМЕ СОГЛАСОВАНИЯ
Мучительные колебания в выборе правильной грамматической формы нередко возникают при согласовании слов. Вопрос о норме осложняется здесь тем, что многие рекомендации грамматик и пособий практического назначения существенно расходятся с реальной речевой практикой. В двусмысленном положении при этом оказывается учитель русского языка, вынужденный требовать от учеников неукоснительного следования тем правилам, которые не соблюдаются не только в устной речи, но и в широкой печати, в художественной литературе (и даже в самой «Учительской газете»).
Рассмотрим подробнее наиболее актуальные случаи вариантности в форме согласования.
Распространение смыслового согласования сказуемого с подлежащим при обозначении женщины по ее профессии, должности
Критическое состояние грамматической нормы особенно очевидно проявляется при согласовании сказуемого с подлежащим, выраженным так называемым личным существительным мужского рода: врач, директор, секретарь, кассир, бухгалтер, агроном, управхоз и т. п. Как нужно сказать, если речь идет о женщине, врач выписал рецепт или выписала, директор издал приказ или издала? Во многих весьма популярных пособиях и руководствах нормативно-стилистического характера правильным признается лишь формально-грамматическое согласование (по мужскому роду), обороты же типа врач выписала рецепт квалифицируются как ошибочные или просторечные. Менее категорично, но, по существу, в том же смысле излагается этот вопрос и в Академической грамматике (1953). В новой же Академической грамматике (1970) содержится лишь беглое упоминание о том, что в данных случаях «строгое правило выбора родовой формы отсутствует».
Конечно, грамматическое согласование по мужскому роду (врач выписал рецепт, секретарь позвонил, кассир ошибся и т. п.) независимо от пола обозначаемого лица в наше время является безупречным. Но как оценить другую, не менее распространенную теперь форму смыслового согласования?
В Институте русского языка АН СССР было проведено специальное статистическое обследование, для того чтобы выяснить отношение представителей различных возрастных и социальных слоев к вариантным способам согласования. В результате выяснилось, что более половины опрошенных (51,7%) предпочитают новую форму врач пришла, 9,7% — колеблются, а 38,6% — придерживаются грамматического согласования врач пришел. Примечательно, что информанты среднего и молодого возраста охотнее склоняются к новой форме смыслового согласования врач пришла. Не лишено интереса и то, что распространение смыслового согласования (как это отмечают исследователи и опрошенные старожилы) активно началось, действительно, в 20 — 30-е гг. XX в.
Из устной речи конструкции со смысловым согласованием перекочевали в язык газеты, в публицистику, в художественную литературу. Вот лишь некоторые примеры. Со словом врач: — Ну хватит, — сказала врач (Трунин. Белорусский вокзал); Врач прощупала пульс больного (Лазутин. Суд идет); Врач поставила диагноз (Ковалевский. Тетради из полевой сумки); Врач уехала в командировку (Зерчани-нов. Космический доктор); врач предположила («Коме, правда», 1976, 11 янв.); Врач взывала к совести («Коме, правда», 1964, 8 мая); врач констатировала («Ленинградская правда», 1965, 23 окт.); врач не пошла («Ленинградская правда», 1971, 18 июля). Со словом директор: Директор добилась того, что учительница стала работать творчески, увлеченно. Директор помогла также вырасти молодому историку («Учит, газ.», 1965, 22 июня); — Вы на себя
непохожи, — сказала директор («Известия», 1965,. 27 янв.); директор школы предложила («Коме, правда», 1965, 10 марта); На линейке директор школы поздравила всех с окончанием учебного года (Ко-валенко. Свой человек Зойка); В кухоньке хозяйничала директор ресторана (Почивали н. Среди долины...). Со словом кассир: Из автомобиля вышла кассир (Липатов. Всем миром...); Кассир тут же стала звать на помощь («Коме, правда», 1973, 29 июня); Возникло предположение, что деньги похитила сама кассир («Сов. торговля», 1972, 25 апр.). Со словом секретарь: — Прошу вас, — сказала секретарь (Проскурин. Горькие травы); Секретарь горкома ушла (Мельников. В командировке). Со словом счетовод: Счетовод серьезно з а б о л е л а (Копт лева. Иван Иванович); Отозвалась счетовод (Рат-нер. Степь широкая). Со словом адвокат: Защиту осуществляла адвокат Н. А. Аристова («Ленинградская правда», 1972, 1 февр); Адвокат, защищавшая интересы Дикой и Добробабенко, морщилась, рассказывая мне обо всем («Известия», 1974, 12 февр.).
Ср. также: Кондуктор... внимательно смотрела на него (Леонов. Скутаревский); Агроном прямо просеменила к двери (Нагибин. Слезай, приехали...); зоотехник объяснила (Николаева. Битва в пути); Бухгалтер покраснела («Коме, правда», 1974, 25 янв.); следователь вызвала («Ленинградская правда», 1973, 1 авг.); Диктор спокойно... представила ее (Мальцев. От всего сердца); Библиотекарь пробежала глазами список (О фин. Восклицательный знак); — А Сережка как же? — спросила комсорг (Павленко. Степное солнце); Гид продолжала что-то говорить («Коме, правда», 1965, 10 марта); Отвечала экскурсовод тем же тоном («Сов. Россия», 1966, 28 мая); Все напутала зоотехник («Лит. газ.», 1960, 9 февр.); смущенная завуч пояснила («Коме, правда», 1960, 30 янв.).
Массовое распространение формы смыслового согласования сказуемого-глагола с подлежащим, выраженным личными существительными, — бесспорный факт современной устной и письменной речи. Этот вариант согласования признается правомерным в новейших научных исследованиях (см., например: Протченко И. Ф. Формы глагола и прилагательного в сочетании с названиями лиц женского пола. — В сб.: Вопросы культуры речи, вып. III. М., 1961; Мучник И. П. Категория рода и ее развитие в современном русском литературном языке. — В сб.: Развитие современного русского языка. М., (1963) и в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления» (1973).
Итак, современная литературная норма допускает оба способа согласования сказуемого с подлежащим в роде, если последнее обозначает женщину по ее профессии, должности и т. п. Правда, судя по материалам, смысловое согласование принадлежит сейчас главным образом разговорному стилю речи; в художественной литературе оно встречается преимущественно в диалогах или там, где повествование ведется от лица персонажа. Научной и тем более строго официальной речи такое согласование несвойственно. Следует также учитывать и то обстоятельство, что получивший распространение способ согласования с подлежащим со значением лица обычно закрепляется у общеупотребительных слов, обозначающих профессии и должности, хорошо освоенные женщинами, например: врач, секретарь, бухгалтер, кассир, счетовод, агроном, корректор, донор, юрист и т. п. Что касается профессий и должностей, остающихся пока в основном «уделом» мужчин, то здесь даже при обозначении лиц женского пола чаще сохраняется формально-грамматическое согласование по мужскому роду: командир приказал, капитан вышел на мостик корабля, композитор создал новую симфонию, штурман нанес курс корабля на карту и т. п.
Нельзя забывать и о том, что применение форм согласования находится в определенной зависимости от возрастных и социально-профессиональных характеристик говорящих. В книге «Социально-лингвистические исследования» (М., 1976) отмечается: «Конструкции с соблюдением норм формального согласования свойственны в большей степени лицам старшего возраста. Легче идут на нарушение норм формального согласования представители социальных групп «рабочие», «служащие» (с. 154).
Необходимо подчеркнуть, что смысловое согласование допускается в качестве варианта нормы только по отношению к сказуемому-глаголу. В то же время ветре чающиеся в живой речи и даже в печати такие обороты, как известная врач, директор очень строгая, молодая режиссер, одна лаборант болеет, у нас хорошая зубной врач и т. п., находятся за пределами нормы литературного языка. В художественной литературе смысловое согласование прилагательного с личным существительным, обозначающим женщину, наблюдается обычно лишь в обособленных конструкциях предикативного характера, например: Комиссар стоит, вся прямая, здоровая (Вс. Вишневский. Оптимистическая трагедия).
Каковы же причины распространения смыслового согласования сказуемого-глагола и вынужденного изменения нормативной характеристики?
Нередко объясняют это явление факторами социального порядка. Пишут о том, что изменившееся в послереволюционную эпоху положение женщин в обществе, приобщение их к большому числу ранее недоступных профессий и должностей и вызвали потребность в появлении новых синтаксических моделей согласования. Конечно, изменение социальной ситуации явилось важным толчком для сдвига грамматической нормы. Однако при этом нельзя упускать из виду более общей и глубинной предпосылки — наличия асимметричности в морфологическом и синтаксическом строе русского языка. В этом плане характерно противоречивое грамматическое.состояние слов общего рода на -а, допускающих возможность употребления прилагательного определения в форме женского и мужского рода при обозначении лица мужского пола: круглая сирота и круглый сирота, полная невежда и полный невежда. Ср., например: Актер умеет, заглянуть «во внутрь» своего комического героя, и обна-руживается, что господин Журден — полная невежда (Бояджиев. Мольер на советской сцене); Я предупреждал педагогов и психиаторов, что я круглый невежда (Эренбург. Люди, годы, жизнь).
Как известно, гласные основы имели в прошлом большее грамматическое значение. Соответственно им, как пишет современный исследоваГель истории русского языка М. А. Соколова, «создавалась особая, чисто грамматическая классификация имен, при которой смысловое, реальное значение бледнело перед грамматическими их показателями» (Очерки по исторической грамматике русского языка. Л., 1962, с. 88). В трудах известных языковедов Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни содержится множество примеров из старых текстов с необычным для современного языка формально-грамматическим согласованием. Например, о мужчине: слуга верная пришла (есть), уехала судья неправосудная, старое старчище пришло и т. п. Наоборот, чем ближе к нашему времени, тем обычнее становятся сочетания: стриженый сирота (Евтушенко), презренный трусишка (Носов),. какой неженка (Еремин), ужасный сластена (Ар амил ев) и т. п.
Очевидно, в этих и других подобных случаях мы имеем дело с усилением значимости содержательной стороны высказывания, что, будучи поддержанным факторами социального порядка, ведет к перестройке грамматической связи и постепенной замене согласования по форме согласованием по смыслу.
Распространение смыслового согласования сказуемого с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием
В 1930 г. Л. В. Щерба в статье «Трудности синтаксиса русского языка для русских учащихся» склонялся считать факты смыслового согласования при словах несколько, множество и т. п. речевыми ошибками, которые, как он писал, «требуют особых и повторных упражнений в школе». Хотя и сейчас грамматики, а также некоторые нормативные пособия указывают на предпочтительность формально-грамматического согласования (несколько человек осталось), квалифицировать согласование по смыслу (несколько человек остались) нарушением нормы уже не приходится. Правомерность этого варианта согласования признается теперь и в школьных пособиях (например, Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чеш-к о Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы. М., 1975).
Действительно, современные писатели при подлежа щем, выраженном количественно-именным сочетанием, безвозбранно ставят сказуемое то в единственном, то во множественном числе. Вот лишь некоторые примеры ранее бракуемого смыслового согласования (по множественному числу): Большинство знакомых ребят уже
разъехались по дачам (Гайдар. Судьба барабанщика); Нес колько журналистов уехали в свои редакции (Булгаков. Мастер и Маргарита); Несколько бомб попали в больницу (М. Кольцов. Испанский дневник); Несколько инженеров толпились вокруг Вальгана (Николаева. Битва в пути); Несколько человек рассказывают боевые эпизоды (Вс. Вишневский. Дневники военных лет); Большинство писателей пришли в литературу из журналистики (Липатов. Когда читатель становится зрителем).
Признание правомерности обоих вариантов согласования не исключает, однако, наличия у них некоторого (хотя и не всегда проявляющегося) функционального своеобразия. Наблюдения над обширными материалами словоупотребления русских классиков и современных авторов позволяют сделать выводы о преимущественном (но не обязательном!) способе согласования в определенных лексико-грамматических условиях.
Так, например, при подлежащем несколько (или большинство) + существительное в родительном падеже множественного числа сказуемое употребляется преимущественно в форме единственного числа в следующих случаях:
а) если существительное обозначает неодушевленный предмет, например: Несколько пыльных электрических лампочек то гасло, то тускло разгоралось (П аустовский. Повесть о жизни);
б) если при слове большинство имеется определение (абсолютное, подавляющее, огромное и т. п.), например: Огромное большинство наших промышленных предприятий... отказалось от участия в выставке (М. Кольцов. Не плевать на коврик);
в) если сказуемое выражено страдательной формой глагола (и особенно причастия), например: Большинство писем доставлено днем (Л и д и н. Утро года); Один сапер убит, нескол ько человек ранено (Ковалевский. Тетради из полевой сумки), ср., впрочем: Большинство учащихся очень хорошо под-готовлены («Коме, правда», 1976, 10 янв.); За хищение осуждены несколько человек («Лит. газ.», 1973, 5 сент.);
г) если сказуемое предшествует подлежащему, напря-
мер: Игра стала злой. Сразу попадало несколько человек (Кассиль. Вратарь республики); В начале улицы обозначилось несколько теней (Берез ко. Дом учителя).
Сказуемое употребляется преимущественно во множественном числе в следующих случаях:
а) если существительное обозначает одушевленный предмет, а сказуемое подчеркивает активность действия, например: Несколько слуг бросились было в разные стороны (Пушкин. Арап Петра Великого); Несколько человек кину лис ь вслед бежавшему (Никитин. Северная Аврора);
б) если имеются однородные члены в составе подлежащего или сказуемого, например: Несколько десятков мужчин и женщин стояли у ворот больницы (М. Горький. Мать) Несколько партизан отстали от отряда и приготовились отстреливаться (Вс. Иванов. Бронепоезд 14-69);
в) если имеются придаточное предложение или обособленный оборот, отрывающие сказуемое от подлежащего и тем самым ослабляющие их формально-грамматические связи, например: Большинство писателей, из тех, кто не ушел на фронт, трудятся в Радиокомитете (Лукницкий. Ленинград действует...); Несколько человек, схватившись за руки, опрокинулись спинами на тех, кто сзади (М. Горький. В людях); Несколько солдат и офицеров, находившихся в толпе, упали в обморок (Трифонов. Нетерпение); Несколько домохозяек, вышедших за хлебом или за молоком, также теснились в толпе (А сан о в. Открыватели дорог). Очевидно, что наличие разрыва (дисконтактности) между членами предложения является весьма сильным фактором, стимулирующим согласование по множественному числу, так как, помимо представления о множественности в самом подлежащем, форма сказуемого как бы подстраивается к ближайшему компоненту: находившихся, вышедших.
Смысловое согласование сказуемого по множественному числу постепенно охватывает не только разные формы речи (правда, по мнению Е. С. Скобликовой, форма единственного числа сохраняется в высказываниях итогового, статистического характера с глаголами бытия, наличия или со страдательными формами причастий), но
и появляется при сочетаниях со словами множество, около и т. п., где прежде не наблюдалось варьирования. Ср., например: Множество людей предпочитают в субботу и воскресенье поехать в Москву, Суздаль, Ленинград, Псков («Лит. газ.», 1973, 18 июля); Множество людей стоят у прилавка («Сов. культура», 1973, 6 апр.); [На собрании] присутствовали около 400 предст авителей деловых кругов («Ленинская правда», 1976, 17 янв.); Отказались выйти на работу около 12 тысяч рабочих («Коме, правда», 1976, 2 мая).
Не только в устной речи и сочинениях учащихся, но и в прессе (и даже у писателей) участились факты ненормативного согласования сказуемого (по множественному числу) с подлежащим, выраженным словом большинство без существительного в родительном падеже. Например: Большинство учатся, прилежно трудятся («Веч. Ленинград», 1973, 6 июня); Большинство становятся мастерами поздно («Коме, правда», 1972, 23 мая); Кое-кто уехал вскоре. Большинство, правда, остались (Чивилихин. Месяц в Кедрограде); Большинство согласились с ним (Шукшин. Любавины). В этом случае следует строго придерживаться традиционной формы согласования: большинство учится, становится и т. п.
Итак, для современного русского литературного языка характерно распространение формы смыслового согласования сказуемого с подлежащим, выраженным разными типами количественно-именных сочетаний, в том числе и при количественных и собирательных числительных (см. об этом в статье Е. С. Скобликовой «Форма сказуемого при подлежащем, выраженном количественно-именным сочетанием» — В сб.: Вопросы культуры речи, вып. II. М., 1959). Некоторые из рассмотренных конструкций (типа несколько человек остались) уже получили права литературного гражданства, другие (типа большинство остались) находятся за пределами нормы. Причины расширения употребляемости смыслового согласования еще не получили достаточного и всестороннего объяснения. Возможно, здесь сказывается как стремление к конкретизации и точности сообщения, так и общий процесс расхождения форм единственного и множественного числа, свойственный, как считают некоторые исследователи, современному состоянию русского языка.
Очевидно, что по сравнению с морфологией синтаксические нормы русского литературного языка менее изучены и разработаны. Хотя отдельные сведения о спорных случаях согласования и управления приводятся в грамматиках и некоторых словарях (например, в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления» оцениваются около 400 пар вариантных конструкций), специального нормативного справочника подобного рода еще не создано. Между тем грамматические нормы сочетания слов особенно уязвимы и нестойки, именно здесь часто наблюдаются ошибки и колебания в выборе той или иной параллельной конструкции. Как уже говорилось выше, это объясняется воздействием многочисленных, разнохарактерных и отчасти неустранимых причин. Некоторое количественное сокращение варьирующихся синтаксических форм и преобразование полных (избыточных) вариантов в функционально загруженные не уменьшает, а увеличивает потребность в их изучении и сопоставительном описании. При нормативной оценке новых, нарождающихся конструкций следует учитывать влияние факторов социального порядка. Это в особенности касается новых форм управления, возникающих в результате закрепления стандартизованных речевых формул (например, подвести итоги соревнования вм. соревнованию) и распространения смыслового согласования типа: врач выписала рецепт, директор издала приказ и т. п.
Важно при этом подчеркнуть, что чрезмерная формализация исследования нормы на синтаксическом уровне (т. е. замена реальных лексических компонентов словосочетания условными символами) едва ли результативна. Изучение языковой формы вообще немыслимо в отрыве от содержания. «Что же касается синтаксиса, — замечают Ф. П. Филин и Л. И. Скворцов, — то здесь в появлении новых форм и конструкций для выражения новых понятий и отношений сказывается особенно тесная связь языка с потребностями мышления» (Культура русской речи. — «Вестник АН СССР, 1975. № 5, с. 99).
Дополнительная литература
Буторин Д. И. Об особых случаях употребления винительного прямого объекта в современном русском литературном языке. — В сб.: Нормы современного русского литературного словоупотребления. М. — Л., «Наука», 1966.
Виноградов В. В. Вопросы изучения словосочетаний (На материале русского языка). — В кн.: Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике, М., «Наука», 1975.
ГорбачевичК. С. Изменение норм русского литературного языка. Л., «Просвещение», 1971.
Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи (Опыт частотно-стилистического словаря вариантов). М., «Наука», 1976.
Дерибас В. М. Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка. М., «Русский язык». 1975.
Золотова Г. А. О характере норм в синтаксисе. — В сб.: Синтаксис и норма. М., «Наука», 1974.
Ильинская И. С. Управление как проблема лексики и грамматики. — «Учен. зап. Моск. гор. пед. ин-та», 1941, т. V, вып. 1.
Ицкович В. А. Очерки синтаксической нормы. 1 — 3. — В сбд Синтаксис и норма. М., «Наука», 1974.
Кодухов В. И. Считаете ли Вы необходимым различение вариантов синтаксических единиц. — «Филологические науки», 1961, № 4.
Котелова Н. 3. Значение слова и его сочетаемость (к формализации в языкознании). Л., «Наука», 1975.
Мучиик И. П. Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке. М., «Наука», 1971.
Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Изменения в системе словосочетаний в русском литературном языке XIX века. М., «Наука», 1964.
Пешкове кий А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., Учпедгиз, 1956.
Прокопович Н. Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. М., «Просвещение», 1966.
Прокопович Н. Н. Вопросы синтаксиса русского языка. М., «Высшая школа», 1974.
Протченко И. Ф. Формы глагола и прилагательного в сочетании с названиями лиц женского пола. — В сб.: Вопросы культуры речи. Вып. III. М., 1961.
Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. М., «Высшая школа», 1974.
Скобликова Е. С. Форма сказуемого при подлежащем, вы-
раженном количественно-именным сочетанием — В сб.: Вопросы
культуры речи. Вып. II. М., 1959.
Скобликова Е. С. Согласование и управление в русском языке. М., «Просвещение», 1971.
Стеценко А. Н. Исторический синтаксис русского языка. Изд. 2-е. М., «Высшая школа», 1977.
Филиппова В. М. Вариантные глагольно-именные словосочетания в русском литературном языке XIX века. — В кн.; Материалы и исследования по истории русского литературного языка, т. IV (Изд.-во АН СССР, 1957).
Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Л., Учпедгиз, 1941.
Шведова Н. Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., «Просвещение», 1966.
Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., «Наука», 1974, с. 336 — 379.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важность и одновременно трудность установления норм литературного языка очевидны. Их значение особенно возросло в наше время, когда русский язык, по предсказанию А. Н. Толстого, стали изучать «по всем меридианам земного шара». Нет сомнения, что повышение речевой культуры, воспитание истинного языкового вкуса состоит не в слепом следовании затверженным догмам, а в осмыслении объективных закономерностей литературного языка.
Объективный характер языковых норм вовсе не означает их фатальной непреложности и невозможности воздействия на общественно-речевую деятельность. Сейчас недостаточно быть хранителем культурной языковой традиции. Необходимо тем или иным образом участвовать в борьбе за совершенствование языка. Ведущая роль в ней, конечно, принадлежит школе, учителям-словесникам, закладывающим фундамент правильной литературной речи. Но вмешательство в речевую практику не должно носить характера высокомерного поучительства и произвольного администрирования. Нельзя забывать о том, что, по словам Пушкина, «грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи». Между тем, как еще писал Белинский, некоторые грамматисты «хотят сочинять,.выдумывать законы языка, а не открывать их, не выводить из духа оного». Следует помнить справедливое высказывание известного русского лингвиста И. А. Бодуэна де Куртенэ: «Быть законодателем, хотя бы только в области языка, очень приятно, и поэтому-то каждый (или, по крайней мере, почти каждый) грамматик практического направления считает себя вправе командовать по этой части. Освободиться от желания издавать подобного рода указы — очень трудно, так что даже у многих из самых светлых и чисто объективных умов сохраняется наклонность перестраивать и поправлять родной язык» (Некоторые общие замечания о языковедении и языке. — В кн.: Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию, т. Г. М., 1963, с. 51).
Научно-организованная и результативная языковая политика не должна строиться на основе обманчивого декретирования и самоуверенного наклеивания ярлыков, вроде: «правильно» или «неправильно». Ее суть состоит в спокойном, обстоятельном и благожелательном рассмотрении спорных языковых фактов, в планомерном «подталкивании» речевой практики в направлении общей эволюции литературного языка. Тактика нормализаторской работы в наши дни опирается не столько на дидактические поучения, сколько на аргументированное объяснение происходящих в языке процессов. Объяснять, а не командовать, учить, а не поучать — вот основная линия поведения тех, кто так или иначе связан с установлением и пропагандой норм русского литературного языка. Успех этой работы в значительной мере зависит от повышения общей культуры, увеличения суммы гуманитарных знаний и расширения лингвистического кругозора.
Современная лингвистическая наука еще не в силах дать долговременный прогноз языковых изменений. Мы не можем с абсолютной достоверностью сформулировать предсказание о поведении каждой конкретной языковой единицы в будущем, поскольку слишком велико количество разнородных факторов, могущих влиять на ее судьбу. Однако некоторые общие и относительные предположения на сравнительно близкий, обозримый период все-таки могут быть сделаны. В сущности, и сейчас научно обоснованная оценка речевых фактов заключает в себе момент предвосхищения, «заглядывания» в их будущее. Изучение истории языка не является самоцелью, оно способствует выявлению основных направлений его эволюции и позволяет в какой-то степени заглянуть в языковое завтра.
Известно, что одна и та же причина при одних и тех же условиях приводит к одинаковым или, во всяком случае, сходным результатам. Поэтому познание устремлений языка невозможно без выяснения причин, породивших его современное состояние. Не случайно историк . русского языка А. А. Потебня как-то заметил: «Основной вопрос всякого знания: откуда и, поскольку можно судить по этому, куда мы идем...» (Из записок по русской грамматике, т. III. М., 1968, с. 5).
Конечно, прогнозирование языкового будущего — дело необычайно трудное и рискованное, а результаты его весьма относительны. Языкознание делает пока еще первые шаги на этом тернистом пути. Но только при таком условии оно перестанет быть лишь исторической и описательной наукой и подобно другим наукам сможет увидеть то, что «временем сокрыто». Только такой подход позволит отличить руду от пустой породы, обеспечить благоразумное отношение к современной речи и даст повод надеяться на то, что потомки не обвинят нас в близорукости и безответственности.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Академическая грамматика (1953) или (1954) — Грамматика русского языка. М., Изд. АН СССР, т. I, 1953; т. И, ч. 1, 2, 1954,
Академическая грамматика (1970) — Грамматика современного русского литературного языка. М., «Наука», 1970.
Большой академический словарь — Словарь современного русского литературного языка (в семнадцати томах). М. — Л., 1950 — 1965.
Малый академический словарь — Словарь русского языка (в четырех томах). М., 1957 — 1961.
Обратный словарь — Обратный словарь русского языка. М., 1974..
Орфографический словарь (1974) — Орфографический словарь русского языка. М., 1974.
Орфоэпический словарь — Русское литературное произношение и ударение. Сяоварь-справочиик. Под ред. Р. И. Аванесова, С. И. Ожегова. М., 1959.
Словарь Академии (с указанием года издания) — Словарь русского языка (в выпусках). Спб., 1891 — 1920.
Словарь Академии (1847) — Словарь церковнославянского и русского языка. Спб., 1847.
Словарь Даля — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1863 — 1865.
Словарь новых слов (1971) — Новые слова и значения. Словарь-справочник. Под ред. Н. 3, Котеловой и Ю. С. Сорокина. М., 1971.
Словарь Ожегова (с указанием года издания) — Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1949 и др.
Словарь ударений (1967) или (1970) — Словарь ударений для работников радио и телевидения. Под ред. Д. Э. Розенталя. М., 1967, 1970.
Словарь Ушакова — Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935 — 1940.
Словарь трудностей (1976) — Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. М., 1976.
Трудности словоупотребления (1973) — Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь-справочник. Под ред. К. С. Горбачевича. Л., 1973.
|