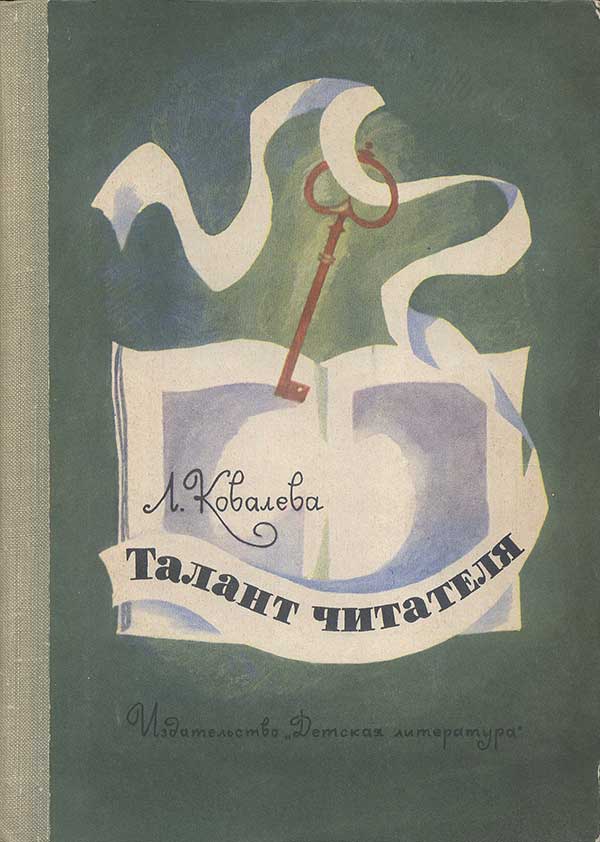Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда.
Лев Толстой
ПРАВДА И НЕПРАВДА
Открывая книгу, мы предвкушаем радость, которую она доставит нам. Мы начинаем читать — входим в созданный автором мир. Начинается сложный контакт с автором, с его героями, контакт, который заставляет нас размышлять, и радоваться, и плакать, и смеяться...
Но если, читая книгу, мы не можем войти в созданный автором мир, если мы не верим в него, общение с автором становится невозможным.
По словам Хемингуэя, если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и, если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды.
Писатель может рассказать о событиях немного, отобрать несколько деталей, несколько сцен, — а читатель представит себе все так полно и ясно, как будто он сам был участником событий.
Таков талант. Он внушает доверие.
Однажды Владимиру Галактионовичу Короленко принесли рукопись. Короленко прочел и сказал автору: «Неправдоподобно».
«Владимир Галактионович! — воскликнул он обиженно, — ну как вы можете это говорить, когда я честным словом вас заверяю, что списал с натуры все точно, как было».
Разговор происходил в гостиной Короленко, под висевшим на стене большим портретом Владимира Галактионовича.
«Посмотрите, — сказал писатель, чуть-чуть усмехаясь одними глазами, — это портрет с натуры. Его писал с меня известный художник Ярошенко. Правда, неплохой портрет? А теперь на минуту вообразите, что не Ярошенко с меня, а я с Ярошенко написал портрет. Это тоже был бы портрет с натуры. Но боюсь, что он был бы гораздо хуже написан. Как вы полагаете?»
В литературе, разумеется, «сходство» или «несходство» с окружающей жизнью выступает не так ясно, как в живописи. Но и здесь читатель может «узнать» и «не узнать», может поверить и не поверить автору!
В детстве обычно считают: раз напечатано — значит, правда! Значит, это хорошо! Но человек взрослеет и начинает более разборчиво относиться к книгам. Он понимает, что книги, как люди, бывают разными; что рядом с книгами умными, волнующими живут книги неинтересные, в которых герои действуют как манекены, наряженные автором в разные костюмы — один в костюм шахтера, другой в костюм летчика...
И стоят эти книги на полках, попадают в руки к разным людям, и по-разному их читают. Вот, например, как начала свое письмо в редакцию одна школьница: «Я знаю — нет неинтересных книг, есть плохие читатели». Ясно, что при таком отношении к литературе эта школьница не заметит, где правда, где фальшь в той или иной книге. Она по наивности, по читательской неопытности не почувствует, что герои не имеют индивидуальности, а, подобно абонентам в телефонной книге, отличаются друг от друга только фамилиями. Не задумается над тем, что события, происходящие с героями, надуманны, что нет в героях, в их поступках естественности.
Автору этого письма уже 17 лет! А есть читатели, которые в 12 — 14 лет прекрасно отличают талантливую книгу от серой, умную от банальной.
Хорошим читателем становятся по-разному.
Короленко в очерке «Мое первое знакомство с Диккенсом» рассказывает о том, как он еще мальчиком впервые прочел роман «Домби и сын».
Это была веха в его жизни! Он прочел много книг, но привык читать урывками, на ходу. И к этому роману Диккенса сперва тоже отнесся несерьезно. Но вот он прочел сцену, в которой Флоренс тоскует после смерти своего брата, мистер Домби тоже тоскует о сыне — двое несчастных, одиноких людей замыкаются каждый в своем горе, — а ведь они могли бы его разделить! Ведь они любили мальчика!
«Я не знаю, как это случилось, но только с первых строк этой картины — вся она встала передо мной, как живая, бросая яркий свет на все прочитанное урывками до тех пор».
И тогда мальчик лихорадочно дочитывает главу, а потом возвращается к началу, читает уже совсем по-другому — внимательнее, серьезнее; он задумывается над прочитанным. Им движет не только любопытство, но и другие чувства — негодование, сострадание... Он удивляется: как могут быть люди так жестоки? Он догадывается, что придет минута, когда жестокий мистер Домби горько раскается в своем равнодушии к дочери... Он понял чувство автора, разделил его и теперь следит за мыслью автора, дополняя несказанное, угадывая опущенное.
Разумеется, не всегда «рождение читателя» происходит именно так. Иногда толчком может послужить что-нибудь «со стороны»: жизненная встряска, напомнившая что-то из прочитанного, неожиданно возникший спор, умное слово более опытного Друга...
Человек становится настоящим читателем — чутким, умным, серьезным — не сразу.
Когда человек читает, работают одновременно его воображение, память, ум. Он представляет себе героев, ситуацию, держит в памяти то, что случилось с героями раньше, связывает воедино все части произведения. Чтение — это труд.
Написала эти строки — и представила себе своего соседа Витю.
— Труд? Не согласен. Вот учеба — это труд. И довольно надоедливый. Но чтение? Как для кого, конечно; для меня — удовольствие, а никакой не труд!
Витя мальчик искренний по натуре, я ему верю.
Я как-то спросила своих учеников:
— Ребята, для чего вы читаете?
Семиклассники ответили так:
— Мы читаем, чтобы узнать побольше о героях, которым надо подражать!
Десятиклассники не упустили случая щегольнуть эрудицией:
— Чернышевский сказал: книга — учебник жизни. Мы читаем, чтобы учиться жить, чтобы стать мужественными, смелыми людьми, такими, как Рахметов, Кирсанов, Лопухов...
И те и другие говорят не совсем искренне: читают-то они, как и Витя, для удовольствия! Но им кажется, что это был бы постыдный ответ... Гораздо приличнее звучит: «Читаем для пользы. Для самовоспитания».
Хорошая книга прежде всего, пожалуй, источник радости. И учит она хорошему независимо от того, намерен читатель извлекать из нее пользу или не намерен. Я бы сказала, что здесь обратная зависимость: талантливая, интересная книга учит и облагораживает человека незаметно для него самого. Стоит только засесть за книгу с благочестивым намерением, «стать мужественным и смелым», как перестаешь получать наслаждение от книги, а следовательно, уменьшается и ее влияние на тебя — читателя.
Нет ничего постыдного в честном признании: я читаю, потому что люблю читать, потому что чтение дает мне радость. Это естественно, это хорошо. Только вот радость эта бывает разная: радость читателя малоопытного, с ленивым умом, интересующегося только сюжетом книги, и радость читателя подготовленного, чуткого и к мысли и слову автора (потому-то я и не отказалась от своего утверждения: чтение — это труд!).
Сведем-ка этих двух читателей. Пусть поспорят!
ЧИТАТЬ МЕЖДУ СТРОК
— Ты прочитала Паустовского?
— Угу.
— Ну и как?
— Если честно — не очень...
— Почему?
— Понимаешь, читала я на днях книжку «Каллисто»: как прилетают на Землю жители другой планеты. Вот это книжка! Волнуешься, ждешь — какими они окажутся, сердце екает. Полночи читала! А у Паустовского все спокойно, медленно и почти ничего не случается! Ну вот, например: приехал один человек ночью в незнакомый город. Поговорил с женщиной — чужой женой... да она и не жена даже. И больше ничего не произошло. Я думала, влюбятся друг в друга — нет! Просто приехал, поговорил и уехал. Ну, Для чего такой рассказ?
__ Ты просто не подумала. Не вчиталась.
__ Да о чем там думать, когда ничего не происходит!
— Я только что прочла этот рассказ. «Дождливый рассвет»* Такой поэтичный!
— Ты, уж известно, всюду найдешь поэзию.
— Я не ищу ее. Я ее чувствую.
— Ну хорошо. А я, дура, не чувствую. Объясни мне — что ты поняла?
— Это трудно объяснить. Давай вспомним рассказ. Вот Кузьмин. Он застенчивый, мягкий, мечтательный. Он был ранен на фронте, едет из госпиталя; ему поручили передать письмо незнакомой женщине. Он немножко волнуется, ему странно, что сейчас, ночью, он вдруг увидит эту незнакомую женщину. И как он будет говорить с нею? Ночь такая тревожная, темная, и липы пахнут... Вот это запомнилось: слабо пахнут липы... Но вот он уже в доме... Подожди, я найду...
Оля перелистала страницы:
— «Им овладело то чувство, какое всегда бывает, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайн и догадок. Эта жизнь лежит как книга, забытая на столе на какой-нибудь шестьдесят пятой странице. Заглядываешь на эту страницу и стараешься угадать: о чем написана книга, что в ней?..» А дальше помнишь?
Оля помолчала, потом продолжала:
— Потом выходит к нему женщина в черном, они говорят как будто о пустяках, но в самом деле оба волнуются и, сами того не замечая, говорят о своем, сокровенном... И он, Кузьмин, говорит о том, что ему иногда хочется выскочить на ходу из поезда и остаться на поляне, которую он видит из окна вагона... Но поезд проходит мимо. И ему остается только высунуться из окна и смотреть туда, где осталась эта поляна... Ты понимаешь, это ведь он вообще о жизни говорит, не просто о поезде! И даже об этой встрече. А ты говоришь — ничего не произошло. Для Кузьмина очень много произошло! В жизни часто так бывает. У меня, например, было...
— Откуда у тебя такие мысли? — спросила Женя и потянула к себе книжку. Она читала молча, потом вслух: — «Вы высовываетесь из окна и смотрите назад, куда уносятся все эти рощи, луга, лошаденки, проселочные дороги, и слышите неясный звон. Что звенит — непонятно. Может быть, лес или воздух. Или гудят телеграфные провода. А может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнет вот так, на мгновение, а помнишь об этом всю жизнь».
— Вот так и этот рассказ я буду помнить всю жизнь, — сказала Оля. — А знаешь, хотя Кузьмин уезжает и неясно, встретятся ли они еще, — я верю, что встретятся. И тогда все будет по-другому. Ведь то была война, и потому ночь, тревога... А тогда, может быть, будет утро, солнечное, яркое...
— И что тогда будет? — спросила Женя. — Этого нет в рассказе. Это ты сочиняешь!
— Как будто все должно быть написано! Вот рассказ кажется грустный и кончается невесело, а на душе после него делается и тревожно, и хорошо. Как у Пушкина — и грустно, и легко... Ведь читаешь не только то, что написано. Читаешь иногда и между строк!
* * *
Слушая первые главы «Мертвых душ», Пушкин смеялся до слез.
Когда же чтение закончилось, он вытер слезы и, помолчав, с тоской сказал:
«Боже, как грустна наша Россия!»
Комический текст — и глубоко печальный подтекст: ничтожные, тупые людишки, осмеянные Гоголем, — да ведь это же было русское дворянство, опора государства!
Именно это несоответствие того, что было, тому, что должно было бы быть, глубоко ощутил Пушкин — и опечалился. Он понял то, чего Гоголь прямо не говорил в своем произведении.
Вспомните гоголевские похвалы Ивану Ивановичу из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
Вам не придет в голову принять эти похвалы всерьез. Вам понятен издевательский смысл слов «прекрасный человек Иван Иванович!». И вы чувствуете за гоголевским смехом «незримые, невидимые миру слезы»...
Бывает подтекст другого рода: писатель не рассказывает о чувствах и даже о мыслях своих героев. Он показывает действия героев, их жесты, их обычные шутки, предоставляя читателю самому додумать, дочувствовать то, что думают и чувствуют герои.
Об искусстве подтекста в драматургии очень хорошо сказал Чехов: люди в жизни «не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. И не каждую минуту говорят умные вещи. Они больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы это было видно на сцене. Надо создать такую пьесу, где бы люди приходили, уходили, обедали, разговаривали о погоде, играли в винт... Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как и в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни...»
И читатель (или зритель) должен это понять.
С. Я. Маршак так определил взаимоотношения между современным писателем и читателем: «Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели... Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-читатель».
Как же мы можем дополнить прочитанное своим воображением?
Перед нами маленькие рассказы Анатолия Приставкина. Эти рассказы называются «Трудное детство». Вот один из них — о мальчике, детство которого протекало в тяжелые военные годы.
Фотографии
«Мы жили далеко от дома, я и моя сестренка, которой было шесть лет. Чтобы она не забывала родных, раз в месяц я приводил сестренку в нашу холодную спальню, сажал на кровать и доставал конвертик с фотографиями.
— Смотри, Люда, вот наша мама. Она дома, она сильно болеет.
— Болеет... — повторяла девочка.
— А это папа наш. Он на фронте, фашистов бьет.
— Бьет...
— Вот это тетя. У нас неплохая тетя.
— А здесь?
— Здесь мы с тобой. Вот это Людочка. А это я.
И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повторяла: «Людочка и я. Людочка и я...»
Из дому пришло письмо. Чужой рукой было написано о нашей маме. И мне захотелось бежать из детского дома куда-нибудь. Но рядом была моя сестренка. И следующий вечер мы сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели фотографии.
— Вот папа наш, он на фронте, и тетя, и маленькая Людочка...
— А мама?
— Мама? Где же мама? Наверное, затерялась... Но я потом найду. Зато смотри, какая у нас тетя. У нас очень хорошая тетя.
Шли дни, месяцы. В морозный день, когда подушки, которыми затыкали окна, покрывались пышным инеем, почтальонша принесла маленький листок. Я держал его в руках, и у меня мерзли кончики пальцев. И что-то коченело в животе. Два дня я не приходил к сестренке. А потом мы сидели рядом, смотрели фотографии.
— Вот наша тетя. Посмотри, какая у нас удивительная тетя! Просто замечательная тетя. А здесь Людочка и я...
— А где же папа?
— Папа? Сейчас посмотрим.
— Затерялся, да?
— Ага. Затерялся.
И сестренка переспросила, подымая чистые испуганные глаза:
— Насовсем затерялся?
Шли месяцы, годы. И вдруг нам сказали, что детей возвращают в Москву, к родителям. Нас обошли с тетрадкой и спросили, к кому мы собираемся ехать, кто у нас есть из родственников. А потом меня вызвала завуч и сказала, глядя в бумаги:
— Мальчик, здесь на некоторое время остается часть наших воспитанников. Мы оставляем и тебя с сестренкой. Мы написали вашей тете, спрашивали, может ли она вас принять. Она, к сожалению...
Мне зачитали ответ.
В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу топчаны, скручивались матрацы. Ребята готовились в Москву. Мы сидели с сестренкой и никуда не собирались. Мы разглядывали фотографии.
— Вот Людочка. А вот я.
— А еще?
— Еще? Смотри, и здесь Людочка. И здесь... И меня много. Ведь нас очень много, правда?»
В этом рассказе нет слов «война», «горе», нет слов «смерть» и «сиротство». А ведь рассказ именно об этом — о смерти, о войне, о сиротстве, о горе. Все это не названо, но ощущается и «разгадывается» читателем.
Автор мимоходом замечает: «Подушки, которыми затыкали окна, покрывались пышным инеем», — как будто естественно и обычно затыкать окна подушками! В этой маленькой детали — война. Перевернутый быт, при котором заткнутые подушками окна — не самое страшное. Скорее — самое обыденное!
В детдом приносят не похоронную, а «маленький листок». И мы понимаем без авторских объяснений, что в этом листке.
А в конце рассказа завуч говорит: «Мы написали вашей тете, спрашивали, может ли она вас принять. Она, к сожалению...» Мне зачитали ответ».
Что было в письме? Каждый представляет себе это по-своему, хотя слово «к сожалению» дает главное направление мыслям — ясно, что тетка отказалась принять детей.
Видимо, такую — или примерно такую — работу читательского воображения имел в виду Самуил Яковлевич Маршак, когда говорил о художнике-читателе...
Быть художником-читателем — значит не только понимать подтекст, соотносить физические движения героя с его душевными переживаниями. Это значит ощущать и романтику произведения, его символику.
Не забывайте, что читательская чуткость имеет много общего с обыкновенной человеческой чуткостью.
О ТОМ, ЧЕГО НЕ УВИДИШЬ ГЛАЗАМИ
ы часто воспринимаем мир однозначно, не замечая второго — более глубокого — значения в словах и поступках окружающих.
А ведь подтекст бывает и в жизни!
...Больному предстоит тяжелая операция. А он рассказывает анекдоты, смеется, говорит громко.
Сестра, которая готовит его к операции, сердится: «Смотри, какой веселый! — ворчит она. — Будто не в операционную, а на свадьбу идет!»
И больной умолкает. Он уже не смеется, не напевает. Молча идет он за сестрой, и уже будто не в операционную, а на плаху...
Сестре бы вдуматься в то, что таится под веселыми речами больного! Ей бы почувствовать за этими внешними признаками возбуждения страх, тоску и мужественное стремление не показать этой тоски.
Но нет. Она не умеет, не научена видеть за словами людей более глубокий смысл — подтекст...
...Мать пришла с работы непривычно молчаливая. Сын занимается своими делами. Окончил уроки, берется за шапку.
— Мам, можно гулять?
— Как хочешь...
Хлопает дверь. Слышно, как сын сбегает с лестницы. А мать садится за стол и закрывает лицо руками.
Сыну бы задержаться! Ему бы услышать необычные в устах матери слова: «Как хочешь...» (Ведь обычно она говорит: «Ну разумеется, сынок!») Может быть, он понял бы, что у нее что-то стряслось, что ей не хочется оставаться одной, и лишь привычка к сдержанности заставила ее сказать «как хочешь». Вернуться бы, закрыть бы тихо дверь, сказать: «Знаешь, я передумал. Я лучше побуду с тобой. Или хочешь — пойдем вместе в кино?»
Но нет. У него нечуткое ухо (а может быть — сердце?). Он не слышит подтекста.
Как научиться понимать подтекст? Тут не дашь рецепта. Надо только помнить, что не все лежит на поверхности, до многих явлений надо «дотянуться» сердцем. Очень хорошо сказано об этом в сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Самое главное — то, чего не увидишь глазами». И еще: «Зорко одно лишь сердце».
Знаете ли вы эту сказку?
Антуан де Сент-Экзюпери был летчиком; одним из первых освоил он слепые полеты, воевал с фашистами и погиб в 1944 году.
Его книга «Земля людей», широко известная всюду, — это воспоминания и размышления автора, это лирическая исповедь, перемежающаяся с философскими раздумьями и с воспоминаниями.
В сказку «Маленький принц» Сент-Экзюпери вложил свое понимание жизни — во всяком случае, того, что важно в жизни. Свои нерешенные вопросы, свою горечь и свою мечту — все это он зашифровал в сказке, фантастической и современной: здесь нет ковра-самолета, но есть планеты, астероиды; Маленький принц явился с другой планеты. Тем не менее он так же простодушен, наивен и порой мудр, как земные дети; только опыт его несколько иной.
Он одновременно беспечен — и трудолюбив, беспомощен — и полон чувства ответственности. Он «в ответе за свою маленькую планету», в ответе «за тех, кого приручил». Он много размышляет о любви, о власти, о жизни и о смерти.
Каждый эту сказку будет читать по-своему: нет однозначности, твердо закрепленного значения за каждым эпизодом, словом, понятием.
Вот, например, отношение Маленького принца к своей планете: на ней, как и на всякой другой планете, растут травы полезные и вредные. Особенно вредны ростки баобабов. Если дать им разрастись, они разорвут планету на части...
И Маленький принц неустанно выполняет свой долг. Он старательно выпалывает вредные ростки баобабов. «Тут есть такое твердое правило, — говорит он, — встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету».
Каждый прочтет это по-своему. Одни увидят призыв к самодисциплине; другие почувствуют в этих словах социальное обобщение: слово «планета» прозвучит для них по-земному современно и грозно; они ощутят свою ответственность за все, что совершается в мире.
Маленький принц на своей планете ухаживал за прелестным цветком, вооруженным только четырьмя шипами. Роза казалась ему легкомысленной и обидчивой, капризной и гордой; он покинул ее, и только теперь, расставшись с нею, почувствовал, что, в сущности, она беспомощна и одинока без него. Он говорит: «Ничего я тогда не понимал! Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать! Под этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность... Но я был слишком молод, я еще не умел любить».
Маленький принц разговаривает с Лисом, который просит его приручить. Лис объясняет Маленькому принцу: «Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете...» Лис объясняет, как он будет ждать Маленького принца, если он, принц, будет приходить в одно и то же время. Жизнь Лиса «точно солнцем озарится». Он узнает цену счастью. Золотая пшеница будет напоминать Лису золотистые волосы принца! Природа оживет для него и наполнится прелестью и смыслом. Он полюбит шелест колосьев на ветру... «Пожалуйста... приручи меня!»
Маленький принц приручил Лиса, дал ему счастье и сам стал счастливее. А Лис в благодарность открыл ему один секрет: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь... Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу...
Люди забыли эту истину, но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил...»
Все события, поступки, слова — всё совершающееся в нашей жизни, кроме обычного, для всех очевидного значения, имеет еще и внутренний, чрезвычайно важный смысл.
Автор хотел бы, чтобы помнили, что не только разум возвышает человека над самыми умными животными, но и способность любить, дружить, общаться с другими существами: это общение играет огромную роль в духовной жизни человека. Оно оживляет для него природу (он может «по ночам слушать звезды!»). Оно служит источником искусства, помогает поэтически воспринимать мир...
Писатель замечает с горечью, что люди забыли эту великую истину — отдать другому всю душу. Он уверен, что единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения. Он хочет, чтобы люди, живущие больше внешними событиями, чем внутренней жизнью, обрели бы второе духовное зрение.
* * *
А что такое «духовное зрение»? Что мы имеем в виду, когда говорим о духовной жизни?
Маленький человек живет, ходит в школу, готовит уроки, бегает, играет или ссорится со сверстниками — словом, действует.
Но для духовной жизни он еще не проснулся. Он еще не личность, потому что даже и не пытался осознать себя и свои отношения с миром самостоятельно, через собственные наблюдения, сравнения, размышления. Он живет только плодами чужих размышлений и смотрит на мир чужими глазами.
Так Славка, одиннадцатилетний герой романа Ричи Достян «Тревога», смотрел на мир глазами своей матери, и ему передавалась «материнская неприязнь ко всем, кто грамотнее, вежливее, а часто даже к тем, кто попросту говорит спокойно и тихо...»
Славка был уверен, что жизнь приятная и понятная — в его доме. «Особенно, когда знаешь, что, кроме тебя, мамки, бати да еще тети Клавы — соседки, которая тоже из-за своего Васечки кому хошь голову оторвет, все остальные паразиты, сволочи, гады и кое-что еще!»
Славка пока не личность еще и потому, что он не умеет быть один. С тех пор как он помнит себя, «ощущение жизни для него сливалось с толпой вечно орущих и вечно бегущих однолеток. Совершенно не понимал он поэтому, что такое дружба с одним человеком. Он привык дружить с целым двором, школой, с целым лагерем. А когда он почему-либо оставался один, то сразу начинало мерещиться, что болит ухо или живот, потому что в одиночестве он оставался, только когда заболевал.
По той же причине Слава не переносил тишины. От тишины у него ныло под ложечкой, и единственным спасением в таких случаях была еда».
Очень точно показаны автором симптомы «болезни», которую можно было бы назвать бездуховностью: человек живет примитивной жизнью. Он боится одиночества, потому что не умеет наслаждаться ни мыслью, ни книгой, ни природой, ни искусством, не понимая, что все это тоже средства преодоления одиночества!
Но вот Слава знакомится с близнецами, живущими тут же на даче, — с Костей и Викой. И хотя Славку учила мать — «нежадных, сыночка, не бывает. Все люди жадные, только которые признаются честно, а которые иисусиков из себя изображают», — но тут Славка начинает понимать, что враждебный мир лицемерных иисусиков попросту выдуман матерью.
Костя и Вика вежливы, душевны, деликатны. Они чувствуют природу. Они познали радость, доставляемую чтением, и вносят в жизнь Славки ощущения чистоты, внутренней тишины и опрятности — ощущения, которые прежде Славка презирал. Они искренне и бескорыстно любят других людей (в том числе и его, Славку!).
И хотя он силится и наивно не может понять, почему брат и сестра «с самого первого часа стали относиться к нему так, будто он им золотые часы за так подарил или от смерти их спас», — их ласковое, деликатное отношение находит отклик в Славкином сердце. Он узнает, не умея назвать это чувство по имени, что такое благодарность. В его сердце, которое умело до сих пор или завидовать, или презирать, появляется чувство нежности к людям.
Постепенно в Славке пробуждается и способность любоваться красотой мира: «Стоя на крыльце, Слава незаметно превращался из обыкновенного мальчишки в кого-то другого, кто проникает в сон песка, стояние сосен, полость неба; кто испытывает тончайшую печаль за деревья, потому что у них нет глаз и они не видят солнца и себя!..»
Так одиннадцатилетний человек, живший безотчетно, бездумно, только сегодняшней минутой, только на людях, незаметно для себя берет уроки духовной жизни у своих новых друзей и приобщается к их миру — миру добрых, человеческих отношений, тонких эмоций, к миру размышлений...
И происходит это за короткий срок — за несколько недель, которые герой проводит на даче... В эти несколько недель рушится его «понятный мир», возникает чувство враждебности к нему и вырастает много других прекрасных чувств, которым он не умеет найти названия, но которые по-настоящему заполняют его.
Вот что может сделать роскошь человеческого общения.
* * *
Книга эта — «Тревога» — написана о детях, но ее интересно читать человеку любого возраста. Так бывает всегда с талантливыми произведениями. Эта книга хороша не только своей тонкой поэтичностью, психологической правдой, но и проблемностью. Автор ставит очень серьезные проблемы: как воспитать в человеке духовное богатство? В чем корни мещанского мировоззрения, мещанского образа жизни?
Писателю необязательно разрешать поставленную им проблему: иногда достаточно только поставить ее.
Писарев в шестидесятых годах прошлого века в статье «Реалисты» писал о романе Тургенева «Отцы и дети»:
«Роман этот, очевидно, составляет вопрос и вызов, обращенный к молодому поколению старшей частью общества. Один из лучших людей старшего поколения, Тургенев, писатель честный, написавший и напечатавший «Записки охотника» задолго до уничтожения крепостного права, Тургенев ...обращается к молодому поколению и громко предлагает ему вопрос: «Что вы за люди? Я вас не понимаю, я вам не могу и не умею сочувствовать. Вот что я успел подметить. Объясните мне это явление». Таков настоящий смысл романа. Этот откровенный и честный вопрос пришелся как нельзя более вовремя».
Как видите, Писарев признает за писателем право только ставить вопросы, не разрешая их.
Нередко сама постановка вопроса содержит в себе кое-что плодотворное, а художественное исследование сложных явлений заставляет читателя искать ответ и нередко помогает его найти.
ПРОБЛЕМЫ ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ
Многих современных писателей волнует психология молодежи, ее взаимоотношения со старшим поколением.
В острые переломные моменты истории (таким моментом, например, было разоблачение культа личности со всеми его последствиями) образ мыслей молодежи претерпевает серьезные сдвиги. Природу этих сдвигов пытался исследовать Гладилин в повести «Первый день нового года».
В этой повести о молодом художнике Феликсе есть и удачи, и просчеты. Остановимся на истории отношений отца и сына, рассказанной попеременно то отцом, то сыном.
Отец прожил большую, трудную и достойную жизнь. Он заканчивает ее. Он болен, и болен безнадежно.
Сын гордится отцом. Любит его, по-мужски жалеет. Между отцом и сыном нет пропасти. Более того: они действительно близки. Но они не могут, не умеют эту близость сделать источником радости!
Отец любит сына. Он рад бы с ним поговорить по душам о самом сокровенном, передать ему — пока еще можно — свой жизненный опыт. Но сын невольно отталкивает отца; любя, делает его жизнь и смерть более трудной. Его любовь к отцу прорывается, когда он остается наедине с любимой девушкой, а отец, которому так нужно сердечное, душевное общение с сыном, не может «достучаться» до него.
Откуда эта сдержанность? Характер?
Да, характер. Во многом — характер. Но отчасти и воспитание. Отец и мать Феликса очень много работали. Много времени Феликс проводил в пионерских лагерях, в школе: «Дома он мыл посуду и полы, выносил ведра, и вся тяжелая работа была на нем».
Он мало видел родителей, мало разговаривал с ними. И возникло отчуждение. Постепенно это отчуждение росло. Любовь? Да, разумеется! (Именно — «разумеется».) Сама собою разумеющаяся, молчаливая, почти неощутимая, А потребность в общении? Ее нет. Феликс рос в семье — и вместе с тем как будто без семьи. Отец вспоминает об этом так:
«Серьезных разговоров со мною он не вел никогда, на мои вопросы отвечал учтиво, и в его ответах сквозило: «А что ты понимаешь?» Чем больше я наблюдал за этой молодежью, тем больше удивлялся. Возможно, потому, что для меня была школой гражданская война, а для них — 1956 год. Время романтики и время анализа».
У Феликса есть жена и ребенок.
Узнав, что сын полюбил Иру, отец не просит его остаться с женой, сохранить семью. Он боится дать сыну плохой совет. «Но ты подумай, — говорит он, — не делай той ошибки, что сделал я». И волнуется при этом: «Он думает, что все еще впереди. Он не может понять, что настоящего спутника жизни встречают один раз. Один раз — а остальное будет не то, ненужное. И если это настоящее, надо быть осторожным. Очень легко все потерять. Это страшно — уходить от семьи. Я это испытал. У меня не хватило сил. Но ведь он совсем другой!»
Видимо, сын не совсем другой. Во многом он похож на отца. Несмотря на свою независимость, он — бессознательно — идет тем же путем, что и отец, повторяя его поиски и его ошибки. Жаль только, что отцу об этом не узнать: ему так хотелось самому перед смертью передать сыну свою веру, свое прошлое, — и он умер, не зная, что все уже передано, передано без того решительного «завещательного» разговора, которого он так жаждал. «Разве он меня послушается?» — думал он безнадежно.
Да, в мелочах не послушается: например, не возьмет свитер в дальнее путешествие. Пообещает и не возьмет. А в остальном, в главном? «Кажется, нет ничего естественнее, как прийти и сказать: «Папа, расскажи мне о первой пятилетке». Просто прийти и попросить. Идиллическая картина. Душевный разговор отца с сыном. И самое главное, я очень хочу его послушать, а он — мне рассказать. Но это немыслимо...»
Почему немыслимо? Феликсу чудится в этой идиллической картине что-то нескромно-сентиментальное. И в жертву этому страху перед опошлением, преувеличенным выражением чувств приносится подлинное чувство. Искренность наизнанку! «Иногда мне кажется, что я не понимаю отца, иногда — наоборот, ясно вижу, о чем он думает».
А все-таки — понимает или не понимает?
«Я долго думал: кого напоминает мне капитан? И как ни странно — моего отца! Они внешне совершенно не похожи, но что-то есть общее. Вероятно, то, что всю жизнь они оба стояли на вахте и, что им ни встречалось бы: мели, туманы, льды и пороги, — они всегда старались нащупать единственно верную дорогу, чтобы люди, которые были рядом с ними, не потерпели крушения».
Значит — понимает. И сам старается, как и отец в свое время, нащупать дорогу, чтобы «люди, которые были рядом с ними, не потерпели крушения».
Это не удается: крушение терпит Ира. Терпит крушение и сам Феликс — он не уходит из семьи, хотя знает: в Ире он теряет настоящую, единственную любовь, как потерял когда-то его отец, обрекая себя на жертву, чтобы только не ломать семью. И в этом Феликс повторяет своего отца.
Автор не показывает это решение как единственно верное, как нравственную победу Феликса. Автор сам — в раздумье, как и отец Феликса. И читатель тоже в раздумье.
Да, нравственные нормы Феликса остались те же, хотя он — «другой», хотя он — «дитя эпохи анализа»; но верны ли эти нормы?
В повести ощущается привкус горечи, тоски; ощущается ущербность во взаимоотношениях отца и сына. Понимание было. Была преемственность нравственного идеала.
Не было способов выражения этого понимания.
Ведь взаимное понимание отцов и детей — не отвлеченная категория. Оно нужно не само по себе. И не только для того, чтобы жизнь шла вперед по намеченному пути. Оно нужно еще и для полноты душевной жизни, оно нужно для радости человеческой, естественной радости, которую дарит сознание, что самый близкий человек, сын, уважает отца, прощает его слабости, гордится им, принимает его жизненную программу.
Этой человеческой радости нет в сердцах отца и сына.
Жизнь многому научила отца, но не научила его стремиться к счастью. Да это и понятно: суровые годы 20-х и 30-х годов требовали самоотречения, самоограничения во всем. Но сын! Он, сын, тоже не научен радости щедрого душевного общения с близкими, хотя время уже не столь сурово... Какая душевная скупость в иронических словах сына: «Идиллическая картина»... Какой страх перед откровенным движением сердца! Какая почти печоринская рефлексия, взгляд на себя со стороны!
Перед нами повесть проблемная. Она рождает ассоциации, заставляет задуматься над жизнью.
Можно считать какой-нибудь край богатым, зная, что в нем большие залежи, допустим, железа. Но сделать его богатым можно, лишь начав добывать это железо.
Любить — этого мало! Надо найти способы выражения этого чувства, способ превращения этих «залежей» в источник духовного богатства, в источник счастья. И надо делать это вовремя! Потому что можно опоздать.
Автор показал реально существующую в жизни сложность. Он сделал попытку исследования психологии своих героев. Он не дал «рецепта» преодоления сложности. Об этом он предлагает задуматься читателям.
Некоторые авторы, бегло охарактеризовав волнующее их явление, считают своим долгом немедленно выработать рецепт и вручить его людям: будете поступать так-то и так-то — все будет отлично!
Цитирую:
«Да, сначала нужно провести большую, очень большую и трудную и черную работу, — сказал он. — И вместе с тем необходимо в срочном порядке перестраивать человеческое сердце на коммунистический лад».
Слова эти произносит главный герой романа Александра Андреева «Рассудите нас, люди». Как видите, он знает, что нужно делать (правда, лишь в общем виде). Надо перестраивать сердце, и притом срочно!
А как его перестраивать? И уместна ли тут срочность?
Роман называется «Рассудите нас, люди».
Заглавие обещает серьезный конфликт: надо обращаться к людям — сам не рассудишь!
Генеральская дочь, избалованная родителями, влюбляется в рабочего Алешу. Она рвет со своим женихом, и, преодолев препятствия, чинимые деспотичной матерью, убегает к Алеше, и выходит за него замуж.
Друзья поздравляют молодоженов и уступают им комнату в бараке — «райский уголок», по словам Жени. Добрая комендантша тетя Даша опекает их и кормит блинами.
Молодожены в восторге от друзей, от чуткой тети Даши и друг от друга. Они без устали говорят о своем счастье. Женя почти декламирует:
«У меня сердце сжимается от счастья, когда мы садимся за наш стол, когда все у нас есть, все чисто, уютно и я могу смотреть на тебя, сколько хочу... Если бы мне запретили видеть тебя хоть неделю, я бы, наверное, умерла. И если бы людям пришлось наказывать нас за что-нибудь, то самое страшное наказание было бы — разъединить нас. Для влюбленных страшнее разлуки ничего нет».
Молодой супруг ей отвечает:
«Однообразен примитивный, лишенный взлетов человек — мещанин в быту, чиновник в своей деятельности: все размерено, рассчитано, никаких отклонений от нормы, все спокойно, а главное, благополучно. Постоянного счастья нет. Есть постоянное благополучие. Счастье не в обладании счастьем, а в достижении счастья, в движении к нему. Мы с тобой, Женечка, в пути».
Успокоив таким образом жену (или читателя?), что испытываемое им счастье не мещанское, герой продолжает демонстрировать (Жене или читателям?) свою эрудицию.
Он вспоминает в эту лирическую минуту Аристотеля, Кампанеллу, Гомера, Льва Толстого, Линкольна, Циолковского, Эйнштейна и Пушкина. «...Не хватит вечера, чтобы перечислить всех лишь по именам. И вот, когда я остаюсь один или когда мне тяжело и горько, я незаметно прокрадываюсь в их общество и тихо слушаю. Они учат мудрости, доброте и жизнелюбию. Нет, не навязчивой назидательностью, а примером своей жизни, своей борьбы».
Далее герой, бросив прощальный взгляд в сторону правдолюбцев, горевших в свое время на кострах, произносит речь о будущем, коснувшись сталеваров, строителей, предстоящих полетов на Венеру, осуждает пессимистов, которые всем недовольны, и завершает речь скромным заявлением:
«Я настроен на другую волну. Я ненавижу зло, корысть, подхалимство, зависимость, душевную бедность. Все это я отчетливо вижу. Но все равно жизнь прекрасна, Женя!»
Молодая супруга, восхищенная эрудицией мужа, восклицает:
« — Мечтатель ты мой! Мой настоящий... Только ты способен, находясь в этой норе с единственным окошечком, видеть красоту мироздания и верить, что зло скоро исчезнет. Я согласна с тобой, Алеша: будущее за нами. Но пусть и сегодняшнее будет тоже нашим. Давай жить и наслаждаться сегодня и тем, что у нас есть. Алеша, обними меня крепко-крепко!.. Скорее!..»
Но взаимного умиления супругам хватает ненадолго.
Избалованная Женя не выдерживает «трудностей быта». В общежитии, которое трудами тети Даши и друзей превращено было в «райский уголок», ей пришлось самой стирать!
И стирка доконала ее.
Алеша с тоской думает, как ей помочь. «Как правило, люди ставят такие задачи тогда, когда решать их уже поздно...»
А как легко оказалось решить «подобную задачу»! Всего-навсего купить стиральную машину. И Алеша додумался до этого. Сердобольные друзья снабдили его деньгами. И он купил ее!
Купил, но с опозданием... на один час.
Этот час и стал роковым: Женя уже ушла. Приди он с машиной на час раньше, и не было бы конфликта, незачем было бы тревожить добрых людей, призывая их «рассудить» героев.
Но Женя ушла не навсегда.
Она ушла к родителям, надеясь, что отец уговорит Алешу переехать в родительский дом, где стирать будет уже не Женя, а прислуга. И хотя все готовы улаживать Женины дела — мать, подруги, товарищи Алеши, — она две недели ждет отца. Эта задержка в развитии событий дает автору время отправить отчаявшегося Алешу в Сибирь на ударную стройку. Молодожены оказываются в разных городах. Создается видимость трагической ситуации: «Рассудите нас, люди»!
Оказывается, проблема номер один в нашем обществе — это... неравный брак!
Рабочий у нас зарабатывает не меньше учителя или врача, эрудицией заткнет за пояс ученую Женину мамашу (вспомните: Аристотель, Гомер, Кампанелла, Эйнштейн — его друзья и наставники!). В чем же дело? Где почва для конфликта?
Да, серьезного социального конфликта в наши дни на такой почве не придумаешь. Он и не получился. Рассмотрим проблему номер два: тяжелый быт убивает любовь!
И здесь неправда. У молодоженов отдельная комната. В общежитии их не только не притесняют — напротив, им все помогают.
Эти условия могли казаться такими тяжелыми только Жене, выросшей в семье, пропитанной мещанским духом — от верной няни и до мамаши, преподающей не то политэкономию, не то философию и в то же время гоняющейся за выгодным женихом для дочери...
Вот кого мог обличать автор!
Но автор амнистирует родителей Жени за какие-то заслуги в прошлом, о которых в романе говорится весьма бегло, а гнев свой направляет против людей, ничем не причастных к фабуле, — на студентов-стиляг, предводительствуемых откровенным подлецом Растворовым.
В романе они сбоку припека, к сюжету пристегнуты насильственно, с первых же страниц откровенно заявляют о своих целях, и поэтому все дальнейшее — не развитие действия, а нагромождение банальных и совершенно не идущих к делу подробностей. И огонь из тяжелых орудий, который автор ведет по стилягам, не вызван ходом событий романа, не оправдан необходимостью их «разоблачения»...
Женя задумана в основном как положительный персонаж. Ее полюбили все друзья Алеши, она дает бой стилягам в конце романа. Она, видимо, любит Алешу.
И все?
Многословные трескучие декларации о труде и о будущем, о любви и о героизме — это ведь еще не характер, это только слова!
Но жалеет она все-таки... себя. «Железная койка в общежитии — вот наше гнездышко счастья», — говорит она.
А ведь, в сущности, безразлично, что стоит в гнездышке — железная койка или модная деревянная кровать. Не это важно! Важно, что гнездышко — мещанское, несмотря на то что в нем произносится много выспренних слов.
Высокопарные слова никогда не заменят движения мысли. А мелодраматические эффекты («Женя отпрянула от меня, дико расширив глаза»... «Аркадий... прохрипел, оскалясь»...) не способствуют созданию художественного впечатления.
А главное — людям не за что судить молодых супругов: слишком ничтожен их конфликт! И нечему учиться у них.
Каждая эпоха выдвигает свои проблемы, свои способы решения этих проблем... И писатель, если он исследователь, замечает, что они назревают в обществе, сам мучается этими проблемами, ставит их в своих произведениях...
Книги такого писателя приобретают современное звучание. Возьмите книги Тендрякова: как только появляется в обществе серьезная проблема, Тендряков ее уже почувствовал. Так были написаны «Ухабы» — повесть, в которой конфликт между служебным и человеческим долгом доведен до трагических последствий.
Умер человек.
А мог бы жить, если бы ему была оказана своевременная помощь !
Но помощь не была оказана вовремя, потому что начальник МТС оказался бюрократом — не дал трактор, чтобы доставить раненого в больницу.
Если бы сюжет этим исчерпывался, проблема была бы несложной: осудить начальника МТС — бездушного, жестокого человека!
Но этот самый начальник проявил и самоотверженность, и гуманность, и терпение — он тащил раненого на носилках в труднейших условиях, — пока он не был при исполнении своих служебных обязанностей. Пока он был просто человеком, просто пассажиром, попавшим в аварию, при которой тяжело пострадал другой человек, другой пассажир.
Но вот он перестает быть пассажиром, садится в свое служебное кресло — и отказывается дать трактор, чтобы отправить в больницу раненого, которому так самоотверженно помогали все пассажиры — и он сам в их числе!.. И при этом отстаивает свою правоту. Машины должны использоваться по назначению! Он не имеет права дать трактор. Ведь трактор используют «не по назначению»! Более того, он утверждает, что если бы трактор был его личной собственностью — он бы дал его. Но это государственное добро — и поэтому он не имеет права! Парадокс, не правда ли? И вместе с тем — явление типичное!
Так большие права, данные человеку обществом, оборачиваются бесправием, трусливостью, бездушием...
Такова одна из проблем, поставленных Тендряковым...
Когда же подлинные проблемы подменяются искусственными, придуманными (например — «неравный брак»!), произведение не может стать значительным и актуальным, даже если оно написано на ультрасовременном материале.
Более того, такая подмена влечет за собой и ложные приемы изображения, как в книге «Рассудите нас, люди».
О ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПАХ
А книгу читают!
Она не стоит на библиотечных полках, она всегда на руках. И читает ее молодежь!
Чем объяснить такой успех?
Молодежь жаждет книг о любви — а их мало.
Кроме того, построение романа (часть глав написана от лица Жени, часть от лица Алеши) привлекает читателя интимным тоном, я
бы сказала — видимостью интима: эти главы похожи на дневник, а дневник всегда интересно читать; чей бы это ни был дневник — он имеет притягательность человеческого документа, исповеди души.
А неподготовленные читатели не всегда отличают подлинный психологизм от претензий на психологизм, настоящий лиризм — от видимости интима.
Тут все дело в критериях оценки.
Иногда эти критерии просто не выработаны — чаще всего это случается с теми юношами и девушками, которые в своем литературном образовании прошли мимо классической литературы: мимо Толстого, Тургенева, Чехова.
Человек, вдумчиво и осмысленно прочитавший, например, Льва Толстого, может даже не догадываться, что у него появились иные критерии, иные мерки. Просто Лев Толстой — это вершина; однажды достигнув ее, все видишь другими глазами: становишься мудрее, умнее, тоньше. И требовательнее. Душа не принимает после Толстого никакой фальши, никакой подделки.
Разумеется, невозможно требовать от каждого писателя, чтобы он писал, как Лев Толстой. Гений есть гений, а литература жива не только гениями, но и талантами, и просто способными людьми...
Но Лев Толстой установил некоторые принципы изображения жизни, поднявшие на более высокий уровень сразу всю литературу, причем на много лет вперед. Каково бы ни было дарование писателя — большое или не очень большое, — но после Льва Толстого нельзя писать так, как если бы Толстого не было вовсе.
Вспомните, как Наташа в «Войне и мире» разговаривает с Пьером (в конце романа).
«Наташа, оставшись с мужем одна, тоже разговаривала так, как только разговаривают жена с мужем, то есть с необыкновенною ясностью и быстротой понимая и сообщая мысли друг друга, путем противным всем правилам логики...»
«Косноязычие» мужа и жены у Толстого ощущается как художественная находка: они могут употреблять случайные, небрежные слова, они не боятся быть непонятыми! Такова мера их близости.
(Кстати, и у Чехова близкие люди разговаривают друг с другом по законам, «противным всем правилам логики».)
И современные писатели, отнюдь не подражая классикам, нет! — а только развивая найденные ими художественные принцип ы, — изображают, например, интимные, семейные отношения героев в ином ключе, нежели служебные их взаимоотношения.
Но нередко можно прочесть и диалог, построенный автором так, что характер, индивидуальность героя никак не ощущается в его словах, в его утверждениях или возражениях.
« — Я удивляюсь, Алеша, — говорила Женя, пожимая плечами, — как это близкие люди могут ссориться между собой из-за пустяков. По-моему, лучше совсем не жить вместе, чем ссориться, потому что ссоры незаметно подтачивают любовь.
Я соглашался:
— Ссоры из-за пустяков, из-за мелочей — это, Женя, удел мещан. Между мужем и женой могут быть споры на принципиальной и, если хочешь, на идейной основе. Мелкие ссоры оскорбляют достоинство, идейные споры обогащают, даже украшают жизнь, углубляют мысли».
Где мы?
На диспуте о любви и дружбе?
На комсомольском собрании?
Нет. Это семейный разговор за завтраком.
Вслушайтесь в интонацию, вдумайтесь в построение фразы, — • ведь это не диалог! Это проповедь, произносимая одним человеком — автором, но разделенная (для занимательности?) на две части: первую часть произносит жена, вторую — муж. Нет ни одного слова, ни одного жеста, свойственных только Алеше или только Жене. Поменяйте их реплики местами — ничего не переменится.
А мысль?
Где те семь восьмых, которые придают величавость движению айсберга?
Их нет. Все восемь восьмых на поверхности.
Где те слова, которые опускает Наташа у Толстого, оставаясь наедине с мужем, опускает потому, что он все понимает с полуслова, в случайном, необдуманном выражении?
Их нет.
Все, что говорит Алеша Жене, он мог бы в тех же выражениях сказать своему профоргу.
А раз нет живых людей с их живой манерой, живыми отношениями — значит, нет и художественной правды.
Но кое-что тут есть: есть привычно «правильные» слова. Почти цитаты. Например: «ссоры незаметно подтачивают любовь». Или: «ссора из-за пустяков — это удел мещан» (кстати, это неверно: «ссоры из-за пустяков» бывают нередко результатом усталости, нервного состояния и вовсе не обязательно свидетельствуют о мещанстве героев!).
И эти-то сентенции вводят в заблуждение некоторых читателей, воспитанных на выспренних фразах. Кто-нибудь, может быть, подумает: «Какие идейные супруги! Как возвышенно они говорят! А мы с женой говорим совсем иначе...»
И хочется сказать такому читателю: люди за завтраком не говорят «возвышенно». Не верьте! Даже если они говорят об очень важных, очень серьезных проблемах. Они говорят по-иному. И по-разному.
Возьмем роман Вигдоровой «Семейное счастье». Есть в этом романе такой эпизод: во время войны вдову недавно убитого фронтовика, живущую в городе Подгорске, постигло новое несчастье: сына-подростка судили за кражу.
Журналист Поливанов поехал в Подгорск и, разобравшись во всех деталях дела, понял: произошла судебная ошибка. Обвинение ложно.
Но как убедить в этом общественность? Как добиться пересмотра дела?
Надо написать статью. И он начинает писать ее по горячим следам, вернувшись из командировки. А статья не получается.
К нему подходит его жена, Саша. Читает начало статьи и видит — не то. Не те слова! И она говорит ему:
« — Представь себе: ты приехал из Подгорска, а меня нет.
— Где же ты? Я не люблю, когда тебя нет.
— Я уехала на Северный полюс. Или в Ленинград. Или гуляю по Царской тропе в Крыму. Ты приезжаешь, а меня нет. Что ты делаешь?
— Я сержусь.
— Верно. Ну, а потом?
— Потом я ору на всех подряд, расшвыриваю все, что попадает под руку. Дети плачут, а я проклинаю вселенную и все ее окрестности.
— Все верно. Ну, а потом?
— Потом я пытаюсь дозвониться тебе.
— На Северный полюс? Нет, ты пишешь мне письмо. И в письме рассказываешь обо всем, что было в Подгорске. Понимаешь? Ты должен написать не статью, не очерк, а письмо ко мне. «Дорогая Саша, я приехал в Подгорск поздним вечером...» Потом мы вычеркиваем «Дорогую Сашу» и «Целую тебя», и остается статья.
— Ты предлагаешь игру, а мне надо написать серьезный очерк.
— Митя, честное слово, я тебе дело советую... Ведь ты не станешь мне писать... — Она перегнулась через его плечо и прочитала: — «В суд поступило дело. Суть этого дела заключалась в том...»
И Митя понимает: да, ей, Саше, он не стал бы писать канцелярскими фразами, вроде этой: «В суд поступило дело...» Он нашел бы для нее другие слова. Сумел бы передать ей свое волнение, боль за этих людей, острую жалость к осиротевшей семье, возмущение несправедливым обвинением... Это был бы язык сердца, а не канцелярского отчета!
И он пишет всю ночь. А утром Саша, прочитав письмо-статью, с волнением говорит:
« — Спасибо. Чудесное письмо!»
(Забегая вперед, скажу: статья замечена, дело пересмотрено, обвинение снято!)
А теперь вернемся к разговору между мужем и женой. Перечитайте его. Вы не чувствуете себя на собрании. Вы слышите интонацию, свойственную близким, очень близким людям. Они говорят тихо, спокойно, с обычным, очевидно, для этой семьи юмором, без громких слов, хотя дело, о котором говорят, огромной важности.
В этом ночном разговоре есть конкретная правда человеческих отношений. И есть еще одна правда: статья, которую пишет Поливанов, лишь тогда будет иметь большое общественное звучание, если она будет по-настоящему личной, если по сути, по сверхзадаче это будет письмо к жене.
Эта сцена представляется мне ключом к роману Ф. Вигдоровой «Семейное счастье» (в отдельном издании вторая часть романа называется «Любимая улица»). Общественное звучание романа обусловлено той сердечной болью, с которой написаны многие сцены, той проникновенной простотой, которая исключает всякую риторику, пышные фразы и громкие слова.
Герои здесь не разговаривают о своих высоких идеалах и благородных стремлениях. Они просто живут, живут трудно, неустроенно (но не жалеют себя при этом!), они действуют!
Узнав о смерти своего мужа-летчика, погибшего в Испании в боях за республику, молоденькая Саша думает, что никогда больше не будет любви, никогда не будет романтики, которой так щедро было украшено ее первое чувство. Она воспитывает дочь и живет воспоминаниями, она не хочет и не может изменить памяти мужа.
Время идет, Саша молода. Ее полюбил кинооператор Поливанов. Но Саша остается верна памяти Андрея. И только в эвакуации, встретив Поливанова, приехавшего после ранения с фронта на несколько дней, Саша понимает, что к ней опять пришла любовь.
Так начинается вторая жизнь Саши — трудная, сложная, с двумя детьми и с Поливановым — контуженным, побывавшим в плену...
— Но почему же роман называется «Семейное счастье»? — спросите вы. — Жизнь трудная, сложная; где же счастье?
А тут оно. В этой трудной жизни. Его невозможно отделить — тут и радость, и горе, и страх, и ревность...
Помимо любви, которая общая, у каждого есть что-то свое: свой характер, своя манера, своя степень терпимости, свой «порог боли». И если все это не совпадает, то жить трудно, хотя любовь от этого вовсе не исчезает (и даже не слабеет!).
Этот внутренний психологический конфликт делает роман правдивым и проблемным.
* * *
Мне кажется — правдивость, искренность автора определяет и проникновенный, искренний тон книги. Все, о чем пишет здесь Вигдорова, дорого ей, пропущено через сердце... Поэтому в романе нет ни высокопарных фраз, ни громких деклараций, произносимых героями. Герои действуют, разговаривают, размышляют — все это дано автором в сдержанной манере, которая не исключает глубокой искренности.
...Если тема, которую выбрал писатель, поистине близка его сердцу и хорошо ему знакома, если вопросы, которые он ставит, и общественно значимы, и выстраданы автором, — такая книга, видимо, будет трогать и читателя.
— Разумеется, если у автора есть талант! — добавите вы.
О да, разумеется... Но... тут надо оговорить одну вещь: талант — качество необходимое для того, чтобы написать хорошую книгу. Но одного таланта недостаточно. Белинский, горячо любивший Гоголя, видевший в нем надежду и гордость русской литературы, тем не менее с гневом обрушился на него за реакционную книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». В своем письме к Гоголю он писал: «Какая эта великая истина, что, когда человек весь отдается лжи, его оставляет ум и талант!..»
Плохой писатель не может написать хорошую книгу.
Но хороший писатель может написать и плохую книгу — если он «весь отдается лжи».
Как видите, качество книги определяется не только мерой таланта, но и нравственным обликом писателя — его отношением к людям и к жизни.
КОМУ ПОДРАЖАТЬ?
библиотеке идет читательская конференция. Обсуждается рассказ И. Грековой «Дамский мастер».
— Рассказ мне вовсе не нравится! — говорит девушка. — Где герой, которому нужно подражать? Разве захочется нам, молодым людям, подражать этому парикмахеру, который не понимает главного в жизни? Разве сможет этот «герой» кого-нибудь увлечь за собой?
— А что главное? — спрашивают из зала. — Ты-то знаешь, что главное?
— Знаю! Главное — это целеустремленность! Чтоб человек знал, чего он хочет! А этот Виталий живет маленькими чувствами, маленькими целями... Вы говорите о героях нашей литературы. Да я отказываюсь таких называть героями!
— Я тоже считаю, что у Виталия мелкие цели... Подумаешь — такую прическу сделать или другую!.. Хотелось бы прочитать про такого человека, который действительно способен на подвиг, который вершит большие дела! А тут...
— Разве обязательно подражать герою? Может, и Онегину надо подражать? И Печорину? По-моему, если в произведении есть живые герои, ведут себя как живые, говорят как живые...
— Ха, живые! Руку материнскую «лапой» зовет... Я бы умер со стыда!
— Умирать не советую! Лучше развивать в себе чувство юмора. Вы не видите, что ли, как сыновья любят мать? Шуток не понимаете! И вовсе не обязательно подражать...
— Как — не обязательно? Книга должна давать нам идеал! Хочу знать, на кого мне равняться! И так стиляг много развелось. Обязательно нужно, чтоб было кому подражать!.. Книга должна воспитывать!..
Уходя с этой конференции, я думала: почему многие юные читатели так упорно, так настойчиво говорят о подражании героям? Почему именно образцовый герой кажется им обязательным условием воспитательного воздействия книги?
Да, Павел Корчагин юношей восхищался поведением Овода. Эта книга потрясла его и вызвала стремление подражать герою: он не стонет во время мучительной операции. Он мужественно переносит и физическую боль, и нравственные страдания.
Но Корчагин, взрослый, созревший, отбрасывает «мучительную операцию с испытанием своей воли». Об этом он говорит Рите во время их последней встречи.
Он воспитывает себя, уже никому не подражая. У него сложился собственный опыт — неповторимый, индивидуальный — и отпала надобность в подражании. Он познал самого себя, свои возможности, направление своего развития...
Не каждому подростку для самовоспитания нужен литературный образец — эталон человека! Разумеется, пример литературного героя, вызывающий желание подражать ему, может сыграть большую роль в жизни и подростка и юноши. Но правы ли те, которые склонны только в этом видеть основную задачу художественной литературы? Не упрощенно ли они представляют себе процесс формирования человека? И читателями, и некоторыми рецензентами достоинство произведения иногда определяется поверхностно, «на глазок». О чем книга? О строителях Братской ГЭС? О! Это прекрасно! Значит, в книге есть положительный герой? Тема актуальна. Такая книга нужна нашей молодежи!
Но ведь ни актуальная тема, ни наличие положительного героя еще не означают высокого художественного уровня произведения.
А произведение низкого художественного уровня не может воспитывать, как бы ни была актуальна тема и как бы ни был положителен герой.
От художественного произведения требуется прежде всего воздействие на чувство и на мысль читателя — воздействие, которое подняло бы его на большую нравственную высоту. Это воздействие может осуществляться разными способами, но — с гораздо большим запасом мудрости, понимания жизни, знаний о жизни...
По словам одного писателя: «статья — о том, как прожить день, книга о том, как прожить жизнь».
Не нужно книг о том, как прожить день. Для этого существуют статьи.
Важна не столько способность писателя создать характер, который может служить образцом (кстати, это специфическая способность, которой может быть лишен и крупный, талантливый писатель). Важна способность автора обогащать читателя новыми мыслями, чувствами, жизненным опытом.
Чем конкретнее герои, чем они ближе к реальной жизни — тем легче контакт такого писателя с читателем. Но позиция автора должна быть высокой; тогда появится и рельефность, жизненность характеров, непринужденность повествования, то, что художники называют «воздухом» — пространство, в котором действуют герои, среда, окружение, обстоятельства (даже такие, как климат).
С. Я. Маршак, который много размышлял о литературе, говорил: «У плохого писателя человек — это бог. У писателя получше он еще и Человек. У хорошего он еще и акцизный. У совсем хорошего он еще и животное. У гения и у народа он еще и физическое тело, занимающее свое место в пространстве. Как этот камень. Или эта скала. Или дерево...»
У И. Грековой человек — не бог. Он человек. И к тому же еще дамский мастер.
Виталий Плавников не отвечает представлениям о «положительном герое» как о человеке, совершающем значительные героические поступки, проявляющем самоотверженность.
Виталий — юноша «серьезный», по мнению профессора Марьи Владимировны, от лица которой ведется повествование; он чрезвычайно серьезно относится к жизни и к своей профессии: обдумывает каждую «операцию», выбирает себе такую клиентуру, чтобы «почерпнуть что-нибудь для своего развития», «осваивает» новые прически, «позволяет себе тратить много времени на операции», — словом, работает как вдумчивый художник, совершенствуя свои приемы. «Меня интересует работа и только работа», — говорит Виталий.
(Если бы он лучше владел словом, он бы сказал: «Работа меня интересует как художника».)
Он стремится к самоусовершенствованию, тянется к культуре, есть у него «план жизни и учебы»: начинает он свое самообразование с того, что читает подряд... все статьи Белинского!
Много комизма в его языке — таком индивидуальном, насыщенном бюрократическими словечками и фразами.
С комической серьезностью он записывает все мысли и выражения, которые кажутся ему интересными. Узнав от своей клиентки, что имя его — Виталий — означает «жизненный», он записывает и это в растрепанную записную книжку...
Обнаруживая часто наивность и даже невежественность (двадцатилетний юноша не читал «Войну и мир»), он, не закончивший седьмого класса, хочет в будущем заниматься... диалектическим материализмом!
« — А какие у вас основания думать, что вы к этому способны? Ведь это не так просто!
— Во-первых, у меня много оснований. Прежде всего, я с давнишнего детства охотно читаю политическую литературу, как-то: «Новое время», «Курьер Юнеско» и другие издания. В школе я всегда был передовиком по изучению текущего момента...
— Но ведь от этого еще далеко до научной работы. Ведь... — Я запнулась. Он смотрел в зеркало суженным взглядом, поверх бигуди, флаконов, ножниц.
— Я думаю, — твердо сказал он, — что я мог бы принести пользу, если бы занялся диалектическим материализмом. А вы не знаете, где специализируются по этой профессии?»
Наивно-важная манера беседы, солидность планов на будущее (при полном отсутствии реальной базы для таких планов) — все это вызывает одновременно и улыбку, и уважение.
В Виталии есть некоторые характерные черты современной молодежи: известный утилитаризм, что ли. Он не склонен поддаваться чувству: он хочет строить свою жизнь по определенным канонам. Его рационализм распространяется и на лирические стороны жизни:
«Для меня вопрос площади имеет огромное значение. Если я когда-нибудь женюсь, то только так, чтобы у меня и моей жены были приличные квартирные условия. Куда я ее приведу? В свой угол? Это несолидно».
Может быть, в устах другого человека эти слова шокировали бы нас больше, но в устах Виталия, никогда не имевшего своего угла, воспитанного в детдоме, слова эти — вывод из нелегкого жизненного опыта, из реального знания жизни.
Но не только квартирные условия лимитируют сердечную жизнь Виталия. Он наивно, комически боится неравенства интеллектуального.
« — Вполне может случиться, что я женюсь, а она меня будет тянуть в своем развитии.
— Ох, Виталий! Что вы только говорите! Разве это важно? — А что важно?
— Важно одно: любите вы ее или нет».
И Виталий, с его серьезным ко всему отношением, задумывается — по какому признаку можно узнать, любишь человека или нет, и просит свою клиентку объяснить ему это. Вот что говорит ему Марья Владимировна:
« — По-моему, главный признак — это постоянное ощущение присутствия. Ее нет с вами, а все-таки она тут. Приходите вечером домой, открываете дверь, комната пустая — а она тут. Просыпаетесь утром — она тут. Приходите на работу — она тут. Открываете шкаф, берете инструменты — она тут.
— Это я понимаю, — сказал Виталий.
— Ну вот и хорошо.
Снова помолчали, на этот раз — подольше, и наконец он заговорил:
— Марья Владимировна, вы мне очень понятно рассказали признаки, и теперь я вполне уяснил, что в таком понимании я Галю не люблю».
...Мы видим дамского мастера и за работой, и танцующим на вечере, и плачущим оттого, что приходится уходить с работы — потому что такие мастера-художники, как он, не могут выполнять план; мы уже успели проникнуться уважением к его честности, к его серьезности, к его эксперименту, и нам странно: неужели он в самом деле уйдет с работы? Ведь он любит, любит свое дело! Он нужен именно там, в парикмахерской, — зачем ему уходить?
И вот одна из нелепостей жизни: он действительно уходит из парикмахерской и даже — на первых порах — облегченно вздыхает: «Я очень доволен, очень!.. Буду работать в коллективе, сдам за десятилетку, потом за институт...»
План продуман во всех деталях.
Но чувство сомнения у нас остается, оно грызет нас: этот путь — достойный, почетный путь многих, еще не нашедших себя, — для Виталия ли он, так удачно нашедшего себя в жизни, с таким увлечением занимавшегося своим делом? Станет ли он счастливее? Принесет ли он больше пользы людям? И даже если с его огромной целеустремленностью когда-нибудь он добьется своего и отряд парикмахеров потеряет талантливого мастера-художника, а отряд философов пополнится, может быть, заурядным ученым, — выиграет ли от этого общество?
Есть ли общая для всех вершина духовного роста человека?
Определяется ли, например, ценность человека и специалиста дипломом вуза?
Вот на какие мысли наталкивает рассказ о дамском мастере... Но лишь в том случае, если читатель не настроит себя заранее на то, что герой должен быть либо положительным (и тогда надо ему подражать!), либо отрицательным (и тогда надо его критиковать!).
Если читатель обрадуется герою интересному, правде характеров и поступков, своеобразию всего рассказа.
В рассказе Макса Бременера «Чур, не игра!» — обыкновенный двор, обыкновенные ребята, которые любят играть в лапту, а при случае могут и подраться. И вот появляется в этом обыкновенном дворе «необыкновенный» мальчик Юрик.
Его необыкновенность заключается в том, что он очень правильный. Необыкновенно правильный! Он боится съезжать с горки: «Боюсь... порвать штаны. Штаны почти новые. Порву — и для родителей новый расход. Я же сам не зарабатываю!.. Так, по крайней мере, не надо доставлять родителям лишних расходов».
Обыкновенные ребята поражены! Юрик говорил словами родителей, оперировал их понятиями! Он знал, что можно, чего нельзя, знал, о чем ему еще рано судить.
Но парадокс заключается в том, что, затвердив полдесятка «можно» и «нельзя», Юрик отнюдь не стал положительным героем. Даже не стал просто хорошим человеком. Потому что знание (и даже соблюдение!) нескольких правил еще не делает человека человеком.
Мальчик, от имени которого ведется рассказ, страдает от разлуки с матерью, покинувшей его отца.
И Юрик первого апреля, встретив его у ворот, говорит:
« — Твоя мать приехала!
Мама! И не предупредила! Сюрпризом! Надолго ли?..
Я ринулся было домой, но Юрик остановил меня:
— Она только ушла... Минут пять... С отцом твоим.
— Куда?
— На Чистые пруды, на лодке кататься. Тебе туда велели идти, как придешь!
Я побежал на бульвар. Сердце стучало от бега, неожиданности и счастья. «Мама и папа пошли вместе на пруд. Значит, помирились... Будем снова жить вместе! Рядом со мной в комнате будет мама!»
...Так, ничего не видя вокруг, я домчался до пруда. Сильно стучавшее сердце екнуло и приостановилось. Я увидел сразу дверь лодочной пристани, забитую досками, и вместо зеленой мутноватой воды пруда — тусклый каток, подтаявший с краев. Совершенно пустой каток».
Юрик даже не понимает, какие надежды пробудил он в сердце товарища, какой удар наносит он своей ложью. А читатель понимает. Понимает и негодует. Потому что читатель сейчас на высоте, на которую поставил его автор... Чуткость и деликатность автора (которых совершенно лишен «правильный» Юрик) составляют атмосферу рассказа, ощущаются читателем, заставляют его понять бездушие — и возмутиться им!
...Если герой талантливо написан, ему не обязательно быть положительным, чтобы утверждать своими поступками, своим присутствием высокие нравственные истины. Он может быть страдальцем или деспотом, победителем или побежденным: шкала духовных ценностей в руках автора. Если нравственный и умственный уровень автора высок — герои будут утверждать этот высокий уровень даже своими неприглядными поступками!
ХРАМ ИЛИ МАСТЕРСКАЯ?
Девушка стоит у стола, перелистывает книги, предложенные библиотекарем.
— Тургенев, описания природы...
— А это что? Пришвин? Опять природа... Нет, мне бы что-нибудь увлекательное!
А однажды я услышала весьма любопытное теоретическое обоснование такого отношения к описаниям природы:
— На вопрос: «Ваше представление о счастье?» — Карл Маркс отвечал: «Борьба». Вот и я тоже люблю борьбу. И в жизни, и в книжках. Действие — вот что главное для меня! А описания природы только затягивают действие. Ты хочешь узнать поскорее, что будет с героями, как протекает их борьба — а тут тебе подсовывают лунную ночь... Нет уж. Не обманете. Эти все поляны в лесу я лучше пропущу! Не в них суть!
Так говорил любитель остросюжетной литературы. Описания природы — околичности! Действие — вот что важно! А один читатель даже заявил, что пейзажами авторы «разбавляют свои книги, чтобы подогреть интерес читателя к героям».
Можно было бы, конечно, обратиться к русским классикам — например, к Толстому — и полемизировать с такими читателями, используя общепринятые образцы. Но не будем обращаться к авторитетам, признанным всем миром. Это значило бы — пытаться подавить мнение оппонента, может быть, так и не убедив его. Он мог бы сказать: так то ведь Толстой! У него все гениально. А другие?..
Вспомним не о сцене в Отрадном (хотя она и теперь не утратила своего обаяния), и не о знаменитом описании дуба в «Войне и мире». Обратимся к нашим современникам — к авторам произведений, на которых нет еще «хрестоматийного глянца». Пусть это будет, например, Тендряков. Автор, как мы уже отмечали, необыкновенно чуткий к новым серьезным проблемам, возникающим в нашем обществе. Его книги обжигают, некоторые — раздражают, но никого не оставляют безучастными — такой накал мысли, такое живое восприятие современности! Я спросила нескольких читателей — о чем, по их мнению, написана книга Тендрякова «Чрезвычайное».
— О необходимости антирелигиозной пропаганды, — сказал первый.
— Об учениках и учителях, — сказал второй.
— О духовном мире человека! — сказал третий.
Наверно, все были правы, но третий — больше всех.
Сложная духовная жизнь — любимая тема автора. Может быть, поэтому он нередко в своих книгах обращается к школе. Не потому, что школа была его любимой темой, а потому, вероятно, что школа — та мастерская, в которой придают форму человеческому характеру.
В центре повести «Чрезвычайное» — директор школы, умный, всеми уважаемый пожилой человек с больным сердцем. От лица этого человека и ведется повествование. Начинается книга словами: «Шел один из покойных периодов моей жизни». Этот покой резко обрывается.
В жизнь директора, в жизнь школы вторгается неожиданное. Оказывается, ученица Тося Лубкова, тихая, незаметная девушка, верует в бога.
Оказывается, учитель математики тоже втайне верующий человек! Но не только это является открытием. В той борьбе мировоззрении, которая завязывается в школе в результате этого «чрезвычайного происшествия», выясняется, что допущены и другие просчеты в воспитании ребят. Например, краса и гордость школы, Саша Коротков, оказывается прямолинейным, бестактным, жестоким человеком, когда дело касается тонких и уязвимых сторон человеческой души. Чрезвычайное происшествие поворачивает к директору и его учеников, и его соратников — «маршалов», как он зовет учителей, новыми сторонами, и он видит в них то, чего раньше, в привычном потоке школьных будней, не замечал.
Проблемы, проблемы, проблемы... Они обступают старика. И он думал, что это уже покой? Покоя нет! И в разгар действия вдруг вторгается описание природы — нет, не природы даже: описание картины Левитана «Над вечным покоем».
Репродукция этой картины бросается в глаза директору в доме ученицы, взбунтовавшейся против школы и родителей. Он смотрит на эту репродукцию и размышляет:
«Меня всегда волновало любое воспроизведение этой картины, пусть даже очень слабое, пусть только общий намек на нее. Дома у меня тоже висит большая репродукция... Небо, загроможденное тревожными, напирающими друг на друга облаками. Ветер, рвущий и эти облака, и деревья, и траву. Ветер, пронизывающий каждую клеточку выставленного перед зрителем размашистого мира. Ветер — воплощенное беспокойство, и столетняя часовенка, и заброшенный погост. Смерть и жизнь рядом, неподвижность и бунтарское движение — вот он, мир, где мы живем, вот он, покой, единственно нерушимый. Покой извечного движения, переданный кистью художника-философа в неистовом ветре, свистящем над забытым кладбищем.
Через много веков исчезнут часовенки, земные пейзажи станут выглядеть иначе, но, мне кажется, и тогда люди, наткнувшись на эту картину, задумаются над смыслом жизни. Великая мысль бессмертна!»
Два художника в разное время — и по-разному — обратились к этому пейзажу. Один из них — Левитан, который сумел найти ту точку зрения, с которой поразивший его пейзаж воплощает в себе «бессмертную мысль».
Другой — автор повести: для него этот, именно этот пейзаж был необходимым комментарием к состоянию старого директора, к проблемам, которые встали перед ним. Природа, именно природа и совершающееся в ней — вот что было источником размышлений и, если хотите, толчком к решению проблем...
Вы помните слова Евгения Базарова, героя романа «Отцы и дети»: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».
Прекрасный афоризм. Звучный, категоричный, точный!
Но — верный ли?
Автор это утверждение оспаривает — не словами: всем строем романа. Он полемизирует с Базаровым устами Николая Петровича, который, бродя по саду и вспоминая свой конфликт с гостем, спрашивает сам себя: «Но отвергать поэзию? Не сочувствовать художеству, природе?..» И, посмотрев вокруг, видит осиновую рощу, бледно-голубое небо, чуть обрамленное зарей, и мужичка, едущего рысцой на белой лошадке, который «весь был ясно виден, весь, до заплаты на плече, даром что ехал в тени».
Не один эпизод опровергает рационализм Базарова. Нет! Вся атмосфера любви, нежности к русской природе — атмосфера, которой проникнут роман, — именно к этому неброскому серенькому пейзажу средней полосы, пейзажу, в котором как будто воплотилась вся русская жизнь: с ее бедностью, с ее лиризмом, с ее печалью и с ее историей...
Представьте себе, что действие романа, не измененное в сюжете, диалогах и характеристиках, протекает где-нибудь в Италии, на фоне великолепной, щедрой южной природы, — и вы поймете: роман не состоялся бы. Не состоялся бы, хотя мы с вами прекрасно знаем, что главное в нем — не осины и бледно-голубое небо, а конфликт между Базаровым и Кирсановым, социально конкретный, исторически глубоко обусловленный.
Но этот конфликт мог состояться только у нас, и фоном и основой своей мог иметь только русскую жизнь, в которую вписывается русский мужичок с заплатой на плече с той же необходимостью и естественностью, с какой он вписан в пейзаж; тот самый мужик, из-за которого, в сущности, и спорят герои, из-за которого и сыр-бор загорелся — и горел весь девятнадцатый век (да и двадцатый) в русской жизни, в русской литературе...
Да, Базаров ошибался, утверждая, что природа не храм, а мастерская, — как ошибался, отрицая искусство, любовь. Ошибался, потому что искусственно суживал пределы человеческой деятельности, хотел ограничить ее только областью полезного, то есть материального эффективного труда; хотел всю духовную деятельность человека подчинить утилитарным задачам.
А эта духовная деятельность существовала и существует параллельно с утилитарными задачами (кстати, влияя на них и испытывая на себе их влияние). И чувство природы, разбуженное в человеке и усиленное, развитое искусством, делает жизнь прекраснее и осмысленнее для каждого отдельного человека (равно как и технический прогресс, сокращающий время его работы и облегчающий эту работу!).
Поэтому природа и храм, и мастерская, и наш дом, и источник радости, и источник поэтического вдохновения, и предмет для размышлений.
Разные авторы видят и изображают природу по-разному — в соответствии со своими задачами, с характером таланта, степенью лиризма...
Мы с вами видели, как это делает Тендряков. Посмотрим, как чувствует и выписывает пейзаж Солоухин, автор «Владимирских проселков»,«Капли росы».
Пейзаж вписывается в лирические раздумья автора — он неотделим от них. Размышления, связанные с природой, порожденные ею, заполняют душу читателя и заставляют по-новому пережить свое единство с природой, по-новому, может быть, пережить свое прошлое и ощутить свое настоящее.
«И все же утро было необыкновенное. Алые облака, округлые, как бы туго надутые, плыли по небу с торжественностью и медленностью лебедей; алые облака плыли и по реке, окрашивая цветом своим не только воду, не только легкий парок над водой, но и широкие глянцевые листья кувшинок; белые свежие цветы водяных лилий были, как розы в свете горящего утра; красные капли росы падали с наклонившейся ивы в воду, распространяя красные, с черной тенью круги.
Старик рыболов прошел по лугам, и в руке у него красным огнем полыхала крупная пойманная рыба...
Таким навсегда мне и запомнились те места по берегу Колокши, где прошла наша утренняя заря.
Когда, наевшись ухи и уснув снова, обласканные вошедшим в силу солнцем и выспавшись, мы проснулись часа три-четыре спустя, невозможно было узнать окрестностей.
Поднявшееся в зенит солнце убрало с земли все тени. Пропала контурность, выпуклость земных предметов, подевалась куда-то и свежая прохлада, и горение росы, и сверкание ее; луговые цветы померкли, вода потускнела, а на небе вместо ярких и пышных облаков вуалью распространилась ровная, белесоват тая мгла.
Было впечатление, что несколько часов назад мы волшебным образом побывали в совершенно иной, чудесной стране...
Как же попасть опять в эту дивную алую страну?..
Сколько я ни ездил потом рыбачить из Москвы на Колокшу, не мог я попасть в ту страну и понял, что каждое утро, каждая весна, каждая любовь, каждая радость неповторимы в жизни для человека.
Тогда-то и вспомнилась мне самая дивная из всех волшебных стран — страна моего детства. Ключи от нее заброшены так далеко, потеряны так безвозвратно, что никогда, никогда, хотя бы одним глазком, хотя бы одну пустяковую тропинку, не увидишь до конца жизни. Впрочем, в той стране не может быть пустяковой тропинки. Все там полно значения и смысла. Человек, позабывший, что было там и как было там, человек, позабывший даже про то, что это когда-то было, — самый бедный человек на земле».
Вы поверите автору. Вам не захочется ощутить себя «самым бедным человеком на земле». Вы, может быть, на минуту оторветесь от книги и вспомните свое раннее детство (даже если оно представлялось вам не очень счастливым) — вспомните и увидите его другим зрением.
Может быть, вы вдруг поймете, что тут, на пороге взрослости, потеряли что-то очень важное из страны вашего детства (а можно было и сохранить)? А может быть, вы подумаете о сестренке, братишке, малыше соседей — и поймете по-иному что-то в этом маленьком человеке?
Жизнь природы многогранна. Совершенно разные по дарованию, по мироощущению авторы черпают из этого мира то, что им близко, без чего создаваемый ими мир был бы если не мертв, то бездушен, схематичен — потому что, хотим мы этого или не хотим, природа присутствует и вокруг, и в нас, определяя во многом наши мысли, наши поступки, наше понимание жизни.
Для многих писателей нравственный облик героев обусловливался отношением их к природе. Лев Толстой считал, что близость человека к природе, к земле делает его чище, нравственнее. Вы заметили, что только любимые герои Толстого эстетически воспринимают природу, чувствуют ее, отзываются на происходящие в ней перемены и пытаются решать ее загадки!
Можете ли вы вспомнить страницы, в которых показано было бы общение с природой князя Василия? Или Каренина? Борис Друбецкой способен читать с Жюли Карагиной стихи о «деревьях, осыпающих их мраком и меланхолией», но не способен ни на один миг бессознательно-глубокого общения с природой!
А Наташа Ростова, которая «не удостаивает быть умной», способна мучительно остро чувствовать красоту ночи.
У Толстого это один из важнейших критериев оценки личности. А князь Андрей? Все самые важные его мысли, все его нравственные изменения так или иначе связаны с восприятием природы. И небо Аустерлица, которое помогло ему понять — или почувствовать — что-то бесконечно важное, важнее борьбы самолюбий и суетной жизни, которою он жил раньше, — это небо Аустерлица как бы перерезает жизнь князя Андрея, его миропонимание, надвое: до Аустерлица — и после... Может быть, у каждого из нас было свое «небо Аустерлица», только мы не умеем осознать это, не понимаем значение одной минуты, одного чувства для целой нашей жизни... А Толстой это показал.
Чувство природы связано и с нравственным, и с эстетическим развитием человека. Созерцание природы порождает мысли о смене поколений, о смерти, о вечности, о человечестве и о его роли в масштабах вселенной...
Искусство обогащает нас, иногда пробуждая чувство природы, не очень развитое, иногда — добавляя что-то неуловимое к нашему чувству природы, и всегда будя и обостряя эмоции. Всегда... Написала — и задумалась.
Всегда ли?
Нет, не всегда, наверно!
Наверно, это обогащение происходит лишь тогда, когда богат автор, когда он может что-то значительное сказать читателю, когда обращение его к природе органически связано с его замыслом, с его внутренним миром, с характером его дарования.
Бывают авторы, которые действительно только «разбавляют» текст своих произведений картинами природы. Потому что так будто бы надо. Так прилично. У таких авторов пейзаж может возникнуть в романе или в рассказе совершенно некстати, он не несет никакой смысловой или эмоциональной нагрузки, он искусственно привязан к действию. Просто действие происходит утром — и поэтому автору кажется приличным сказать несколько слов о восходе солнца или о росинках, которые блестят в цветах.
У таких авторов пейзаж либо заштампован (росинки блестят, как бриллианты, солнце улыбается, птицы мелодично поют и т. д.), либо нарочито оригинален, — тогда солнце может быть уподоблено разрезанному арбузу, а роса блестит в кустах, как будто кто-то огромный пролил сверху ведро воды, и т. п. Как правило, такого рода оригинальничание ничего не прибавляет, образы никак не связаны со всем строем произведения (если этот строй есть), и без них действительно было бы лучше...
Писать о природе трудно. Ох, как трудно! Почти так же трудно, как писать о музыке.
Можно ли преодолеть эту трудность, победить ее?
О, да! Для этого нужно лишь одно условие: нужно, чтобы у автора был талант. Тот самый талант, который подсказывает и незатасканные мысли, и единственные слова, и гармоничную соразмерность всех частей произведения.
А читателю, чтобы не «пропускать» пейзаж, нужно развить в себе чутье к правде и глубине описываемого. То есть развить в себе то, что мы с самого начала назвали «читательским талантом» и что, по счастью, поддается развитию. И тогда он научится, подобно Пришвину, вглядываться в жизнь природы, находить аналогии с человеческой жизнью, улавливать ее общие законы, имеющие значение и смысл для каждого человека...
«Никто в природе так не затаивается, как вода, и только перед большой и радостной зарей бывает так на сердце человека: притаишься, соберешься, и как будто сумел, достал себя из той глубины, где есть проток в мир всеобщего родства, зачерпнул там живой воды и вернулся в наш человеческий мир, — и тут навстречу тебе лучезарная тишь воды, широкой, цветистой, большой».
Этот «проток в мир всеобщего родства» есть и в искусстве. Надо только уметь «достать себя» из этой глубины!
ЛИРИЧЕСКОЕ ВОЛНЕНИЕ
Один юноша, страстный любитель стихов, познакомился с девушкой. Два дня он восхищался ее глазами, улыбкой, ее вкусом и тонкостью. На третий он прочитал ей свои стихи. И вернулся домой расстроенный: поссорился со своей подругой.
— Она ничего не понимает! — сказал он горестно. — Я ей прочел
стихотворение о летчике. Там была строчка: «И водит над небом моторы». Она вдруг говорит: «Тут неправильно, не над небом, а под небом!» — «Что ты! — говорю я. — Только так! Это поэтическое выражение, профессиональное выражение!» А она: «Нет, над небом ничего нет, пустота, моторы между небом и землей, значит, под небом...» Она даже не понимает, что «над небом» — это образ! Это огромная высота, это опасности, это покорение стихий! А я-то поверил, что она любит стихи!
* * *
Читая стихи, мы входим в особый мир, где все по-иному, чем в повести и романе. В этом мире своя атмосфера, свои законы, свои условности. В эту стихию погружаются не сразу, познают эти законы постепенно.
Для чтения и понимания стихов нужна, пожалуй, более высокая читательская квалификация, чем для чтения прозы.
Одна девушка, прочитавшая немало книг, услышала впервые «Гренаду» Светлова. Стихотворение ей понравилось. Но с оговорками.
Я видел: над трупом Склонилась луна, И мертвые губы Шепнули: «Грена...»
Да. В дальнюю область, В заоблачный плес Ушел мой приятель И песню унес.
«Как это, — сказала моя знакомая, — мертвые губы шепнули... Мертвые губы не могут шептать!»
(Опять — «неправильно»! Человеку, не научившемуся пониманию стихов, многое кажется «неправильным»!)
С другой стороны — такого неопытного читателя нередко восхищают строчки, в которых нет ничего поэтического.
Однажды мой сосед Витя — тот самый, что получает удовольствие от чтения, — написал стихи. И сам растерялся, — раньше ему казалось, что стихи пишут необыкновенные люди!
Вот эти стихи:
Солнце озаряет улицу лучами.
Мы идем по набережной вниз.
Этими рабочими руками
Мы построим скоро коммунизм...
Как он огорчился, когда я сказала, что это вообще не стихи!
— Как — не стихи? Конечно, я не Пушкин. Но рифма есть, видите? Лучами - — руками, молодежь — даешь, вперед — завод.
И ритм только в двух случаях не получается. Но я еще поработаю. Может, выйдет!
— А по-твоему, если есть рифма и ритм — значит, это поэзия?
— Конечно!
Не один Витя думает, что рифмованные строчки — это поэзия, и не один Витя, срифмовав двенадцать строк, начинает тревожиться: не пропадает ли в нем великий поэт?
Вы можете сесть за стол с намерением срифмовать восемь — двенадцать — шестнадцать строчек и, скорее всего, преуспеете! Рифмовать не так уж трудно, особенно если потренироваться.
Есть немало людей, которые в состоянии написать рифмованный отклик на любое событие. Иногда подобные литературные упражнения даже печатают. Вот, например, в газете «Известия» напечатаны такие стихи:
НАША УЛИЦА
Эта улица нами построена.
Как хозяин по ней иду.
Наша жизнь неплохо устроена,
И плоды ее на виду.
Под тяжелой своею ношею
Шаг страны возрос и окреп.
И не видеть вокруг хорошего
Может тот лишь,
Кто глух и слеп.
Мне навстречу домов орнаменты
Из бетона, металла, стекла.
Разве это не жизни фундаменты?
Разве это не наши дела?
Нынче много за нас — агитаторов —
Утверждают успехи страны —
Голубые проспекты Новаторов,
Космонавтов, Дружбы, Весны...
Эта улица нами построена.
Как хозяин по ней иду.
Хорошо наша жизнь устроена,
И плоды ее на виду.
В этих рифмованных строчках прежде всего нет поэтического образа — есть информация о том, как приятно человеку идти по улице, построенной его руками.
Второе четверостишие просто безграмотно: шаг страны возрос под своей тяжелой ношею! Можно нагрузить лошадь, машину — но можно ли нагрузить шаг?
Шаги могут окрепнуть, но не могут «возрасти»! Глаголы «возрос» и «окреп» — случайные, первые попавшиеся, нужны только для ритма и рифмы. Их можно заменить любыми другими глаголами без малейшего ущерба для содержания.
«Орнаменты домов» — такое же неуклюжее и неточное выражение, как «фундаменты жизни».
«Ныне много за нас — агитаторов» — предложение неграмотное и непонятное: кого имеет в виду автор? Проспекты — агитаторы, что ли? «Голубые проспекты страны» не могут «утверждать» успехи страны: они могут своим существованием доказать, что страна делает успехи. Утверждать что бы то ни было могут только люди, а никак не проспекты!
Рифмы бедны и банальны (устроена — построена, иду — на виду, окреп — слеп), стихи в целом немузыкальны, — попробуйте прочесть вслух строчку: «Может тот лишь, кто глух и слеп...» Вы видите, хотя стихи эти и напечатаны, но к настоящей поэзии они не имеют никакого отношения. Это плохо зарифмованная информация о строительстве новых домов.
И далеко не всегда ценность стихов определяется рифмой (существуют же белые стихи!) и ритмом — хотя и рифма и ритм чрезвычайно важны.
Чем же отличается подлинная поэзия от мнимой?
Ответить на такой вопрос коротко, четкой формулировкой, невозможно. Тем более, что слово «поэзия» употребляется в разных значениях.
Я бы сказал так: поэзия в широком смысле слова — это все прекрасное, волнующее человека и возбуждающее в нем стремление к совершенству. О человеке, живо и чутко откликающемся на все прекрасное, говорят — он поэтически воспринимает мир. Но это еще не значит, что он поэт.
Поэт — это человек, который стремится передать свое восприятие мира с помощью слов особым образом организованных, подобранных, создающих и зрительную картину, и музыкальное впечатление. Поэт уводит нас за собою в чудесную страну, которая и похожа и непохожа на окружающую жизнь.
Пушкин писал:
И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
Вы понимаете, что это значит? Надо, чтобы эта чудесная страна — поэзия жила в человеке; чтобы его воображение было богатым, ярким; чтобы он многое передумал, многое перечувствовал, чтоб «душа стеснялась лирическим волненьем» — и тогда, только тогда...
...пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
От потребности излить «лирическое волненье» рождаются стихи — а не от тщеславного желания прослыть поэтом.
Именно потому, что в душе поэта есть уже этот второй мир — мир поэзии, — он видит больше и иначе, чем мы с вами.
Мы сидим с вами на берегу моря, смотрим на белый рыбачий парус, покачивающийся вдали. Любуемся им. И все!
А поэт смотрит на этот же парус — и видит все по-своему! И размышляет. И философствует.
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
У Лермонтова парус зажил своей жизнью: он стал символом мятежного духа, вечных поисков, неудовлетворенности, неуспокоенности. А настроение стиха? То оно грустное, то скорбное, то ироническое («Как будто в бурях есть покой!»). И достигается это словесными средствами — особым словосочетанием, красочностью эпитетов, создающих зрительное впечатление; музыкой, заложенной в ритме стиха. Но главное, пожалуй, — это поэтический образ: парус напоминает нам не только о мятежном человеке — каким мог быть (и был!) Лермонтов, но и о мятежном духе эпохи — мятежном, и скорбном, и ироническом вместе!
Как в капле воды отражается мир, так и в двух финальных строках виден не только человек и его трагедия — видна эпоха.
Вы помните стихотворение Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки»? Стихи о смерти. Сама тема, казалось бы, определяет настроение — бесконечная грусть, бесконечная жалость, — только этого мы ждем от стихов о смерти ребенка — безвременной, несправедливой, жестокой... Но Багрицкий вложил в стихи свое видение жизни. И получилось у него стихотворение не о смерти, а о жизни. О молодости. О борьбе двух миров — скудного, мещанского, уходящего корнями в прошлое мира матери, и яркого, нового, открытого «бешенству ветров» мира девочки. В ее предсмертных видениях — молодость, тревога, порыв:
От морей ревучих
Пасмурной страны
Наплывают тучи,
Ливнями полны.
Над больничным садом,
Вытянувшись в ряд,
За густым отрядом
Движется отряд.
Молнии, как галстуки,
По ветру летят...
И когда поэт говорит о неумирающей молодости, которая «водила в сабельный поход» и «бросала на кронштадтский лед», он передает свое, революционное видение мира. Образ этого беспокойного мира к концу стихотворения делается главным:
И выходит песня
С топотом шагов
В мир, открытый настежь
Бешенству ветров.
Вы заметили, что слово «образ» здесь употреблено не в том смысле, к которому вы привыкли? Анализируя повести и романы, вы употребляете слово «образ» как синоним слова «характер»: образ Онегина, образ Корчагина.
Существует и другое значение слова «образ», близкое к значению слова «метафора»: перенесение качеств или свойств одного предмета на другой предмет (или понятие). Например, у Некрасова:
Стихи мои! Свидетели живые
За мир пролитых слез!
Родитесь вы в минуты роковые
Душевных гроз
И бьетесь о сердца людские,
Как волны об утес.
В этом стихотворении стихи уподоблены бушующим волнам; душевное волнение — грозе. Людские сердца — утесу. Всё это приобретает смысл лишь в целостном восприятии, когда образная природа стихотворения подчеркивается его музыкальным звучанием, и все вместе рождает в уме читателя впечатление.
Это и есть то, ради чего поэт пишет стихи, рискуя постоянно быть непонятым, волнуясь, что стихи его разобьются о сердца людские, есть ведь и такие твердые, неподатливые, не подготовленные к художественному восприятию сердца...
«КАК ДЕЛАТЬ СТИХИ?»
В сущности говоря, образ — это не только основа поэзии: это основа искусства вообще. И художник, и актер, и архитектор передают в образной форме свое видение мира. Только средства воплощения — разные.
Вот у поэта и прозаика материал один — слово.
Поэтому и нет резкой разницы между поэтом и прозаиком. Мы знаем произведения, находящиеся на грани этих двух жанров — «Стихотворения в прозе» Тургенева, «Фацелия» Пришвина. И там и здесь проза не только образна, но и своеобразно ритмизирована, почему и напоминает нам стихи.
В стихотворении мы чаще сталкиваемся с картиной-сравнением («Парус»), с обобщением, с афоризмом («На свете счастья нет, но есть покой и воля» — Пушкин; «Ты вечности заложник у времени в плену» — Пастернак). Форма стиха более емкая, экономная. То, что в прозе выражается многословно, в стихе можно выразить лаконичнее, четче, острее (этому способствует и музыкальность стиха).
Чехов писал: «...все большие русские стихотворцы прекрасно справляются с прозой... Лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка», не говоря уже о прозе других поэтов, прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой».
И действительно, поэтическое творчество — прекрасная школа для прозаика. Пушкин обыграл остроту поэтического выражения мысли в изящной шутке «Прозаик и поэт».
О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль какую хочешь:
Ее с конца я завострю,
Летучей рифмой оперю,
Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!
Сила поэтического слова состоит из разных слагаемых — талант, вкус, труд. Талант — качество природное. Вкус — результат образованности, культуры поэта, умения его вдумываться, отметать дурное, предпочитать. Иногда вкус изменяет поэту.
Вот строки одного современного поэта, посвященные поэтическому творчеству:
У меня работа трудный труд, Я беру слова из груды груд, Многие кидаю и топчу, Потому что знать их не хочу! Пусть живут не здесь, а где-то вне, Не суются под ноги ко мне!
Начнем с интонации: так говорит разгневанная обитательница коммунальной квартиры. И аргументация ее же:
Потому что знать их не хочу!
Но ведь говорит — поэт! Говорит о своем деле. Что значит «знать их не хочу»? Почему «не хочу»? Чем провинились слова? Неясно. И та же капризная, нелогичная и непоэтичная мотивировка действий в последних двух строках. Что это значит — «не суются под ноги ко мне»? Какую мысль передают эти строки, вызывающие ассоциацию с подвыпившим отцом семейства, которому кажется, что все вокруг «суются ему под ноги»?
Да и образ поэта, берущего «слова из груды груд» и капризно бросающего их куда-то за ненадобностью, не внушает симпатии и уважения.
Но вот, наконец, поэт одно слово «из груды груд» все-таки выбирает, и...
Я кручу его, как пояс, Утром с ним на речке моюсь, И купаюсь, и белюсь, Потерять его боюсь.
Вот так,
Только так!
И в росинках и в цветах
Слово в строчку ставлю,
И пою,
И славлю!
Легковесность поэтического образа здесь вытекает из легковесности мысли. Зачем поэт крутит, и купается, и белится со словом? Цель неясная. Приплясывающий ритм не соответствует серьезной теме; росинки и цветы выглядят бутафорски. И все, вместе взятое, совершенно необязательно! С таким же успехом украшением слова могут быть «звезды и месяц», «речки и ручейки» — любые поэтические штампы. А главное — для чего нужно было огород городить, для чего эти поиски?
Слово в строчку ставлю,
И пою, И славлю! —
только для этого, чтобы славить? Разве в этом главная задача поэта?
О поэтическом труде много говорил Маяковский. Он считал, что в настоящих стихах нет взаимозаменяемых слов. Каждое — на своем месте, плотно пригнано, выполняет свою смысловую и звуковую функцию.
В хороших стихах не должно быть слов, вставленных только для размера. В «Разговоре с фининспектором о поэзии» Маяковский писал:
Начнешь это
слово
в строчку всовывать,
а оно не лезет —
нажал и сломал.
Гражданин фининспектор,
честное слово,
поэту в копеечку
влетают слова.
В этой шутливой жалобе емкое содержание: сколько слов приходится перебирать поэту, прежде чем он найдет то единственное, настоящее, которое и передаст мысль, и влезет в строку, и будет соответствовать настроению стиха.
В статье «Как делать стихи» Маяковский объяснял, по каким мотивам он браковал то или иное пришедшее на ум слово. Так, в стихотворении «Сергею Есенину» им забраковано было слово «бесповоротно».
Эта строка сперва выглядела так:
Вы ушли бесповоротно в мир иной.
Вероятно, другой поэт, найдя слово «бесповоротно», которое прекрасно «влезало» в строку, соответствовало настроению и создавшейся традиции, с удовольствием оставил бы строку в таком виде. Но Маяковский рассуждал так: «...строка плоха потому, что слово «бесповоротно» в ней необязательно, случайно, вставлено только для размера: оно не только не помогает, ничего не объясняет, оно просто мешает. Действительно, что это за «бесповоротно»? Разве кто-нибудь умирал поворотно? Разве есть смерть со срочным возвратом?»
И слово забраковано, как необязательное, и найдено другое...
Вы ушли, как говорится, в мир иной.
«Как говорится», не будучи прямой насмешкой, тонко снижает патетику стиха и одновременно устраняет всяческие подозрения по поводу веры автора во все загробные ахинеи», — объясняет автор.
О задачах поэта Маяковский писал так:
Пуд, как говорится, соли
столовой съешь
и сотней папирос клуби,
чтобы добыть драгоценное слово
из артезианских
людских глубин...
Но как
испепеляюще слов этих жжение рядом
с тлением слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение тысячи лет
миллионов сердца.
УГОЛ И ОВАЛ
Во многих современных стихах мы встречаем метафоры нетрадиционные, непохожие на некрасовские «волны» и «утес», а несколько отстраненные, основанные на более далеком сходстве, иногда — на контрасте явлений. Например, душевные волнения традиционно сравнивались с грозой в природе, а душевная умиротворенность, гармония — с солнечным светом, с голубым небом... Поэты в основном черпали материал для метафор из жизни природы — моря, ручейки, лунный свет, солнечное сияние...
Этот резерв есть и у современных поэтов и используется ими достаточно широко — хотя несколько по-иному. Но появился и совсем новый материал — мир абстрактных представлений, связывающихся в воображении современного человека с тем или иным душевным состоянием.
Стихотворение Павла Когана, молодого поэта, погибшего на фронте в 1942 году, называется «Гроза».
Косым, стремительным углом
И ветром, режущим глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза.
И, громом возвестив весну,
Она звенела по траве,
С размаху вышибая дверь
В стремительность и крутизну.
И вниз.
К обрыву.
Под уклон.
К воде.
К беседке из надежд,
Где столько вымокло одежд,
Надежд и песен утекло.
Далёко, может быть, в края,
Где девушка живет моя.
Но, сосен мирные ряды
Высокой силой раскачав,
Вдруг задохнулась
и в кусты
Упала выводком галчат.
И люди вышли из квартир,
Устало высохла трава.
И снова тишь.
И снова мир,
Как равнодушье, как овал.
Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал!
В этом стихотворении гроза не описана — она показана: она в движении, в динамике, в сломанных посредине строках, в нагнетании слов, обозначающих стремительность и вездесущность грозы («И вниз. К обрыву. Под уклон»). Посмотрите, сколько действий — человеческих действий совершила гроза! Она падала... звенела... вышибала дверь («в стремительность и крутизну»)... раскачала сосен мирные ряды... и вдруг задохнулась — и упала («выводком галчат»).
Стремительность, резкость стиха, огромная напряженность ритма и чувств; и как вывод, как завершение — слова:
Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал!
Это ведь не просто информация о причудах мальчика. Это образ, который в сознании поэта (и — добавлю — читателя!) вырастает в символ неуспокоенности, угловатости, если хотите — революционного мышления.
Не сами по себе геометрические фигуры волнуют читателя, а их проекция, что ли, в сознании поэта. Какой характер отождествляется для Павла Когана с углом, а какой — с овалом? Какой образ жизни в его интерпретации ближе к овалу? Наверное, спокойный, замкнутый, с ограниченным миром представлений, с узкой сферой действия... Может быть, он шел дальше и связывал «овал» с мещанским равнодушием, буржуазной самоуспокоенностью?
С «углом» у него, видимо, ассоциируется противоположный образ жизни, мироощущение страстное, неуспокоенное...
Такова была поэтическая находка Павла Когана. Но она имела смысл, силу только в э т о м контексте, в э т о м стихе, у э т о-г о автора. Она не имела и не имеет значения абсолюта.
Другой современный поэт, Наум Коржавин, пишет полемическое стихотворение; иронически отвергая страстность Когана, Коржавин переосмысливает «угол» и «овал»:
Меня, как видно, бог не звал
И вкусом не снабдил утонченным.
Я с детства полюбил овал,
За то, что он такой законченный.
Я рос и слушал сказки мамы
И ничего не рисовал,
Когда вставал ко мне углами
Мир, не похожий на овал.
Но все углы и все печали
И всех противоречий вал
Я тем больнее ощущаю,
Что с детства полюбил овал.
В воображении Коржавина «углы», и «печали», и «противоречий вал» мешают гармонической мечте...
Переосмысливая образ, созданный Коганом, Коржавин пишет стихи о другом, на другую тему — об извечной трагедии поэта, познающего несоответствие идеала — действительности. Чем выше, гармоничнее идеал, вдохновляющий поэта, тем больнее он ощущает неполноценность окружающей жизни, ее «углы» и «печали»...
В этом контексте «угол» — не символ революционности, а напротив — свидетельство печальной неустроенности, может быть, несправедливости, трагичности жизни.
Нет «стабильных», одинаковых, однозначных образов в настоящей жизни. Когда же они появляются, когда эпитет «стабилизируется», он превращается в поэтический штамп и перестает быть поэтичным; разве что поэт использует его в ироническом плане. Вспомните Пушкина:
В ту пору мне казались нужны Пустыни, волн края жемчужны, И моря шум, и груды скал, И гордой девы идеал...
Иронически употребляя условно-романтические образы, ставшие уже штампами, Пушкин утверждает свои новые реалистические принципы; по такому же принципу Пушкин создает портрет Ольги, пользуясь штампованными сравнениями:
Глаза как небо голубые;
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан,
Все в Ольге... но любой роман
Возьмите и найдете верно
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно...
Когда-то сравнение глаз с голубым небом было великолепной находкой. Оно было изящным и точным. Но употребленное много десятков раз, утратило свежесть и превратилось в штамп. Соткав портрет Ольги из таких штампов, Пушкин дал читателю представление о заурядности характера Ольги и приобрел право сказать — не без лукавства:
Я прежде сам его любил, Но надоел он мне безмерно...
Лирика утверждает новое, отвергая шаблоны. Иногда поэт взрывает старые каноны — как Маяковский, создавший свою принципиально новую поэтику (хотя он и опирался во многом на достижения классической поэзии), иногда поэт переосмысливает кое-что в традиционной стиховой системе, вводя новые ассоциации, новые ритмы, новое словоупотребление.
БЫВАЕТ ЛИ «НЕИЗЯЩНОЕ» СЛОВО?
В поэме «Владимир Ильич Ленин» Маяковский издевается над любителями поэтического шаблона:
Капитализм —
неизящное слово,
куда изящней звучит —
«соловей»...
И вводит слово «капитализм» в поэму (наряду с другими политическими терминами), заставляя звучать их в контексте поэтически.
В сущности, это не так уж ново. Пушкин еще в прошлом столетии стал вводить в поэтический обиход «непоэтические слова» и силой своего таланта придавал им поэтическое звучание. Поэтичными могут стать слова разговорные, повседневные, даже грубые — все зависит от текста, от мысли и задачи поэта.
Ибо поэзия жива не только поэтическими образами, но и особым словоупотреблением, которое лишает слова их обыденности, их прозаичности, их бытового оттенка и заставляет их звучать по-новому. Тут все дело в особом соседстве слов.
Есть у Пушкина стихи почти без метафор. Например: «Я вас любил; любовь еще, быть может...»
Чувство выражено настолько просто, без ухищрений, без украшений. В чем тайна прелести стихотворения? Откуда эта словесная и звуковая прозрачность, точность, откуда его музыка? Очевидно, тут все дело в неразгаданной, трудно поддающейся анализу тайне поэтического словоупотребления, в особой комбинации слов — обиходных и выспренних, самых простых и самых литературных...
Белинский писал об удивительной способности Пушкина «делать поэтическими самые прозаические предметы. Что, например, может быть прозаичнее выезда в санях модного франта... с бобровым воротником? Но у Пушкина это — поэтическая картина:
Уж темно: в санки он садится:
«Пади! пади!» — раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
Что уж говорить о великолепной способности Пушкина «снижать» высокий поэтический стиль прозаическими словами: в соседи поэтическому слову «уста» он дает грубый глагол «жуют»:
Уста жуют. Со всех сторон
Гремят тарелки и приборы...
Или при описании дуэли он ставит рядом такие слова, как «ляжка» и «висок»:
Взвести друг на друга курок
И метить в ляжку иль в висок.
Так достигалась особая ироническая поэтичность. Маяковский тоже обладал яркой способностью особого поэтического словоупотребления; он смело комбинировал еще более «полярные» слова — и вовсе не с иронической целью.
Все меньше любится,
все меньше дерзается,
и лоб мой время
с разбега крушИт.
Приходит
страшнейшая из амортизаций —
амортизация сердца и души.
Мы понимаем печальный смысл этих строк, совершенно не воспринимая слово «амортизация» как технический термин, — напротив, именно это слово придает стихам и трагизм и индивидуальную окраску.
«ЕЗДА В НЕЗНАЕМОЕ»
Никому не кажется странным, что в вузы принимают людей только с аттестатом средней школы: для того чтобы получить высшее образование, надо сначала получить среднее.
Высшая математика требует подготовленности, тренировки ума, пространственного воображения. К этому люди привыкли, это никого не удивляет.
Но ведь и в искусстве есть разные степени подготовленности.
В поэзии тоже нужен определенный уровень понимания, умение ориентироваться — выбирать, сопоставлять и предпочитать.
Не каждому читателю покажется доступной поэтическая стихия Пастернака:
Лодка колотится в сонной груди, Ивы нависли, целуют в ключицы, В локти, в уключины — о, погоди, Это ведь может со всяким случиться!
Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит — пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!
Это ведь значит — обнять небосвод, Руки сплести вкруг Геракла громадного, Это ведь значит — века напролет Ночи на щелканье славок проматывать!
Стихотворение называется «Сложа весла». Попробуем погрузиться в стихию пастернаковского вИдения мира.
В лодке двое. Странное смещение понятий вполне объяснимо, если почувствовать их настроение. Колотится сердце, а тем двоим кажется — лодка... «Ивы нависли» — реальные ивы. Прикосновения их ассоциируются с поцелуями — ведь потом идут строки: «...о, погоди, это ведь может со всяким случиться!»
И песни, и «крошеная ромашка в росе» (по которой гадают), и губы (два раза — губы!), и звезды, и все кажется громадным и вечным, — все это обычные атрибуты любовной лирики.
А вот употребление этих, в общем традиционных, образов — нетрадиционно и по синтаксису («губы на звезды выменивать»), и по лексике («ночи... проматывать», «роскошь крошеной ромашки», «ивы... целуют в ключицы»), и по звуковому рисунку (повторение согласных звуков, даже слогов — «ключицы», «уключины»), и по странному сочетанию слов и образов («Геракл» — и «щелканье славок», «лодка» — «колотится в... груди»)...
Вам не хватает тут удобного, привычного соловья (вместо него — славки), стандартной розы; не хватает привычного шепота влюбленных и нормальных поцелуев — в губы, а не в локти и — боже оборони! — в уключины!
Но если в вас живет ощущение поэзии, если вы доверяете не только своему разуму, но и поэтическому чутью, вы почувствуете этот странный поэтический мир, созданный Пастернаком, войдете в него и полюбите его странность, ибо поэзия вся — езда в незнаемое; чувства человеческие вечны, а способы их выражения меняются... Вы поймете, что нельзя всем одинаково и во все времена похоже изображать любовь. По-своему прекрасен мир, созданный Пушкиным, и по-своему, совсем иначе прекрасен мир, созданный Пастернаком.
Вчитайтесь в другие стихи Пастернака: во многих вы увидите вполне конкретные, обиходные вещи, которым поэт умеет придавать особые черты, как будто переводя их в другой план.
«Несгораемый ящик» — предмет не поэтический — как будто взят из детективного романа или судебного отчета. Но поэт делает вокзал «несгораемым ящиком» встреч и разлук — и вот перед нами раздумье о том, как мгновенно, преходяще все прекрасное:
Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук...
(Разлук больше!)
Детали обыденной жизни, крошечные зарисовки, такие точные, конкретные и вместе с тем важные и внятные для любого человека:
Бывало, лишь рядом усядусь —
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость!
Я спрыгну сейчас, проводник.
У Пастернака почти нет традиционно привычных образов. Недаром говорил Маяковский, что нет законов, по которым создаются стихи. Напротив, поэт — это человек, который создает такие законы.
Пастернак создавал свои законы, свои новые традиции, сочетая, казалось бы, несочетаемое: «ноготь загадки...», «медь губ...»
Как я трогал тебя!
Даже губ моих медью
Трогал так,
как трагедией трогают зал...
Пил, как птицы.
Тянул до потери сознанья.
Звезды долго
горлом текут в пищевод...
В XIX веке ни один поэт не использовал бы в поэтическом тексте слово «пищевод». А Пастернак его не только использовал в любовном стихотворении — он поставил его в конце строки, зарифмовал с «небосвод»:
Соловьи же заводят глаза с содроганьем, Осушая по капле ночной небосвод.
Я нарочно начала с Пастернака раннего, сложного, Пастернака трудного — а ведь есть и другой Пастернак. Поздний. Он только кажется другим — просто он был все время в пути, и находки его бывали разными. Вряд ли понадобился бы «перевод» для стихотворения «Август», написанного незадолго до смерти:
Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.
Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.
И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Сквозной, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.
С притихшими его вершинами
Соседствовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.
В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту...
В этих стихах — та простота, которая требует читательского понимания и сотворчества не меньше, чем сложность в стихотворении «Сложа весла». Так же, как стихи Пушкина, они понятны и нравятся по-разному разным читателям. Менее подготовленные, вероятно, снимают самый верхний пласт. Они поняли — но сколько еще осталось им понимать! Сколько еще надо читать, вдумываться, входить в мир именно этого поэта, в разные периоды его творчества, перечитывать вновь и вновь его стихи, пока они почувствуют, что могут сказать: «Я, кажется, начинаю по-настоящему его понимать...»
С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
В пьесе Чехова «Чайка» начинающий писатель Треплев ищет новых приемов, «новых форм». Потратив на эти поиски много времени и сил, он приходит к мысли, что дело не в старых и новых формах, а совсем в другом: писатель должен писать, как ему пишется, писать то, что льется из души, вовсе не думая о формах.
Можно соглашаться или не соглашаться с Треплевым, но такая непринужденность имеет свое обаяние. Когда, читая, чувствуешь, что прочитанное тобой вылилось из души писателя, легче понять его. Это, вероятно, имел в виду Чехов, когда писал своему брату Александру: «Не зализывай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок».
Ощущение непосредственности, естественности стиха (нередко это результат большого мастерства, длительных раздумий над формой!) порождается главным образом интонацией стиха. А интонация зависит от ритма, от построения предложения, от темпа — то убыстренного, то замедленного...
Часто именно синтаксис, построение фразы создает интимный контакт с читателем. Как будто двое беседуют с глазу на глаз.
А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет, ненужно пройденных путей, впустую слышанных вестей. Нет невоспринятых миров, нет мнимо розданных даров, любви напрасной тоже нет, любви обманутой, больной, ее нетленно чистый свет всегда во мне, всегда со мной.
И никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь, и так, чтоб в прошлом бы — ни слова, ни стона бы не зачеркнуть.
Не знаю, как вы читаете эти стихи, а меня сразу зачаровала, приковала первая строчка: «А я вам говорю, что нет...» — такой в ней яростный протест, такая сила, такая искренняя, убеждающая разговорная интонация...
Это стихотворение Ольги Берггольц.
Ее стихи привлекают внутренней силой, которая передается через неровный, убыстряющийся темп стиха:
...Я недругов смертью своей не утешу, чтоб в лживых слезах захлебнуться могли. Не вбит еще крюк, на котором повешусь. Не скован. Не вырыт рудой из земли. Я встану над жизнью бездонной своею, над страхом ее, над железной тоскою... Я знаю о многом. Я помню. Я смею. Я тоже чего-нибудь страшного стою...
...Читая стихи со свободным синтаксисом, с непринужденной интонацией, я вспоминаю пушкинские стихи с перебивами ритма; хотя бы «Вновь я посетил» — стихотворение, начинающееся с середины строки и кончающееся на полдороге:
...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных...
И в конце автор говорит о своем сыне или внуке, который увидит молодую поросль:
...С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.
Пушкин знал цену паузе, сломанному ритму, хотя обращался к таким приемам редко. Недосказанность имеет свое очарование: она предусматривает большую степень сотворчества читателя. Есть у Пушкина стихотворение «Ненастный день потух». Поэт вспоминает о н е й, которая теперь сидит одна — «там, под заветными скалами»:
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна...
ты плачешь... я спокоен;
Но если...
Опиши поэт ощущение ревности подробнейшим образом — может быть, не было бы такой выразительности, какую придает стихотворению горестная, наполненная пауза в финале. Ее заполнит читатель, заполнит мыслью, чувством, воображением.
* * *
Есть два типа читателей. Одни, обнаруживая непонятные для них вещи в книжке стихов, решают так: «Я этого не понимаю — значит, это плохо».
Другие говорят: «Я этого не понимаю. Может быть, я плох? Мало подготовлен?»
Мы говорили о критериях оценки стиха, о поэтической мысли, о метафоре, о «лирическом волненьи», о вкусе, об особом поэтическом словоупотреблении, о музыкальности...
Можно ли, нужно ли вводить в качестве еще одного критерия общепонятность стиха?
Однажды я прочитала в сборнике «День поэзии» за 1965 год такие стихи:
Я подхожу к стихам с оценкой,
Рожденной 30 лет назад,
Когда был в люльке Евтушенко,
А Слуцкий бегал в детский сад.
Когда для ритма и рифмовки
Не усложняли смысла слов,
Когда стихи без подготовки
Прочесть любой читатель мог.
Прав ли автор в своем утверждении, что 30 лет назад (то есть в 1936 г.) стихи оценивались иначе, чем сейчас?
Очевидно, автор считает, что до Евтушенко не было сложных стихов, понятных не каждому читателю.
Во все времена доступность поэзии зависела от уровня образованности, развития читателя. Огромное творческое наследие Пушкина было недоступно простому народу из-за неграмотности крестьян... Значит ли это, что Пушкину надо отказать в звании народного поэта?
Вдумаемся: что мог понять простой крестьянин, даже обученный грамоте, в строчках, посвященных театру:
Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
...
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Крестьянину непонятны были бы не только образные выражения («сатиры смелый властелин»), но и добрая половина слов, употребляемых поэтом! А между тем роман его «Евгений Онегин», по словам Белинского, явился «энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением» — хотя эти произведения не были доступны широким народным массам.
...Не было 30 лет назад никакой особой оценки стиха; несправедливо приписывать Евтушенко и Слуцкому обыкновение затемнять смысл строк «для ритма и рифмовки». Смысл стихов у Евтушенко ясен всякому читателю — даже такому, который не является поклонником именно этого поэта.
Но можно было бы задать автору этих стихов вопрос: если стихи Евтушенко кажутся ему такими сложными, то что же он думает о стихах раннего Маяковского?
Не стоит делить стихи на общепонятные и необщепонятные.
Маяковский мечтал, чтоб было «больше поэтов — хороших и разных».
Их стало теперь действительно много — хороших и разных.
И так как читатели тоже разные — с разной степенью подготовленности, с разными вкусами, — каждый найдет себе то, что ему ближе. Для одних самым близким поэтом останется Лермонтов, другие предпочтут Маяковского, третьи — Светлова, Твардовского.
Важно одно — чтобы каждый читатель имел доступ в страну Поэзии, чтобы он не чувствовал себя там чужим, лишним. И чтобы каждый мог отличить подлинную поэзию от мнимой.
ПРИБЛИЖАЙТЕ К СЕБЕ
Вероятно, произведения многих писателей больше бы говорили вашему уму и сердцу, если бы за этими произведениями стояла реальная личность, хорошо вам знакомая, даже близкая, со своими человеческими качествами.
Американский поэт Уолт Уитмен считал, что писатель весь виден читателям в своем творчестве.
«...В твоих писаниях не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе же самом. Если ты злой или пошлый, это не укроется от них. Если ты любишь, чтобы во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих писаниях...
Нет такой уловки, такого приема, такого рецепта, чтобы скрыть от твоих писаний хоть какой-нибудь изъян твоего сердца».
Но такой путь от произведения к автору — очень сложный путь, он доступен лишь людям с большим жизненным и читательским опытом.
Юному же читателю порой как раз недостает вполне конкретной информации о писателе как о человеке.
Правда, издается серия «Жизнь замечательных людей», книги из этой серии дают представление о многих писателях и поэтах. В школе тоже ребята узнают биографические сведения об авторах. Но почти всегда облик писателя сглаживается, он несколько идеализирован. Тут может не быть прямого искажения — просто авторы учебников упоминают лишь о тех чертах, которые, по их мнению, могут быть интересны и полезны юному читателю, и о многом умалчивают.
Например, главной человеческой чертой Пушкина становится его свободолюбие. Да, поэт был свободолюбив. Но при этом он был еще и страстен, вспыльчив, ревнив, насмешлив, влюбчив... А Некрасов? А Тургенев?
Маяковский писал о Пушкине в стихотворении «Юбилейное»:
Я люблю вас, но живого, а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.
Вы
по-моему
при жизни
— думаю — тоже бушевали.
Африканец!
...Однажды мой знакомый, девятиклассник Саша, похвастался:
— А я сегодня получил по литературе четверку на пари.
— Как на пари?
— Поспорил с ребятами, что отвечу биографию Некрасова, не открывая учебника. И на уроке не был — болел!
— Так ты знал ее раньше?
— Ничуточки. Просто нам задали детство, а детство раньше у всех писателей было одинаковое: все жили в усадьбах, всем матери читали произведения русских классиков, у всех были няни или дядьки из крепостных, которые рассказывали им народные сказки. Все видели в детстве крестьянских ребят и тяжелую жизнь народа, а потом описывали ее в своих произведениях. И все уезжали потом учиться в Москву или Петербург, но учеба их не удовлетворяла! Правда, до этого не дошло: меня прервали после «знакомства с крестьянскими песнями» и поставили четверку...
Я поинтересовалась, почему не пятерку.
— Ну, пятерку! — засмеялся Саша. — Имена, названия деревень — это же я не знаю, делаю вид, что только что выскочило из головы. И годы очень приблизительно. Тут ребята иногда выручают: на пальцах покажут...
Самое забавное в том, что Саша сказал много правды. Но правды неполной, односторонней, и потому такой скучной и — в конечном счете — дезориентирующей!
В жизни-то все эти писатели были совсем разными — очень разными! — и события были в их жизни разные, и отношение к событиям, и отношение к людям...
Да, можно, конечно, о Тургеневе «в общем» сказать почти то же, что сказал Саша о Некрасове: защитник крестьянства, поэтизировавший душу народа... Общеизвестная истина!
Но подумайте-ка о Тургеневе, написавшем такие строки:
«Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел... Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца — с чем я поклялся никогда не примириться... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда».
Эти слова из письма звучат подобно исповеди, и подобно исповеди проникают в сердце, — и так мог написать только Тургенев!
А вот перед нами другой Тургенев (или тот же самый?), автор письма госпоже Виардо:
«Дорогая моя, хорошая госпожа Виардо, самая дорогая, любимая, лучшая женщина... В будущий вторник исполнится семь лет с тех пор, как я в первый раз был у Вас. И вот мы остались друзьями, и, мне кажется, хорошими друзьями. И мне радостно сказать Вам по истечении семи лет, что я ничего не видел на свете лучше Вас, что встретить Вас на своем пути — было величайшим счастьем моей жизни, что моя преданность и благодарность Вам не имеет границ и умрет только вместе со мною... Вы — все, что есть самого лучшего, благородного и симпатичного на этом свете».
Облик писателя приобретает еще одно измерение: чувство любви к женщине в его жизни, в его душе нежно, велико, — и вместе с тем глубоко индивидуально.
Есть еще и третье измерение — оно постигается в отношении Тургенева к собратьям по перу, и более всего — в тех сложных и неровных отношениях, которые связывали его с Толстым.
К концу жизни остается одно чувство, безгранично большое, впитавшее и поглотившее все суетное и узко личное, — остается чувство глубочайшей любви к русской литературе...
«Милый и дорогой Лев Николаевич. Долго Вам не писал, ибо был и есмъ, говоря прямо, на смертном одре... Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником, — и чтобы выразить Вам мою последнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности!.. Друг мой, великий писатель Русской земли — внемлите моей просьбе!..»
Письмо это было написано незадолго до смерти.
«Мы рискуем забыть, что значит проявлять величие души», — с горечью говорил английский писатель Чарльз Сноу, наш современник, в своей речи, опубликованной в «Литературной газете» в 1962 году.
И чтобы мы об этом не забыли, он призывает обратить свои взоры к Тургеневу, явившему пример подлинного величия в своем предсмертном письме к Толстому, который был его учеником и его соперником и превосходство которого он признавал, смирив собственное самолюбие...
Писатель живет в своих произведениях.
Но учит он нас, читателей, не только своими произведениями, но нередко и своей жизнью. Поэтому бывает очень важно узнать его — в поступках, в письмах, в личных пристрастиях...
Если писатель икона — он недосягаем.
Если он живой, из плоти, человек, если он бушевал, как африканец, сердился, робел, ревновал и завидовал, если он боялся смерти и вместе с тем высоко поднимался над этим страхом смерти, защищая свое достоинство, защищая друзей, — его облик теплеет, он становится близок.
* * *
Как жил писатель? Как решал для себя сложные проблемы, которые ставила перед ним жизнь? Как относился к людям?
Прочитайте его письма, его дневники, его воспоминания. Перед вами встанут не только события его частной жизни; вы почувствуете атмосферу, в которой он жил, узнаете людей, которых он любил.
Александр Герцен писал о письмах:
«Я всегда с каким-то трепетом, с каким-то болезненным наслаждением, нервным, грустным и, может, близким к страху, смотрел на письма людей, которых видал в молодости, которых любил не зная, по рассказам, по их сочинениям и которых больше нет.
Недавно я испытал это еще раз, читая письма Карамзина...
Как сухие листья, перезимовавшие под снегом, письма напоминают другое лето, его зной, его теплые ночи и то, что оно ушло на веки веков; по ним догадываешься о ветвистом дубе, с которого их сорвал ветер, но он не шумит над головой и не давит всей силой, как давит в книге. Случайное содержание писем, их легкая непринужденность, их будничные заботы сближают нас с писавшим...»
В книге Герцена «Былое и думы» вы видите людей и события сороковых годов XIX века глазами одного из умнейших людей Европы. Герцен так описывает баррикады Парижа в 1848 году:
«С другой стороны реки, на всех переулках и улицах строились баррикады. Я как теперь вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни; дети, женщины помогали им. На одну баррикаду, по-видимому, оконченную, взошел молодой политехник, водрузил знамя и запел тихим, печально-торжественным голосом марсельезу; все работавшие запели, и хор этой великой песни, раздавшийся из-за камней баррикад, захватывал душу...
Вечером 26-го июня мы услышали... правильные залпы с небольшими расстановками... Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые... «Ведь это расстреливают», — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь...»
Люди сороковых годов прошлого века. Мы находим у Герцена яркую характеристику их. Грановский, Белинский, Станкевич, Огарев — у каждого свой характер, своя история, свои страсти, свои ошибки, но есть в них общее: «Ни мысли, — пишет Герцен, — ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких личных выгод; одни забывают свое богатство, другие — свою бедность и идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес науки, интерес искусства, гуманизм поглощает все».
Один из самых блестящих умов XIX века, Герцен прожил большую часть жизни в разлуке с друзьями — сперва в ссылке, потом в эмиграции. Он часто писал письма. В собрании сочинений Герцена, помимо писем к жене и к друзьям, вы увидите и «Письма к путешественнику», и «Письма к противнику», и даже «Письма к будущему другу».
Никто, кажется, не писал писем к будущему другу. А Герцен не только написал, но и объяснил их появление: «Автор этих писем был в большом затруднении и только недавно вышел из него. Ему хотелось писать о всякой всячине, т. е. исключительно о русской всякой всячине; для этого форма письма самая широкая, она свободна, как женская блуза: нигде не шнурует и нигде не жмет...» Эта «широкая», «свободная» форма была глубоко разработана Герценом. Когда думаешь о главной его книге «Былое и думы» — с их свободной формой, в которой нашли место и новеллы, и воспоминания, и раздумья, и исповедь сердца, — она представляется по своей искренности гигантски разросшимся письмом к будущему другу (может быть, к нам?), письмом, написанным от лица поколения одним из умнейших и благороднейших его представителей.
Мне кажется, что эта книга — «Былое и думы» — подвиг, совершенный одним из интереснейших русских писателей. Герцен чувствовал, что он может создать летопись русской жизни первой половины XIX века, — и, следовательно, должен это сделать, должен увековечить поиски, муки, страдания и подвиги своих современников. Ибо эти страдания, говорил он, — почки, из которых разовьется счастье будущих поколений...
А применимо ли слово «подвиг» к созданию книги?
«Я В МИРЕ БОЕЦ»
Мечта о подвиге всегда владела и владеет людьми. И это естественно. Но как часто раздумья сводятся лишь к маниловским мечтам о необычных обстоятельствах, в которых, как по мановению волшебной палочки, проявляются мужество, храбрость, героизм, талант.
«В жизни всегда есть место подвигам, — шепчет зачарованный мечтатель. — Надо только искать, где это место!»
И он ищет. Ищет где-то — вне себя, своего внутреннего мира, своего дела, вне своих отношений к людям, к миру. Найдет ли?
Мечта о подвиге прекрасна и плодотворна, когда она от чистоты душевной, от любви к людям, когда эта чистота и эта любовь оборачиваются в повседневной жизни обостренным чувством долга, ответственным и умным отношением к своему делу.
Если есть профессия, которая немыслима вне этого обостренного чувства долга, вне ответственности за людей и за человечество и вне собственной позиции, часто противоречащей (и трагически противоречащей!) общепринятому порядку, — то это профессия литератора.
* * *
Жил в Польше человек, которого называли «старый доктор». Это был Януш Корчак.
Вы читали, наверно, его произведения «Король Матиуш», «Когда я снова стану маленьким».
Имя «доктора» осталось за Корчаком и тогда, когда он оставил медицинскую практику и посвятил себя писательскому делу и воспитанию сирот, организовав специальный приют для них.
Когда Варшава была оккупирована фашистами, сирот приказали готовить к отъезду. «Доктор» сказал детям, что они поедут в деревню, и дети были спокойны. Он сел вместе с детьми в поезд, который вез их в Треблинку — лагерь, где их ждала смерть в газовой камере.
Комендант поезда узнал писателя, произведения которого нравились ему, и хотел спасти его. Он предложил ему выйти из поезда.
— А дети? — спросил Корчак.
— Дети поедут.
— Ошибаетесь. Не все негодяи! — сказал Корчак.
Он не принял предложенной ему свободы и погиб вместе с детьми.
Кто-нибудь скажет: какой в этом смысл? Ведь детей все равно не удалось спасти?
Корчак ощущал ответственность за детей. Он отвечал за сирот перед своей совестью и перед человечеством. Спасти их было не в его силах, — он мог только облегчить им последние МИНУТЫ.
Спасти себя в таких обстоятельствах было бы для него актом измены, отречения от своих принципов, от своих книг, от дела, которому была посвящена его жизнь...
Человек сам выбирает себе путь в жизни. Лишь изредка он сам выбирает себе смерть. Выбор Корчака не случайная вспышка — он был подготовлен всей его жизнью.
Если человек видит свое человеческое назначение в чем-то объективно важном и выполняет это назначение со всей мерой серьезности и таланта, которая отпущена ему природой, он духовно и душевно накапливает тот запас твердости, устойчивости, который может быть невидим для посторонних.
Обыкновенный человек, с обыкновенными человеческими недостатками, но ревностно делающий свое дело. И вдруг перед ним оказывается пропасть. Он использует тот резерв, который накопил за годы жизни и работы, и перепрыгивает через пропасть. Не надо думать, что ему не страшно. Пропасть пугает его, как каждого живого человека. Пугает, но не останавливает — вот в чем дело. Дело не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы не остановиться, не повернуть. Люди, избравшие себе большое серьезное жизненное дело, рисковали (сознательно и обдуманно!) своей свободой, иногда — жизнью. Всем памятен путь Радищева, написавшего (и напечатавшего!) «Путешествие из Петербурга в Москву» и сосланного за это Екатериной II в Сибирь. Он рисковал и жизнью, и свободой не из абстрактной любви к подвигам, а потому, что «душа... страданиями человечества уязвлена стала».
Чернышевский, более чем через полвека повторивший судьбу Радищева, писал жене:
«За тебя я жалею, что было так, за себя самого совершенно доволен. А думая о других, об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их».
Ни в подвиге Радищева, ни в подвиге Чернышевского нет той внешней романтичности и красоты, которая кажется иногда неотъемлемой частью подвига. Нет мечты о славе, о восторженных свидетелях...
Есть только твердость, верность избранному делу, невозможность прекратить борьбу.
Вспомните жизнь и деятельность Белинского. Страстно и полемично писал «неистовый Виссарион». Он видел свою задачу в том, чтобы создать русскую критику; он видел задачу литературы в том, чтобы вторгаться в жизнь и улучшать ее. А как он боролся со своими литературными противниками! Герцен писал о нем: «...в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная гладиаторская натура; да, это был сильный боец! Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но, когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль...
...Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25-го числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли «Отечественные записки»; тяжелый нумер рвали из рук в руки. «Есть Белинского статья?» — «Есть!» — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, уважений как не бывало.
Недаром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь на Невском проспекте:
— Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат, так для вас и берегу».
А Герцен, воевавший с крепостным правом, с царизмом, с цензурой? Герцен, писавший в присущей ему страстной и искренней манере:
«Открытая, вольная речь — великое дело; без вольной речи нет вольного человека. Недаром за нее люди дают жизнь, оставляют отечество, бросают достояние...»
Белинский писал о себе: «Я в мире боец» — и хотел, чтобы на гроб ему положили книжку «Отечественных записок». Герцену на гроб справедливо было бы положить комплект «Колокола». Подвиг, который совершил Герцен, был в своем роде беспримерным: он пожертвовал родиной — ради родины! Он выбрал эмиграцию, жизнь за границей и издавал в Лондоне свой «Колокол», потому что там мог продолжать борьбу тем оружием, в котором был силен — словом, в то время как в России такая борьба была невозможна. «...У нас дома нет почвы, на которой может стоять свободный человек... На борьбу — идем! На глухое мученичество, на бесплодное молчание, на повиновение — ни под каким видом!.. Я здесь — бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган...»
Как видите, литературная жизнь не только била ключом; литература была ареной сражений политических. Ставкой в этой борьбе была свобода, нередко и жизнь.
Наша литература имеет свои традиции. Русские писатели были борцами: подвиги они совершали разные. Чехов предпринял путешествие на остров Сахалин, о котором нечасто упоминают, — а ведь это путешествие было настоящим подвигом. Чехов хотел изучить положение ссыльных, доказать, что правительство поступает антигуманно, содержа людей в ссылке в нечеловеческих условиях.
Гуманность — одна из главных традиций русских писателей. Вспомните жизненный путь Короленко, который столько сил отдал «делу вотяков», борясь за освобождение невинно осужденных людей.
Знаменитое в девяностых годах «Мултанское дело» заключалось в том, что семерых удмуртов (тогда их называли вотяками) обвинили в ритуальном убийстве нищего, с целью принести человеческую жертву языческим богам.
Обвинение было основано на ложных свидетельствах, состряпанных небрежно, но установить правду было делом почти невозможным. Нужен был человек огромного упорства, светлого ума, а главное — прекрасной души; человек, который не смог бы жить, не сделав все возможное (и невозможное!) для оправдания невиновных.
Таким человеком был Владимир Галактионович Короленко. Дважды удмурты признаны были виновными в преступлении, которого не совершали.
Но Короленко не сдался. Им написано восемь статей о «Мултанском деле». Он присутствовал на процессе и сам протоколировал все выступления. «Мы трое писали три дня не переставая. У меня отекли пальцы и сделался пузырь от карандаша — зато всякий вопрос и всякий ответ занесены», — писал он матери.
И, наконец, Короленко произнес обвинительную речь.
Один из присутствующих на этом суде писал: «Задушевным, проникновенным голосом, с глубокой искренностью и сердечностью заговорил он — и сразу же приковал внимание всех. Такова была сила этой речи, что все мы, корреспонденты, и даже стенографистки положили свои карандаши, совершенно забыв о записях, боясь пропустить хотя одно слово. От этих проникновенных, захватывающих слов обнажалась и рушилась вся неправда, которою так возмутительно окутывались измученные, исстрадавшиеся вотяки. От этих слов веяло глубоким негодованием против обнаруженных истязаний, извращения правды, нарушений самой элементарной справедливости, против систематических нарушений правосудия...»
Подсудимые были оправданы.
Вся Россия следила за этой борьбой — борьбой честного писателя Короленко с обвинителями удмуртов. И победа Короленко, победа правосудия над извращением правды, над мракобесием, — была победой всех передовых людей России, с волнением следивших за процессом.
...Миссия литературы — вступаться за невинно обиженных, осужденных, оклеветанных — признана во всем мире.
В 1894 году во Франции состоялся суд над офицером Генерального штаба Альфредом Дрейфусом. Его обвинили в государственной измене и приговорили к лишению чина и пожизненному заключению в крепость. Обвинение это не имело основания, и многие знали об этом.
Общественное мнение Франции раскололось: лучшие люди страны требовали оправдания оклеветанного капитана. Эта лучшая половина французского общества выдвинула своего представителя, чтобы бороться с несправедливостью и произволом.
И опять это был писатель, имя которого знал весь мир, — Эмиль Золя.
Он выступил с обвинением обвинителей и защитой осужденного, выступил, понимая, что замахивается и на верхушку армии, и на правящие круги. Он написал письмо президенту, вошедшее в историю под названием «Я обвиняю», — историческое письмо; в нем Золя обвинял лиц, которые лично ему были неизвестны: «Для меня они — только абстрактности, проявления социального разложения. И акт, совершаемый мной здесь, есть только решительное средство, чтобы ускорить взрыв правды и справедливости».
За свое выступление Золя поплатился двенадцатью месяцами тюрьмы и большим штрафом. Он шел на это, потому что интересы истины и гуманности были для него дороже личной свободы. Он не мог не выступить против страшного взрыва антисемитизма, который сопровождал несправедливое осуждение Дрейфуса, еврея по национальности.
Эмиль Золя возмущенно пишет о том, что в народе разжигается ненависть к евреям:
«Франция, проснись же, вспомни о своей славе!.. Дух отечества, его энергия, его величие заключаются лишь в справедливости и великодушии.
Я забочусь только об одном, а именно, чтобы свет истины распространился как можно шире и скорее...»
Удалось ли Золя, дорого заплатившему за свою страсть к истине, «ускорить взрыв правды и справедливости»?
Процесс над Золя всколыхнул общественное мнение не только Франции, но и всего мира. И тут уже весь мир раскололся надвое: на дрейфусаров и антидрейфусаров.
Чехов писал в письме к Хотяинцевой:
«Вы спрашиваете меня, все ли я еще думаю, что Золя прав.
А я Вас спрашиваю: неужели Вы обо мне такого дурного мнения, что могли усомниться хоть на минуту, что я не на стороне Золя? За один ноготь на его пальце я не отдам всех, кто судит его теперь...»
В 1899 году, когда волна протеста против осуждения Дрейфуса достигла невероятного размаха, правительство Франции вынуждено было пересмотреть свою позицию. Дрейфус был помилован.
И лишь в 1906 году Дрейфус был полностью реабилитирован и восстановлен в прежних правах, с сохранением воинского чина.
Двенадцать лет шла борьба между реакционными силами правительства Франции и передовым общественным мнением мира — борьба, возглавленная писателем Эмилем Золя и выигранная им, хотя он об этом уже не знал. Он победил посмертно.
Можно было бы привести немало примеров писательского подвига и в наши дни. Я напомню вам о работе писателя Сергея Смирнова, который ценою огромных усилий сумел разыскать героев Брестской крепости, вернув многим доброе имя, славу, а некоторым — свободу и, может быть, жизнь. Смирновым была восстановлена в истории Отечественной войны одна из самых трагических и мужественных страниц.
Это было сделано литератором, потому что, как и Короленко, как и Золя, им руководило стремление к истине и справедливости. Так или иначе к этому клонятся усилия всех писателей, осознающих свою гражданскую миссию.
Антуан де Сент-Экзюпери писал:
«Я люблю жизнь... между тем, если человеческой жизни и нет цены, мы действуем всегда так, как будто существует нечто превосходящее по ценности человеческую жизнь... Но что же это?»
В разное время, для разных людей — это разные вещи: благо народа. Благо человечества. Справедливость. Истина...
Важно, чтобы существовало в человеке это сознание, чтобы была эта высокая позиция.
Именно литература создает высокую позицию — прогрессивная большая литература.
Вспомните Чехова на Сахалине, Короленко во время процесса удмуртов, Чернышевского в Сибири, Золя в тюрьме, Корчака в Треблинке и Толстого на станции Астапово, — и вы согласитесь, что у каждого из этих учителей и друзей человечества было «нечто превосходящее по ценности» их собственную жизнь.
И это «нечто» оборачивается конкретными делами. Тому свидетельства — их жизнь, их книги.
КОНКУРЕНТЫ ЛИ?
Я знаю одну студентку. Как-то я пересматривала книги, стоявшие у нее на этажерке. Это были те книги, которые год назад понадобились ей, чтобы сдать экзамен в институт.
...Художественная литература? Но она не покупает таких книг. А зачем? Скучно станет — включит телевизор. И вообще книги скоро отомрут.
Я взяла томик Пушкина с ее этажерки.
— Можно мне его забрать?
— Как — забрать?
— Совсем. Унести. Он тебе не понадобится: ведь книги скоро отомрут!
К чести девушки надо сказать — она тотчас постаралась смягчить свою декларацию. Она сказала, что книги отомрут, но... есть исключения. С Пушкиным ей, во всяком случае, не хочется расставаться: без него будет как-то пусто.
А не станет ли пусто и без других книг — вообще без книг? Могут ли телевидение и радио когда-нибудь вытеснить книги?
Мы привыкли чувствовать себя в литературе, как в прекрасном, своем, обжитом и вечно удивляющем мире.
И в этом мире у нас есть свои радости.
Есть минуты, когда хочется побыть наедине с Блоком. Есть часы, когда мы хотим встретиться с героями Толстого — Наташей Ростовой, княжной Марьей, Андреем Болконским.
Каждому возрасту свойственны свои радости. В юном возрасте мы, читая Толстого, поднимаем первый пласт... Через пять — десять лет, перечитывая тот же роман, мы забираемся глубже.
Может быть, талант читателя в том и состоит, что, перечитывая любимые книги, мы все больше постигаем их? Вновь и вновь переживая, переосмысливая сцены, эпизоды, ставшие нам близкими, дорогими, мы возвращаемся, останавливаемся, задумываемся, вспоминаем свою собственную жизнь...
Как перевести эти радости на язык кино, радио, телевидения?
Даже если по телевидению или по радио читают любимые вещи, актер не прочтет два раза подряд потрясшие вас строки, не остановится, чтобы дать время поднять что-то со дна души, погрезить о чем-то своем, невыразимом...
А отрывки из любимых произведений иногда не радуют даже в исполнении мастеров. Когда-то в них было вложено свое толкование, своя внутренняя интонация, а интонация исполнителя с нею не совпала. В глубоко интимном контакте читателя с любимым автором третий иногда бывает лишним, даже если этот третий — заслуженный артист республики.
Кино — совсем особый жанр. У него есть свои средства художественной выразительности, свои особенности, своя сфера действия.
Далеко не всегда «перевод» литературного произведения на экран дает желаемые результаты. Экранизированная повесть часто теряет что-то неуловимое. Есть магия слова, о которой мы говорили раньше. Она непереводима на язык другого искусства и невосполнима ничем на этом «чужом языке». Вот почему многие экранизации бывают неудачны, и дело тут обычно не в режиссере и не в сценаристе, а в непереводимости материала.
...Книги, кино, радио, телевидение сосуществуют, часто взаимно проникая и многое заимствуя друг у друга. Но все-таки они существуют отдельно, не исключая, но и не заменяя друг друга.
«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, БУДЬ ИМ»
Этот афоризм Козьмы Пруткова обычно вызывает улыбку и вздох. Почему улыбку — ясно. У вздоха же есть свой подтекст: «Ах, если бы это было так просто!»
Да, это не так просто. Счастье — вообще капризно, неподатливо, часто неподвластно нам...
Но есть счастье, доступное равно спокойным и мятущимся, и больным, общительным, удачливым и неудачливым, здоровым и одиноким. Счастье — быть талантливым читателем.
Тут афоризм Козьмы Пруткова теряет свою ироническую окраску.
Это счастье творчества, счастье соавторства приходит к художнику-читателю, который напряжением мысли, накопленным читательским опытом поднимается на ту же высоту, на которой стоят его друзья, помощники, учителя и соратники — любимые авторы.
_________________
Распознавание текста — sheba.spb.ru
|