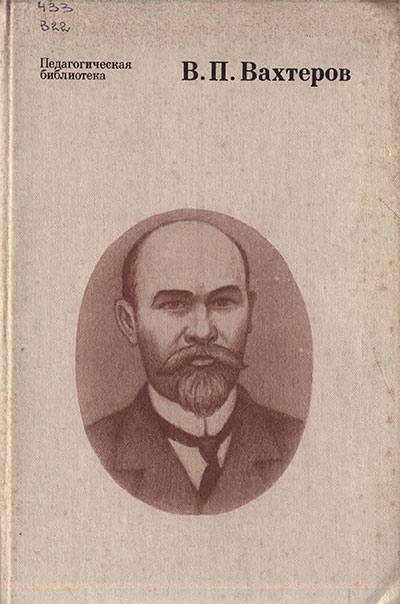|
От составителя
Василий Порфирьевич Вахтеров — педагог-демократ — внес заметный вклад в развитие отечественной школы и образования конца XIX — начала XX в.
Избранные педагогические сочинения B. П. Вахтерова в советское время издаются впервые. Том включает такие крупные его произведения, как «Всеобщее начальное обучение», «На первой ступени обучения», «Предметный метод обучения», «Основы новой педагогики», «Нравственное воспитание и начальная школа». В них В. П. Вахтеров ставил коренные проблемы развития народной школы. Выступая за всеобщее обучение, он раскрывал его громадное значение для хозяйственного подъема страны, для повышения образовательного и культурного уровня России.
В основу данного издания положен хронологический принцип, который даст возможность читателю проследить развитие взглядов В. П. Вахтерова в различные периоды его жизни. Все работы, включенные в том, печатаются по текстам прижизненной публикации. В тех местах, где сделаны купюры, поставлено отточие. Сноски, сделанные самим Вахтеровым, даны на соответствующих страницах текста.
Автор вступительной статьи — C. Ф. Егоров, комментариев — Л. Н. Литвин, Н. Т. Бритаева.
В конце тома помещены краткая библиография произведений В. П. Вахтерова и работ о нем, а также указатель имен, составленные Л. Н. Литвиным.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. П. ВАХТЕРОВА
Отечественная педагогика второй половины XIX — начала XX в. разрабатывалась трудами многих представителей демократической интеллигенции, ставивших целью своей деятельности развитие школы и просвещения. Среди них заслуженное место принадлежит В. П. Вахтерову, русскому педагогу-демократу, выдающемуся методисту, талантливому исследователю проблем обучения и воспитания. Он оставил большое литературное наследие, отразившее результаты более чем полувековых напряженных педагогических исканий автора. Оно и сегодня продолжает привлекать, к себе внимание ученых-педагогов, решающих проблемы совершенствования учебно-воспитательной работы, повышения качества обучения в современной советской школе. Крупным деятелем народного образования, ярким представителем демократической ветви русской педагогики считал В. П. Вахтерова академик АПН СССР Ф. Ф. Королев.
В. П. Вахтеров родился в г. Арзамасе Нижегородской губернии. Отец его добывал средства к существованию семьи охотой, рыболовством, пчеловодством и т. п., не приписываясь ни к какому сословию. Некоторое время он служил сторожем (отсюда фамилия Вахтеровых). Семья постоянно находилась в крайней бедности. Восьмилетним мальчиком, у которого рано обнаружились незаурядные способности, В. П. Вахтеров был отдан на учебу в Арзамасское духовное училище, а затем определен в духовную семинарию Нижнего Новгорода. Обучение в Арзамасском училище не вызывало у будущего педагога интереса к школьным занятиям. «Учил уроки лишь для того, чтобы ответить, когда спросят, и не быть высеченным или посаженным в карцер»1. Однако глубокий интерес к знаниям возникал в тех случаях, когда в них он видел средство для решения жизненно важной задачи. Интерес к грамматике и математике, латинскому и греческому языкам, появившийся из практических потребностей, привел его к увлечению астрономией, филологией, психологией. В чтении художественной литературы молодой Вахтеров искал ответы на злободневные вопросы жизни (например, в романе «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, поэмах Н. А. Некрасова, статьях Д. И. Писарева и Н. А. Добролюбова).
Обучение в Нижегородской семинарии со всеми ее уроками и укладом жизни прошло мимо В. П. Вахтерова. «Механически я исполнял все требования, а мои мысли были за тридевять земель...» — вспоминал он1. Во время обучения в семинарии Вахтеров познакомился с рабочим, который читал «Политическую экономию» Д. С. Милля, верил в лучшее будущее не на небе, а на земле и такое будущее считал чуть ли не делом завтрашнего дня. Юного Вахтерова поразила сознательность рабочего, его развитый ум. «Если средний по уму рабочий, думал я, только благодаря книгам стал сознательным, то, стало быть, для народа самое главное теперь — это грамотность... Да хорошие, просто написанные книги».
Семинарист Вахтеров был в числе тех, кого захватило народническое движение. Интеллигенция в то время призывалась «идти в народ» для того, чтобы сблизиться с ним. К этому призыву В. П. Вахтеров отнесся по-своему. В результате горячих споров с близкими ему товарищами, а также под влиянием К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова, журнала «Учитель» он приходит к мысли о том, что наилучшей формой практического служения народу является деятельность народного учителя. «Чем больше я читал педагогических книг, тем сильнее воодушевлялся задачами народного учителя, и притом не только как средством сближения с народом... а прямо задачами воспитания и образования подрастающих поколений народа»3.
Не окончив курса, В. П. Вахтеров оставил семинарию и, сдав экзамены на домашнёго учителя, получил назначение учителем в Василь-Сурск Нижегородской губернии, а вскоре — учителем уездного училища в Ардатове. Здесь же вместе с несколькими учителями-энтузиастами бесплатно вел занятия в открывшемся женском училище. Питая отвращение к семинарской учебе, В. П. Вахтеров в своей собственной учительской деятельности руководствовался дидактическими л методическими принципами прогрессивной педагогики 60-х гг.
В 1874 г. он занимался на курсах при Московском учительском институте, окончив которые получит назначение учителем в одно из училищ Смоленской губернии. Проработав учителем, а затем инспектором училища и прогимназии в течение шести лет, в 1881 г. он получил назначение инспектором народных училищ Смоленской губернии. В условиях реакции 80-х гг. в отличие от других инспекторов-чиновников он пытался проводить в жизнь свои демократические педагогические взгляды. Он призывал учителей заводить библиотеки, связывать обучение с жизнью, строить учебный процесс на активности и самостоятельности учащихся. В смоленский период деятельности он всячески поддерживал открытие земских школ, в то время когда повсеместно насаждались сверху церковноприходские школы.
В 1890 г. его как энергичного, талантливого педагога переводят в Москву на должность инспектора народных училищ. Здесь В. П. Вахтеров стремился проводить в школьную жизнь прогрессивные методы, боролся за расширение программы общеобразовательной школы, способствовал созданию различного рода общественных учреждений по внешкольному образованию, обучению взрослых и т. п. Однако немногое ему удалось сделать в этом направлении из-за противодействия чиновников от просвещения.
Чтобы существенным образом изменить практику обучения в казенной школе, недостаточно было усилий учителей-одиночек, хотя бы и талантливых. Необходимо утверждение в общественном сознании новых взглядов на народную школу как на дело большой культурно-исторической значимости. . В. П. Вахтеров приложил немало усилий для распространения таких взглядов среди народных учителей. Это не могло не отразиться на его служебной карьере. Вскоре его начинают подозревать в сознательном «прикрытии неблагонадежного элемента среди учителей и учительниц Москвы», за ним устанавливается наблюдение охранки.
В 90-х годах В. П. Вахтеров принимает активное участие в общественно-педагогической деятельности. Он является членом комиссии по народному образованию Московского губернского земства, работает в Московском комитете грамотности, выступает организатором учительских и ученических библиотек, школьных музеев, музеев наглядных пособий, пытается внедрять новые формы и методы воспитательной работы (школьные праздники и др.). Будучи инспектором народных училищ в Москве, он способствует развитию обучения взрослых, поощряет частную инициативу в открытии воскресных школ. Часто выступает перед учителями и общественностью с докладами о роли библиотек в просвещении, о народных чтениях.
На своем опыте В. П. Вахтеров мог убедиться, что царское правительство не только не заинтересовано в распространении знаний среди народа, но делает все, чтобы помешать усилиям общественности в этом направлении. Его преследуют за прогрессивный образ мысли, обвиняют в неблагонадежности. Но несмотря на это, с годами расширялись масштабы его педагогической деятельности, а вместе с тем росла его известность среди учительства. Популярность В. П. Вахтерову принесли его статьи в защиту права учителя на педагогическое творчество.
Уволенный осенью 1896 г. со службы, В. П. Вахтеров ведет работу по редактированию книг в издательстве И. Д. Сытина, составляет по буквенно-звуковому методу «Букварь» для народной школы, готовит «Новый Букварь», «Первый шаг», «Мир в рассказах для детей» (1-й, 2-й 3-й и 4-й годы), а также методические пособия учителю. Отличительной чертой книг Вахтерова для классного чтения было наличие большого доступного пониманию детей материала по естествознанию, географии, истории, а также широкое использование им произведений устного народного творчества: пословиц, поговорок, загадок, сказок, песен. Учебные книги В. П. Вахтерова (особенно «Букварь») многократно переиздавались и от издания к изданию совершенствовались.
Начиная с этого времени книги В. П. Вахтерова для первоначального обучения прочно входят в учебную практику и получают широкое признание учителей народных школ, авторитетных педагогов и методистов наряду с «Родным словом» К. Д. Ушинского, «Новой Азбукой» и «Русскими книгами для чтения» Л. Н. Толстого, «Вешними всходами» Д. И. Тихомирова.
В 90-е годы публикуются такие книги В. П. Вахтерова, как «Внешкольное образование народа», «Народные чтения», «Нравственное воспитание и начальная школа», брошюры о сельских библиотеках. Будучи педагогом по призванию, В. П. Вахтеров не мог ограничиваться литературной работой. С 1897 г. он заведует педагогической частью школы при морозовской фабрике в Твери. В этом же году он провел свои первые учительские курсы в г. Хороле Полтавской губернии. Затем последовали учительские курсы в Лубнах, Сураже, Курске, Калуге, Армавире, Симферополе, Керчи, Севастополе, Минске и других городах России. Он инициатор и участник Первого съезда представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания (1902). С пониманием принимались в учительской среде призывы В. П. Вахтерова к профессиональному объединению учителей. В результате за активную педагогическую деятельность, за «систематическую пропаганду среди рабочих социалистических идей»1 в 1903 г. он был арестован, а через три месяца выслан в Новгородскую губернию под надзор полиции.
Годы революции (1905 — 1907) были периодом наиболее интенсивной общественно-педагогической деятельности В. П. Вахтерова. Он выступает одним из активных деятелей зарождавшегося в то время Всероссийского Учительского союза, а также Лиги образования в России. Он ведет работу в специализированных комиссиях Учительского союза, является одним из редакторов вновь организованного журнала «Просвещение» (орган Московского отделения Лиги образования).
Яркой страницей в истории отечественной школы явилась борьба В. П. Вахтерова за всеобщее обязательное обучение. Вопрос всеобщего обучения к тому времени уже имел длительную историю. Особенно актуальным он стал после падения крепостного права, когда в правительственные учреждения от земств начали поступать во все возрастающем количестве ходатайства о введении всеобщего и даже обязательного обучения. В середине 70-х годов были разработаны соответствующие проекты, которые получили поддержку со стороны отдельных либеральных деятелей просвещения, понимавших необходимость и неотложность такой меры.
«Нам медлить нельзя и опасно. Образование Европы идет вперед; невежество исчезает там быстро... Неужели мы будем стоять на месте, не предпринимая никаких мер против страшного невежества, которое останавливает успехи нашей промышленности, парализует развитие всех производительных сил в нашем умном и талантливом народе?»1. Однако на пути осуществления всеобщего обучения стояло Министерство народного просвещения во главе с Д. А. Толстым, которым не только были отвергнуты проекты, но и предпринимались новые ограничившие инициативу земств меры против народного образования.
В этих условиях В. П. Вахтеров многое сделал для того, чтобы общественность осознала необходимость решения этого коренного для народного образования России вопроса. В конце XIX — начале XX в. В. П. Вахтеров, опираясь на статистические данные, с глубоким знанием действительного положения школы и учителя доказывал возможность всеобщего обязательного обучения. Еще в 80-е годы он вел исследования проблем всеобщего обучения на материалах Смоленской губернии, одновременно предпринимая и практические шаги в этом направлении, выступая по вопросам всеобщего обучения в печати, газете «Смоленский вестник», «Журнале Министерства народного просвещения». Проблемы эти он продолжал исследовать и в комиссии Московского губернского земства.
Вопреки антинародной «просветительной» политике царского правительства сфера образования расширялась. За более широкое распространение грамотности выступали и многие буржуазные деятели. Но если деятели буржуазии видели в распространении первоначального школьного обучения одно из средств повышения прибыльности труда работника капиталистического производства, сто В. П. Вахтеров рассматривал обучение как средство умственного и нравственного развития подрастающих поколений.
В самом начале 1894 г. В. П. Вахтеров выступил в Московском комитете грамотности с рефератом, который имел огромный успех. Он убедительно доказывал возможность осуществления всеобщего обучения не в столь отдаленном будущем, как об этом было принято думать. Одна из слушательниц реферата вспоминала позднее: «Мы — молодежь — были точно наэлектризованы, нам казалось, что вот сейчас начнем работать, что близок конец позорной безграмотности». В конце 1895 г. с рефератом на эту же тему В. П. Вахтеров выступил на Втором съезде по техническому образованию, а вскоре опубликовал книгу «Всеобщее обучение» и два тома материалов съезда по всеобщему обучению, отредактированных им. После революции 1905 — 1907 гг. В. П. Вахтеров продолжал выступать с критическим рассмотрением различных проектов введения всеобщего обучения.
Наступившая после поражения революции 1905 — 1907 гг. реакция положила конец многим просветительским начинаниям, участником которых был В. П. Вахтеров. Деятельность Лиги образования и ее отделений была прекращена, а его вера в возможности общественности для дела народного просвещения была поколеблена. В. П. Вахтеров теперь гораздо больше сил и времени отдает литературно-педагогической работе, однако продолжает участвовать и в общественно-педагогической деятельности: в обучении взрослых, в работе Всероссийского съезда по народному образованию (1913), в организации помощи учителям-военнопленным в годы первой империалистической войны, во Всероссийском съезде преподавателей русского языка.
Февральская буржуазно-демократическая революция оживила надежды В. П. Вахтерова на скорое осуществление всеобщего обязательного обучения. Он вошел в состав Государственного комитета по ' народному образованию, но не смог правильно оценить лицемерной политики Временного правительства, которое за все месяцы пребывания у власти для народного учителя и народной школы не сделало практически ничего. Не смог понять В. П. Вахтеров всемирно-исторического значения Великой Октябрьской социалистической революции. В первые годы после Октябрьской революции Народный комиссариат просвещения РСФСР рекомендовал «Русский букварь» и «Мир в рассказах для детей» В. П. Вахтерова к использованию в школах. Он работал над совершенствованцем своих учебных книг, преподавал на красноармейских курсах по ликвидации неграмотности, на курсах по подготовке учителей для школы II ступени, был лектором педагогического факультета 2-го МГУ. 3 апреля 1924 г. В. П. Вахтеров скончался.
Широким кругам учительства В. П. Вахтеров был известен больше как методист, чем как теоретик педагогической науки. А между тем необычайный успех его учебных и методических книг во многом связан с положенными в их основу теоретическими принципами и исследовательской педагогической работой В. П. Вахтерова.
В конце XIX — начале XX в. прогрессивные педагоги России осознавали необходимость разработки теоретических основ педагогического знания. В условиях научного прогресса на рубеже двух веков они стремились определить место педагогики в системе наук, уточнить ее собственный предмет и особенности методов педагогических исследований, понять отношения и связи педагогики с другими науками и на этой основе осмыслить, привести в систему, теоретически обосновать все накопленные к тому времени знания о воспитании, образовании, обучении. В результате к началу XX в. было выдвинуто немало самых различных теоретических концепций, претендовавших на научное объяснение педагогического процесса и его закономерностей. Одной из них была «эволюционная» педагогика В. П. Вахтерова, которую он называл также «новой педагогикой», «научной педагогикой». Эту концепцию В. П. Вахтеров вынашивал в течение всей своей полувековой педагогической деятельности. Попытки целостного ее выражения были предприняты им в 1907 г., продолжались до последних дней жизни, но создание завершенной концепции так и осталось до конца не осуществленным автором.
Что же представляла собой «эволюционная» педагогика, каковы ее истоки и основные положения, и какие выводы для педагогической теории из нее следовали?
В начале XX в. было немало теоретиков, склонных считать педагогику прикладной дисциплиной, например прикладной антропологией, прикладной философией, прикладной психологией и т. п. Такой подход был малопродуктивным, поскольку он приводил к тому, что при построении педагогической теории гипертрофировалось значение одной из наук, к которой педагогика «прикладывалась», и дело сводилось к интерпретации известных педагогических явлений с позиций «основополагающей» для педагогики науки, но не к тому, чтобы рассматривать воспитание и образование как предмет специального исследования. В. П. Вахтеров не избежал переоценки значения биологических наук для педагогики. Однако при разработке своей «эволюционной» концепции он исходил прежде всего и главным образом из педагогической практики, а заимствованные из других наук общие идеи послужили ему не столько для осмысления, сколько для исследования собственно процесса обучения и воспитания.
«Эволюционная» педагогика становится более понятной, если учитывать факты и события педагогической биографии ее автора. Об этом сказано в воспоминаниях самого педагога, написанных в 1907 г. по просьбе нижегородской архивной комиссии, собиравшей сведения об уроженцах Нижегородского края. Многократно испытанное состояние утомления и отвращения от занятий по принуждению, без какой-либо видимой их связи с практикой и личным опытом учащегося и ощущение возраставших способностей к познавательной деятельности в тех случаях, когда учебная работа преследовала цели, осознанные учеником как жизненно важные, — все это говорило за то, чтобы в основание педагогического процесса были положены принципы активности и самостоятельности учащихся, связи обучений с жизнью.
Совершенно очевидно, что такого рода обстоятельства личного опыта во многом отразились на дидактических взглядах В. П. Вахтерова-педагога. Они придавали эмоциональную окраску и своеобразную публицистическую страстность в защите выдвигавшихся им дидактических положений и принципов, направленных против официальной педагогики и практики казенной школы.
Они же в некоторой степени объясняют, как формировались у В. П. Вахтерова те идеи, которые затем играли важную роль в разработке его «эволюционной» педагогики.
В основу своей педагогической концепции В. П. Вахтеров сознательно положил идею развития. Идея эта принадлежала не только В. П. Вахтерову, а всей прогрессивной русской педагогике, к началу XX в. рассматривавшей обучение и воспитание как процесс, как нечто находящееся в постоянном движении, изменении, развитии. Более того, даже отдельные деятели официальной педагогики не отрицали ее значения. (Правда, они трактовали развитие как развертывание изначально данных свойств ребенка в рамках, определенных «творцом».) В. П. Вахтеров идее развития придавал исключительное значение, считая, что она может объяснить все накопленные к тому времени знания о воспитании, образовании, обучении, систематизировать эти знания, а также стать надежным инструментом дальнейших исследований педагогического процесса и его закономерностей. Идея развития вместе с убеждением в том, что образование во всех его видах и формах является одним из самых важных (если не самым важным и единственным) факторов общественного прогресса, и составила основу «эволюционной» педагогики В. П. Вахтерова.
Отдельные ее положения и принципы развивались в таких работах, как «Внешкольное образование народа» (1896), «Всеобщее обучение» (1897), «Нравственное воспитание и начальная школа» (1901), «Наши методы преподавания и умственный паразитизм» (1901), «Запросы народа и наша начальная школа» (1902), «Спорные вопросы образования», «Предметный метод обучения», «Из психологии детскрго возраста в связи с вопросами воспитания и образования» (1907). В наиболее развитой форме она излагалась в книге «Основы новой педагогики», первое издание которой вышло в 1913 г., второе — в 1916 г. По авторскому замыслу, продолжением «Основ новой педагогики» должна была стать другая книга — «Идеалы воспитания», материалы к которой В. П. Вахтеров собирал, одновременно работая над первой книгой.
В. П. Вахтеров полагал, что идея развития может объединить все накопленные к тому времени положительные педагогические знания. «Мне, — писал он, — всегда представлялось существенно важным все отдельные вопросы, все части педагогики связать в одно целое. Попытки, предпринятые в этом направлении, не удовлетворяли меня, пока я не пришел к убеждению, что все отдельные элементы педагогики удобнее всего объединяются идеей развития, понимая эту теорию в самом широком смысле этого слова, и как развитие рода, и как исторический процесс, причем главное значение для педагога имеет развитие личности воспитанника»
Глубочайшая тайна воспитания, говорил В. П. Вахтеров, заключается в том, что каждый нормальный ребенок стремится к развитию всех заложенных в нем сил и способностей. Но эти стремления и способности заглушаются условиями окружающей его среды, в семье и школе, подчиненной бюрократическим учреждениям. В семье это происходит от того, что родители не понимают значения детских стремлений и часто приносят их в жертву господствующим предрассудкам. В школе — оттого, что догматическая официальная педагогика навязывает учителю задачи, чуждые естественным стремлениям ребенка к самообразованию и самовоспитанию. По Вахтерову, действительное развитие ребенка, его успехи в образовании слагаются из двух факторов: внутреннего стремления к развитию и влияния окружающей среды. Следовательно, главная задача педагога состоит в создании таких условий, при которых естественное стремление ребенка к развитию встречало бы меньше внешних препятствий, а окружающая среда оказывала бы оптимальное для развития его сил и способностей влияние.
Свою концепцию В. П. Вахтеров называл еще научной, стремясь к тому, чтобы она удовлетворяла требованиям науки своего времени. Он видел задачу науки в том, чтобы изучать педагогические факты и явления, отыскивая в единичном общее, находя связи и зависимости между единичными явлениями и общей закономерностью. В отличие от исследований специалистов других наук педагогический эксперимент Вахтерова имеет своим главным объектом ребенка и проводится не для посторонних целей, а для его воспитания в соответствии с известным идеалом, который изменяется по мере роста и развития ребенка. «Психолог изучает ребенка, чтобы на простейших проявлениях детской психики легче понять и психику вообще; антрополог — чтобы найти в развитии ребенка указания и намеки на развитие всего человечества; археолог — чтобы в изделиях и рисунках ребенка найти аналогии с археологическими находками; филолог — чтобы в развитии детской речи уловить законы развития языка, и пр. А педагог, пользуясь своими наблюдениями, может присоединить к ним результаты работ и психологов, и антропологов, и биологов и т. п., с тем чтобы сообразовать с законами развития ребенка его воспитание, смену методов и материалов для его образования по мере возрастания своего воспитанника»1.
Признавая важное для педагогики значение «антропологических» наук, В. П. Вахтеров в то же время подчеркивал, что педагогика изучает ребенка в процессе воспитания и делает это своими методами. Полученные педагогическими методами выводы и представляют собой те элементы, которые необходимы для создания теории. Теорию они могут составить в том случае, если будут объединены общим началом, без которого педагогика обречена оставаться «совокупностью разнообразных элементов».
В отличие от биолога, изучающего процессы развития с внешней стороны, педагог имеет дело с процессами умственного и нравственного развития ребенка, для понимания которых необходимы систематические психологические наблюдения. При этом важно видеть не только внешние проявления как результат развития, но и то, с какими чувствами, волевыми усилиями ребенка они связаны. Знание индивидуальной внутренней жизни ребенка нужно педагогу для того, чтобы в ней он находил основание для своей учебно-воспитательной деятельности.
Идея развития занимала доминирующее положение в концепции В. П. Вахтерова. Для педагога, считал он, должно получить первостепенное и руководящее значение последнее слово философии и науки, согласно которому все живое на земле есть результат длительного эволюционного, прогрессирующего развития, совершавшегося в направлении от низших и простейших форм к высшим и сложнейшим. Этот фундаментальный факт имеет научное подтверждение, глубокое нравственное значение, на его основе должны формироваться педагогические идеалы, совпадающие со «всемирным движением вперед, к свету, к могуществу, 'к счастью, свободе»1. Руководствуясь идеалами прогрессирующего развития человечества, педагогика будет находить наилучшие средства и методы для своих практических приложений.
«Эволюционная» концепция В. П. Вахтерова заметно отличалась от тех концепций, которые идеализировали ребенка и утверждали, будто дитя появляется на свет совершенным созданием, страдающим затем от деспотизма окружающих его людей. Такое утверждение лежало в основе теории «свободного» воспитания. В отличие от последнего В. П. Вахтеров обосновал положение, согласно которому от рождения ребенок наделен не одними лишь положительными задатками. Вместе с ними он несет в себе нечто пережиточное, унаследованное им от своих близких и отдаленных предков, опыт которых сохраняется в его генетической памяти. Поэтому «эволюционная» педагогика с ее девизом «развивай себя сам и содействуй прогрессивному развитию ближних» должна активно содействовать превращению низких качеств в высшие. «Развиваться — значит учиться подчинять низшие побуждения высшим... освобождать себя не только от внешнего деспотизма, но и еще от внутреннего — от деспотизма своих низших страстей и прихотей».
Концепция В. П. Вахтерова, которая, как он считал, должна отличаться единством всех своих элементов, наложила отпечаток и на его историко-педагогические взгляды последнего десятилетия педагогической деятельности, т. е. того периода, когда В. П. Вахтеров стремился к наиболее полному и законченному изложению своей концепции. Анализируя системы воспитания и образования различных исторических эпох, В. П. Вахтеров оценивал их по тому, с какой последовательностью в каждой из них проводилась какая-либо одна идея, один принцип, преследовалась единая цель, продиктованная условиями и потребностями породившей эту систему эпохи.
Так, в спартанской системе он видел осуществление единственной цели — воспитания солдата. Афинская система должна была служить исключительно наслаждению и украшению свободного человека, в то время как утилитарное и профессиональное образование предназначалось рабам. Единой и цельной представлялась В. П. Вахтерову аскетическая средневековая педагогика. Точно так же цельной и системной в его понимании была руссоистская педагогика. Такой односторонний подход к рассмотрению истории воспитания и образования, разумеется, нельзя было признать объективным и методологически обоснованным. Совершенно очевидно, что подобные упрощенные характеристики педагогических систем древности, средневековья и Нового времени должны были служить В. П. Вахтерову для обоснования его концепции, которая, по его мнению, проводит единственный принцип и будто бы в наибольшей степени отвечает потребностям общественного развития XX в.
Подобно тому как в 60-е годы XIX в. К. Д. Ушинский рассматривал антропологические науки с точки зрения педагогических задач, так и В. П. Вахтеров в начале XX в. искал во многих областях науки ответы на те же вопросы. Но в отличие от К. Д. Ушинского, который при построении теории развивающего и воспитывающего обучения опирался прежде всего на психологию, В. П. Вахтеров уделял внимание естественным наукам, а его педагогические идеи получили наибольшую разработку в дидактической и методической части его «эволюционной» педагогики.
В. П. Вахтеров проявил себя неутомимым исследователем и знатоком возрастных и индивидуальных особенностей детей. В первом томе «Основ новой педагогики» были представлены данные разнообразных исследований личности школьника, развития психических способностей ребенка, его речи, любознательности, интересов; преобладающие склонности детей изучались путем анкетирования, статистических вычислений, сравнения полученных выводов с результатами изучения тех же возрастных групп другими педагогами. В нем дана типология по преобладающим склонностям (типы: охотничий, воинственный, научно-любознательный, общественно-нравственный), а также показаны изменения в склонностях под влиянием школьного обучения и целенаправленного воспитания.
Не отрицая общности законов человеческого мышления, В. П. Вахтеров призывал учителя изучать особенности протекания мыслительных процессов у учащихся различного возраста. «Нет, законы мышления не настолько всеобщие, как думают авторы современных учебников для народных школ. Взрослые люди, двигающие науку, мыслят отвлеченными понятиями, а ребенку нужны образы, формы, краски, звуки, наглядные предметы. Люди науки в совершенстве владеют дедуктивными методами мышления, а ребенку дедукция чужда и непосильна»1.
На результатах разностороннего изучения особенностей восприятия, внимания, памяти и т. п. основывалось построение учебных и методических книг и, конечно, уроков самого В. П. Вахтерова. Например, учитывая то, что у одних учащихся преобладает слуховая, у других — зрительная, у третьих — графическая, у четвертых — память произношения, он использовал такие методы, которые рассчитаны сразу на все четыре вида памяти. Это, по его мнению, должно было обеспечивать усвоение учебного материала школьниками всех четырех групп. И конечно, выпавший на долю учебных книг и методических пособий В. П. Вахтерова успех объяснялся тем, что они строились на принципе развивающего обучения.
Для В. П. Вахтерова идея развития, которую он долго вынашивал и которая, по его словам, представляла его credo, оказалась весьма плодотворной. Многосторонне изучая процессы развития ребенка, используя для этого все доступные педагогам конца XIX — начала XX в. средства, методы и источники, данные смежных наук, а главное — анализируя реальности самого педагогического процесса, к которому он так близко стоял в течение более чем полувековой научной и практической деятельности, В. П. Вахтеров сделал немало ценных наблюдений, обобщений и выводов, обогативших многие отрасли педагогического знания, а в особенности теорию образования и обучения. В его трудах процесс обучения, проблемы содержания образования, характеристика методов обучения включали идеи, вызывающие определенный интерес и в наши дни.
В свете общей 1 концепции «эволюционной» педагогики В. П. Вахтерова обучение рассматривалось как процесс познавательной деятельности, соответствующий естественным законам развития ребенка. Его отдельные суждения по данному кругу вопросов подчас были близки к высказываниям П. Ф. Каптерева, К. Н. Вентцеля, других его современников, однако многое в них было и оригинальным. Из общей концепции «эволюционной» педагогики следовало, что стремление к познанию присуще ребенку от рождения, поэтому необходимо прежде всего заботиться о том, чтобы устранять помехи на пути этого стремления. Все связанные с познавательной деятельностью психические процессы — память, внимание и др. — протекают наилучшим образом в тех случаях, когда отсутствует какой бы то ни было элемент принуждения, а познавательная деятельность «возбуждается здоровыми человеческими стремлениями, природной любознательностью, интересом к предметам изучения».
В то время как одни педагоги начало познавательной деятельности связывали с ощущениями, другие — с волевыми устремлениями, В. П. Вахтеров считал, что ум, чувства и воля в познавательной деятельности присутствуют одновременно как три взаимосвязанных звена одной цепи, «три силы в одном соединении». При этом обучение, однако, нужно строить так, чтобы главенствующая роль всегда принадлежала первой из этих сил — уму.
По Вахтерову, мыслить — значит познавать связи действительности. «В мире все связано одно с другим: одно другое обусловливает, одно из другого вытекает. Мир, хотя неполно и далеко не совершенно, отражается, как в зеркале, в нашем уме, а вместе с ним отражаются, по крайней мере, некоторые, резко бросающиеся в глаза связи между явлениями... Чем больше их в нашем сознании, тем мы развитее и умнее». Такие идеи развивались в работах «Спорные вопросы образования», «На первой ступени обучения» (1906) и др.
В «эволюционной» концепции В. П. Вахтерова содержались элементы материалистической гносеологии. В то время, когда в России было много ученых, в том числе представителей естествознания, находившихся под влиянием идеалистической, так называемой новейшей или научной философии, философии махизма, эмпириокритицизма, В. П. Вахтеров говорил о том, что сущность познавательной деятельности состоит не в привнесении разума в действительность, а в познании природы, ее закономерностей, которые имеют объективный характер. «Все дело в том, чтобы правильно угадать путь, по которому идет направление развития в природе и жизни, ... мы — часть природы; ее законы и ее силы, ее процессы живут в нас самих, и они же через посредство нашего ума делаются предметом сознания этой последней фазы в развитии природы. ...Наш ум и наша логика — тоже часть природы и потому не могут по существу противопола-га ься ее законам»1.
Характеризуя «умственный и нравственный багаж» человека, приобретаемый им в результате школьного обучения и всей познавательной деятельности вообще, В. П. Вахтеров утверждал, что багаж этот представляет собой не более чем различные состояния сознания и связи между ними как результат работы мозга. Образованный и развитой человек отличается от менее образованного и развитого более глубоким знанием связей действительности. При этом В. П. Вахтеров проводил различие между связью внешней, случайной и закономерной, логической. Образование этих последних в сознании учащихся есть одна из главных задач школьного обучения.
В. П. Вахтеровым подчеркивалась несовместимость науки и религии, религиозного и научного мировоззрений. Он считал, что преподавание в школе закона божия служит одной из главных причин догматизма, препятствующего выполнению общеобразовательной школой своих задач по всестороннему развитию учащихся. В 1907 г., опасаясь новых гонений со стороны царских властей, В. П. Вахтеров заявлял: «Нет, мы не против веры». И тут же писал, что 12 из 27 недельных уроков, отведенных учебным планом народной школы на закон божий, церковнославянское чтение и пение, предопределили авторитарность, схоластику и догматические методы обучения в начальной школе. «Если бы клерикализм только мог, он атрофировал бы в людях способности к научным исследованиям, экспериментам, к критике, он оставил бы людям только способности верить и повиноваться»1. Приходится, однако, констатировать, что материалистические идеи в анализе педагогических явлений у В. П. Вахтерова не проводились настолько последовательно, чтобы рассматривать педагогический процесс с классовой точки зрения, а это не позволяло ему раскрыть влияние социально-политических факторов на формирование личности учащихся.
В педагогике России XIX — начала XX в. одной из актуальнейших проблем являлось содержание школьного образования. В учебных планах начальной школы (1897) преобладала религиозная догматика, занимавшая не менее половины всего учебного времени. В результате этого окончившие начальную школу зачастую не получали даже простейших навыков чтения и письма. Классическая гимназия с двумя древними языками отводила на изучение языков (точнее, на изучение их грамматических форм) 65% учебного времени; 18% приходилось на математику и закон божий. На остальные — естествознание, географию, историю, рисование — 16,5%.
Вопрос о содержании образования официальная педагогика решала по сословному принципу, согласно которому детям из народа вполне достатбчно элементарной грамотности и профессиональной подготовки. По мнению ее представителей, сами по себе знания никакой ценности не имеют: знания о той или иной стороне действительности, например о земле, физических законах и явлениях, знания по истории, географии, литературе должны служить только средством воспитания определенных чувств, настроений, верований. При этом набор учебных предметов может быть каким угодно.
В противовес этому прогрессивные деятели просвещения заявляли, что основой содержания школьного образования дол: на стать наука. Признанием возрастающей роли наукй в экономическом, социальном и культурном прогрессе общества определялся и пафос критических выступлений В. П. Вахтерова против научной несостоятельности содержания учебных предметов. Гимназисты, писал он, «умеют написать слово «дуб» и просклонять его на пяти языках, но они ровно ничего не знали бы о жизни дуба, о питании растений, об их оплодотворении и пр., если бы не пользовались, часто вопреки распоряжениям учебного начальства, книгами из общественных и частных хранилищ»2. Защищая принцип научности содержания школьного образования, В. П. Вахтеров подчеркивал при этом, что школьные программы должны представлять знания не разрозненные, а объединенные в определенную систему. В связи с этим им было высказано немало оригинальных идей.
Он считал, что при определении содержания обучения педагог должен исходить из признания принципа единства и неразделенно-сти наук, как и всей человеческой культуры вообще. В. П. Вахтеров обращал внимание на то, что науки достигли такой стадии развития, когда исследования в узких и специальных областях не могут проводиться успешно без того, чтобы не пользоваться данными из смежных наук. Так, результатами исследований историков пользуются юристы, техническое усовершенствование телескопа продвигает вперед астрономию. Агроном использует знания из химии, физики, метеорологии, почвоведения, физиологии растений и животных и т. п. Подобно тому как все области научного знания взаимосвязаны, так и между отдельными предметами общеобразовательной школы должны устанавливаться взаимосвязи. При этом каждый предмет должен использоваться и как средство всестороннего развития учащихся.
Общеобразовательная школа своим содержанием должна готовить к образованию профессиональному. Оба этих вида образования необходимы каждому человеку. «Игнорировать профессиональную школу могут только паразиты, аристократы и плутократы», — писал он1. Общеобразовательная школа должна выявлять способности учащихся с тем, чтобы после окончания школы они могли безошибочно избрать профессию в соответствии со своими склонностями и возможностями. Но выбор содержания обучения лишь одна сторона дела. Не менее и даже более важным является то, какими методами пользуется учитель в преподавании. «Один и тот же предмет можно преподать так, что он будет тренировать только память и внушать отвращение к учению, но можно преподавать и так, что он будет развивать самодеятельность, укреплять мыслительные способности, давать навыки к строгому логическому мышлению, действовать на чувство, развивать любознательность, трудолюбие и пр.». Чрезвычайно интересными были указания В. П. Вахтерова на объективный характер методов, которые должны основываться на закономерностях познавательной деятельности и учитывать специфику изучаемого предмета. Он подчеркивал, что методы и приемы обучения не могут быть случайными и беспочвенными изобретениями досужего ума; основываясь на природе ученика, его естественных наклонностях и способностях, все приемы обучения должны быть согласованы с природой изучаемого предмета, сообразованы с требованиями, вытекающими из сущности предмета обучения.
Метод обучения официальной, или, как ее называл В. П. Вахтеров, догматической, педагогики один — это заучивание готовых знаний, обрекающее ученика на пассивность, механическое восприятие сообщаемых ему учителем и учебником знаний, требующее чрезмерного напряжения памяти и задерживающее развитие всех других способностей. В. П. Вахтеров предлагал новый подход к вопросу о запоминании учениками учебного материала. Память ученика нужно обогащать знанием важнейших научных фактов, но это не должно быть единственной целью, а тем более самоцелью. Надо, чтобы ученик, изучая факты, сам произвел необходимые мыслительные операции. В итоге одни из этих фактов останутся в памяти, другие будут наполовину забыты (однако они могут быть воспроизведены при повторении); третьи могут быть забыты почти совершенно. Но во всяком случае останется умение ученика анализировать и комбинировать факты. И это должно быть постоянной заботой учителя.
В. П. Вахтеров на своем многолетнем опыте убеждался в исключительной важности умения школьника делать выводы, пользоваться приемами научного исследования, пусть хотя бы в самой элементарной форме. Для этого учитель ставит перед учеником ту или иную задачу, дает материалы, а ученик сам, собственными усилиями отыскивает, открывает то, что было открыто и изобретено до него. При этом он не только приобретает знания, но и учится тому, как их приобрести, как самому наблюдать, самому экспериментировать, изобретать, обобщать, сравнивать, классифицировать, отыскивать и выражать найденное в слове, в рисунке, в действии.
В. П. Вахтеров справедливо считал, что ученика нетрудно поставить в положение исследователя. Ведь ребенок и в жизни, и в школе, и в играх все время наблюдает, производит опыты, сравнивает, систематизирует, анализирует и обобщает. Но делает это он неумело, наивно, пользуясь самыми примитивными приемами. Поэтому одна из важнейших педагогических задач школы заключается в том, чтобы «внести в эти процессы свою долю света, заимствуя его из опыта науки, упрощая ее приемы и методы до степени развития учеников, сделать эти приемы путем повторений...»1. В естествознании В. П. Вахтеров видел прекрасный материал, на котором учитель успешнее всего сможет развивать крепнущие мыслительные способности ребенка, приучая его к самодеятельности, самостоятельности2.
2 Интересно отметить, что методические советы использовать для воспитания познавательных способностей предметы естественнонаучного цикла и тот материал, который предлагал В. П. Вахтеров, вели к атеистическим выводам. Самостоятельное мышление ученика приводило его к выводу о несовместимости научных фактов и религиозных догматов. См.: Письма учителей В. П. Вахтерову // Отдел рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина, ф. 46, картон 5, 32 — 142.
Естественные науки по самой своей природе требуют строить обучение таким образом, чтобы ученик при незаметной помощи учителя сам делал доступные его пониманию выводы о тяготении, звуке, свете, питании и дыхании растений и животных и т. д. При этом ученик может всегда проверить выводы поставленными им самим опытами, а если будет допущена ошибка, то в опыте она сразу обнаружится. К выводу дети в большинстве случаев приходят не сразу. Разбудить их мысль, незаметно помочь найти правильный путь решения задачи — вот истинная роль учителя.
В. П. Вахтеров указывал на большое значение положительных эмоций ученика, которыми должно сопровождаться его учение в школе.
Рекомендации В. П. Вахтерова учителю относительно методов обучения свидетельствуют о его глубоком знании психологии ученика. Он советовал строить преподавание так, чтобы ученик во время наблюдения, беседы, выполнения того или иного упражнения думал только о своей работе, а не о том, как отнесется к его работе учитель. В противном случае произойдет раздвоение внимания у ученика. В. П. Вахтеров не возражал и против того, если учитель, выслушав неверный ответ ученика, не смущал его, не указывал на ошибку, а вел урок так, что ученик затем обнаруживал свою ошибку сам и приходил к правильному выводу.
В. П. Вахтеров поддерживал постоянную связь с учителями. Последние не раз выражали педагогу благодарность за ценные советы, рекомендуемые методы. Вахтеров не мог не знать, что попытки применения методов обучения, развивающих познавательную активность учащихся, нередко встречали препятствия отнюдь не дидактического, а, скорее, полицейского характера. Последние чинились не кем иным, как чиновниками из министерства просвещения. Среди многочисленных писем учителей в его адрес были и такие, где авторы прямо указывали случаи, когда инспектора народных училищ обвиняли учителя за то, что он «слишком развивал любознательность детей»1.
Выступления В. II. Вахтерова в защиту активных методов обучения не были повторением общеизвестного, они основывались на большом личном опыте, а потому были особенно содержательны и убедительны. Полемически страстные, они звали учителя к поискам таких методов, которые постоянно стимулировали бы активность и самостоятельность ученика, обращая процесс обучения в непрерывный ряд открытий, явившихся следствием собственных усилий ученика.
Разрабатывая свою собственную методику, В. П. Вахтеров строил ее на основе наблюдений над естественным развитием детей. «Дети, руководимые природным инстинктом, никогда не довольствуются одним зрением. Им надо ощупать предмет, надо постучать, чтобы знать, как он звучит, надо поднять его, чтобы узнать, как он тяжел, надо бросить его, чтобы узнать, разобьется ли он, надо лизнуть, чтобы узнать его вкус, надо его понюхать и т. д.»2. Опираясь на это наблюдение, В. П. Вахтеров предложил заменить традиционное наглядное обучение предметным методом. В отличие от наглядного обучения предметный метод, по В. П. Вахтерову, рассчитан на все внешние чувства. Кроме таких внешних чувств, как слух и зрение, он говорил о необходимости пользоваться вкусом, обонянием, «мускульным и термическим чувствами», а также «двигательными и органическими ощущениями». Таким образом, В. П. Вахтеров развивал основную идею золотого правила «Великой дидактики» Я. А. Коменского, доказывая преимущества предметного метода перед наглядным обучением. Эти доказательства были не только результатом наблюдений и теоретических изысканий педагога, они подтверждались также дидактическими экспериментами, основывающимися на сравнении результатов работы учителя двумя проверяющимися методами в контрольных и экспериментальных классах.
В. П. Вахтеров внес большой вклад в теорию и лрактику эксперимента. О необходимости педагогического эксперимента в России говорилось уже давно. Еще в XVIII в. Академия наук предлагала задачи из области обучения, для решения которых требовались экспериментальные данные. Отдельные педагоги первой половины XIX в. пользовались экспериментом (правда, далеко не совершенным) в своей деятельности. Сложность экспериментальной проверки различных форм и методов учебно-воспитательной работы была вполне осознана К. Д. Ушинским, предостерегавшим от поспешных выводов из экспериментов.
В начале XX в. сторонники так называемой экспериментальной педагогики1 особенно громко заявили о своих правах. В России были изданы «Лекции по экспериментальной педагогике», «Очерк экспериментальной педагогики», «Экономия и техника памяти», другие сочинения немецкого педагога и психолога Э. Меймана (1862 — 1915).
1 Выражение «экспериментальная педагогика* следует понимать условно, поскольку это течение педагогической мысли конца XIX — начала XX в. не имело собственного, отличного от педагогики традиционной предмета исследований.
Не менее широкое распространение получили сочинения А. Лая (1862 — 1926) «Экспериментальная педагогика», «Школа действия. Реформа школы сообразно с требованиями природы и культуры» и др. Но теория и практика экспериментирования, излагавшаяся в этих и других работах немецких авторов, удовлетворяла далеко не всех педагогов России. Эксперименты Э. Меймана были направлены на обоснование существовавших в немецкой школе того времени методов, включая «технику» письма, счета, порядок расположения учебных лособий в классе и на столе ученика, конструкцию школьного ранца и т. п. Выводы из подобного рода обоснований представляли собой предписания учителю, как надо поступать в каждом конкретном случае при обучении. В работах А. Лая сильно проявились биологизаторские тенденции. А. Лай говорил, что его экспериментальная методика «берет свое начало в новейшем естественноисторическом, особенно в биологическом, мышлении и исследовании». Однако его метод фактически не только «брал начало», а в основном всегда оставался в пределах биологического мышления, о чем свидетельствовали и методологические заявления самого А. Лая.
В. П. Вахтеров подчеркивал, что важный шаг к постановке экспериментальных исследований проблем педагогики в то время был сделан русским профессором И. А. Сикорским, опубликовавшим в 1879 г. результаты исследования причин утомления учащихся. Он учитывал при этом работы не только немецких представителей экспериментальной педагогики, но и других авторов — Бине и Анри (Франция), Пиццоли (Италия), Галл (США).
Критически анализируя материалы, накопленные к тому времени экспериментальной педагогикой, В. П. Вахтеров внимательнейшим образом учитывал предшествующий опыт русской педагогики, а затем не без успеха сделал попытку применить общенаучные методы к исследованию процесса обучения. В. П. Вахтеровым был применен детально разработанный и теоретически обоснованный естественный эксперимент, который должен проводиться не в лаборатории, а в школьных условиях, не в отрыве от процесса обучения и воспитания, а в органической связи с ним. Естественный эксперимент основывался на принципе сопутствующих изменений. Смысл его состоял в том, что если при изменении одного явления изменяется другое, то между ними существует причинная связь. Если с заменой одного приема другим качество обучения повышается, то это и есть доказательство превосходства последнего, и наоборот.
Согласно разработанной методике эксперимент должен быть лишен какой бы то ни было искусственности. Отличие естественного эксперимента от обычного урока, по Вахтерову, должно заключаться только в том, что его результаты могут быть объективно оценены. А для этого необходимо уравнять по возможности все условия проведения обычного и экспериментального уроков, кроме одного — того приема или метода, который в данном эксперименте проверяется. При этом сравниваемые приемы или методы применяются к одним и тем же детям, при одном и том же учителе, в одних и тех же условиях времени, степени утомления й т. д. В. П. Вахтеров подробнейшим образом и во всех деталях описывал методику проведения естественного эксперимента и приводил многочисленные примеры его использования в практике своей исследовательской и педагогической деятельности.
Особенно успешно пользовался В. П. Вахтеров экспериментом в деле совершенствования методики первоначального обучения русскому языку. В педагогике по вопросам методики обучения грамоте на протяжении многих десятилетий велись дискуссии. Особенно горячая полемика вокруг этих вопросов развертывалась во второй половине XIX в.
Исключительно ценное значение для совершенствования методики имели выступления К. Д. Ушинского в 60-х гг., Н. А. Кор-фа, Л. Н. Толстого — в 70-х гг. Однако борьба мнений среди методистов не только не прекращалась в последующем, но становилась еще более острой. Для прогрессивной русской педагогики главной целью при этом была разработка методической системы, которая, обеспечивая овладение детьми грамотой, оказывала бы на них одновременно развивающее влияние.
Значительный вклад в разработку такой системы обучения русскому языку и ее научно-педагогическое обоснование был сделан В. П. Вахтеровым. В этой области он также использовал все ценное из опыта своих предшественников, анализируя методику первоначального обучения в ее историческом развитии. Он убедительно показал, что в каждом из методов и приемов, последовательно сменявшихся и противостоявших друг другу, заключались свои достоинства и недостатки. Поступательное развитие методики совершалось там, где новые методы не просто отрицали предыдущие, а усовершенствовали их, отбрасывая лишь ошибочное в прежних методах и добавляя к ним оправдавшиеся в широкой практике новые приемы.
В. П. Вахтеров всесторонне исследовал процесс чтения и овладение им детьми на первых этапах обучения. Он тщательно изучал каждый из составляющих этот процесс элементов в отдельности и во всевозможных сочетаниях, привлекая для этого данные современного ему языкознания, психологии, физиологии, а главное — материалы многочисленных опытов школ и учителей, обработанные статистическими методами. Все это делало выводы В. П. Вахтерова в высокой степени доказательными, не оставлявшими места для отвлеченных, умозрительных рассуждений и субъективных мнений.
В «эволюционной» концепции В. П. Вахтерова большое место отводилось проблемам нравственного воспитания. И в этой области он выступил как исследователь, бережно относящийся к прогрессивному наследию прошлого. В. П. Вахтеров подчеркивал актуальность для своего времени идей гуманистической педагогики. Вслед за Н. А. Добролюбовым он категорически отвергал применение телесных наказаний в школе — средства безусловно антипедагогического, унижающего человеческое достоинство, травмирующего психику ребенка.
В. П. Вахтеров разделял понимание К. Д. Ушинским воспитательного значения труда. Односторонним и безразличным к общественному благосостоянию считал он принцип естественных последствий английского философа и социолога Г. Спенсера, согласно которому каждый должен избегать нежелательных для себя последствий независимо от того, какими будут последствия твоих действий для общества.
Нравственное воспитание В. П. Вахтеров раскрывал как длительный, сложный и противоречивый процесс, охватывающий не только обучение, но и все стороны жизни и деятельности ребенка, процесс, в котором ведущая роль принадлежит учителю. Им разрабатывались конкретные методики развития нравственного сознания.
В. П. Вахтеров возлагал большие надежды на воспитание, и вместе с тем его не оставляли сомнения в возможности оздоровления современного ему аморального буржуазного общества. Он приходил в отчаяние, видя проникновение в произведения литературы и искусства порнографии во всевозрастающих масштабах, порой в слегка прикрытых, а подчас в цинично откровенных формах. В воображении возникал гротескный образ редактора, который успевал только переступающим порог редакции авторам повестей, пьес, сценариев задавать один и тот же вопрос: «У вас где и как?» И услышав такое, чего еще не было, утверждал к тиражированию и предложению широкой публике в качестве «современного искусства».
От сомнений В. П. Вахтеров вновь обращался к убеждению, что из всех факторов социально-экономического и нравственного прогресса общества самым важным, если не единственным, является воспитание и образование.
Такой в общих чертах была «эволюционная» педагогика с ее руководящими идеями, подходами к исследованию процесса обучения, образования, воспитания, с методикой педагогического эксперимента и практическими выводами для школы и учителя.
Своими трудами, раскрывающими закономерности педагогического процесса, В. П. Вахтеров внес значительный вклад в педагогику. Его педагогическое наследие отражает важный этап прогрессирующего развития школы и просвещения, демократизации системы народного образования, совершенствования методики обучения.
До настоящего времени сохраняют значение сформулированные им положения, относящиеся к методологии обоснования педагогики в качестве относительно самостоятельной отрасли научного знания, а также и к педагогической теории. То же самое можно сказать о его дидактической оценке индивидуальных различий детей школьного возраста.
Многое сделано В. П. Вахтеровым для выяснения своеобразия методов педагогических исследований. Неоспоримы его заслуги в разработке естественного эксперимента, который коренным образом отличался от широко распространенного в начале XX в. лабораторного эксперимента, оторванного от практических задач обучения и воспитания и чреватого ошибками педологического характера. Идеи естественного эксперимента, развивавшиеся В. П. Вахтеровым, обеспечивали объективность оценки различных организационных форм, средств, приемов обучения и при этом не нарушали естественного хода учебного процесса. Но претензии «эволюционной» педагогики на единственно правильное истолкование закономерностей педагогического процесса оказались несостоятельными. В. П. Вахтеров, как известно (об этом неоднократно говорилось в советской историко-педагогической литературе), ошибочно считал, что образование должно служить средством классового примирения и сотрудничества, что внесение политики в школу недоспустимо с педагогической точки зрения, не понимая при этом, что в классовом обществе все образование и
воспитание неизбежно является классовым, а сама возможность получения образования для рабочих и крестьян есть результат классовой борьбы трудящихся за свои социальные и политические права. Поэтому и развитие нередко трактовалось им односторонне, как биологическая категория.
Оценивая сегодня с позиций марксистско-ленинского учения педагогическое наследие В. П. Вахтерова, отмечая его заблуждения народнического толка, свойственные многим представителям демократической интеллигенции России конца XIX — начала XX в., мы воздаем должное его беззаветному служению делу народного просвещения, самоотверженной борьбе за демократизацию образования, вкладу в разработку теоретических проблем педагогики.
Предлагаемые вниманию читателя избранные сочинения В. П. Вахтерова составляют наиболее существенное из его наследия, представляющее несомненный интерес и для современной педагогики. При критическом отношении к методологическим аспектам его работ нельзя не восхищаться глубиной проникновения В. П. Вахтерова в диалектику педагогического процесса, филигранностью методики естественного эксперимента, беззаветной преданностью делу обучения и воспитания подрастающих поколений, которому посвятил всю свою жизнь В. П. Вахтеров.
С. Ф. Егоров
ВСЕОБЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Вопрос о всеобщем обучении в России поднимался много раз и в печати, и в общественных и ученых собраниях, несколько раз восходил до высших в империи законодательных учреждений, но и до сих пор не получил вполне удовлетворительного разрешения.
Еще Петр Великий указами 1715 и 1719 гг., желая достигнуть всеобщей грамотности, распространил обязанность посещать устроенные тогда цифирные школы на людей всех званий, кроме дворян, обязанных посещать другие учебные заведения.
После этого вплоть до освобождения крестьян вопрос о всеобщей грамотности хотя и возбуждался неоднократно, но не мог быть решен в положительном смысле уже по тому одному, что над народом тяготело крепостное право.
Реформа 19 февраля 1861 г. поставила этот вопрос на первую очередь.
Первую же в этот период попытку к его разрешению представлял закон 14 июня 1864 г.2. Хотя Положение это давно уже заменено другими узаконениями, но оно представляет значительный интерес ввиду огромного влияния, оказанного им на всю последующую историю начального образования в нашем отечестве. Кардинальные вопросы, какие предстояло разрешить упомянутому положению, были следующие: 1) объявить элементарное обучение обязательным для детей известного возраста и взыскивать с родителей за непосещение детьми школы или предоставить это произволу родителей; 2) требовать, чтобы каждая община — городская и сельская — непременно учредила у себя школу, или не требовать этого; 3) установить особый налог собственно для учреждения и содержания элементарных училищ или не устанавливать и 4) учреждать повсеместно школы от правительства независимо от тех школ, которые могут быть заведены обществами и частными лицами, или ограничиться небольшим числом казенных школ.
Все эти вопросы положениями 1864 г. были решены отрицательно*... Эта реформа повлекла за собой не только приостановку движения в пользу народного образования, но даже уменьшение числа училищ. Из представления Министерства народного просвещения в Государственный совет3 в 1864 г.* видно, что к тому времени существовало 30 тыс.** начальных училищ, открытых Министерствами народного просвещения и государственных иму-ществ, удельным ведомством, духовенством, помещиками и сельскими обществами при содействии Министерства внутренних дел, Ведомством императрицы Марии4 и пр. Большая часть этих школ вызвана была к жизни освободительным движением 1861 г. и, стало быть, явилась в течение двух лет, предшествующих изданию Положения, как об этом заявлено в самом министерском представлении. Из них сельских школ было не менее 28 — 29 тыс., поэтому и теперь число городских школ не превышает 2500. Это такое быстрое развитие школьного дела, подобно которому мы не знаем ни в одном из предшествующих и ни в одном из последующих периодов русской истории, хотя в то время еще не было ни земства, ни городского самоуправления, этих позднейших и крайне важных факторов в деле народной школы. Если бы школьное дело было оставлено даже на старых началах николаевского времени, дозволявших известным ведомствам под своей ответственностью и под своим контролем учреждать училища, и если бы оно развивалось в той же постепенности, как в первые два из 60-х гг., то мы давно бы имели уже те 70 тыс. школ, какие нам необходимы для того, чтобы обучение стало повсеместным. Но вот явилось Положение 1864 г., и ведомства, содержавшие прежде свои школы (духовное, удельное, Министерство государственных имуществ, сельские общества), при содействии Министерства внутренних дел стали закрывать их, вследствие чего к 1872 г. оставалось только 17 064*** сельские школы в губерниях, как земские, так неземские и остзейские. И это несмотря на то, что в упомянутый промежуток времени на помощь делу народного образования пришло земство, проявившее и в этой отрасли, как и во всех других, большую энергию и умение справляться с затруднениями. В 1874 г. таких школ в том же районе считалось 19 174****, в 1880 г. — 20 483***** и 1885 г. — 27 989. Мы не приводим здесь цифры учащихся, так как они свидетельствовали бы только о возросшей потребности сельского населения в грамотности, а не об отношении к школьному делу общественных учреждений и частных лиц. И чем быстрее увеличивался наплыв учащихся в школы, тем яснее представлялось, что существующее число школ далеко не удовлетворяет потребностям населения.
* СП мнп, т. П1.
** Цифра училищ не вызывала сомнений в министерстве. Не скрываем, однако, своего недоверия к цифрам учащихся. Поэтому мы думаем, что при определении приведеннойнами цифры было принято во внимание предостережение Сухомлинова, указывавшего в 1863 г. в журнале МНП на неточность официальной школьной статистики того времени.
*** Статистический временник. Серия III. Вып. 16. СПб., 1879.
**** Там же. Вып. 1. СПб., 1884.
***** Там же. Сельские училища.
Мы видим из вышеприведенных цифр, что число сельских школ, чрезвычайно быстро возникавших до издания Положения 1864 г., под действием этого закона уменьшилось более нежели на 10 тыс. и, медленно повышаясь в последующие годы, даже в ближайшее к нам десятилетие, все еще не достигло той цифры, на какой держалось до издания Положения.
Что же касается частной инициативы, то она под действием названного Положения развивалась так медленно, что, например, в 1880 г. частными лицами пожертвовано было на дело сельского начального образования всего только 319 тыс. рублей (6% общего бюджета), причем на средства частных лиц содержалось только 3% общего числа сельских училищ. Кажется, не может быть никакого сомнения в том, что цели, поставленные составителями проекта относительно пробуждения и развития частной и общественной инициативы, не только не были достигнуты, но полученные результаты прямо свидетельствовали о том, что Положение о начальных народных училищах задерживало развитие частного почина.
В 1876 г. в Министерстве народного просвещения снова возбуждается вопрос в всеобщем обучении, и министр гр. Толстой5 собирает заключения директоров и инспекторов народных училищ по этому вопросу. И на этот раз, как в 1864 г., вопрос не получил правильного решения... Министерство признало, будто возраст, в течение которого дети обязательно должны посещать нашу народную школу, начинается в 7 лет и оканчивается в 14 лет. При этом расчете получились такие огромные цифры потребных школ, учителей и средств на их содержание, что, по словам министерства, для осуществления всеобщего обучения «потребовалось бы такое напряжение экономических сил населения, какое было бы для него крайне отяготительным». Инспектора народных училищ, руководившиеся тем же расчетом, естественно, представляли в министерство огромные, запугивающие цифры и совершенно неисполнимые требования. Так, единовременный расход на устройство необходимых школ в 11 уездах Харьковской губернии был исчислен в 10 млн., в 3 губерниях Юго-Западного края — в 22 млн. Совершенно такого же мнения были в свое время и Корф6, и князь Васильчиков7, и педагог Бунаков8. Ту же ошибку повторил уже в 1884 г. наш Центральный статистический комитет, вычисливший колоссальные, устрашающие цифры школ и миллионов, якобы потребных на введение всеобщего обучения в России. По его расчету выходило, что число сельских школ, существующих в России, надо увеличить в 13 раз. Та же самая ошибка и теперь повторяется в брошюрах, рассылаемых из канцелярии г. обер-прокурора св. синода земским управам и училищным советам. Если искренние люди повторяли эту ошибку вследствие недоразумения, то недруги начальной школы пользовались ею, чтобы запугать страшными налогами тех, кто стоял за всеобщее обучение.
Что запугиваниями пользовались и с такими недобрыми целями, об этом свидетельствовал еще князь Васильчиков. Расчет, о котором идет речь, с внешней стороны казался достаточно убедительным. Начать с того, что он взят был из Западной Европы, где он подтверждался всеми статистическими данными, и если вызывал иногда возражения, то лишь в пользу увеличения, а не уменьшения школьного возраста. Наши статистические работы тоже, по-видимому, подтверждали этот общепринятый расчет. По крайней мере, Центральный статистический комитет утверждает, что «учебный возраст принят от 7 до 14 лет включительно, так как, по данным обследования, огромное большинство учащихся посещает сельские школы именно в эти годы». Данные обследования не подлежат, разумеется, ни малейшему сомнению; но теперь нам кажется странным, почему тогда никому не приходили в голову следующие простые соображения. В Западной Европе курс народной школы продолжается 6, 7 и более лет, у нас же курс начального училища длится всего 3 года, а церковноприходской — только 2 года. Там ребенок поступает в школу 6 лет и обязательно посещает ее, по крайней мере, до 14-летнего возраста, а у нас, пройдя в три года весь школьный курс, он найдет, что ему нечего более делать в школе.
Данные обследования, на которые ссылается Центральный статистический комитет, показывают только то, что дети поступают в наши школы в различном возрасте: одни 7 — 8 лет и остаются в ней до 11, а другие 11 лет и остаются до 14; но эти данные совсем не указывают на то, что будто бы каждый ребенок поступает в школу 7 лет и остается в ней до 14. Это так ясно кажется теперь, но не так думали об этом лет восемь назад. Я помню, как долго я колебался отрешиться от общепринятого у нас расчета, когда в половине 80-х гг. собранные мною данные о количестве учащихся в Смоленской губернии опровергали установившийся взгляд на способы вычислений. Впрочем, даже теперь еще не мешает разоблачить эту ошибку. У всех в памяти расчет г. Страннолюбского9, принявшего пятилетний обязательный период обучения для мальчиков и вычислившего, что для России надо 250 тыс. школ и 125 млн. ежегодного содержания.
Попробуем теперь сделать, разумеется, только приблизительный расчет, во что обойдется повсеместное распространение грамотности в России. В принципе мы стояли бы за всеобщее даровое и притом обязательное первоначальное обучение. Это право ребенка, имеющее уже некоторые основания и в нашем законодательстве (ст. 172 и 173 т. X), совпадающее с правом государства и с обязанностью родителей воспитывать своих детей. Все остальные цивилизованные страны давно уже пришли к обязательности обучения. Между тем там дело обучения проще, менее велико и менее важно, нежели у нас, уже по тому одному, что народная масса там развитее, нежели наша. Еще Владимир Святой, Ярослав Мудрый и смоленский князь Роман10 делали попытки ввести обязательное обучение. Еще Стоглав11 утвердил обязательность обучения соборным определением, еще знамени-
тый Посошков12 доказывал его необходимость, Устав 1804 г.13 также пытался сделать грамотность всеобщей, позже целый ряд земств, волостных сходов, ученых обществ, органов печати настаивали на неотложности для нас этой меры. Во многих местностях и теперь уже практикуется у нас обязательность обучения. Те, кто защищает существующую в центральной России систему во имя якобы свободы, отстаивают не свободу обучения, почти везде идущую рядом с обязательностью, а свободу невежества, только свободу родителей оставлять безграмотными своих детей. Известны случаи, когда отцы под давлением предрассудков наказывают детей за то, что они посещают школу.
Так как величие, благосостояние, промышленность, финансы, мирное культурное развитие страны, правильный ход всех ее общественных учреждений зависят, прежде всего, от количества знаний в народе, то обучение должно быть так же обязательным, как обязательно отбывание воинской повинности и уплата государственных налогов.
Защищая право ребенка на обучение, закон об обязательности грамоты могущественно содействовал бы не только количественному, но и качественному развитию образования. Попробуйте представить теперь те затруднения, с какими почти везде приходится считаться сельскому учителю вследствие разновременного поступления в школу. Для примера я беру данные о Хреновско-Высельском училище из статистического сборника по Воронежскому уезду. В училище три отделения, но каждое из них, как и везде в сельских школах, подразделяется еще на несколько групп, образующихся благодаря только разновременному поступлению в школу. Например, младшая группа образовалась таким образом: несколько учениц пришли 24 сентября и образовали 1-ю группу.
11 октября пришли три ученика, составившие 2-ю группу, таким же образом образовалась третья группа из учеников, поступивших
12 и 13 октября, затем 15 октября, затем 1 ноября, потом 15 ноября, затем 17, и так вплоть до 1 декабря, когда одно младшее отделение образовало 13 групп. Предположите, что среднее и старшее отделения не делятся на группы, что маловероятно, и даже тогда учитель вынужден будет заниматься один с 15 отделениями, то и дело переходя от одного к другому. Попробуйте вычислить, сколько часов и дней в году каждая группа будет находиться под непосредственным воздействием учителя, и вы изумитесь, как возможно, чтобы при таких условиях достигались какие-нибудь положительные результаты в наших сельских школах. На каждое отделение в течение целого года придется не более 10 учебных дней непосредственных занятий с учителем и только по 2 по 3 дня на каждый предмет преподавания. Понятно, что закон об обязательном обучении значительно содействовал бы одновременному поступлению детей в школу, но при решении вопроса об обязательности обучения необходимо принять в соображение отношение населения к школе. Если бы потребность в грамотности не была еще осознана народом, то закон об обязательности обучения встретил бы оппозицию в самом населении, как это мы видели уже на указах 1715 и 1719 гг. Такая мера может увенчаться полным успехом в том только случае, если большинство населения само доросло до сознания необходимости в обучении. Это условие, наверное, имеет место почти во всей Европейской России относительно обучения мальчиков. Целый ряд фактов свидетельствует о повсеместном развитии стремления к образованию. Не говоря уже о городах, где массы детей, желающих учиться, ежегодно остаются за порогом школы (в Москве в одних думских школах14 число отказов в приеме превышает 2 тыс. в год), мы встречаемся с такими явлениями почти повсюду и в сельских училищах. В Московской губернии отказы в приеме детей встречаются во всех уездах, одинаково в наиболее передовых в деле народного образования и в тех, где число школ не особенно значительно. В Московском уезде, где один учащийся приходится только на 21 жителя, число отказов в 1891/92 учебном году зарегистрировано губернской земской управой в 29 школах и простирается до 177; в Волоколамском уезде, где один учащийся приходится на 28 жителей, в 8 школах отказано было в приеме 84 детям. В Сарапульском уезде, несмотря на то, что там существует 114 школ, по словам отчета об училищах за 1888 г., сотням желающих приходится отказывать за недостатком места, а крестьяне разных деревень то и дело обращаются с ходатайством об открытии новых училищ. В 60 сельских школах Острогожского уезда, судя по земским статистическим исследованиям, 368 детям в 1884/85 учебном году было отказано в приеме по недостатку места; всего же отказов было 532. Сюда же относится факт переполнения школ учащимися: на одну сельскую школу при одном учителе в большинстве случаев средним числом приходится 56 учащихся. И притом число учащихся в России растет гораздо быстрее, чем число школ. Так, с 1874 по 1880 г. число сельских школ в земских губерниях уменьшилось на 3,7%, а число учащихся в них увеличилось на 17%, в следующее пятилетие число сельских школ в этих губерниях увеличилось на 45%, а число учащихся — на 58%. Но если нельзя сомневаться в том, что обязательность обучения для мальчиков не встретит противодействия со стороны большинства населения, то далеко нельзя утверждать того же относительно девочек. Количество учениц в сельских школах ничтожно. Средним числом на сельскую школу приходится только 12 девочек, что в З’/г раза меньше числа учащихся-мальчиков. Правда, это отношение с каждым годом делается благоприятнее. Так, в 1880 г. в земских губерниях число учеников превосходило число учениц в 4,9 раза, а в 1885 г. — только в 4,1. Мы вполне разделяем очень распространенное мнение, что обучить девочку, будущую мать семейства, — значит сделать грамотным все ее потомство. Известно также, что окончившие школьный курс девочки лучше пользуются грамотностью, чем мальчики. Но тем не менее до тех пор, пока стремление большинства женского населения к начальному образованию не станет таким же очевидным фактом, объявление обязательного обучения для девочек вызвало бы ропот среди народа. Совсем другое представляет собой городское население, где одна учащаяся девочка в 1885 г. приходилась только на 1,8 ученика. На основании вышеизложенных соображений мы попробуем сделать расчет относительно числа новых училищ, учителей и средств содержания при введении в Европейской России повсеместного обязательного обучения для всех мальчиков школьного возраста, живущих как в городах, так и в уездах, и для всех девочек, живущих в городах, причем примем в расчет и вероятное число сельских девочек, которые добровольно поступят в школу.
По новейшим, данным Центрального статистического комитета за 1890 г., жителей в 50 губерниях Европейской России находится 42 499 324 муж. пола и 42 895 885 жен. пола, из коих в городах было 5 281 507 муж. пола и 4 749 113 жен. пола. Последних двух цифр нет в «Статистическом временнике» за 1886 г., но мы нашли их, взяв цифры 1885 г. и прибавив к ним годичный прирост населения. Так как наша народная школа имеет трехлетний курс (церковноприходская даже двухлетний), то при предполагаемой нами реформе до тех пор, пока не будут расширены курс и программа народной школы, может идти речь только о том, чтобы обязать каждую девочку, живущую в городе, и каждого мальчика, где бы он ни жил, по достижении известного возраста учиться в школе в течение трех лет. И обычаем, и нашим законодательством возраст для поступления в школу определен 8-летний, хотя встречаются губернии, где он повышен до 9 лет (в Московской). Поступая в школу 8 лет, ученик при обязательности обучения пробудет там до 11 лет. По новейшим таблицам Г. Борткевича15, изданным Академией наук в 1890 и 1891 гг., легко вычислить, что дети школьного возраста будут составлять 6,7% общего числа жителей данного пола. Для детей, поступающих в школу позже, например 9 лет, и выходящих из нее 11, этот процент был бы меньше (для мальчиков — 6,5% и столько же для девочек)*.
Кроме теоретических соображений правильность нашего расчета подтверждают и данные подворной переписи. Возьмем, например, Московский уезд, где в 1891/2 учебном году обучалось 4,6% всего населения обоего пола. Этого оказалось достаточно, чтобы грамотные мальчики составляли 90%, девочки — 45% и дети обоего пола — 70% школьного возраста. Попробуйте составить пропорцию из этих данных, добытых подворным обследованием
* Если бы процент этот вычислить по Буняковскому, то он был бы на несколько десятых долей больше, но таблицы Буняковского признаются слишком устаревшими, и потому мы предпочли таблицы г. Борткевича, пользовавшегося данными 1884 г. По Буняковскому, дети в возрасте от 9 до 12 лет составили бы 6,9% всего населения, в возрасте от 8 до 11 лет — 7,2%, а от 10 до 13 лет — 6,8%.
уезда, и вы найдете, что для всеобщей грамотности необходимо, чтобы учащиеся составляли 6,6% всего населения, как раз столько, сколько вычислено нами в среднем выводе на основании вышеизложенных общих соображений. Мы делали проверку своих расчетов еще посредством сопоставления числа учащихся в селах Европейской России с числом грамотных новобранцев через 9-летний период времени, и точно так же мы констатировали совпадение наших теоретических вычислений с данными официальной статистики. Останавливаясь на первой из найденных нами цифр (6,7%) * как на наибольшей, найдем, что мальчиков школьного возраста в Европейской России в 1886 г. было 2 847 450, из которых в городах — 354 270 и в селах — 2 493 180 человек. Чтобы вычислить число живущих в городах девочек школьного возраста, мы берем цифру городского населения 4 749 ИЗ жен. пола, откуда число девочек школьного возраста по пропорции 6,7:100 получится 318 190. Из этого числа мальчиков школьного возраста и городских девочек в 1886 F., по данным Центрального статистического комитета, обучалось 1 570 150 мальчиков, из которых в городах — 215 132 человек, а девочек — 118 110 в городах и 337 087 в селах. Чтобы, определить вероятное число желающих учиться девочек сельского населения, мы воспользуемся таким расчетом. В 47 губерниях Европейской России, где пришлось бы вводить обязательность обучения (в 3 остзейских губерниях17 она уже существует), на одну сельскую школу средним числом в 1885 г. приходилось 11 девочек. Допустим, что эта средняя величина останется верной и для всех новых училищ, какие пришлось бы открыть для мальчиков. При таком предположении нам придется отнять от нормального среднего числа учащихся в каждой школе 11 девочек и оперировать с остатком при вычислении цифры для мальчиков. Чтобы не придумывать нормы, а взять их из жизни, найдем среднее число учащихся на одну школу. Оно было в 1885 г. 56 для сельских школ и 57 для городских. Отводя средним числом в каждой сельской школе И мест для девочек, найдем, что одна такая школа будет вмещать средним числом 45 мальчиков, а городская — 57 учащихся без различия пола. Сопоставляя вышенайденные числа, найдем, что за порогом школы оставалось в городах 139 тыс. мальчиков и 200 тыс. девочек, а в селах — 1138 тыс. мальчиков. Для этого числа детей, а также для желающих обучаться сельских девочек пришлось бы устроить новых школ 25 тыс. в селах и 6 тыс. в городах. Так как содержание одного существующего в настоящее время начального училища обходится в 332 руб., то на содержание всех новых школ понадобилось бы только 11 млн. Рассмотрим, как отразился бы этот лишний расход на платежных силах населения и как он мог
* При отсутствии личной обязательности, но при всеобщем обучении, т. е. при совместном устройстве школ, процент этот будет значительно ниже, во-первых, потому, что многие дети поступят в школы старше 8 лет, а во-вторых, потому, что все мальчики школьного возраста пожелают учиться.
бы распределиться между участниками в содержании училищ. Пользуясь «Статистическим временником», найдем, что в 80-х гг. наши расходы — государственные, земские, городские, мирские — были выше 1070 млн. в год. По отношению к этой громадной сумме цифра в 10 млн. рублей составляет менее 1%. Если принять в расчет, что одни государственные расходы с 1863 по 1885 г. поднялись с 348 млн. до 866 млн., возвышаясь ежегодно почти на 24 млн. средним числом, то станет понятно, что при распределении цифры нового школьного налога последний никак не может вызвать сколько-нибудь заметного напряжения платежной способности населения. Странно, что о напряжении платежной способности населения слышатся голоса именно тогда, когда речь идет о всеобщем обучении, и умолкают, когда говорится об асфальтовых тротуарах, о постановке балета и тысяче других подобных нужд.
Можно подумать, что плательщик, молча отдавая рубль налога, непременно начнет жаловаться на прибавку какой-то части копейки, когда узнает, что она пойдет на обучение его детей.
При распределении нового обложения между участниками в содержании училищ естественно ожидать, что содержание всех новых городских школ ляжет на городские расходы. Это потому, во-первых, что города гораздо богаче и их доходы больше сравнительно с остальным населением. При количестве жителей менее 10 млн. бюджет городов Европейской России на несколько миллионов превышает земский. Кроме того, города расходуют на учебную часть менее, нежели земства, и абсолютно, и относительно. В то время как земства дают на содержание школ 16,6% своего бюджета, средний расход городов на этот предмет составляет только 7,7% бюджета. Тогда как земство в 80-х гг. расходовало на учебную часть около 7 млн., города давали на школы только 3 млн. Наконец, городскими школами только в редких случаях пользуется сельское население.
С отнесением бюджета новых городских школ на обязанность городов все новые назначения от государственного казначейства, земства и сельских обществ, всего в размере 8 400 тыс.*, пошли бы исключительно на сельские школы. Можно привести много веских оснований к тому, чтобы казна взяла на себя большую часдъ расходов по начальному образованию; но гораздо практичнее, вопрос выделить о всеобщем обучении от всех остальных, не имеющих с ним непосредственной связи. Чтобы мысль о всеобщем обучении нашла возможно больше деятельных сторонников, не следует связывать этого вопроса ни с реформой в распределении источников содержания, ни с преобразованиями выработанного самой жизнью типа начальной школы, ни даже с реформами по заведованию училищами. В противном случае простая и бесспорная мысль о необходимости всеобщей грамотности встретит очень
* Цифра эта взята выше, чем позволяли бы статистические данные, потому что мы приняли, как сейчас увидим, стоимость содержания сельской школы больше, чем она стоит по данным статистики.
много врагов только по тому одному, что они не разделяют наших воззрений на нормальный тип школы, на порядок заведования училищами и пр. По этим соображениям мы везде в наших расчетах брали только нормы, выработанные самой жизнью. Мы отступили от этого требования только один раз, при определении, во что обойдется средним числом содержание одной сельской школы. Мы приняли его в 332 руб.* — несколько больше действительного, потому что едва ли кто-нибудь станет утверждать, будто большинство наших сельских школ в материальном отношении поставлено вполне удовлетворительно. Как могла бы распределиться эта сумма по источникам содержания и по предметам расхода, на этот вопрос дают указания результаты однодневного обследования сельских школ в 1880 г. и другие данные официальной статистики**. Из 332 руб., судя по этим данным, пойдет 245 руб. на жалованье преподавателям, 53 руб. на наем и содержание помещения и 34 руб. на учебные пособия, награды учителям и пр. Весь добавочный расход на содержание новых школ в 6100 тыс., причитающийся на земские губернии, если держаться существующих норм, должен быть распределен между казною, земством и сельскими обществами по пропорции 10:60:30, а в 12 неземских губерниях и в Области Войска Донского18 остальная сумма, около 2300 тыс. рублей, между казной и сельскими обществами по пропорции 28:59. Новые ассигнования на этот предмет со стороны земства, около 3660 тыс., составили бы немного более 5% сметы земских доходов последних лет; новая ассигновка от казны в 1340 тыс. составила бы такую ничтожную долю обыкновенных государственных доходов за 1890 г., что ее пришлось бы выразить в одной десятой и нескольких сотых процента; наконец, новые ассигнования из мирских сборов, считая все земские и неземские губернии и даже Область Войска Донского, всего около 3400 тыс., составили бы 10,9% всех сборов, бывших еще 12 лет тому назад, в 1881 г., не считая сумм Войска Донского. Исчисленный нами новый расход из земских сумм составил бы менее 5 коп. на 1 жителя 34 земских губерний, новые мирские расходы составили бы менее 3 коп. на 1 десятину мирской земли***, а новый расход казны представлял бы 1,3 коп. в год на одного человека. Вот во что обращаются при внимательном рассмотрении устрашающие сотни миллионов, будто бы потребных на всеобщее обучение в России. Притом же все наши расчеты скорее преувеличены, чем уменьшены. Вероятное количество
* Цифра, взятая нами, представляет приблизительную среднюю для всех школ — и городских, стоящих дороже, и сельских, более дешевых. Цифра же, исчисленная в 1884 г. Центральным статистическим комитетом на основании однодневной переписи 1880 г., значительно ниже (271 руб. на одну школу средним числом).
** По этим данным, 74% всего расхода идет на жалованье, 16% — на наем и содержание училищных помещений, 6% — на учебные пособия и 4% — на награды служащим, пособия учащимся и пр.
*** Количество мирской земли взято из «Статистического временника» за 1881 г.
девочек, желающих учиться, взято больше, нежели их будет в первое время по открытии училищ. Стоимость содержания взята больше того, во что обходится оно теперь. Курс учения принят везде трехлетний, тогда как в церковноприходских школах он продолжается только два года. Остается только одно условие, влияющее на уменьшение нашего расчета: мы не определили за недостатком данных вероятного числа мальчиков, которые, не выдержав экзамена через три года, пожелают учиться 4-й год. В Новгородской губернии мальчики, окончившие курс земского училища, средним числом обучались 3,3 года. Мы не приняли также в расчет ежегодный прирост населения и ежегодный прилив девочек, желающих учиться. Эти два последних фактора, по нашим вычислениям, потребуют ежегодного учреждения по одному училищу на каждые 40 существующих до тех пор, пока — лет через 19 — 20 — не настанет время объявить обязательным и обучение девочек.
Но зато во всех своих расчетах мы не понижали образовательного уровня нормальной народной школы, мы не предполагали замены ее типом более дешевым, но зато менее удовлетворительным. Если бы мы, погнавшись за дешевизной, сделали наш расчет по стоимости филиальных школ или школ грамотности, то сумма, взятая нами, уменьшилась бы в несколько раз. Во второй половине 80-х гг. мне пришлось совместно с земством устраивать параллельные отделения в четырех уездах Смоленской губернии, и обучение одного мальчика там обходилось земству всего только 1 руб. 4 коп. в год, а одной школы — в 37 руб. 50 коп. средним числом. Если допустить, что и в других местностях обучение в филиальных отделениях стоило так же дешево, то все новые расходы земства при осуществлении всеобщего обучения в России составили бы от 1 до 1,5 млн. на всю Россию, т. е. немногим более 1% земской сметы и значительно менее 1/1000 государственного бюджета. Это было бы что-то баснословно дешевое. Но я боюсь, что такая дешевизна может служить большим соблазном к замене нормального, созданного усилиями лучших наших педагогов и земских деятелей типа народной школы другим типом, баснословно дешевым, но зато очень сомнительным в качественном отношении.
Пусть школа грамотности играет роль переходной формы там, где еще не настало время открыть начальное училище; может быть, она незаменима на первых порах в немногих губерниях с особенно редким и раскиданным мелкими поселками на громадные пространства населением; но отсюда крайне далеко до того, чтобы идеализировать эту форму обучения, как делают некоторые. Курс обучения, ограниченный одним, двумя годами, программа, не идущая далее навыков, учитель, взятый из учеников сельской школы и сам не имеющий элементарнейших сведений из истории и географии родины, не говоря уже о естествоведении и гигиене, — это слишком мало для народа, не лишенного от природы способностей.
В наших расчетах мы не касались вопроса, во что обойдется обучение самому населению, которое нередко смотрит на ребенка как на рабочую силу. Но это соображение не имеет большого значения, так как учебное время не совпадает с летними сельскими работами. Гораздо больше значения имеет стоимость обуви и платья для школьников; но и это соображение имеет большую силу только до тех пор, пока школ мало, и потому они удалены от большинства населения на значительные расстояния. Доказательством может служить тот факт, констатированный, между прочим, и мною на основании данных повторного обследования Вяземского и Юхневского уездов, что из селений, где находится порядочная школа, учатся почти все мальчики школьного возраста. Подобный же результат дали исследования, сделанные в этом направлении в губерниях Московской, Тверской и Воронежской. Смысл этого факта заключается в том, что почти все экономические затруднения для семьи ученика сводятся к расстоянию от школы и отпадают, когда семья ученика живет вблизи училища.
Другим, . может быть, более веским возражением против всеобщего обучения в России служит указание на редкое население страны, на огромные малонаселенные ее пространства. Но факты доказывают, что стоимость обучения находится не в такой уж тесной связи с редкостью населения, как полагал, например, министр народного просвещения Головин в 1884 г. Франция вдесятеро гуще населена, чем Швеция, а между тем на первоначальное образование там тратится больше (1 руб. 17 коп. на одного жителя), чем в Швеции (1 руб. 10 коп.), а обучается меньше (14,7% населения), нежели в Швеции (15,1%). Обучение одного ученика в такой редко населенной губернии, как Олонецкая, стоило в 1880 г. около 10 руб., а в таком густо населенном уезде, как Московский, 14 руб. Густота населения в Норвегии почти втрое меньше, чем в Европейской России, и, однако же, это не помешало ей создать такую сеть училищ, что в них обучается 13% всего населения, т. е. вшестеро больше, чем в России. Малонаселенность Аляски и даже кочевой быт ее обитателей не помешали американцам и там распространить образование. При исчисленном нами выше количестве училищ пришлось бы считаться с редкостью населения в 8 губерниях, где приходится менее 11,5 жителей на квадратную версту и где, очевидно, должна существовать особая организация дела начального образования, приноровленная к громадным расстояниям между селениями. В некоторых из этих губерний пришлось бы устраивать филиальные отделения с передвижными нормальными школами, как, например, Астраханская, Оренбургская и Область Войска Донского, где одна школа пришлась бы только на 2 селения. В других губерниях, как, например, Архангельская, Вологодская и Олонецкая, где одна школа приходилась бы на 11 — 14 селений, может быть, была бы более применима система общежитий. В губернии Пермской при 5,5 селения на школу годилась бы смешанная система. Что же касается остальной Европейской России, то
здесь одна школа средним числом придется на 7 селений, расположенных на площади радиусом в 3,3 версты. Судя по статистическим данным, такой район нельзя признать особенно неудобным. В большинстве уездов, обследованных в этом отношении, наиболее быстрое падение учащихся наблюдается только дальше трехверстного расстояния от школы. Так, например, в Бежецком уезде из числа мальчиков, живущих в селе, где находится школа, учились 68%; за 3 версты — 42%, за 4 версты — 30%, а все остальные селения дали только 15% мальчиков школьного возраста*. В Московской губернии из детей, живущих в 1-верстном районе, приходится один учащийся на 3 двора, в
2- верстном* — на 4,8 двора, в 3-верстном — на 6,1 двора, а на все остальные расстояния один учащийся приходится на 11,7 двора. Если принять в расчет, что с открытием новых училищ этот средний район с каждым годом будет уменьшаться, мы должны будем признать, что Европейская Россия со стороны густоты населения представляет легко одолимые затруднения при введении всеобщего обучения. Придется, может быть, при некоторых школах озаботиться снабжением беднейших учеников теплым платьем, обувью, завтраком и организацией очередных подвод для доставления детей в школу из более отдаленных деревень. Встречающиеся местами в Европейской России своеобразные условия расселения также не представляют особенных затруднений. Всего более неудобств в этом отношении, казалось бы, представлял Дерптский учебный округ19, где собственно деревень почти совсем нет, а население живет в отдельно стоящих дворах, и, однако же, в этом округе давно уже существует всеобщее и обязательное обучение. Гораздо более трудностей представят наши азиатские владения с их необъятными пространствами. Но и здесь при ближайшем ознакомлении с местными условиями дело представляется совсем не таким страшным, как изображает его, например, г. Страннолюбский. Особенность этих владений заключается в том, что здесь во многих губерниях и областях число населенных мест сравнительно невелико. Мы видели уже, что в Вологодской и Олонецкой губерниях одна школа пришлась бы на 14 селений. Совсем не то в Азиатской России. В Акмолинской, Закаспийской, Семипалатинской и Семиреченской областях, по данным Центрального статистического комитета**, число населенных мест гораздо меньше, чем пришлось бы учредить училищ. Здесь нет никакой надобности ни в общежитии, ни в филиальных отделениях. В Томской губернии I школа пришлась бы только на 2 селения, в Енисейской, Приморской и Амурской областях — на 3—4 селения, и только в Иркутской губернии одна школа пришлась бы на 6 селений. Все эти расчеты сделаны в предположении, что обучение будет обязательно только для мальчиков.
* Школьный возраст в этих исследованиях принят больше, нежели определяем мы его.
** Сборник сведений о России. 1890.
При условии обязательности для обоих полов получатся выводы гораздо более благоприятные, если не принимать в расчет кочевое население, для которого у нас еще не создан соответствующий тип школы. К сожалению, относительно условий расселения в остальных 8 губерниях и областях наша официальная статистика не дает достаточных сведений. Если и здесь число населенных пунктов не особенно велико, то по числу населения по всей Сибири и среднеазиатским владениям потребовалось бы прибавить к существующим 2,5 тыс. русских и инородческих школ еще только 4,5 тыс., если держаться норм, принятых нами для Европейской России. В былое время не без основания указывали, что для всеобщего обучения не хватит сколько-нибудь подготовленных учителей. Теперь это возражение потеряло всякое значение. По официальным данным, в наших учительских семинариях обучается более 5,5 тыс., в женских гимназиях Министерства народного просвещения, не считая, однако, прогимназий, — более 38 тыс., в женских гимназиях ведомства императрицы Марии — более 10 тыс. Если бы сосчитать учащихся во всех средних и специально-педагогических учебных заведениях, доставляющих преподавателей для начальных училищ, то в итоге получилось бы около 200 тыс. учащихся. Если из них самый незначительный процент изберет профессию начального учителя, то и тогда мы будем иметь вполне достаточный контингент преподавательских сил.
Довольно распространено в нашем обществе мнение, будто обязательное обучение ограничивает свободу как частных лиц, так и общественных учреждений. Казалось бы, что примеры таких классических стран свободы, как Англия и Америка, должны были убедить, что закон, защищающий право ребенка на образование, даже тогда, когда родители по невежеству или нерадивости не хотят позаботиться об его обучении, не имеет ничего общего с мерами, ограничивающими свободу личности. Еще менее можно утверждать это по отношению к общественным учреждениям. Закон, определяя [количество] затрат на народное образование, не может отнять у общественных учреждений права выбирать тот или другой тип школы. Совершенно напротив, проведение такого закона неизбежно должно будет вызвать даже некоторое расширение компетенции и участия общественных учреждений в заведовании школьным делом. Мы уже видели, что закон Петра Великого не имел успеха только потому, что не опирался на деятельное сочувствие общества. А вызвать содействие общественных учреждений будет нельзя, не заинтересовав их предоставлением им,известных прав по заведованию училищами. Мало этого, при проведении реформы потребуется так много работы, что одна администрация, как бы она ни была многочисленна, ни в каком случае не в состоянии будет справиться с таким живым и сложным делом. Кроме существующих общественных учреждений, ведающих делом народного образования, станут неизбежны мелкие при каждой школе общественные органы, составленные из представителей земства и сельских обществ вместе с преподавателями, вроде школьных попечительств, существующих за границей и у нас в Кубанской области, как сообщает г. Селиванов20. На их обязанности будет лежать, между прочим, регистрация детей школьного возраста, организация очередных подвод для доставления детей из отдаленных селений, снабжение бедных обувью, платьем, завтраками и забота об удовлетворении всех остальных нужд каждой школы.
Рассмотрев почти все возражения против обязательности обучения, мы приходим к выводу, что в настоящее время не встречается никаких непреодолимых затруднений к практическому осуществлению такой реформы. Если же ее введение и потребовало бы значительных жертв, то надо помнить, что нам в этом деле надо быть, по удачному выражению Поля Вера21, особенно скупыми на время и щедрыми на деньги. Всем известно, что наше сельское население во много раз безграмотнее сельского населения западных стран, что число учащихся у нас всемеро, ввосьмеро и вдесятеро меньше, нежели там, и втрое меньше, нежели в Японии. В самом деле, процент безграмотных новобранцев в разных странах представляется в следующих цифрах: в Дании — 0,36%, Пруссии — 0,84%, Баварии — 0,13%, Швеции — 0,27% и в России — 70,74%, а процент учащихся к населению в Северо-Американских Штатах — 22,5%, Германии — 18,4%,
Англии — 16%, Швеции — 15,1%, Японии — более 7%, России — 2,39% (Кауфман)22.
Но важно даже не это. Народ, поздно вышедший на культурное поприще и потому отставший, еще может догнать более счастливых соперников при энергических усилиях со своей стороны. Гораздо печальнее то, что мы благодаря предрассудкам, тяготеющим над данным вопросом, идя по ошибочно избранной нами дороге, с каждым годом все более и более отставали от наших западных соседей. Например, в 1870 г. французский бюджет на народные школы достигал 24 млн. франков, а теперь он равняется громадной для нас цифре — 175 млн. франков. Если с таким быстрым ростом затрат на народную школу в Западной Европе сопоставить медленный рост нашего бюджета, и теперь не достигающего 15 млн., считая здесь расходы казны земств, городов, сельских обществ, войсковые и сословные, а также пожертвования частных лиц и обществ, то не останется никакого сомнения в том, что с каждым годом пропасть между культурой того и другого народа увеличивалась в значительной прогрессии. Тем энергичнее должны быть усилия в наше время, чтоб эта пропасть не росла, а замыкалась. По справедливому выражению Жюля Симона23, «народ, у которого лучшие школы, — первый народ, если он не таков теперь, то он станет им завтра».
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
I
Гласный суд не в первый уже раз раскрывает перед русским обществом застарелые и опасные язвы, будит общественную совесть, заставляет подумать об оздоровлении общественного организма. Так было и с делом учительницы Тамбовской воскресной школы г-жи Слетовой...1 Слухи о побоях, практикуемых тамбовскими учителями в качестве исправительных мер, проникли в печать еще в начале 90-х гг. Так, например, в дневнике учительницы воскресной школы, помещенном в «Русской школе» за 1894 г., рассказывалось о детях, приходивших в воскресную школу с вопросом: «А бьют здесь?» Когда затем убеждались, что в воскресной школе никаких телесных наказаний не употребляется, они говорили: «Вот добрая учительница: позволяет оборачиваться и подзатыльников не дает». В дневнике этом шла речь о Тамбовской воскресной школе, а дети, заинтересованные вопросом битья, были учениками других тамбовских начальных училищ. Но автор дневника не был известен, город Тамбов был скрыт под инициалами, и сообщение никаких последствий не имело, хотя в Тамбове было хорошо известно, о какой местности идет речь в дневнике, и все те, от кого зависело принять меры к оздоровлению отношений между учащимися, имели уже в 1894 г. вполне достаточный повод озаботиться устранением телесных наказаний в тамбовских начальных школах. Никаких мероприятий по этому поводу предпринято не было, и г-жа Слетова в 1896 г. имела полное основание написать в своем отчете, представленном на Всероссийскую выставку в Нижнем Новгороде, что некоторые учителя городских школ дерутся...
Тамбовские учителя были виртуозами в изобретательности по части наказанйй. «За пустую провинность, за незнание урока, рассеянность, извинительную детскую шалость, — говорил на суде защитник г-жи Слетовой, — ученики подвергались строгим и даже жестоким наказаниям: дранье за уши, за волосы сменилось ударами по голове и лицу журналом, линейками, доской, пинками и подзатыльниками». На суде выяснилось, что инспектор народных училищ г. Бойков, когда до него дошли слухи об истязаниях учащихся, не счел возможным расследовать дело будто бы по той
причине, что «признается нетактичным и непедагогичным собирать от учеников обвинения на своих учителей». Но даже изумительная тактичность г. Бойкова не помешала ему обратиться, когда начато было дело, к содействию полиции, выразившемуся в том, что потерпевшие ученики и их родные на предварительном следствии уклонялись от показаний против учителей, явившихся обвинителями г-жи Слетовой.
...Причины явления,, те факторы, которые делают возможной такую дикую расправу учителей с детьми, средства к устранению самой возможности подобных печальных явлений — вот вопрос, на котором мы желали бы остановиться. В печати уже указывались ближайшие причины явления, раскрытого тамбовским процессом. «Русские ведомости» вполне справедливо видели эти причины во все более и более распространяющемся за последнее время в педагогической практике направлении, идущем наперекор лучшим заветам педагогической теории, выработанной 30 — 40 лет тому назад. Говорили, что под влиянием этого направления прежде всего принизилась личность учителя. Школьного наставника, в котором еще не так давно видели ответственного и самостоятельного руководителя и которому ввиду этого стремились дать возможно лучшее не только специально-педагогическое, но и общее образование, теперь сводят на положение механической силы, действующей по указке начальства. Параллельно с этим идет и понижение общеобразовательного уровня учителей. Из человека, развитого в умственном и нравственном отношении, понимающего общественное значение своей роли и любящего свое дело, вырабатывают узкого специалиста — ремесленника, не могущего возвыситься до широкого понимания своей задачи. Общеобразовательные предметы в программах учительских семинарий сокращены до крайнего минимума, учительские съезды отошли в область преданий, устройство педагогических курсов обставляется условиями,* которые лишают их нередко всякой возможности сколько-нибудь значительно содействовать подъему образовательного уровйя учительского персонала; учительские библиотеки наполняются книгами, большей частью прочитанными учителями еще на школьной скамье; возможности ко взаимному общению учителей почти не существует; их руководителями являются зачастую совершенно невежественные люди, чуждые интересам народного образования. Если мы присоединим к высказанному в газете еще и излишнюю регламентацию в виде программ и инструкций, предусматривающих каждый шаг учителя, превращенного таким образом в механического исполнителя требований начальства; если мы припомним, какую роль играют в наше время экзамены, где на первом месте стоят диктовка и чистописание, развитие учеников в лучшем случае отодвигается на второй план, а иногда даже преследуется как вредное уклонение от прямой задачи начальной школы; если мы представим себе психологию начального учителя, обязанного ввиду предстоящих экзаменов и ревизии грозного начальства усиленно культивировать память и механические навыки учащихся и почти совершенно освобожденного от забот об умственном и нравственном развитии учеников, — то придется удивляться не тому, что тамбовская история стала возможной, а тому, что она все же представляет исключительное явление, что существует огромное число учителей, поддерживающих с учениками семейные, добрые, основанные на взаимном доверии отношения, без тени чего-либо давящего, устрашающего, учителей, ставящих во главу угла не дрессировку учащихся ради требований экзаменов и ревизоров, а умственное и нравственное развитие детей, возбуждение в них самодеятельности и интереса к знанию, подготовку их к самообразованию. Однако указанные нами причины, влияя ближайшим образом на деятельность народного учителя, сами в свою очередь обусловливаются более глубокими и более общими причинами. Спустя 40 лет после освобождения крестьян, в начале XX в., у нас еще существует на крестьянина взгляд, оправдывающий унизительнейшее из телесных наказаний в применении к взрослому человеку. Было время, и не так давно еще, когда розги назначались даже не за преступление, не за поведение, а просто за невзнос податей. Я помню, что в нескольких волостях Поречского уезда Смоленской губернии в 70-х гг. подсчитали число ударов, данных при собирании недоимок, и получили очень любопытный статистический вывод. Местное начальство приезжало в обследованные волости 3 раза в один сезон. Были собраны сведения и о числе ударов, и о количестве собранных недоимок за каждый раз особо, и при этом получились две геометрические прогрессии, каждая из трех членов: одна возрастающая — это было число ударов; другая убывающая — это было количество собранных денег. В последний раз было произведено так много ударов и собрано так мало денег, что полученная сумма нё могла покрыть даже расходов на розги.
Подобные сообщения приподнимают только часть завесы, скрывающей от нас унизительные взгляды, еще господствующие у нас на достоинство человеческой личности и на формы исправления и наказания.
Мы не можем удивляться, когда видим, что побои всех видов являются главным воспитательным средством у простого, безграмотного народа. Здесь во всей неприкосновенности живут идеалы глубокой старины. Покойный И. Ф. Горбунов2 совершенно верно характеризовал это отношение простого народа к телесным наказаниям: «Разве возможно парнишку не бить? Первое дело — без этого он не вырастет, а второе дело — ежели его не бить, он тебя почитать не станет. Не оченно чтобы бить, а так — потрепать лишний раз — это очень им в пользу». И когда мы читаем о какой-нибудь мещанке Власовой, полосующей широким ременным поясом своего восьмилетнего сына, мы вправе снять вину за кровоподтеки и истязания ребенка с невежественной Власовой и обвинить тех, кто своим индифферентизмом или противодействием задерживает просвещение даровитого русского народа. Но мы справедливо удивляемся и негодуем, когда встречаем защиту
телесного наказания в печати, слышим доводы за сохранение телесных наказаний от просвещенных гласных земских собраний — доводы, напоминающие вирши древних азбуковников, где пространно и убежденно доказывалось, что «розга ум острит, память возбуждает и волю злую к благу претворяет».
Правда, мы хорошо знаем цену и искренность таких речей. Наш гениальный сатирик, вспоминая о школе, где он учился, рассказывает о профессоре, который в своих лекциях «повествовал, что кнут есть одна из форм, в которых идея правды и справедливости находит себе наиболее приличное осуществление. Мало того, он утверждал, что самая злая воля преступника требует себе воздаяния именно в виде кнута. Но прошли времена — и кнут был заменен треххвостой плетью. Нас, школяров, интересовало, прольет ли слезу буквовед на могилу кнута или воткнет осиновый кол. Оказалось, что он воткнул осиновый кол. Целую лекцию он сквернословил перед нами, говоря, как скорбела идея высшей правды, когда она осуществлялась в форме кнута, и как она ликует теперь, когда с соизволения высшего начальства ей предоставлено осуществляться в форме треххвостой плети с соответствующим угождением. Он говорил, и его не тошнило, а мы слушали, и нас тоже не тошнило. Я не знаю, как потом справился этот профессор, когда телесные наказания были вовсе отменены, но думаю, что он и тут вышел сух из воды.
...Недостаток уважения к личности, если она не облечена в чиновничий или дворянский мундир, отсутствие доверия к человеческой природе не только ребенка, но и взрослого — вот главная причина множества прискорбных явлений в нашей жизни, и в том числе тех, о которых мы упоминали выше. Гуманные движения века, учения лучших мыслителей, само учение Христа — все это далеко не проникло в сознание всего образованного русского общества, и знамя человеконенавистничества и мрачного взгляда на природу человека высоко и крепко держат трусливые и лицемерные руки.
Удивительно ли, что симпатии розголюбцев проникают в школу. Школа не может не отражать в себе господствующие общественные течения. Учителя — кровь от крови нашей и кость от костей наших. Необходимо в среде учителей шире и шире распространять правильные взгляды на воспитание и на дисциплину, но также необходимо распространять их и в обществе, и в народе.
Ввиду этого мы в своем очерке о нравственном воспитании старались затронуть не только воспитание в школе, но и в семье, считая, что и семья нередко грешит незнанием законов детской природы.
II
Очень распространен в настоящее время взгляд на школу не как на воспитывающее, а как на дисциплинирующее по преимуществу
учреждение. Нет ничего вреднее такого взгляда на школу. Нам кажется даже, что эта точка зрения, рассчитанная на то, чтобы облегчить задачу учителя, значительно затрудняет ее. В области преподавания и дисциплины нет ни одного предмета, нет ни одной меры, ни одного явления, которые не оставляли бы каких-нибудь следов на личности ребенка, не отражались бы на его привычках, на его взглядах, его желаниях, его чувствах. Что, казалось бы, проще и обыденнее, например, такого случая, когда ученики шалят во время урока. С точки зрения учителя, отрицающего за школой воспитательное значение, это только проступок, мешающий правильному ходу школьной жизни. Чтобы покончить с ним, надо остановить учеников, как сделает более гуманный из учителей, или наказать их, как поступит более строгий. На самом же деле этот поступок вводит нас в область воспитания. Мы встречаемся здесь либо с неразвитым вниманием детей, с отсутствием в них интереса к умственным занятиям, либо со слабостью воли. Каждое из этих качеств могло обусловливаться различными причинами, и учителю-воспитателю придется много думать и работать и над собой, и над учениками-шалунами, чтобы исправить их. Первый из учителей — учитель-надзиратель, учитель-полицейский — вынужден будет постепенно усиливать меры наказания и может вполне естественно дойти под конец до системы внушений подзатыльниками, забить детей, развить у них отвращение и к школе, и к книге, и к умственным занятиям. Второй учитель — учитель-воспитатель — путем целесообразной педагогической системы разовьет в детях силу внимания, заставит их полюбить умственный труд, заинтересует их знаниями, какие дает школа, работами, какие приходится делать в классе. Что, казалось бы, общего между воспитанием и такими чисто внешними дисциплинарными требованиями, как, например, требование приходить в класс в 9 ч., садиться по звонку на определенное место, приносить с собой книги и тетради и т. п. А между тем даже здесь мы легко подметим возможность воспитательного влияния. Ребенок ходит в школу в определенное время, несмотря на то, в каком он сегодня настроении, хочется ли ему учиться или играть. Он привыкает подчинять свои настроения высшим требованиям. Может быть, его манит ледяная гора, может быть, его зовут играть в снежки; но он держит себя в руках. Он привыкает справляться с аффектами, обуздывать свои маленькие страстишки, владеть собой. Это развивает и усиливает задерживающую и направляющую власть высших центров над низшими, развивает волю, образует характер, дает привычку «рассудку страсти подчинять». Еще Аристотель сказал, что главным орудием нравственного воспитания служит привычка; но привычка, как сказано еще Шекспиром, становится то благодатным ангелом, то злобным демоном, смотря по тому, куда она направлена. Всякая школа, будет ли она в руках учителя-надзирателя или в руках учителя-воспитателя, непременно разовьет те или другие привычки, вкусы, стремления и т. д., — словом, воспитает ученика; но как воспитает? — Это зависит уже от направления, какое дает всему школьному строю учитель. Воспитывает детей и улица большого города, воспитывают украденных детей и странствующие слепцы, и содержатели цирков, и ночлежные дома. Для того чтобы воспитание и в школе не носило такого же случайного характера, какой носит воспитание, даваемое улицей, необходимо, чтобы учитель смотрел на себя не только как на преподавателя и надзирателя, но еще и как на воспитателя, чтобы он ясно представлял себе и цели воспитания, и наилучшие средства, которые ведут к достижению этих целей.
Мы не преувеличиваем воспитательных возможностей начального учителя. Он не всесилен в борьбе со многими неблагоприятными условиями, нередко парализующими его задачи. Он не может, как воспитатель Эмиля, оградить своего воспитанника от тех влияний, которые он считает вредными. Он не может увеличить время, какое ученик находится под его воздействием и какое неизбежно наполняется в большой степени мало развивающими и мало воспитывающими занятиями по программе. Он не может, имея в своем распоряжении огромный класс, нередко в 50—70 учеников, глубоко вдумываться в индивидуальные особенности каждого ребенка, не может он, наконец, усталый, заваленный работой, посвящать какое-либо особое время исключительно на воспитательные приемы. Всего этого нельзя и требовать от учителя начальной школы при современных условиях, по крайней мере. Но если школа не может брать своей специальной задачей воспитание в том широком смысле, как его можно понимать, она все же имеет возможность воспитывать, пользуясь, между прочим, и школьной дисциплиной, с которой естественно приходится считаться каждому учителю. Школьная дисциплина есть собственно один из частных элементов понятия о воспитании, но несомненно, что правильно поставленная дисциплина в школе может содействовать целям нравственного воспитания, может воспитывать детей не для классных порядков только, а для детей самих, для общества, для народа; она может содействовать развитию их лучших природных способностей и задерживать развитие склонностей, вредных для равновесия организма. При разумной дисциплине в соединении с преподаванием и всем строем школьной жизни и при взаимодействии с семьей можно было бы рассчитывать на поразительные результаты в деле воспитания детей.
Передо мной находятся материалы, доставленные учителями наших народных школ, слушателями временных педагогических курсов, и все эти лица на основании личного опыта констатируют большую податливость детей к воспитательному воздействию на них, большую их способность к добру, большую мягкость, уступчивость и способность подчиняться разумным требованиям школы. Даже испорченные дети, испорченные средой, наследственностью или каким-либо случайным обстоятельством, и те поддавались нравственному внушению, и с ними можно было справляться без всяких угрожающих дисциплинарных мер.
Не так думали педагоги прежних времен. В своей статье «Общеобразовательные задачи народной школы»3 пишущий эти строки старался показать связь между дисциплиной средних веков и целями, какие преследовала тогдашняя народная школа. Эти цели не были общеобразовательными, и школа призвана была служить осуществлению посторонних, практических задач; она сообразовалась не с природой ребенка, не с силами и способностями его, а лишь с содержанием навязанных ей в силу внешних условий предметов обучения, и потому ее методы и приемы преподавания вытекали не из анализа детской природы, а из анализа предметов преподавания. Такая ложная в своей основе постановка школы мстила за себя безуспешностью занятий, ленью детей, их отвращением к учению. Надо было возбуждать в детях энергию внешними способами, а направление века подсказывало только один способ — страх телесных наказаний...
...От классных порядков, характеризуемых слезами и рыданиями, горем и отчаянием детей, розгами, ремнями, пощечинами, затрещинами, рваньем ушей и волос и истязаниями всякого вида, перейдем к другой, противоположной системе воспитания, основанной на любви и доверии к ребенку и его природным инстинктам. От воспитателей, справедливо сравниваемых с палачами, мясниками, разбойниками, тиранами, татарами, варварами, гуннами, перейдем к гениальным проповедникам человеколюбия, свободы и уважения к личности ребенка и доверия к его природе.
Амос Коменский ставил воспитанию высокую цель — делать человека человеком, т. е. гармонически и полно развивать его способности. Он называл школы мастерскими гуманности и считал виной учителя, если тот не умел заинтересовать детей наукой, не умел внушить им любви к ней. Горячим защитником ребенка, его личности' и прав выступал и знаменитый автор Эмиля. Ребенка следует воспитывать для него самого, а не для других, говорил Руссо, и в своих ревнивых заботах об ограждении своего воспитанника от сурового прикосновения жизни он впадал в крайность и создавал Эмилю искусственную обстановку оранжереи. Песталоцци4 ставил основой воспитания природу человека и требовал, чтобы отношения воспитателя к ребенку были чисто родительскими. «Мои питомцы должны были с утра и до позднего вечера во всякую минуту дня читать на моем лице, что я предан этим детям всем сердцем, что их счастье — мое счастье, что их радость — моя радость», — писал Песталоцци.
Русская школа так же точно не могла остановиться на мрачных идеалах домостроевского воспитания. Отголоски гуманных педагогических идей начинают проникать и в Россию. Во времена Екатерины5 о природе ребенка, о его запросах, о его детской психологии, требующей света, веселья и радости, начинают уже и говорить и писать, оставаясь в пределах теории и благих пожеланий. Но жизнь идет вперед, и на защиту гуманных идей выступают новые люди. Знаменитые педагогические статьи Пирогова, вся педагогическая деятельность Ушинского, Корфа, Стоюнина6, Толстого уже говорят нам о других временах и других нравах.
Прогресс в области идей о воспитании несомненно совершился большой, и тем более безобразным пятном выступают на этом фоне иные отступления, некоторые уцелевшие пережитки, запоздалые мнения людей, сохранивших наивность домостроевских времен, факты вроде тамбовской истории.
III
Руссо очень красноречиво рекомендовал воспитателю оставить воспитанника лицом к лицу с естественными последствиями его поступков. У Руссо были, между прочим, и такие знаменитые последователи, как Спенсер7 и как наш граф Толстой. Кто не помнит художественного описания оригинальных порядков яснополянской школы...
...Бесспорно, что мы можем многому поучиться у Толстого. Заинтересовать детей настолько, чтобы их так же трудно было оттащить от книги и от урока, как и от игры, — это великое дело. Всего, чего можно достигнуть, заинтересовав детей занятиями, мы и будем добиваться посредством интереса, возбуждаемого самим преподавателем. Но там, где этого интереса окажется мало, чтобы заставить детей работать, нужно будет приучать их делать над собой усилия. Им и в жизни придется нередко иметь дело с малоинтересной работой, и в жизни придется иногда делать усилия над собой.
Толстой говорит, что со временем ученики сами почувствуют необходимость порядка в школе и сами его водворят. Но почему же учителю, как более развитому человеку, не помочь детям в этом отношении? Чтобы дети пожелали порядка, надо, чтобы они сначала ясно представили себе его необходимость, его хорошие стороны. Нельзя желать того, чего нет в области мышления, чего не представляешь себе. Почему же учителю не помочь детям представить себе, какой порядок должен быть в благоустроенной школе, как он облегчает дело обучения, увеличивает его результаты, как мешает этому делу отсутствие порядка. Убедить большинство класса в том, что необходимо вовремя приходить в школу, что не следует мешать занятиям своим шумом, шалостями, что надо быть внимательным к уроку, не трудно; но это можно изложить так просто и и так убедительно, что 8-летний ребенок поймет такие разъяснения и естественно почувствует необходимость тех немногих требований, на которых стоит настаивать. С другой стороны, школа даст еще не все, если она приучит учеников работать только над тем, чего им хочется; она должна приучать их также к тому, чтобы они сами направляли свое внимание, делая для этого иногда усилия, на те или другие существенные стороны предметов. Школа Толстого этого не дает. Она не приучит подчинять низшие центры высшим.
Внушить детям любовь к школе настолько сильную, чтобы они не пропускали уроков, зная, что им никто не сделал бы выговора за манкировки, что может быть лучше этого? Но если учитель, несмотря на все усилия, не сумеет достигнуть этого, неужели надо будет и тогда предоставить детей самим себе, неужели и тогда нельзя будет употребить по отношению к ним мер нравственного воздействия?
Прекрасно, если ученики сами сознательно доходят до необходимости устанавливать и поддерживать известный порядок в классе. Что может быть лучше, как общественное мнение самих школьников, без всякого формального вмешательства учителя, порицающего или одобряющего учеников, отступивших от выработанного ими самими хорошего кодекса. Во всем этом каждый современный учитель охотно последовал бы за Толстым. Современная школа не должна носить строго формального, бездушного характера средневековой схоластики. За детьми мы должны признать определенные права; но нельзя также не возложить на них известные обязанности. Им придется жить в обществе, где существуют законы, и мы должны внушить им уважение к закону. Им придется вращаться среди других людей, и мы должны внушить им уважение к правам и достоинству других людей, мы должны образовать в них привычку воздерживаться от обиды и вреда ближнему и т. д. Толстой забыл, что нужен был его необыкновенный педагогический талант, его беззаветное увлечение школой, чтобы при системе невмешательства со стороны учителя стали возможны достигнутые им результаты. Нельзя требовать, чтобы все учителя были одарены такими же педагогическими способностями, как сам Толстой: мы должны считаться с силами заурядных учителей.
Да и в школе Толстбго было не все благополучно: были случаи телесных повреждений во время драк, были кражи. Нельзя, значит, соглашаться с Толстым, что, где собрались три школьника, там Христос посреди них. У школьников очень много хороших побуждений, интересов, порцвов, стремлений. Надо дать всему хорошему полный простор, надо удовлетворять все разумные, все честные требования и желания. Но у школьников есть и дурные инстинкты маленьких варваров, скверные привычки, и было бы вредно предоставить свободу развития и этим последним. Очень часто будет опасно дожидаться того времени, когда сами последствия дурных поступков приведут детей к раскаянию и исправлению, как это предлагают Руссо, Спенсер и Толстой.
Спенсер говорит нам: «Когда ребенок упадет или ударится головой об стол, он чувствует боль, воспоминание о которой заставляет его быть более осторожным, так что после нескольких повторений подобных случаев он совсем выучивается управлять своими движениями. Если он схватится за решетку камина, сунет в пламя свечи руку или обольет ее кипятком, то обвар или обжог послужит ему уроком, которого он не забудет долго. Впечатление, которое вынес ребенок от одного или двух случаев подобного
рода, бывает так сильно, что впоследствии никакими убеждениями не заставишь его пренебречь законами самосохранения. Во всех этих случаях природа нам указывает наглядным образом настоящую теорию и настоящую практику нравственной дисциплины — теорию и практику, которые при поверхностном наблюдении покажутся вполне обыкновенными, а при тщательном — представятся совершенно своеобразными»8.
«Особенность этих наказаний, — по справедливому мнению Спенсера, — заключается в том, что они суть неизбежное последствие тех действий, за которыми они следуют; это не что иное, как неизбежная реакция, которая вызвана действиями ребенка»9. Нельзя оспаривать, что это прекрасная система воспитания везде, где она окупает вред, нанесенный неизбежным естественным наказанием. Ученик засорил пол, загрязнил парту, следует заставить его самого подмести пол и вымыть парту. Это справедливо, и надо именно так поступать. Но вот он изорвал книгу и тетрадь, сломал перо; неужели не будет жестоко лишить его, как требовала бы теория Спенсера, и книг, и тетрадей, и перьев, без чего он не может учиться? «Если ребенок опаздывает одеваться на прогулку, надо уйти, не дожидаясь его», — советует Спенсер. Но если ученик пропускает уроки, не будет ли очень жестоко не помочь ему догнать товарищей? Дожидаться естественных последствий иногда обойдется очень дорого детям. Естественные последствия от курения табака в раннем детстве, от несоблюдения правил гигиены, от гневных вспышек, последствием которых может быть опасное ранение товарища в ссоре, — все это было бы слишком дорогая для самого ребенка цена воспитательной системы. Ученик шумит и шалит во время урока. Ожидать, когда он почувствует на себе вредные последствия своего поведения, без всякого вмешательства учителя, надо будет очень долго. А между тем вред, причиняемый его шалостями и себе самому и всему классу, слишком велик, чтобы можно было спокойно ожидать целые годы того момента, когда ученик убедится, что благодаря шалостям он мало узнал и помешал успехам своих товарищей. По-видимому, Спенсер заимствует свою систему воспитания у животных. Но там жизнь так проста и не сложна, заключена в таком тесном кругу удовлетворения физических потребностей, что система эта является вполне достигающей цели. Жизнь человека неизмеримо сложнее, и такая система в применении к людям хороша только в известных случаях, когда ею и будет пользоваться тактичный учитель. Такой системы мало уже потому, что в основе ее лежит польза для себя одного. Эта система учит воспитанника избегать лишь того, что вредно для него самого. Но есть еще вред для других, есть вред для общества, есть еще нравственная ответственность, есть совесть, которую такая система воспитания не разовьет и даже не затронет.
Мы приходим, таким образом, к выводу, что наилучшими средствами поддержания дисциплины надо признать интерес детей
к классным занятиям, их любовь к школе, их деятельное участие в установлении регулярных школьных порядков и так называемую систему естественных наказаний. Но в то же время опыт и наблюдения приводят к выводу, что одних этих средств не всегда бывает достаточно. Необходимо, значит, пользоваться еще другими способами прямого или косвенного воздействия на учащихся.
И вот здесь мы снова встречаемся с опасностью, что некоторые из учителей могут обратиться к старинной системе воспитания, основанной на чувстве страха. Чтоб избежать необходимости пользоваться этой системой, важно знать другие, лучшие меры предупреждения и исправления проступков и развития положительных качеств в ребенке. Употребляемые для этого средства чрезвычайно разнообразны, но учителю и воспитателю надо знать их все, чтобы он мог в каждом данном случае выбирать из них наилучшее.
Прежде всего сюда относятся меры предупредительного характера. Это, с одной стороны, целесообразная классная обстановка, а с другой — организация и приемы занятий. Особо стоят средства, воздействующие на совесть, чувство долга, опирающегося на сознание и волю ребенка; далее идут меры, действующие на стыд, как, например, порицания, выговоры, меры, опирающиеся на общественные мотивы и на мнение школы; и наконец, меры, с сущностью которых мы познакомились на примере средневековой школы, — всякие виды телесных наказаний, к которым мы не можем относиться иначе, как отрицательно. Рассмотрим каждую из этих мер в отдельности.
Тесное, душное помещение обусловливает быстрое утомление учащихся и делает их невнимательными к уроку, рассеянными, непонятливыми, невосприимчивыми. В этом отношении начальные училища всего менее удовлетворяют нормальным требованиям. В Курской губернии, по расчету г. Белоконского10, из 527 классных комнат только 31 имеет нормальный кубический объем (не менее 11,22 куб. арш. на ученика), а 61 имеет объем 3/4 нормы, 175 — от 1/2 до 3/4 нормы, 252 — от 1/4 до 1/2 нормы. Но есть 8 школ с объемом менее 1/4 нормы. Даже в Московской губернии, которая в отношении народного образования стоит впереди других губерний, из 463 измеренных школьных помещений, по расчетам г. Петрова, только 89 удовлетворяют нормальным требованиям, 345 содержат не менее 1/2 нормы и 187 — менее 1/2.
При таких условиях особенное значение получают заботы учителей о поддержании чистоты в классе и свежести воздуха, о правильной топке, об уборке классов, о наилучшей расстановке парт, об организации дежурства школьников.
Но заботы учителя обо всем этом нередко встречают препятствия со стороны часто невежественных и равнодушных к школьному делу распорядителей по хозяйственной части, выбираемых из кулаков и мироедов.
Общее мнение учителей, с которыми пишущему эти строки приходилось беседовать по этим вопросам, таково, что полным
хозяином школьного дела должно быть земство. Суммы на содержание школьного здания, на отопление, освещение, поддержание чистоты ит. п., должны быть отпускаемы в распоряжение учителя, который отдает отчет в их израсходовании. К сожалению, далеко не все земства перешли к такому порядку. В большинстве школ заведование хозяйственной частью лежит на попечителе училища, нередко безграмотном человеке, совершенно чуждом делу образования. Как на переходную меру можно указать на существующий в некоторых земствах порядок, когда земская управа все пособия от сельских обществ на содержание школ вписывает в свои окладные книги.
Переполнение школ учащимися при одном учителе оказывает чрезвычайно вредное влияние на успехи обучения. Это доказывается статистически. В Александрийском уезде Херсонской губернии было подсчитано, что в школах, где приходится менее 50 учащихся на одного учителя, процент окончивших курс в 1897 г. равнялся 9,7%, от 50 — 75 учащихся — 7,7%, от 75 до 100 — 6,8%, а свыше 100 — только 5,3%. Таким образом, успешность школы падает по мере переполнения ее учащимися, умственное и нравственное влияние учителя на учеников слабеет, и ученики, большей частью предоставленные самим себе, становятся мало внимательными, недостаточно трудолюбивыми, менее успевающими. Вот почему выдвинутый в последнее время вопрос о всеобщем обучении и нормальной сети школ хотя и косвенно, но касается и увеличения успешности существующих уже училищ. Чем более будет школ, тем меньше они будут переполняемы и тем успешнее будет в них дело обучения и воспитания.
Очень большое, почти решающее значение имеет организация классных занятий. Если уроки слишком длинны, ученики под конец утомляются, внимание их исчезает, начинаются шалости. В последнее время врачи представили целый ряд наблюдений, указывающих на ухудшение качества классной работы под влиянием утомления. Например, Сикорский11 пользовался для этого сравнением 1500 диктовок, сделанных детьми утром, до начала уроков, и к вечеру, по окончании занятий. При этом он принимал в расчет только такие ошибки, которые не зависят от знания, а потому могут быть легко предупреждены вниманием.
Оказалось, что число таких описок в конце учебного дня было гораздо больше, чем при начале уроков. Работа усталых детей была средним числом на 33% слабее той, какая ими была сделана перед уроками в бодром состоянии. Описки состояли большей частью в замене одних букв другими, сходными или по произношению, или по начертанию. Другой способ измерения усталости основан на следующем приеме: ставят концы циркуля на кожу в том месте, где она наиболее чувствительна; при большом расстоянии между концами будут ощущаться два укола; при небольшом же расстоянии концов циркуля ощущается лишь один укол, несмотря на то что в действительности циркуль прикасается к двум местам на коже. Степень чувствительности в этом случае находится в зависимости от степени переутомления. Нормальный, бодрый человек почувствует двойное прикосновение при гораздо меньшем расстоянии ножек циркуля, чем переутомившийся. Описанный прием применялся в учебных заведениях для измерения степени утомления учеников. При этом оказывалось, что после некоторых уроков у всех учеников расстояние между концами циркуля ощущалось слабее, чем перед уроками; так, например, ученик, ощущавший перед началом занятий два укола циркуля, расставленного на 5 мм, не был в состоянии ощущать того же после уроков; только при 10, 15 мм расстояния и более он снова чувствовал два укола. Другими словами: умственная работа настолько переутомила ученика, что он потерял некоторую долю чувствительности осязательных нервов. По праздничным же дням не наблюдалось никакого значительного колебания чувствительности: молодежь была в полдень столь же впечатлительна, как и утром. Результаты измерений после урока гимнастики представляют особый интерес. Этот урок в пяти случаях принес отдохновение, в трех — необычайное переутомление. Что касается игр, то доктор Вагнер12, производивший наблюдения, замечает справедливо: «Игры действуют на одних утомляющим образом, на других — отдохновляющим, а зависит это от того, кто как относится к игре. Утомленными оказываются те, кто принимал более живое участие в игре, а отдохнувшими — кто относился к ней пассивно». Насколько утомляющим образом действуют на учеников письменные работы, тоже свидетельствуют измерения, произведенные доктором Вагнером; после таких работ цифры утомления достигают несоразмерной высоты. Это и понятно. Во время письменной работы всякий старательный ученик напрягает все свое внимание в течение целого часа; ясно, что такой урок действует гораздо утомительнее, чем обыкновенный, когда большинство учеников время от времени отвлекают свое внимание. Насколько вредны подобные работы, если они следуют одна за другой, доказал доктор Вагнер следующим опытом: учениками были исполнены в течение двух часов без всякого перерыва две различные письменные работы (по французскому и немецкому языкам). Полученные при измерении числа доказали, что последствия двухчасовой письменной работы без перерыва крайне утомительны и вредны: чрезвычайное утомление, произведенное двухчасовой работой, не могло быть вознаграждено следовавшим затем продолжительным отдыхом.
В Московской губернии в сельских школах ученики старшего отделения занимаются около 25 ч. в неделю (в среднем — 24,5) и младшего — 22,5 ч. в неделю, не считая закона божия, пения и гимнастики.
Прибавив сюда уроки закона божия и пения, мы получим около 30 уроков в неделю, или около 5 ч. в день. Если это число уроков и можно принять за нормальное для учеников старшего отделения при условии, что все уроки приготовляются в классе и на дом не дается никаких работ, то для среднего и младшего отделений такое количество учебного времени следует признать чрезмерным. Таким же чрезмерным следует признать и число уроков в городских училищах, содержимых городской думой. Здесь число уроков в младшем отделении колеблется между 21 и 30 в неделю, в средних отделениях — между 27 и 30 и в старших — между 27 и 32*.
Но в действительности положение детей еще хуже. Большинство учителей дают детям работу и на дом, увеличивая, таким образом, еще на 2, на 3 ч. время ежедневных занятий. Впрочем, если и можно при современном состоянии дидактики освободить детей от домашнего приготовления уроков, то было бы крайне нежелательно прекратить выдачу книг из детской библиотеки, а между тем в интересах здоровья детей следовало бы сделать соответствующие уменьшения классных занятий, чтобы предоставить детям возможность без переутомления посвятить час-два на чтение книг из школьной библиотеки.
Еще хуже обстоит дело с переменами между уроками. В московких думских училищах малая перемена продолжается в огромном большинстве школ всего только 5 мин., и член управы, заведующий учебной частью г. Лебедев в своем отчете пишет: «Большая, до четверти часа, длительность перемены представляется едва ли удобной». Почему г. Лебедев не считает удобным предоставить детям достаточный отдых после каждого часового урока — угадать трудно, и это тем более, что сам г. Лебедев не считает нужным ознакомить читателей с его мотивами.
Продолжительность каждого урока почти везде часовая. А между тем в младшем отделении, когда внимание учеников еще недостаточно развито, урок должен продолжаться не более 30 мин. Для поддержания в детях бодрости и свежести внимания при составлении распределения уроков крайне важно, чтобы предметы, требующие от учеников наибольшего внимания и свежести мозга, как, например, чтение на первой ступени и объяснительное чтение трудной статьи, а также решение арифметической задачи нового типа, всегда назначались на первые из утренних часов, когда прилив сил бывает наибольший, а затем после завтрака и большой перемены, когда наступает новый подъем сил, впрочем, уступающий первому. По тем же соображениям очень важно, чтобы два однородных предмета не шли рядом друг с другом, и следует располагать уроки таким образом, чтобы сама смена занятий служила отдыхом. Если после устного счисления будет назначено письмо, то получается та выгода, что, когда работают одни способности, тогда отдыхают другие. Особенно важно это требование на первых порах, почему хороший учитель, занимаясь с новичками, быстро переходит от одного предмета на другой, как только увидит, что дети становятся рассеянными. Он то разложит с ними слово на слоги и звуки, то почитает, то попишет, то посчитает, то порисует. Внимание
См.: Отчеты о состоянии городских училищ Москвы.
учеников при этом все время остается напряженным; когда им надоедает одно занятие, они переходят к другому; интерес к работе поддерживается непрерывно, детям некогда шалить, и всякие дисциплинарные меры становятся излишними. Учебная практика выработала целый ряд рациональных приемов, направленных на то, чтобы поддерживать неутомленное внимание детей на предмете. Многие из этих приемов чрезвычайно просты и потому заслуживают самого широкого распространения в учительской среде, а между тем еще далеко не везде получили право гражданства. Первое место здесь занимают так называемые катехизические приемы преподавания. В хорошей школе большую часть времени учитель только спрашивает, дает задачи и данные для их решения, показывает предметы наглядного обучения, а ищут ответы, делают наблюдения, формулируют правила, думают, говорят сами ученики. Учитель обращает свои вопросы не к одному ученику, а ко всему классу, чтобы никто не знал, кому из них придется дать ответ на заданный вопрос, требуя при этом, чтобы ученики отвечали только по приглашению учителя. В этом случае каждый из учеников ждет, что на него упадет выбор учителя, и это одно ожидание заставляет его внимательно выслушивать вопросы и серьезно обдумывать требуемый ответ.
Как ни просты эти чисто технические приемы, но, к сожалению, далеко не все учителя владеют ими. В средней школе они совсем не распространены. Там и до сих пор господствует акроаматическая форма преподавания, когда курс излагается без активного участия учеников; у посредственного учителя, не умеющего заинтересовать детей красивой формой изложения, ничто не поддерживает внимания ученика на предмете урока. Наши учительские семинарии, и особенно в последнее время, с одной стороны, под влиянием формализма, а с другой — благодаря часто неудачному личному составу не дают своим воспитанникам ни достаточного общего развития, ни технических приемов преподавания. Многое в этом последнем отношении могли бы сделать учительские курсы, но они устраиваются до сих пор так редко, подготовленных руководителей для них так мало, роль учителей на курсах по существующим правилам так пассивна, что совершенно невозможно рассчитывать ни на широкое их распространение, ни на значительные их успехи. Курсы хороши только за неимением лучшего. У нас нет учительских съездов, где учителя являлись бы полноправными членами и обменивались между собой накопленным опытом. У нас нет ни педагогического факультета при университете, ни высшего педагогического института, где разрабатывались бы вопросы обучения и воспитания. Наши учителя, заброшенные в глуши, решают сами, каждый на свой страх и риск, по своему крайнему разумению, все вопросы, касающиеся школьной практики. Их официальные руководители часто поражают нас своим полным невежеством в деле преподавания и ограничиваются только рольку полицейского надзора и на нем одном строят свою служебную карьеру, как будто бы от них никто и никогда ничего другого и не требовал.
При таких условиях надо удивляться не тому, что учителя, не знающие, откуда им почерпнуть самые элементарные технические приемы преподавания, не умеют без применения дисциплинарных мер поддержать внимание учеников и порядок в классе, а надо удивляться тому, как, несмотря на все неблагоприятные условия, большинство учителей все же настолько сведущи и развиты, что находят возможным обходиться без наград и без наказаний, без баллов и без исключений. И тем не менее даже в Москве, где у учителей есть полная возможность ознакомиться с рациональными мерами поддержания внимания и порядка, встречаются школы, где приемы преподавания и школьного порядка, часто поддерживаемые и надзирающими лицами, ниже всякой критики.
Когда учителем сделано все, чтобы заинтересовать учеников занятиями и предупредить их утомление и невнимание, когда учитель не дает детям непосильных упражнений, когда его объяснения понятны и ясны, его преподавание наглядно и живо, несомненно, что школьная дисциплина выиграет чрезвычайно много. Если бы задачи школы ограничивались одним преподаванием и дисциплиной, то указанных предупредительных мер было бы вполне достаточно для опытных учителей. Но задачи школы гораздо шире и воспитательное влияние ее не должно ограничиваться целями только классной дисциплины, понимаемой в узком смысле. Мы уже сказали выше, что дисциплина может и должна воспитывать не для класса только, и потому в дальнейшем изложении мы попытаемся доказать, что может сделать в этом направлении хороший учитель.
IV
Важную роль в деле воспитания играет авторитет учителя. У детей склонность признавать и подчиняться авторитету, по-видимому, отчасти инстинктивна и связана с другим инстинктом — чувством самосохранения, побуждающим беспомощного и слабого ребенка искать покровительства и руководства у более сильного, опытного, знающего человека. Но такое отношение к себе ребенку надо уметь приобрести. Каждому известно, что дети, добровольно подчиняясь одному лицу, например отцу, приходят в негодование, когда видят покушение на их свободу со стороны кого-либо другого, не пользующегося в их глазах авторитетом. Однако будет плохо, если этот авторитет хотят основать на одной власти, присвоенной положением учителя. Еще хуже, если он будет поддерживаться страхом наказаний. В основе авторитета должны лежать любовь и уважение к учителю со стороны детей, а затем уже привычка подчиняться ему, основанная на его умственном и нравственном влиянии и превосходстве. Есть, к сожалению, школы, где авторитет учителя поддерживается прежде всего страхом, но учитель не директор зверинца, не тиран, его средства — меры нравственного воздействия, а не меры жестокости; его задача — не сломить волю ребенка, хотя бы даже упрямого, а, напротив, развить и укрепить ее, направить ее (Гюйо)13. Вызывая в детях страх, учитель подавляет их силы, отнимает у них самую возможность исполнить его требования, как об этом мы подробнее скажем ниже. Мало этого, дети легко приобретают антипатию и мстительное, гневное чувство к учителю, причиняющему им страдания, вред (кажущийся или действительный — все равно) и обиду. Вызвать к себе любовь и уважение со стороны ребенка — вот что самое ценное в авторитете учителя. Если ребенок будет любить и уважать своего учителя — этого одного достаточно, чтобы сделать совершенно излишними всякие карательные меры. Ребенок будет исполнять приказания такого учителя уже для того одного, чтобы не огорчать его. Если ученики будут любить и уважать учителя, они будут страдать вместе с ним в минуты его огорчений, им захочется удалить причину этих страданий так же, как если б они страдали сами. Скажем больше: дети, любящие и уважающие своего учителя, захотят походить на него, будут перенимать его привычки, его наклонности, его стремления, его душевный строй, будут заражаться его энтузиазмом. Они будут делать это и в силу преобладающей в детском возрасте привычки подражать всему, что они видят, и еще более в силу сознательного желания разделить чувства и стремления дорогого им человека. Они захотят сделать из-за любви к нему даже скучную работу, они воздержатся от поступков, неприятных учителю, из-за привязанности к нему пойдут на маленькие жертвы.
Как же учитель может добиться любви детей? Для этого существует только одно средство, и другого никакого нет, — это самому любить их деятельной любовью. Когда ребенок из всех ваших поступков видит, что вы с добротой и терпением разделяете все его затруднения, принимаете деятельное участие во всех его занятиях, что вы «бескорыстно его любите, вникаете в его нужды, он не может оставаться неблагодарным, холодным и бесчувственным, он захочет сам стать достойным вашей любви, он ответит искренней любовью на ваши симпатии к нему, он захочет в действительности стать таким, каким вы его считаете, — достойным любви» (Гюйо). Любовь ребенка родится из благодарности за любовь к нему окружающих. Любовь ребенка к вам — это простое эхо вашей же любви к нему. Есть в истории педагогики превосходный образец того, как можно добиться безграничной детской любви к себе, — это пример Песталоцци.
...Уважение детей учитель приобретает безукоризненностью своего поведения и всего образа жизни, своим умственным и нравственным превосходством. Всякое проявление в учителе чванства или самомнения внушит ученикам мысль сбить с него спесь. Неаккуратное исполнение своих обязанностей, опаздывание на уроки, некорректный образ жизни могут легко подорвать в детях это уважение к учителю.
Напротив, трудолюбие учителя, его доброта, его ласковые, мягкие и простые отношения к детям, его ум и знания, далеко превышающие знания детей, вызовут в детях, вместе с благоговением и бескорыстным восхищением его умственными и нравственными качествами, еще горячее уважение к нему и нежное чувство.
Учитель должен уметь вызвать еще и доверие к себе, и тогда ученики будут верить, что всякое приказание учителя разумно, что все намерения его клонятся к их пользе. Пусть каждое требование свое учитель объясняет детям и доказывает его необходимость с точки зрения самих учеников, их интересов, их нужд, их здоровья, их умственного и нравственного развития. Нет ничего опаснее, как то, когда дети заподозрят в приказании учителя его прихоть или произвол. Ученики доверяют учителю только тогда, когда его советы, его требования представляются в их собственных глазах необходимыми и нужными в интересах самих детей. Они будут тогда угадывать желания учителя, предупреждать их, они будут добиваться еще большей симпатии к себе и ради нее постараются еще больше походить на уважаемого и любимого учителя, подняться до него, насколько это возможно для ребенка. Прежде чем принять какое-нибудь решение, сделать какой-нибудь поступок, ученик будет спрашивать себя, как поступил бы на его месте любимый учитель, что могло бы понравиться ему и что огорчить его.
Говоря о качествах учителя, нельзя обойти молчанием его такт. Тактичный учитель, как хороший оратор, по глазам своей аудитории судит о впечатлении, какое производят на детей его слова и его действия. Если у него не будет этого чутья, если он вовремя не найдется, что надо предпринять, чтобы предотвратить скуку, спускающуюся на учеников, предупредить дурное впечатление, вызываемое его распоряжением, он не будет иметь успеха.
Умение учителя владеть собой также имеет очень большую цену. Его спокойная манера, свидетельствующая не о слабости, а о сдержанности, в случае нужды легко переходящей в энергию, сильно импонирует учащимся. Крик и вспышки учительского гнева, напротив, заразительно действуют и на учеников, пробуждая и в них один из самых распространенных в детском возрасте и в то же время самых опасных инстинктов. В школе, где учитель не владеет собой, дети сварливы, часто происходят ссоры и драки. А между тем ни один из пороков детства не представляет столько опасностей, как эти припадки бессильного детского гнева. С ними всего труднее бороться воспитателю. В самом деле, чтобы подавить в себе припадок ярости, необходимо такое напряжение воли, какое не по силам часто даже взрослому и развитому человеку. Мы не может и мечтать о том, чтобы слабая воля ребенка в состоянии была побороть сильный взрыв гневного, мстительного чувства. Вот почему особенно важно принимать все
меры к тому, чтобы возможно реже пробуждался зверь в душе наших питомцев. Если учитель служит или, по крайней мере, должен служить образцом для детей, которые ему подражают, то его гнев и раздражительность дети переймут тем скорее и легче, что и без того это чувство является одним из преобладающих в детском возрасте.
Чем большим уважением и доверием пользуется учитель, тем сильнее действуют на учеников его примеры и внушения. Некоторые из современных ученых отводят примеру и нравственному внушению самую главную, решающую роль в деле воспитания. Еще Шекспир сказал, что «человек, воображая себе ледники Кавказа, может принять раскаленный уголь за лед». О силе нравственного внушения заключают по влиянию, какое оказывает на человека внушение во время гипноза.
Впрочем, гораздо раньше, нежели были изучены явления гипноза, известно было множество фактов, указывающих на то, что и в нормальном состоянии мы усваиваем такие представления, чувства и желания, которые были внесены в нас посторонним влиянием. Стоит кому-нибудь в большом обществе с уверенностью сказать, что в помещении пахнет угаром, и почти всегда найдутся люди, которые сейчас же почувствуют и запах угара, и даже головную боль.
То самое, что сразу делается в такой удивительно резкой форме и с такой исключительной силой с гипнотизируемыми, мистиками или больными, делается тихо, незаметно, медленно и постепенно со всеми нами, и особенно с детьми, путем нравственного и умственного внушения семьи, школы, друзей, окружающей среды, путем книг и устного слова и путем примеров. Если бы можно было изолировать ребенка от постоянного, изо дня в день влияния общественной Среды, то его умственное и нравственное развитие осталось бы в зачаточном состоянии. В последнее время Бине и Анри14 производили любопытные опыты, доказывающие, что простое внушение изменяет даже результаты личных наблюдений. Один из опытов производился следующим образом. Ребенку показывали линию и затем предлагали найти ее в другой таблице линий то путем непосредственного сравнения, то на память. Когда ребенок давал ответ, ему говорили: «Уверены ли вы, что это действительно та линия, которую вы ищете? Разве это не та, которая с ней рядом?» При этом оказалось, что из 100 детей, давших сначала верные ответы, отказались под влиянием внушения от первоначального показания 50 детей. На детей, давших неверные ответы, внушение оказало еще более сильное влияние. Из 100 детей, давших ошибочные показания в первый раз, отказались от первоначального ответа 72 ученика. Группируя данные своих опытов по возрастам, Бине и Анри пришли к выводу, что возраст оказывает огромное влияние на силу внушения и, чем ребенок моложе, тем это влияние сильнее. Если первый способ — способ гипноза — ненормален, вреден для здоровья гипнотизируемого, то другой способ, основанный на убеждении и примере, признается нормальным, здоровым и естественным. Если эта теория справедлива, если действительно путем нравственного внушения и примера можно ослабить и даже с корнем вырвать любую вредную наклонность, страсть и привычку, можно развить, усилить и даже вновь создать любое доброе чувство, желание, дать надлежащее направление воле и действиям, то в примере и нравственном внушении мы имеем такую огромную силу, с помощью которой можно делать чудеса в области воспитания. Если это учение основательно, то нет такого порока, нет такого вредного инстинкта, такой наклонности — наследственной или приобретенной, все равно, — которая не уступила бы воздействию искусного воспитателя, нет таких побуждений, которые нельзя было бы привить воспитаннику. Гипноз вреден для здоровья гипнотизируемого и потому запрещен законом; но нравственное внушение в руках хорошего воспитателя, ничем не вредя здоровью детей, освящено правами, обычаем, опытом всех народов. Поэтому существенно важно определить, насколько позволяет современное состояние психологии, при каких условиях нравственное внушение примером или словом наиболее действенно. Всего сильнее, по-видимому, действует на детей привлекательность живого примера. Болезненно-нервные люди крайне впечатлительны ко всякому примеру. На них заразительно действуют и движения рук, и жесты, и душевные движения, проявляющиеся в тоне голоса, в чертах лица и в слове.
Учителям хорошо известна заразительность примера. Хороший учитель простой игрой мускулов своего лица, жестами и тоном своей речи может вызвать любое настроение в своем классе — и веселое, и оживленное, и серьезное. Его аккуратность, приход в класс минута в минуту, вызовет и аккуратность учеников, его халатность отразится на них точно так же. Его трудолюбие заразит учеников, и в классе создастся трудовая атмосфера, перед которой не устоит никакая леность. Самый ленивый начнет работать, когда все кругом него заняты. Самый шаловливый ребенок затихнет, когда кругом него царит безусловная тишина. Самый апатичный ребенок станет интересоваться уроком, когда попадет в кружок товарищей, проникнутых живым интересом к учебным занятиям.
О способности ребенка к подражанию хорошо знают матери и няньки. Хорошо известно, что ребенок, живущий в обществе детей, которые только что начали ходить, гораздо быстрее выучивается этому искусству, чем тот, кто не имеет такого примера перед глазами.
В русских школах сделаны любопытные наблюдения. Там, где дети старшего возраста читают выразительно, младшие дети выучиваются выразительному чтению несравненно быстрее, нежели дети, предоставленные самим себе. Там, где старшие любят читать книги из детской библиотеки, младшие сами собой перенимают от них этот интерес к литературе...
...Самым благоприятным условием заразительности примера
является то, если кто-нибудь вызывает в ребенке чувства восторга, обаяния, восхищения. Пирогов рассказывает, какое сильное впечатление произвело на него, тогда ребенка, посещение их дома известным в Москве доктором Мухиным, приглашенным к больному брату... И с этих пор игра в лекаря стала любимой игрой будущего знаменитого врача. «Успех, сопровождаемый эффектной обстановкой, возбудил уважение ребенка к искусству, — говорил Пирогов, — и я, с этим уважением именно к искусству, начал впоследствии уважать науку... Таким образом, одно сильное впечатление в детстве дало направление сначала игре-подражанию, а потом и самой жизни» (соч. Н. И. Пирогова. Т. I. С. 131)15. Выше мы говорили о другом условии, благоприятствующем внушительности примера. Пример тем заразительнее, чем большей привязанностью детей пользуется тот, кто служит им образцом для подражания.
Предметом для подражания, как это видно уже из приведенных нами примеров, служит все: движения, поступки, чувства, даже особенности мышления. Отсюда видно, насколько важно обращать внимание детей на примеры из окружающей жизни, достойные подражания, и оставлять в тени дурные примеры, насколько важно, чтобы учитель, пользующийся привязанностью детей, сам служил лучшим и привлекательным примером для подражания. «Учитель служит для учеников, — скажем словами Дистервега16, — поучительнейшим и поразительнейшим предметом наглядного обучения». Он полон внимания к нуждам детей и сострадания к несчастным; дети видят это и сами делаются добрее, вежливее, деликатнее. Он мягок, человечен в обращении с детьми, питает отвращение к жестоким мерам — и дети невольно заражаются его примером. Он трудолюбив, аккуратен в исполнении своих обязанностей — и дети подражают ему. Но так же заразителен пример учителя и обратного характера. Его леность сделает ленивыми и учеников, его манкировки отразятся и на манкировках класса; его неумение владеть собой, его раздражительность передадутся и ученикам. Ученики переймут даже его манеры, его особенности речи. Можно найти высокопоучительные примеры для подражания иногда в самых низших слоях населения, в убогой деревенской хате, даже среди прислуги. Когда стараешься объяснить себе, каким образом мог сложиться такой великодушный характер, каким отличался Песталоцци, на памятнике которого вычеканены слова: «Все для других и ничего для себя», то невольно вместе с его биографами и ним самим останавливаешься на высокогуманном влиянии на него в раннем детстве простой деревенской девушки, прислуги его семьи Бабэль.
...Если таково действие примера, то мы не можем сомневаться и в действии слова, и, в частности, в действии образа, воспроизведенного в книге, в рассказе учителя, в действии, наконец, прямого совета и приказания, данного учителем, матерью, няней.
Не менее важно, чтобы в книгах дети находили больше примеров привлекательных, вызывающих чувство восторга, которым подражать для детей возможно, и нужно как можно осторожнее относиться к изображению дурных поступков, хотя бы даже с целью произвести на детей впечатление ужаса. «Ужас притягивает к себе человека, как птичку притягивают глаза очковой змеи», по выражению одного писателя. Яркий образ уже в силу своей напряженности может привести к действию. Так, иногда люди выбрасываются из окна из страха выброситься, наносят себе раны из страха поранения.
О том, как должен поступать учитель с образами, рисующими отрицательные явления жизни, я говорю в другой своей работе об объяснительном чтении. В этой статье я прихожу к выводу, что рядом с образами, выражающими отрицательные явления жизни, необходимо давать детям образы, изображающие противоположные, положительные качества. Тогда выступит перед детьми красота человеческой души. В «Русском букваре» я противопоставляю рассказу о ссоре («Два хозяина») и о бессердечии («Лошадь и осел») несколько рассказов о взаимопомощи («Долг платежом красен», «Лев и мышь», «Отец и сыновья») и т. д. Этот закон контрастов превосходно выражен в словах поэта:
Чем ночь темней,
Тем звезды ярче...
Аналогию этому явлению мы можем найти в законе контрастов в области ощущений. Попробуйте взять два одинаково черных куска картона. Положенные на одинаковый фон, они будут казаться одинаково черными. Но стоит один из них положить на черный бархат, а другой — на белую бумагу, и два одинаковых куска картона покажутся вам кусками разного цвета: один — посветлее и покажется только серым, а другой станет еще темнее, чем был. Здесь важно отметить, что один и тот же поступок можно изобразить то как милую шалость, то как гнусную подлость. И надо особенно остерегаться рассказов, где порок рисуется в привлекательных образах...
...Первым условием нравственного внушения является то, чтобы говорящее лицо пользовалось полным доверием ученика, верящего в его искренность и правоту, чтобы его слово не вызывало в детях ни малейшего сомнения. История полна примерами, насколько заразительна вера. Верующий в свое дело человек, верующий без сомнения, без колебаний, увлекает и ведет за собой толпу...
...Итак, еще раз: первое условие, чтобы наше нравственное внушение имело действие на ребенка, — это чтобы оно не-вызывало никаких сомнений в нем. Пусть слово учителя, его совет, его требование выражают твердую уверенность в справедливости его мысли, крепкую волю и убежденность в том, что дети поступят именно так, как он этого хочет. Пусть эта уверенность выразится и в его тоне, и в его жестах, и в его речи, и в его действиях, последовательности, прямолинейности и устойчивости.
Ребенок еще не привык к отвлеченному мышлению. Ему нужны образы, движение, краски, звуки, живые формы, а не
абстрактные формулы. На ребенка действует прежде всего то, что он видит или слышит, то, что делают его окружающие. Пусть вера учителя в свои идеи выразится в энтузиазме. Энтузиазм заразителен, тогда как непоследовательность в словах и поступках, противоречия между словами и делом будут иметь самые пагубные последствия. Ничто так не подрывает доверия к учителю, веры в целесообразность и справедливость его требований, как непоследовательность и произвольность его внушений, советов и приказаний...
...Учителя наших средних учебных заведений сделали следующее интересное наблюдение. «Поступающие в учебные заведения дети, — говорит А. Н. Острогорский17, — обыкновенно обнаруживают полную готовность выполнить все те внешние требования, с которыми они встречаются в школе. Они знают, что надо успевать в класс до прихода учителя, что надо сидеть во время урока тихо, вставать утром, когда будят, и пр. Порядок школьной жизни представляется этим новобранцам неизбежным, да сверх того — и это также важно — и разумным. В это время дети если и нарушают порядок, то отнюдь не ради протеста или сознания, что правила — пустяки, нечто несущественное, а потому, что либо еще не привыкли к порядкам, плохо знают правила, либо не умеют распорядиться временем или самими собой... Нарушения дисциплины обыкновенно начинают являться позже, когда учащиеся поприсмотрятся к школьным порядкам и увидят, что они далеко не обладают незыблемостью, да часто грешат и против разумности».
Вторым условием наилучшего действия нравственного внушения является сознательность. Надо, чтобы ум ученика воспринял наше требование как логически и незыблемо обоснованное, чтобы он не только поверил в его справедливость, но и понял это. Если в его уме будут мнения, противоречащие тому, на чем вы настаиваете, то дело ваше проиграно...
...Доброе внушение может встретиться с дурными убеждениями, на стороне коих может остаться победа даже в случаях прямого гипноза. Тем более это может быть в деле нравственного внушения, не обладающего и десятой долей той силы, какой обладает гипноз. Необходимо, значит, разрушить преграды, какие ставят ложные мнения ученика нравственным внушениям учителя, необходимо обращаться к рассудку ученика, к его чувствам, к его воображению, чтобы подготовить почву для добрых внушений. Здесь имеют место все указания педагогики относительно умственного развития детей, и прежде всего требование, чтобы беседы и рассказы учителя были выражены в самой простой форме, приноровленной к развитию и характеру детей, и интересовали их. Необходимо так поставить дело воспитания и обучения, чтобы ученик исполнял все свои обязанности и работы не потому, что этого требует от него учитель, а потому, что эти требования в глазах ученика являются разумными, целесообразными, необходимыми или, по крайней мере, полезными для самого ученика. Очень важно, чтобы все занятия детей, насколько это позволяет далеко не совершенная в этом отношении организация современной школы, носили непринужденный характер. Говорят, будто это невозможно, нельзя будто бы без принуждения заставить ребенка учиться. Нет, при изменении методов и программ преподавания в смысле согласования тех и других не с предметами обучения, а с природой ребенка такая постановка будет делом неизмеримо более легким и более естественным, чем современная организация школьного преподавания. Именно так, без малейшего принуждения и посягательства на свободу ребенка, обучал своего сына Песталоцци, объясняя каждое свое требование, но предоставляя ребенку самому решать, хочет ли он ему следовать. То же самое делал и граф Толстой в Яснополянской школе. И однако же и тот, и другой достигли поразительных результатов в деле обучения. Сын Песталоцци, учившийся только тогда, когда желал, и только тому, чему желал, оказался хорошо подготовленным к поступлению в институт, и из него вышел прекрасный молодой человек, к сожалению, слишком рано сошедший в могилу. Ученики Толстого уже на школьной скамье писали такие сочинения, из коих некоторые Толстой признал образцовыми и напечатал в одном из томов своих сочинений. И в том и в другом случае роль учителя сводилась лишь к тому, чтобы заинтересовать детей предметом обучения и подействовать на их волю через посредство разума, путем убеждения. Ребенок же был свободен и ограничивал себя только своим личным разумением. Стоит побывать на уроке любого хорошего учителя, посмотреть, как он приковывает к уроку внимание детей силой одного интереса, как дети счастливы, оживлены на этих уроках, как блестят их глазки, сколько в них увлечения, и станет совершенно понятным, как легко, как возможно, ничем не насилуя воли ребенка, передать ему гораздо больше знаний, чем требуют наши программы, а что важнее всего — любви к этим знаниям, интереса к ним, увлечения самим процессом приобретения знаний, стремления к самообразованию. И для этого нужно так немного, необходимо только одно: сообразоваться не с бездушными программами и схоластикой, даже не с анализом предмета преподавания, а с психологией ребенка, с фактами детской души, с интересами и потребностями ученика, с его природой.
Мы сказали, что внушить какую-нибудь мысль — это значит внушить веру в эту мысль. Внушить какое-нибудь действие — это значит внушить веру в то, что мы можем произвести это действие и произведем его. Очень часто внушить ребенку, что он обладает такими-то нравственными качествами или легко может обладать ими, значит изменить в данном направлении его нравственную личность. Если вы внушите ребенку, как это, к сожалению, нередко делается неразумными воспитателями, что он зол, что он ленив, что он глуп, что он вас ненавидит, то ребенок действительно будет считать себя злым и будет оправдывать это мнение о себе своим поведением, он будет действительно считать себя ленивым и не будет готовить уроков, он действительно будет смотреть на себя как на дурака и потому не возьмется ни за какую работу, требующую ума, он будет действительно ненавидеть вас и устраивать вам неприятности. Вот каких результатов достигают учителя, когда с их уст направо и налево сыплются аттестации: этот — дурак, этот — лентяй, этот — шалун, а этот ненавидит учителя. Чем больше убеждения вносит учитель в такие слова, тем хуже для него, тем хуже для детей. Слово мало-помалу облекается в плоть, несправедливая вначале аттестация впоследствии становится фактом. Внушение достигло результата, но результата плачевного. У детей неразумный учитель отнял самое лучшее достижение — веру в добро и способности, вложенные в них природой, и заменил верой в злобу и глупость, которые они начнут отныне культивировать в себе. Я не знаю ничего ужаснее такой системы. Начать с того, что такие аттестации всегда ложны, несправедливы и представляют клевету на природу человека. Разве не слыли неисправимыми лентяями в школе Байрон, Шекспир, Ньютон, Вальтер Скотт, Гоголь, Шеридан, Белинский» и другие...
...Нет, надо со всей силой веры в хорошие стороны детской природы, с непоколебимой уверенностью в торжество добра и лучших способностей этой природы над злом и дурными склонностями внушать детям, что они могут, что они в силах делать добро и что они, наверное, будут его делать, что они достаточно умны и в состоянии понять все, что дает им школа, книга, учитель, что они способны и на дружбу, и на любовь друг к другу и к вам самим и что между вами и ими не может установиться никаких других, кроме самых добрых, отношений. Дать ребенку веру в свои силы, в дббро, зародыш которого положила в нем природа и ждет, чтоб ему дали простор, — это первое, что должен сделать учитель. Это первое условие, чтобы из ребенка вышел человек не с атрофированной волей, фаталист, считающий безумием всякое великодушное дело, требующее жертв, энергии и сил, а верующий, убежденный, энергичный энтузиаст, умеющий любить и работать, мужественный и стойкий в минуты неудач, человек с развитым умом, добрым сердцем и твердой волей.
Ребенок так мал и слаб, так беспомощен, он так неопытен, он спотыкается на каждом шагу, его маленькие пальчики так неуклюже держат перо и карандаш, хотя, может быть, из него потом выйдет замечательный художник, для него составляет такой неимоверный труд сложить два числа первого десятка, хотя, может быть, он станет затем выдающимся математиком; он так застенчив, что каждое его слово, робко сказанное им во время урока, каждое поднятие руки, каждая буква, написанная им на классной доске, каждый жест, которым он сопровождает свою речь, стоит ему неимоверных усилий, мужества (Гюйо). Эта застенчивость, неуверенность в себе угнетает его мозг, сковывает его язык, его маленькие ручки...
...Не подрывать в нем веры в свои силы надо: этой веры у него мало и без того. Не утверждать надо, что он глуп и зол: он и без того склонен считать себя таким, хотя это совсем несправедливо. Надо побороть в нем его застенчивость, надо развязать его язык, надо уверить его, что и «ему в божьих дарах не отказано, что и сам он других не глупее». Он сделал ошибку в ответе, наведите его на правильный ответ и ободрите его, посоветуйте, как он должен поступить, чтобы добиться верного ответа. Он сделал проступок — будьте его защитником, найдите смягчающие обстоятельства, дайте практический совет, как ему легче воздержаться и впредь от подобных проступков, и выразите ему твердую надежду, что он этого проступка более не повторит...
...А ребенок не может в сущности быть злым. Если он делает зло, он делает его импульсивно, ненамеренно, только под впечатлением минуты, в моментальной вспышке гнева или другой какой-нибудь страсти. Так легко при этих условиях быть снисходительным к нему, так легко растолковать ему, что он сделал проступок, потому что случайно рассердился, так легко внушить ему, что впредь он будет воздерживаться от этого чувства.
Мальчик ленив и не делает уроков, но учителя еще не развили в нем трудолюбия. Несправедливо его называть лентяем: из него может выйти потом образец деятельного человека. Гораздо лучше дать ему посильную маленькую работу, тоном, не допускающим сомнений, выразить уверенность, что он ее непременно сделает. Необходимо вообще избегать работ, хоть на волос превышающих силы детей. В школе есть отстающие ученики, надо устроить с ними особые занятия, но необходимо сделать это так, чтобы эти занятия никому не могли внушить презрения к их слабости. Ничто так не портит людей, как презрение, которое они чувствуют на себе, и обратно: ничто так не поднимает человека, как уважение к нему окружающих...
V
Нам нечего говорить о том, что воспитание, основанное только на законах подражания, на заразительности примера, красивого образа, выраженного словом или красками, — вообще, на внушении извне, — будет неполным. Учитель должен овладеть этой способностью, потому что все равно ученики будут подражать всему, что они видят или слышат, и необходимо направить как следует эту преобладающую склонность детского возраста. Но одного этого мало. Подражание может быть, по выражению Грибоедова, тупым, пустым и рабским; человек, живущий только одними внушениями извне, не свободен, он раб своей среды, он инертен, лишен инициативы. Он годится для того, чтобы идти за стадом или в стаде, по хорошо проторенной дороге, слепо следовать моде в костюме, поведении и поступках, более всего бояться показаться не таким, как другие; но он лишен всякой
оригинальности, он не сделает даже попытки освободиться от оков, налагаемых на него рутиной.
Еще дедушка Крылов сказал: «Когда перенимать с умом, тогда не чудо и пользу от того сыскать, а без ума перенимать, и боже сохрани, как худо». Необходимо, чтобы человек был сам господином своих поступков, чтобы он подчинялся только внушениям своего разума и своей совести, чтобы он внутри себя носил идеалы, достаточно высокие для своего времени и своих сил, чтобы он развивал в себе чувство долга...
...К возможно полному развитию этого чувства можно было бы свести все наше нравственное воспитание. Развить чувство долга — это значит сделать человека высоконравственным существом. Любить добро не ради внешних выгод, которые оно может доставить (оно может и не доставить этих выгод, а, напротив, может причинить страдания), а для него самого, действовать так, чтобы твое поведение могло стать всеобщим законом и вело к благу для всего человечества, — это значит поступать согласно со своим долгом...
...Мы не думаем, конечно, чтобы в начальной школе, в возрасте 11 — 12 лет, можно было говорить об идее долга в высшем значении этого слова; но развить элементы, необходимые для этого, может и начальная школа. Да и образование народа не заканчивается в детской школе, а только начинается в ней. Начальная школа уже и теперь дает своим питомцам и потребность к дальнейшему самообразованию, и средства для этого. Кроме того, рядом с начальной школой и в связи с ней уже и теперь существует целый ряд учреждений для внешкольного образования народа, как, например, народные чтения, библиотеки-читальни, воскресные дополнительные классы, книжные склады. Воспитание, начатое в‘ школе, переходит в самовоспитание по выходе из нее.
Нет выше заслуги в самовоспитании, как развить нравственное чувство. Развить это чувство, иметь силу подчинять все свои поступки требованиям совести — это значит навсегда, на всю жизнь определить направление своей деятельности, своего образа жизни, это значит дать самое верное средство честно и по совести прожить жизнь, без вреда для своей нравственности пройти мимо всех прелестей и соблазнов, мимо всех искушений, прожить, не нуждаясь в посторонней помощи, с возможно большей пользой для ближних, для родины, для людей вообще.
Первым условием развития этого чувства в ребенке является вера в свои силы, вера в то, что он может, что он в силах делать добро и воздержаться от дурных поступков и желаний. Если этой веры не будет у ребенка, если неразумные воспитатели или родители отняли у него эту веру, ребенок не сделает даже попыток подавить какой-нибудь импульс, который противоречит его понятиям о добре. Может быть, его будет мучить потом совесть, но он будет пассивно переносить эти мучения, как неизбежное зло, как хромой свое физическое уродство, удручающее его.
Для того чтобы руководиться в своей жизни идеей долга, требованием совести, кроме веры в свои силы нужна еще развитая воля и, прежде всего, развитой ум, который один в состоянии дать надлежащее содержание нашим понятиям о нравственных обязанностях, дать направление нашей совести.
Скептики в деле воспитания указывают на противоречие между словом и делом, так часто встречающееся в жизни. Все мы знаем, говорят, что надо любить ближнего как самого себя, что это наш долг, все мы знаем, что без этой любви, и притом деятельной, а не созерцательной только любви, самые лучшие наши речи будут кимвалом бряцающим, медью звенящей. И однако же у всех ли из нас это знание воплощается в наших делах, в наших поступках?
Подобные нарекания на область ума, так часто повторяемые, могут быть приняты, однако, с большими оговорками. История знает множество людей, высокоразвитых в умственном отношении и обязанных своему уму тем, что они побеждали страсти. Стоит указать на основателей религий, на Августина, который, вопреки своей страсти к удовольствиям, вел безупречную жизнь, на Сократа, поборовшего дурные наклонности и согласовавшего свою жизнь с своими принципами, на Канта, подчинявшего, как сказано выше, личные склонности идее долга.
В ряду противоположных явлений, когда высокое умственное развитие сопровождается разладом с делом, мы очень часто можем найти объяснение такому разладу в неполноте или неточности знания, в отсутствии твердых убеждений. То, что люди твердо знают, в чем они убеждены без всяких колебаний и сомнений, они почти всегда воплощают в жизни. Никто не станет рубить своей ноги топором. Никто, если только ему не надоела жизнь, не бросится вниз с колокольни.
Даже в области морали, где менее всего можно в настоящее время искать твердых, всеми одинаково понимаемых истин, и там большинство людей, не лишенных ума, не станут в наше время практиковать родовую месть или рабство. Если бы все нравственные истины были формулированы так же точно и доказаны так же бесспорно, как некоторые законы физики, химии и физиологии или как математические теоремы, то разлада между словом и делом было бы, наверное, меньше...
...Лучшим средством для развития идеалов в детях мы считаем непосредственное влияние на них хорошего учителя, если только он сам носит в своей душе определенные и ясные идеалы, если он осуществляет их в своей жизни, если слова его не будут медью звенящей и кимвалом бряцающим.
Если ученики любят своего учителя, если они считают его образцом нравственности, влияние его будет огромным. Ученик видит, что несправедливый поступок заставляет глубоко страдать его дорогого учителя, что это страдание выражается в тоне его голоса, в игре его физиономии, и ребенок не может не сочувствовать горю любимого и уважаемого им человека, не может не
страдать вместе с ним при виде низкого, подлого поступка; не может вместе с ним не питать отвращения ко лжи, грубому проявлению эгоизма, лености, буйству, бессердечию, обиде слабых. Ребенок видит, какую радость доставляет любимому им учителю всякое проявление дружбы, жалости к другому, всякая помощь, оказанная товарищу, прощение нанесенной обиды, и он не может не разделить этой радости, которую учитель не скрывает от него; он не может не восхищаться поступком, который вызывает одобрение дорогого для него наставника. Это наглядное обучение нравственному чувству, где учитель сам из себя представляет лучшее наглядное пособие.
Тысячи фактов показывают, как велико обаяние убежденного учителя на ученика. Художник Репин в своих воспоминаниях рассказывает о влиянии на него Крамского...
...Стоит прочитать воспоминания о Грановском18, чтобы представить себе всю силу обаяния, какое производил этот человек на своих слушателей. Конечно, учитель начальной школы не Грановский, но зато у первого и не та аудитория, какая была у Грановского. Для деревенской школы нужны другие темы и другая форма. /Гам Грановский был бы слишком высок и не был бы понят. Но влияние учителя на учеников и там подчиняется тем же законам. И там нужна и искренность, и сила убеждений, и вера в свое дело.
Другим средством для развития идеалов мы считаем литературу. Из нее ученики узнают о людях труда и энергии, о борьбе и жертвах, принесенных ими для осуществления своих заветных целей, о препятствиях, какие им приходилось преодолевать, о поразительных результатах, ими достигнутых...
В тех школах, где преподается пение, полезно переложить иное стихотворение с гуманным содержанием на нехитрый мотив и петь хором. Влияние песни известно еще с древности. Когда спартанские воины терпели неудачи, афиняне прислали к ним певца Теропея, и его песни возбудили мужество спартанских воинов, чего не могли сделать все усилия их вождей. Мелодия дает настроение, она окрашивает чувством мысль, выраженную в песне, и потому сильнее действует на нашу волю. Но из этого не следует, конечно, чтобы стихотворение само по себе, без мотива, не производило впечатления и не влияло на нашу волю. Мелодия не изменит влияния стихотворения, а только усилит его.
Среди московских начальных школ начинает распространяться хороший обычай водить детей в Третьяковскую галерею. Недавно вышла брошюра О. П. Орловой «Два посещения с детьми Третьяковской галереи», которую мы рекомендуем московским учителям. Доступное пониманию зрителя высокохудожественное произведение может произвести на душу неизгладимое впечатление...
VI
Есть люди, додумавшиеся до высоких и чистых идеалов, но неспособные провести их в жизнь по недостатку энергии воли. Обломов мог бы додуматься до самых великодушных идей своего времени, мог бы определенно и ясно формулировать свои идеалы и в то же время не двинуть и пальцем для того, чтобы воплотить их в действительность. Можно указать на Кольриджа19, вся жизнь которого представляет разительный контраст между огромной силой ума, богатством воображения, с одной стороны, и бессилием воли, с другой. Люди этого типа здраво рассуждают, знают, что им надо делать, но не могут взяться за дело с должной энергией. Когда мы серьезно и глубоко думаем, мы переживаем состояние, противоположное тому, когда мы энергично действуем. Но мы впадаем в большую ошибку, если на этом основании станем противополагать энергию воли уму. В нашем мозгу все органы так тесно и неразрывно связаны друг с другом, что при гармоническом развитии всех наших умственных и нравственных сил все три главные способности души помогают, а не противоречат друг другу. Поэтому необходимо одновременно развивать и ум, и чувства, и волю, отводя первое место уму. Для нашей деятельности, для нашей воли нужен стимул, а этим стимулом может служить только чувство; но у нас нет никакого другого способа пробудить в себе чувство, как посредством представления, образа, идеи, а это относится к сфере ума. Прежде, нежели стремиться достигать наших желаний и приступить к действию, мы должны представить себе этот предмет желаний в нашем уме; но холодное, не согретое чувством представление тоже недостаточно, чтобы заставить нас действовать. Надо, чтобы вызванное в уме представление было окрашено, оттенено и согрето чувством. Чувство приятного заставит нас стремиться к предмету, чувство отвращения заставит его избегать.
Итак, без образа, без представления, без идеи нет чувства, а без чувства нет произвольного действия, для которого нужна еще энергия воли. Всякое ощущение заключает в себе известную долю чувства и в то же время стремление перейти в произвольное движение. А так как образы по своей природе сродни с ощущениями и представляют собой простое, хотя и ослабленное и неполное воспроизведение ощущения, то и в образах мы найдем те же три элемента: умственный, чувственный и волевой. Ум, чувство и воля — вот три неразрывно связанные звена одной цепи, вот три колеса, одно за другое цепляющиеся, вот три силы в одном соединении, где в действительности может играть преобладающую роль каждая из трех сил, но где главенство должно принадлежать первой из этих сил — уму. Специальное назначение наших нервных центров состоит в том, чтобы претворять наши впечатления в движения. Головной мозг не только орган сознания, но в то же время и орган, управляющий движениями. Всякое состояние сознания стремится перейти в действие, подобно тому как всякое раздражение в рефлексах влечет за собой движение. И если та или другая идея или образ не повлекут за собой никакого движения, то это значит, что вся их сила ушла на внутреннюю работу, на то, чтобы вызвать в сознании другие связанные с ними представления и идеи. Психическая сила каждого из нас имеет известные пределы, и, расходуя слишком большую часть ее в одном направлении, мы естественно ослабляем на этот момент ее другие проявления. Итак, каждое состояние сознания переходит либо во внешнюю деятельность, либо на то, чтобы возбудить другие состояния сознания, т. е. на внутреннюю душевную деятельность. О связи между волей и сознанием свидетельствуют и опыты физиологии.
Физиологи пришли к следующему заключению, что исходной точкой волевых импульсов служат нервные центры серой коры мозговых полушарий. Искусственно удаляя серую кору мозговых полушарий у животных, ученые ограничивают область произвольных движений, и животные, лишенные обоих полушарий, превращаются в автоматы. Они становятся способными производить только рефлективные, отраженные движения, вызываемые внутренними или внешними физико-химическими раздражителями. Стоит только устранить внешние раздражения — и все произвольные мышцы погрузятся в состояние полного покоя. Животные еще живут, дышат; их сердце бьется: как автоматы, они отвечают непроизвольно на каждое раздражение, но они не могут задержать ни одно из своих рефлективных движений, не могут без внешнего раздражения вызвать ни одно произвольное движение. Сила серого вещества мозговых полушарий — вот что с точки зрения физиологии обусловливает и энергию нашей воли, и ее постоянство, и ее быстроту. Чем быстрее истощается мозговая энергия, тем менее продолжительность и постоянство волевых усилий. При каждом усилии воли освобождается часть мозговой силы и направляется на произвольные мускулы, вызывая соответствующие движения. Каков механизм возникновения волевых усилий в сером веществе мозга — это пока неизвестно; но опыты показывают, что каждому волевому импульсу предшествует известное молекулярное изменение нервного вещества, проявляющееся в том, что в нем развивается электрическое напряжение. Это доказывается прямыми гальванометрическими исследованиями. Приставляют один электрод к передним частям полушария животного, а другой — к задним и наблюдают, что всякому произвольному движению конечностей предшествует отклонение стрелки гальванометра. Всякое волевое движение имеет центробежное направление, начинается в серой коре мозговых полушарий и распространяется по нервным путям.
Волевые усилия, как особая форма нервного возбуждения, носят общий характер, свойственный всем другим видам нервного возбуждения: они имеют известную продолжительность, распространяются по нервам с такой же строго определенной скоростью, как и всякое другое нервное возбуждение.
Но при этом физиология доказывает, что наша воля тесно связана с сознанием, с областью ощущения, представлений, чувств и идей. Органы воли и сознания заложены в одной и той же серой коре головного мозга. Когда прекращается сознание, перестает действовать и воля. Если у животного вырезать полушария мозга, то оно теряет не только волю, но и сознательное чувство и разум и обращается в сложную машину, действующую только автоматически. То же самое наблюдается в естественном сне, в обмороке, во время наркоза. Все, что ослабляет сознание, расслабляет и волю, и наоборот. Во время мозгового утомления обнаруживается усталое сознание, но вместе с тем и усталая воля. Достаточный отдых или усиленное кровообращение в области головного мозга, вызванное каким-нибудь напитком возбуждающего характера, восстанавливает и деятельность сознания, и деятельность воли. Подобно тому как не бывает рефлекса без раздражения, так точно не бывает и действия воли без ощущения, образа или идеи.
Связь между волей и миром представлений, идей и образов мы можем проследить и на следующей группе явлений.
Непосредственное влияние в области физиологической наша воля оказывает почти исключительно только на мышцы скелета. Вся сфера кровообращения и пищеварения находится вне прямого влияния нашей воли. Независимо от нашей воли совершается и дыхание, хотя здесь наша воля может то ускорять, то замедлять или задерживать, то ослаблять, то усиливать этот процесс. Гораздо обширнее даже в физиологическом смысле посредственное влияние нашей воли. Воля, руководимая разумом, управляет нашим вниманием, а учителям хорошо известно, что все обучение сводится в сущности к развитию внимания. Не менее важна роль внимания и в области чувства. Направленная не на мускулы, а на область представлений, наша воля, думают многие психологи, может заставить нас воспроизвести, например, чувство страха, что вызовет сокращение сосудов лица и бледность кожи, или представление о вкусном блюде, что вызовет усиленную деятельность слюнных желёз. Воля может управлять до известной степени нашими настроениями, оказывающими такое могущественное действие на все функции организма. Таким образом, прямо или посредственно наша воля может то подавить известное движение, замедлить, задержать или ослабить тот или другой процесс, но может и вызвать его, усилить или ускорить и, состоя сама под руководством разума, является регулятором в психических и даже физиологических процессах. Выходит, что ум и чувство являются главными факторами в развитии воли; но и воля в форме произвольного внимания является мощным фактором в развитии чувства и ума.
Далеко не всякое влечение будет проявлением нашей воли. Иногда какая-нибудь прочитанная фраза или вид случайно подвернувшегося предмета может разбудить в нас спавшее до тех пор опасное стремление. Часто рассказывают, как картинное описание какого-нибудь преступления находило подражателей. Нам рассказывали о попытках одного простолюдина подражать разбойнику Чуркину, описанному в одной дрянной книге Никольского рынка. Для этого нет необходимости даже, чтобы мы сознавали данную идею. Раз она существует хотя бы в нашей бессознательной памяти, она может влиять на наши поступки даже тогда, когда мы как будто забыли о ней и не сознаем ее. Мы не думаем постоянно о каком-нибудь поразившем нас несчастье, но оно и в не сознаваемой нами форме влияет на наше настроение даже тогда, когда все наши мысли поглощены другим...
...Вызванное таким настроением, осознанным или нет, все равно, таким случайным образом или идеей, внушение не будет делом воли. Совершенно напротив, оно часто вызывается наперекор усилию воли, которая не может с ним справиться, не может подчинить случайных импульсов нашему «Я»...
...Каждое представление, каждая идея несет с собой и известное внушение, известное влечение. Действие воли начинается тогда, когда мы стремимся каждое свое влечение согласить или подчинить своему разуму, своим принципам, своей личности, когда мы вносим во все наши стремления, во все поступки единство своего «Я». В конце книги мы скажем, как достигается это единство и в чем оно должно состоять. И чем сильнее, чем развитее наша воля, руководимая разумом, подчиненная нашему «Я», тем послушнее ей наши влечения, наши желания, тем больше у нас веры в свои силы, тем менее опасны для нас наши страсти, наши инстинкты, случайные, внешние влечения. Итак, первое условие для того, чтобы управлять собой, — это сильная воля, достаточный запас энергии в сером веществе мозговых полушарий. Но одной энергии мало. Необходимо еще определить направление этой энергии*. Нужна идея предмета, на который воля должна быть направлена. Надо дать содержание нашим волевым импульсам, а это может сделать только мир идей и образов, окрашенных чувством, — наши идеалы, наши взгляды, наши принципы, наши идеи.
Существенным признаком развитой воли служит единство и постоянство в действиях и сила. Мы встретим эти черты и у Канта, и у Цезаря, и у Микеланджело20. Но что иное это единство и постоянство в поступках, как не постоянство цели, какую поставили себе эти великие характеры, как не стройность их верности самому себе, согласованности во всех своих частях мира идей, и чувствований, и обусловливаемых ими стремлений?..
Эта тесная зависимость между умом и волей бросает свет и на то, почему большая разница существует между проявлениями воли у неразвитого человека и у образованного, у дикаря и у культурного современного европейца, у ребенка и у взрослого человека. Идеи невежды, ограниченные в числе, мало связанные одна с другой, близки по своему характеру к ощущениям. Всякое зозбуждение у такого человека ограничивается одной какой-либо частью центров, не связывается и не вызывает возбуждения в других областях коры мозговых полушарий, не встречает противовеса со стороны других идей, и потому решения такого человека быстры, почти внезапны, почти ничем не умеряемые их порывы обладают большой силой. Хорошо еще, если немногие из идей, проникших в их ограниченную психику, не представляют ничего опасного. В противном случае много бед в состоянии наделать такой человек. К этому типу людей относятся, например, дикари. Это дети со страстями взрослого человека, по выражению Тэйлора21. Они порывисты, легкомысленны, непредусмотрительны, подвижны и болтливы. Они способны и на самопожертвование, но в то же время и на грубое насилие.
По наблюдениям путешественников, умственная деятельность для них настолько тяжела, что десятиминутный разговор об их простой системе счисления причиняет им жестокую боль. Один миссионер, желая сделать дикарей более внимательными к своим беседам, обещал им дать по окончании разговора мясо, но очень скоро дикари прервали его следующим замечанием: «Ты много говоришь, а нам нужно только набить брюхо».
Естественно, что почти всякое возбуждение тотчас же, почти без размышления, выражается у них действием. Понятна также их поразительная склонность к подражанию. Их небогатому идеями уму большей частью нечего противопоставить естественной склонности перенимать. Путешественники рассказывают, что жители Огненной Земли и австралийцы в разговоре с собеседником воспроизводят все его жесты и движения. Они руководятся волей других людей, но ведь они в то же время думают мыслями других людей.
Тут также полная аналогия между умом и волей. Совсем другое дело, если новое впечатление встречается с одной из немногих идей, уже затвердевших в мозгу дикаря. Здесь мы имеем дело с преклонением перед рутиной неразвитого человека. Раз уж в его девственном мозгу проложены известные пути, ему нечего противопоставлять им из своего убогого умственного багажа. Отсюда его упрямство, его консерватизм. Все дикари и невежды, как и дети, упрямые консерваторы и будут горячо отстаивать все принятые ими верования и выводы, хотя бы они основывались на самом незначительном и случайном опыте...
...Быстрота решений и действий, с одной стороны, и упрямая настойчивость на привычности образа действий, с другой, — вот характерная черта неразвитого в умственном отношении человека. Но и здесь направление воле дают только идеи. В каждом отдельном случае идея, образ, впечатление вызывают один из инстинктов или одну из склонностей, которые бы без того непробудно спали в душе человека.
Почти всякая возникающая в уме идея окрашивается чувством, и чем больше доля этого чувства, тем сильнее идея действует на нашу волю. Не окрашенная чувством идея бессильна — это правда. Еще Фенелон21 подметил, что «из всех трудностей воспитания нет ничего мудренее, как воспитывать детей, лишенных чувствительности; все их мысли носят характер рассеянности, они все слушают и ничего не ощущают...»
...Мы говорили до сих пор о том, как идеи и образы через посредство чувства возбуждают волевые движения, но роль нашего ума, т. е. наших идей, образов, воспоминаний, имеет еще и другое — задерживающее значение. Когда та или другая идея вызвала к жизни известное стремление, оно даже в неразвитом человеке почти никогда не появляется в обособленном состоянии. В нашем уме идеи связываются одна с другой по законам ассоциаций. В нашем мозгу насчитывается более 600 млн. клеток, а число волокон между ними считается миллиардами. Бесчисленные связи между клетками головного мозга могут служить выражением связей между идеями. Вызванная в сознании идея вызывает и другие, так или иначе связанные с ней, и чем развитее в умственном отношении человек, тем большее количество воспоминаний вызовет та или другая идея или образ. Он припомнит соответствующие прошлые опыты и их последствия, он представит себе своё настоящее, он выведет заключение о вероятных последствиях предстоящего поступка в будущем. Одни из этих последствий ему нравятся, а другие — нет. Таким образом, почти всякому действию развитого человека предшествует борьба между собой пробуждаемых в сознании многих идей, окрашенных многими же чувствами, действующими часто в противоположных направлениях. На эту борьбу нужно время, и вот почему ум оказывает часто задерживающее влияние на нашу волю. Франклин23 имел обыкновение, прежде нежели принять какое-нибудь решение, записывать все доводы, pro u contra24, затем зачеркивать равнозначащие, положительные и отрицательные доводы, и полученный аким путем остаток определял, надо ли принять данное решение или отвергнуть его. Нечто подобное происходит и в душе человека, прежде нежели он примет какое-нибудь сознательное решение. Мы могли бы также сравнить наш выбор действия с собранием или обществом, где решения принимаются на основании голосования. Как там, так и здесь вопрос решается большинством голосов. Но мы видели уже, что в решении нашей воли надо принять в расчет относительную силу каждого образа, вызвана ли она его яркостью или частыми повторениями. Хорошо известно, что даже слабые образы, постоянно повторяясь в различных комбинациях, могут усилиться до крайних пределов и подчинить себе все другие интересы. Капля, по римской пословице, долбит камень не силой, но часто падая. Рибо25 удачно сравнивает наши решения действовать с решением суда после бурных прений обеих сторон и опроса свидетелей. Почти всякое решение развитого человека вызывается не тем или другим впечатлением, идеей, образом, а идет по направлению равнодействующей всех идей, пробуждающихся в его сознании и отчасти даже забытых, хранящихся в области бессознательного, следов былого. И чем сложнее и богаче мир идей в нашем мозгу, тем более задерживающее влияние оказывает он на внешние стимулы, на волевые движения. Чем развитее человек, тем более возможных путей представляет он себе для того, чтобы ответить на то или другое внешнее возбуждение, тем сложнее его душевная работа, но тем безошибочнее будет и принятое им решение, тем менее порывистым, менее слепым и неудержимым становится каждое из его побуждений, тем реже он будет рисковать, бросать себя в действие, очертя голову, тем далее будет стоять он от состояния загипнотизированного или маньяка, у которого одна какая-нибудь идея является господствующей над всеми остальными. Кроме того, сильный ум обладает широким взглядом, он видит все идеи и действия в их относительном значении и подчиненности, ясно отличает важное и существенное от мелкого и ничтожного, поэтому он не станет увлекаться пустяками, хотя бы все его окружающие переносили на них всю свою страстность; он охотно отдаст свою жизнь большому делу, но сохранит ее, когда дело идет о пустяковых. Чем стройнее, чем более согласованы друг с другом идеи и образы, живущие в душе человека, тем более единства и постоянства будет в его действиях, тем реже будут встречаться в его поступках колебания то в ту, то в другую сторону, тем устойчивее будет его характер.
Сильный, богатый яркими образами ум, пользуясь энергической волей, подавляет одни из побуждений, которые он считает ничтожными по своему относительному значению, и дает простор другим, увеличивая и их силу, и их продолжительность. Он определяет и силу желаний, и их направление. Он изменяет даже относительное значение и инстинктов, и в этом нет ничего удивительного. Прошло то время, когда считали инстинкт чем-то не подлежащим исправлению. После Дарвина26 приходят к выводу, что инстинкты изменяются даже в животном мире, где они более устойчивы, чем у человека. В. Джемс27 рассказывает, со слов фермеров в А диранд аки, что, если корова отелится в лесу и ее нескоро найдут, теленок делается диким, как лань; напротив, теленок, появившийся на свет в скотном дворе, не обнаруживает никаких признаков дикости. Подобных примеров очень много, и они показывают, какую большую роль играют первые впечатления. Раз свивши себе гнездо на какой-нибудь ветке, птица в следующий раз возвращается на ту же ветку. Дикие травоядные, раз пожевав на каком-нибудь пастбище, снова возвращаются туда же. Если можно бороться с инстинктами в животном мире, где они до последнего времени считались навсегда определенными и неизменными, то тем более это возможно в человеческой среде, где инстинкту никогда не отводилось роли чего-то безусловно непреложного. И сама сила инстинкта уступает уму. Но ум нуждается в союзнице — в развитой воле. Нужна еще уверенность, что мы в силах исполнить требования нашего ума.
Когда присматриваешься к людям, то видишь, что многие из них восприимчивы к добру, что они имеют довольно определенные мнения о необходимых улучшениях в личной, семейной и общественной жизни. И очень часто они нё приступают к этим улучшениям только потому, что им недостает уверенности в своих силах, убеждения в том, что они добьются необходимых улучшений, если твердо захотят этого. Их воображение рисует перед ними тысячи всевозможных преград и затруднений, действительных и мнимых опасностей. Эти сомнения парализуют их волю, сковывают их руки, передаются их друзьям и знакомым, обрекают на бездействие и сон целые группы умных и знающих людей, создают в общественной жизни атмосферу стоячего, гнилого болота. Скептицизм заразителен, и свежие люди, попадающие в такую среду, тоже теряют веру в свои силы, у них тоже тает энтузиазм, засыпает воля, исчезает энергия.
Значение веры в свои силы легко выяснить на самых обыденных примерах. Для того, например, чтобы помочь другим, нам надо побороть в себе во имя долга целый ряд корыстных побуждений: нам жаль наших денег, наших трудов, нашего времени, наших лишений, и если мы думаем, что мы не в состоянии справиться с этими эгоистическими мотивами, мы не сделаем даже попытки в деятельной любви. Так же поступает и пьяница, отказывающийся бороться со своим недугом. Он прекрасно знает, что пьянство подтачивает его организм, губит его общественное положение, ослабляет его умственные способности; он бы бросил пить, если бы твердо верил в свои силы. Но вот стоило гипнотизеру внушить несчастному веру в себя, в свои силы, и вчерашний неисправимый пьяница сегодня делается надолго, и может быть навсегда, трезвым человеком...
...Психиатры знают множество примеров такого излечения силой веры в выздоровление, и многие из этих случаев настолько поразительны, что напоминают собой чудо. Стоит каждому из нас твердо поверить в свои силы, и мы при достаточном развитии воли в состоянии будем, например, бросить какую-нибудь из своих вредных привычек; каждый час победы над собой все более будет убеждать нас в твердости нашей воли, мы будем считать часы и дни наших побед над привычкой, радость победы над самим собой будет нам высшей наградой, она будет поддерживать нас в дальнейшей борьбе. Это будет уже воспитание воли, но начало ему положено было верой в свои силы. На примере пьяницы, бросающего вино, и на примере курильщика, бросающего табак, как и на всяких других подобных простых примерах, легко выяснить себе роль, какую играют воля и разум в том, что мы считаем своим долгом. В таком человеке борются две силы, два желания: одно — это страсть, другая — это желание — мысль, подсказываемая разумом, что курить не следует по тому-то и по тому-то. Без вмешательства воли возьмет верх несомненно первое побуждение. Но вот человек уверовал в силу воли, он отдает ее в распоряжение разума, и воля, если она достаточно сильна, делает то, что берет верх не первое желание, а второе. Мы все чаще и чаще возвращаемся к мысли бросить пагубную привычку, путем повторений и размышлений мы усиливаем эту мысль и можем сообщить ей таким образом яркость и силу, достаточную для того, чтобы противопоставить ее силе вредной привычки. Нам приходится употреблять усилия воли в двух случаях. Во-первых, когда мы хотим задержать импульс привычки, страсти или инстинкта и, во-вторых, когда мы боремся со своей ленью, апатией, робостью. Но в обоих случаях есть нечто общее и оно состоит в том, что там и тут мы встречаемся с сопротивлением. Сопротивления, а стало быть, и усилия воли не бывает только тогда, когда выбор и импульс совпадают, когда действие, доставляющее нам удовольствие, одобряется и разумом. Если этого нет, воля должна сделать усилие, чтобы задержать проявления низших инстинктов или привычек. И если нередко в этой борьбе одерживает победу разум, то это потому, что за ним стоит все наше «Я», весь наш характер, и мы верим в его силу. Не надо смешивать упрямство с верой в силу своей воли. Упрямый не тот, кто обладает твердой волей, а тот, кто противопоставляет свое мнение всем другим, кто не хочет слушать никаких доводов, хотя бы самых разумных. Упрямство — это нетерпимость, и оно может идти рядом со слабой волей, рядом с неумением справиться с самыми постыдными для самого упрямца привычками и склонностями. Но можно быть терпимым к чужим мнениям, можно быть готовым переменить свои мнения о данном предмете, если будут представлены очевидные опровержения наших заблуждений, и в то же время обладать сильной волей, иметь силы побороть в себе любой импульс, осужденный нашим разумом и совестью. Говорят, что человек существо разумное. Он видит в своей душе борьбу различных желаний, он выбирает одно из них, одобренное разумом, и с помощью воли подавляет все другие враждебные желания.
Но все это возможно лишь при условии сильной, развитой воли. Нет ничего трагичнее этой бессильной борьбы со своими эмоциями и страстями умственно развитого человека, но одаренного слабой волей. Мюссе28 рассказывает о себе: «Через четверть часа после того, как я ее оскорбил, я был у ее ног; как только я переставал обвинять, так я начинал просить прощения, от насмешки я переходил к слезам». По словам близко знавшей его Жорж Санд29, «он повиновался неутолимой потребности, испытываемой иными юношами, убивать или уничтожать то, что им нравится до страсти». Он был страстным обожателем чистой любви, но, раз согрешив, он ищет забвения, не может смыть с души позора, падает все ниже, хотя в мечтах не перестает подниматься вверх. Эта душевная драма ярко отразилась и в его поэзии, где пессимизм, безграничная нежность и грубый цинизм идут рядом.
Такова участь развитых и высокоодаренных людей, лишенных энергии. Они, по остроумному выражению Паскаля30, падают, глядя на небо. Они обладают достаточным умом, чтобы в каждом отдельном случае выбрать наиболее разумное и справедливое решение; но их выбор напоминает писанные, но невыполняемые законы. Им недостает энергии воли, чтобы привести свое решение в действие. Но как развить в ребенке энергию воли? Для этого существует только одно средство, и другого никакого нет, — это целесообразные упражнения воли.
Воля, как мы уже видели, есть функция серой коры мозговых полушарий, и потому волевая энергия, как всякая другая органическая способность, может развиваться и возрастать от целесообразных и посильных упражнений, перемежающихся с достаточным отдыхом. Воля, неспособная сегодня на известное усилие, может стать достаточно подготовленной для этого через известный период времени после ряда правильно организованных упражнений.
Давно известно, что функция создает орган. Еще вернее сказать, что упражнение усиливает орган. Хорошей иллюстрацией этого положения служат опыты излечения глухонемых. Наблюдения показали, что в огромном большинстве случаев у людей, считающихся совершенно глухими, слух не вовсе отсутствует, а только ослаблен до чрезвычайной степени. И вот глухому, который не реагирует на самые сильнейшие крики, раздающиеся над его ухом, приставляют телефонные трубки микрофонографа, издающего громоподобные звуки. Глухой приходит в крайне возбужденное состояние, жестикулирует, кричит, скачет по комнате, шумит, не может устоять на месте. Он испытал неведомые для него раньше ощущения. Он сам затем ищет звуки, колотит в стены, стучит по столу. В следующий раз он различает уже менее громкие звуки. Постепенно уменьшая силу звука, мало-помалу4 доводят глухого до того, что он начинает различать звуки самого обыкновенного человеческого голоса, и глухонемой от рождения начинает понимать речь, говорит сам, может учиться в обыкновенных школах наравне с другими. Этот закон физиологии относится ко всему организму. Если путем целесообразных упражнений можно было создать орган слуха, то можно теми же самыми средствами развить и всякие другие органы, и в том числе орган, функцию которого составляет воля.
Но этого мало. Все наши произвольные движения по мере повторения переходят в механически заученные движения, не требующие затем от нас никаких волевых усилий. Ум и воля замечают только направление, и раз оно заучено, дальнейшие движения совершаются сами собой, предоставляя нам возможность пользоваться волей для других целей. Для изучения какого-нибудь трудного гимнастического приема требуются большие усилия воли, и когда он основательно изучен, гимнаст делает его совершенно механически, без всякого напряжения воли. Так точно и всякое действие ребенка совершается сначала с большими усилиями и крайне медленно, но потом вследствие повторения и привычки становится для нас все легче и легче, требует все меньше и меньше времени и усилий и под конец становится почти бессознательным актом, чем-то вроде инстинкта. Можно привыкнуть не только к действию, что будет деятельной привычкой, но и состоянию, когда, например, ученики привыкают к шуму во время урока в плохо дисциплинированной школе и не замечают его; или же к тишине, и тогда всякое нарушение тишины вызовет неудовольствие и протест со стороны самих учеников — это будет уже пассивная привычка. Если эта теория справедлива, а ее трудно оспаривать, то благотворное влияние воспитателя, когда он образовал в воспитаннике хорошие привычки, простирается не только на всю последующую жизнь его питомцев, но и на будущие, может быть, даже очень отдаленные поколения. В убогой классной комнате скромный учитель нередко решает до известной степени судьбы тех, кто будет жить, когда умрем не только мы, но и наши питомцы. Считается бесспорным, что привычки труднее прививаются в зрелом возрасте и несравненно легче в период детства. Некоторые думают, что у детей иные привычки образуются чуть ли не с первого раза, как, например, привычка к грамотному или безграмотному начертанию данного слова, к правильному или неправильному его произношению. Мало того, привычки, приобретенные в детском возрасте, гораздо сильнее и прочнее, нежели привычки, приобретенные позже.
Степень развития привычки может быть измерена. Чем быстрее ребенок отвечает заученным действием на данный стимул, тем совершеннее привычка. Хорошим примером здесь могут служить уроки гимнастики, когда по команде учителя: «Руки вверх»! — все ученики моментально исполняют данное движение. Мы можем также измерять силу привычки по степени усилий, какие мы вынуждены употребить, чтобы воздержаться от привычного действия. Привычка, значит, — это следы уже совершенных нами действий, но в то же время и тропинка для нашей будущей деятельности. Ребенок консерватор по своей природе. Когда он повторяет что-нибудь, он требует при этом особенной точности. Задача учителя — проложить пути для нашей будущей деятельности. Итак, воля и разум полагают начало привычки, но привычка затем облегчает работу воли и самую волю освобождает для других целей.
Привычка — самый надежный союзник хорошего учителя. На первых порах учителю нелегко бывает приучить детей на уроках письма сидеть прямо, правильно держать корпус, перо, бумагу, сидеть тихо и т. п. Нелегко это потому, что первым условием образования привычек является непрерывность повторения, неослабность выполнения данных требований при данных условиях. Если учитель, например, в отношении письма будет возвращаться к своим требованиям время от времени, а в промежутках дети будут сидеть как попало, то дело образования привычек проиграно. Но вот учитель с первых же уроков приучит детей сидеть как следует. Он теперь может уже предоставить их самим себе. Ему на помощь придет образованная им привычка. Дети будут как бы инстинктивно, без всяких напоминаний и надзора сидеть как надо. Силы учителя, его внимание освобождены: он направляет эти силы уже на другие, более важные задачи. Освобождены и силы, и внимание самих учеников. Им уже не надо и самим следить за собой. Все делается по привычке, бессознательно, само собой. Теперь можно воспользоваться их свободными силами и пониманием уже для других, более важных и более трудных задач. Учителю стоит больших усилий поддерживать на первых порах порядок и тишину во время урока, предполагая, конечно, что он достигает этого не мерами строгости, а интересом и техникой преподавания. Но вот у детей образовалась пассивная привычка к тишине и порядку; И тишина уже поддерживается сама собой даже тогда, когда учителю не удается заинтересовать всех детей какой-нибудь, например, самостоятельной работой. Даже невнимательный ученик сидит тихо, не мешая другим. И ему это не стоит большого труда. Ему помогает привычка. Точно так же обстоит дело и с привычками вежливого отношения детей к другим. Сначала это требует забот и усилий и со стороны учителя, и со стороны самих учеников, а потом, когда на помощь приходит привычка, все делается чисто механически, почти без всяких усилий воли. Снабжая ребенка хорошими привычками, мы снаряжаем его тем, что необходимо для него на широкой самостоятельной жизненной дороге, где он не будет пользоваться ни нашей помощью, ни нашим надзором.
По отзывам народных учителей, доставлявших мне сообщения о своих школах в уездах, где мне приходилось руководить учительскими курсами, привычки к классным порядкам, к аккуратности, чистоте и опрятности, вежливости приобретаются во многих школах легко и быстро. Можно привить даже самым маленьким детям привычки нравственного характера. В колонии Роберта Оуэна31 была младенческая школа, где занимались три молодые девушки. Они успели возбудить к себе любовь детей своей кротостью и лаской. И, опираясь на эту любовь, они успевали внушить детям, что не следует обижать товарищей, что надо, напротив, доставлять им удовольствие. Они умели вовремя мягко предупредить всякое отклонение от этого принципа; но, раз усвоенный детьми, он делался регулятором их поведения, оно [поведение] становилось привычным и без труда сохранялось и в средних и в высших классах. Можно приучить детей путем постоянных упражнений в этом направлении рассматривать каждый свой поступок, каждое свое решение с точки зрения интересов других людей, интересов своего класса, своей семьи, своей деревни. Пусть вначале эти интересы будут для них слабым, едва заметным мотивом. Но, повторяясь постоянно, этот мотив станет расти и со временем может представить мощный рычаг всего их поведения -и образа жизни и деятельности. Если мы в темной комнате будем освещать моментальными электрическими искрами какой-нибудь рисунок, мы сначала не видим в нем ничего, кроме пестрого пятна, но по мере повторения мы начинаем различать контуры и окраску, а после 100 — 150 искр вся картина предстанет перед нами во всей своей ясности. Точно так и с привычками умственного и нравственного порядка. Почему один все свои поступки направляет в целях образования народных масс, другой — в целях личного обогащения, а третий — в целях приобретения власти? Только потому, что вследствие частого повторения каждый из этих мотивов усилился до того, что стал господствующим и подчинил себе все остальные. Было время, когда ныне господствующий в нас мотив был слаб и не оказывал большого влияния на наше поведение. Но обстоятельства заставили нас чаще и чаще возвращаться к нему, применять его к различным случаям жизни, думать над ним; вследствие повторения и привычки он рос и усиливался, получил преобладание над другими мотивами и стал доминирующим.
Правильно поставленные школьные занятия даже в смысле преподавания являются незаменимым средством для развития и укрепления воли. Здесь каждая самостоятельная работа, каждый вопрос учителя, каждая задача при целесообразной постановке дела заставляет ученика преодолевать известные трудности, но никогда не приводит ученика в отчаяние, потому что работы подбираются таким образом, чтобы они были посильны для ученика. Ни одна работа не должна быть ни слишком трудной, ни слишком легкой. Ученику школы приходится преодолевать затруднения не тогда, когда ему придет желание приняться за ту или другую работу, а немедленно, как только ему дан вопрос, задача или упражнение. Ему приходится, значит, еще бороться со своей ленью, рассеянностью, нерешительностью. Все это требует усилий воли, достаточно трудных, чтобы служить ее образованию и развитию, но не чрезмерных, чтобы они могли поколебать в ученике веру в свои силы. Вот ребенок налиновал тетрадь другому, это для него огромная победа над собой. Он отдал своему товарищу кусок калача: эта победа еще больше, потому что надо было победить в себе желание съесть самому весь калач. Желание это подсказывается эгоизмом, а эгоизм в ребенке так силен. Ребенку хочется играть, а он во имя долга садится за книгу. Это уже настоящая победа над самим собой. Она будет еще больше, когда ребенок во имя долга сумеет побороть в себе чувство обиды, воздержится от того, чтобы дать сдачу обидчику. Каждая такая победа стоила ребенку не только усилий, но и лишений, и страдания; и он добровольно шел на них. Это уже нравственный подвиг. Чем больше побед над своими низшими побуждениями во имя высших делает ребенок, тем более крепнет его воля, крепнут высшие побуждения, тем тверже становится его вера в свои силы.
Самое трудное дело в этом отношении — заставить ребенка добровольно в первый раз принести маленькую, вполне доступную ему жертву для другого. Стимулом для этого у ребенка служит чувство удовольствия, какое мы испытываем, приходя на помощь другому, но прежде надо знать, что такие поступки доставляют удовольствие, а для этого нужен опыт. Но в этом случае учитель может действовать на способность ребенка к подражанию. Ребенок видит, что окружающие его приходят на помощь друг другу, и если эти поступки практически выполнимы для него, он сам
захочет поступить так же. А затем развитию чувства симпатии помогут уже другие мотивы. Вот ребенок помог своему младшему товарищу приготовить урок, поделился сладостями с соседом, редко пробовавшим лакомства. Он видит, какое удовольствие он доставил своим подарком другому, и он не может и сам не почувствовать радости от достигнутого им таким образом результата. Учитель, одушевленный великодушными идеалами, поставивший одной из своих задач развитие добрых, основанных на любви отношений детей друг к другу, видит этот случай и сам не скрывает своего удовольствия и радости по поводу такого поступка. А это одобрение любимого учителя еще более усиливает радостное чувство ребенка, решившегося на маленькую жертву. И он не забудет этой минуты удовольствия и отрады. Завтра он захочет пережить такие же минуты и снова придет на помощь кому-либо другому. Если учитель не забудет выражать свое искреннее, неподдельное удовольствие по поводу таких маленьких жертв, у сердобольного ученика найдутся подражатели, взаимная помощь станет обычным явлением в школе. Позже эти высшие альтруистические побуждения, развитые путем постепенных и посильных упражнений, будут в состоянии справиться и с другими, еще более сильными из эгоистических побуждений. Перед нами будет человек, все более и более приближающийся к норме нравственного существа, умеющего побеждать или, по крайней мере, примирять свои личные интересы с общественными, помещать их в одном русле, где они будут помогать, а не противоречить друг другу. Сначала подражание и внушение, а затем самостоятельный выбор, опирающийся на предыдущие опыты. Все дело здесь в том, чтобы соразмерять каждый поступок, на который 4 мы наталкиваем ученика, с его силами. Каждая поставленная им перед собой цель должна быть практически выполнима: помочь другому в приготовлении работы, в выборе книги из библиотеки, поделиться учебником, карандашом, пером, куском хлеба, позаботиться о чистоте воздуха в классе, стереть пыль, вымести класс мокрым веником, проводить до дому маленького товарища и т. п. Только посильная работа может доставить ребенку удовольствие. Работа, превышающая его силы, повлечет за собой разочарование, отобьет охоту действовать в этом направлении. Цели, какие ребенок ставит себе в каждом отдельном случае, должны быть соразмерены с силами ребенка еще в другом отношении. Сначала это будут действия, рассчитанные на немедленные результаты. Ребенок ставит себе цель, которой он может достигнуть сейчас же. Позже это будут цели, достигаемые не вдруг, а постепенно, — цели, рассчитанные на более отдаленные результаты. Одно дело — вымести класс, а другое дело — посадить рощицу на школьном участке.
Большие затруднения для детей представляет искусство побеждать злые импульсы. В этом отношении мы считаем очень важным следующее правило. Надо бороться, надо направлять волю не прямо и непосредственно на желание сделать недобрый поступок — у ребенка не хватит на это энергии воли. Надо направить волевые усилия на саму мысль, отвлечь свое внимание от предмета или образа, вызывающего злое чувство; надо не думать об этом предмете, изгнать его из своего сознания, направить внимание на другой предмет, достаточно интересный и близкий, чтобы было легко сосредоточить на нем свои мысли. Ребенок обижен, и чувство обиды толкает его дать сдачу обидчику. Если он будет думать об обиде, он не справится со своим импульсом. Но ребенок любит картинки, игрушки, у него есть начатая, заинтересовавшая его книга, он любит какую-нибудь игру; и если он сейчас же займется рассмотрением интересных картинок, любимой игрой, он забудет о нанесенной ему обиде. Вы боретесь с какой-нибудь дурной привычкой, например с привычкой к табаку. Вас соблазняет и мучит мысль выкурить папиросу. Если вы будете думать о табаке и в то же время воздерживаться от своей привычки, очень возможно, что вашей воли не хватит на эту нелегкую борьбу. Но даже слабой воли достаточно, чтобы дать вашим мыслям другое направление, чтобы занять ваше внимание другим, интересующим вас предметом.
Вы боретесь с мрачным настроением, чувством горя, обманутой надеждой или досадой. Если вы оставите в своем сознании образы, составляющие истинную причину неприятного чувства, вам трудно будет справиться с собой; но вот вы усилиями воли направляете свое внимание на другие образы, способные приковать ваше внимание; или, если возможно, путем размышления вносите в самый образ, вызывающий мучительное чувство, поправки, открываете в нем новые стороны утешительного характера; и ваше настроение меняется само. Это знают матери, отвлекающие внимание ребенка от предмета ужаса, гнева или печали...
Очень важно путем опыта довести ученика до убеждения, что он не должен действовать по первому впечатлению и побуждению; что он должен воздерживаться от импульсивных поступков, должен предвидеть и взвешивать последствия поступка прежде, нежели он сделал его. Сегодня он под влиянием минутной вспышки обидел своего товарища. Он видел затем, как это огорчило учителя, как недовольны были им его товарищи, как его мучили затем и стыд, и совесть. Позже в аналогичном случае он припомнит предшествующий опыт, представит неприятные последствия поступка, станет уже взвешивать и соображать, переживет борьбу между непосредственным импульсом и представлениями о дальнейших результатах готового перейти в действие побуждения и, может быть, одержит над собой нравственную победу.
Путем упражнений, соразмеренных со своими силами, ребенок постепенно развивает свои высшие побуждения, а вместе с ними энергию воли. И он скоро сам заметит, как растут его силы, как работа, казавшаяся ему трудной сначала, становится легкой. Ряд
побед над своей ленью, рассеянностью, нерешительностью, эгоизмом еще более укрепляет его веру в свои силы, дает ему бодрость, светлое настроение. Несколько лет такой непрерывной работы над собой, постоянной борьбы со своими капризами и неразумными желаниями не могут остаться без результатов и способны выработать стойкий характер человека, умеющего управлять собой, своим вниманием, своими действиями, своими наклонностями и стремлениями, сознающего свои силы и верящего в них. При условии, что работа, предлагаемая ученикам, составляет переход от легких задач к трудным, но посильным для детей, в школе не будет места унынию, разочарованию, чего в особенности должен бояться учитель. Задача последнего выпустить из школы сильных, бодрых, способных к работе юношей, а не расслабленных, больных волей, не верящих в свои силы скептиков. С той же целью учитель располагает все занятия таким образом, чтобы за каждым достаточным и по напряжению, и по продолжительности усилием следовал и достаточный отдых. Вот почему число уроков в школе должно быть ограничено, а перемены между уроками удлинены. Физиологи целым рядом опытов доказывают необходимость отдыха для органов воли. Вот наиболее простая из демонстраций этого рода. Человек средним пальцем руки периодически поднимает и опускает тяжесть на определенную высоту. Скоро он устает и, несмотря на все свое желание, не может сдвинуть тяжести с места. Весь ряд этих движений пальца записывается посредством особого аппарата — эргографа. Но стоит только раздражить нервно-мышечную систему электрическим током — и палец по-прежнему поднимает тяжести. Стало быть, когда наступает усталость, то утомленными оказываются не мускулы и не нервы, а устали мозговые центры, служащие органом воАи. Стоит только возбудить в головном мозгу усиленное кровообращение, что достигается, например, приемом рюмки водки или стакана чая или, наконец, музыкой, и тотчас же замиравшие от усталости волевые движения восстанавливаются и тяжесть поднимается снова. То, что здесь достигается искусственно и едва ли без вреда для здоровья, то вполне естественно достигается достаточным отдыхом.
В числе мер, имеющих в виду дать надлежащее направление воле ребенка, видное место в школьной практике занимают запрещения и приказания. Однако этот способ воздействия на учеников, по-видимому, такой простой и легкий, требует от учителя и находчивости, и торжественности, и предусмотрительности. Запрещения очень часто достигают как раз обратного результата. Это знают даже составители реклам. Рассказывают об одном остроумном способе обратить внимание публики на рекламу. На одной стороне доски пишут «Не смотрите на другую сторону», а на другой стороне помещают рекламу в полной уверенности, что она после прочитанного запрещения непременно станет предметом внимания публики. Единственное средство сделать действительными приказания и запрещения в глазах учеников — это в понятной и убедительной для учеников форме мотивировать их. В своих требованиях хороший учитель прежде всего обращается к сознанию детей, он достигает того, что каждое его требование является разумным и необходимым не только само по себе, но и в глазах учеников. Исполняя эти требования, ученик исполняет в то же время требования своего разума. Если бы учитель воспитывал рабов, ему не было бы надобности обращаться к их разуму — это было бы даже вредно, ему нужно было бы развить только слепое повиновение без всяких рассуждений, без дум, без вопросов, без сомнений. Но современный учитель готовит свободных людей, и потому он должен приучить их к тому, чтобы их воля была послушным орудием их собственного разума и их совести, а не чужих необоснованных приказаний. Когда ученик станет взрослым, вокруг него не будет никого, кто бы контролировал его поведение и образ жизни. И потому, чем раньше мы приучим ученика руководиться своим разумом, тем меньше будет для него опасности перейти из положения опекаемого в положение самостоятельного человека. Необходимо поэтому постепенно приучать детей к самостоятельности, предоставляя им все более и более свободы в распоряжении собой. Нельзя предоставить четырехлетнему ребенку играть с заряженным ружьем, но не будет вреда дать ружье юноше, привыкшему управлять собой. Из всех систем воспитания в этом отношении надо предпочесть английскую, где самодеятельности и самостоятельности детей предоставлен такой широкий простор. «Чем ранее начнете вы обращаться с мальчиком как с взрослым человеком, тем он скорее сделается человеком», — сказал Локк32, и это изречение сделалось краеугольным камнем английской педагогики. Иностранцы поражаются, когда видят десятилетних англичан, умеющих всюду поддержать свое человеческое достоинство, находчивых, обо всем смело рассуждающих. В английских закрытых учебных заведениях решающую роль играет не управление директора или учителей, а самоуправление учащихся, и это является обычным правом, прочно укоренившимся в заведении. Именно этой системой английского воспитания Каннинг33 объясняет, почему в этой стране могло быть столько людей, которые в самых трудных положениях явились ее опорой, сильные не только на словах, но и на деле, почему Англия ни в одной области управления не ощущает недостатка в людях, способных справиться с самыми величайшими затруднениями. Джон-Стюарт Милль34 прекрасно выразил мнение англичан о воспитании, когда, рассказывая о себе, замечает, что «дети энергических родителей бывают лишены энергии оттого, что родители их всегда имеют привычку на место их воли ставить свою». «В этом замечании, — говорит другой писатель, — есть очень определенное указание для учителей. Первая забота их должна состоять в том, чтобы не заглушить в ребенке инициативы и самостоятельности, беспощадно заменяя их волю своей собственной и требуя от них пассивного повиновения, потому что в таком случае они подготовили бы лишь слабые и вялые характеры, неспособные вести себя в жизни и беззащитные от всяких увлечений».
«Помните, — пишет Спенсер, — что задача даваемого вами воспитания состоит в том, чтоб образовать существо, способное управлять самим собой, а не быть управляемым другими»35.
Но тот плохо понимает систему воспитания, основанную на самостоятельности ученика, кто думает, что это значит предоставлять простор всем капризам ребенка. Воспитание воли состоит в том, чтобы приучать детей слушаться только своего разума, а не подчиняться случайным прихотям, фантазиям, вспышкам гнева. Последнее служило бы, напротив, признаком слабой воли, неумения владеть собой, отсутствием выдержки. В видах развития воли надо помочь ученику подавлять в себе побуждения, несогласные с его разумом.
Едва ли надо доказывать, что учителю придется в некоторых случаях по возможности индивидуализировать меры воспитания. Одну и ту же способность, например чувствительность, придется развивать у одного ученика, обладающего черствым, сухим сердцем, т. е. доставлять ему возможно частые случаи для ее упражнения, и задерживать ее, т. е. устранять случаи ее проявления, у другого, если его чувствительность и без того болезненно развита и преобладает и над его умом, и над его волей, образуя так называемый истерический характер. Едва ли кто будет спорить в наше время о том, что целью нравственного воспитания должно быть гармоническое развитие всех трех способностей ребенка: ума, чувства и воли с преобладанием ума. При этом условии получается так называемый тип уравновешенного человека. Пример такого характера мы видели уже в Канте, подчинившем все свои наклонности требованиям своего разума. При недостаточном развитии чувства, хотя бы при развитом уме и воле, получится тип черствого дельца-эгоиста, каков, например, Каренин в романе Л. Толстого; при недостатке воли — сентиментальный характер, каков сладко-мечтающий, совершенно неспособный к практической жизни, запустивший и свои дела, и крестьянское хозяйство Манилов: при преобладании чувства и воли — тип страстногочеловека, как, например, Отелло Шекспира. Ребенку первого типа воспитатель постарается предоставить побольше случаев, которые могли бы в нем вызвать чувство жалости к другим людям, второго он станет приучать действовать, давать исход своей чувствительности в желательных поступках, он окажет поддержку слабой воле ученика своей волёй, настойчивостью, внушением ему веры в свои силы, посильными упражнениями; у третьего он усиленно станет культивировать умственные способности. Особенное внимание придется обратить учителю на раздражительных детей. Наибольшей опасностью угрожают и чаще всего встречаются в детском возрасте вспышки гнева. Это чувство представляет наследство, переданное нам бесчисленным множеством всех предшествовавших поколений, когда жизнь, полная самой грубой и ожесточенной борьбы за существование, особенно усиленно культивировала это чувство. Не удивительно, что гнев просыпается в ребенке еще на руках матери, что раздражительные дети встречаются так часто. Малейшее препятствие, какое встречает раздражительный ребенок на пути к удовлетворению какого-либо своего желания, уже приводит его в гнев, иногда в ярость. Не умея справиться с собой, он бьет иногда даже неодушевленные вещи, кричит, ломает что попадается под руку, дерется, кусается. Воспитание таких детей представляется наиболее трудной из задач. Лень, тупость обыкновенно легче поддаются исправлению и уж во всяком случае не доставляют стольких неприятных хлопот воспитателям, как подобная необузданная раздражительность. Защитники строгих мер и наказаний всего чаще ссылаются именно на таких детей, которых, по их мнению, ничем нельзя исправить, кроме наказаний. И однако же хорошо известны примеры, как самые дикие вспышки гнева уступали разумному и гуманному воспитанию...
...Вы хотите развить в ребенке мотив, достаточный для того, чтобы он справился со всеми инстинктами маленького варвара. Дайте ребенку вполне понятную и практически исполнимую для него, но достаточно возвышенную цель и поступайте так, как поступает женщина, желающая увлечь избранного ей мужчину. Она возможно чаще показывается перед ним, показывается во всей ее красе, и физической и духовной, она дает понять, что он может добиться ее руки. Нарядите и вы в красивые, яркие образы избранную вами цель для ученика, чаще и чаще по всякому поводу возвращайтесь к ней, докажите, что она ему по силам. И когда он проникнется ею, он найдет в ней опору против дурных стремлений и он сладит с ними...
...Мы согласны, что это нелегкая работа, что она требует настойчивости, последовательности,терпения, но зато она обещает полное исцеление. А до тех пор, пока мы не создали этой противодействующей силы, возможны только одни предупредительные меры.
Опыт показывает, что одна из лучших мер против вспыльчивости — это хладнокровие присутствующих, молчаливое неодобрение и удивление. Упреки, даже увещания во время гневной вспышки иногда служат как бы пищей для вспылившего ребенка, и потому активное вмешательство, обращение к его разуму и совести гораздо уместнее уже после того, как пройдет вспышка гнева и ребенок придет в спокойное состояние...
Скептики могут противопоставить... примеры, где усилия воспитателей не имели успеха. Укажут, как это чаще всего делается, на Нерона, порочную, унаследованную от родителей природу которого не мог исправить стоик Сенека . Но мы удивляемся, скорее, тому, как мог такой ловкий царедворец и искусный актер, как Сенека, чьи слова так часто были не в ладу с делами, так долго умерять жестокие наклонности Нерона, как мог он хотя бы и временно влиять так сильно на своего ученика, когда поступки самого воспитателя были далеко не безупречны. Красивые фразы о добродетели могут оказывать действие лишь тогда, когда они оправдываются жизнью самого проповедника. В этом отношении пример одного исправления стоит сотен примеров противоположного характера, как один удачный опыт, которому мы обязаны каким-нибудь научным открытием, стоит больше всех предшествующих неудачных попыток.
...В детском возрасте импульс играет главную роль. Поступки большинства детей носят импульсивный характер. Будем бороться с дурными импульсами, но постараемся воспользоваться самой импульсивностью ребенка, чтобы направить его к добру. В руках учителя так много средств внушить ребенку добрые импульсы. Для этого стоит только заставить ребенка полюбить цель и дело, какие мы ему даем, и это сделает привлекательность нашего собственного примера, очарование красивых и ярких образов, в какие мы оденем в глазах ребенка его дело, взяв эти образы из доступных пониманию ученика биографий, рассказов, произведений изящной словесности. Но будем избегать отвлеченных поучений — они слабо действуют на волю даже взрослого человека и совсем не действуют на ребенка. Будем действовать так, как поступает романист, желающий внушить читателям любовь к своему герою и его деятельности. Будем показывать в образах, движении и красках красоту доступных пониманию и силам ребенка дел добра и правды. Любовь к посильному хорошему делу даст направление импульсам ребенка. И нам вместо того, чтобы вести утомительную для обоих борьбу с его импульсами, останется только использовать эту могущественную силу детского возраста.
Индивидуализации мер воспитания в школе очень часто ставит пределы значительное чксло учащихся. Школа не семья, где вполне возможно соображать всякий урок, всякую меру нравственного воздействия с особенностями темперамента, характера, наклонностей и инстинктов ребенка. И потому в большинстве случаев учителю начальной школы придется пользоваться мерами, рассчитанными на весь класс, если только не считаться с чисто исключительными болезненными типами. Все дети одинаково нуждаются в развитии альтруистических чувств и в подавлении или, по крайней мере, задержке эгоистических наклонностей. Все они нуждаются в возможном развитии способности мыслить, наблюдать, различать, обобщать, классифицировать, все они нуждаются в обогащении своего ума великодушными идеями, образами; всем им в той или другой степени недостает умения сдерживать свои порывы, владеть собой; у всех должен быть приблизительно один и тот же идеал нормального человека; у всех из них надо сделать возможно более чуткой их совесть. Совесть просыпается в человеке в очень раннем возрасте...
Чувство раскаяния пробуждается в ребенке каждый раз, как он отступил от своего идеала, от своего долга, осознал свой недостаток, проступок, ошибку. Раскаяние как следствие развитого нравственного чувства — это великая воспитательная сила, это суд человека над самим собой, это чувство ответственности, которое указывает человеку и накажет его за всякую совершенную им неправду, всякое зло, хотя бы никто другой и не подозревал о совершенном деянии. Вместе с развитой волей и высшими побуждениями раскаяние делает чудеса в деле исправления человека. Допустим даже, что чувство раскаяния слабо, что какая-нибудь страсть говорит гораздо сильнее чувства долга. Но вот страсть удовлетворена и ее нет больше, по крайней мере на время, а чувство раскаяния остается, как рубец на теле, на всю жизнь, как кровь, ничем не смываемая на руках леди Макбет. Сила нравственного чувства в его постоянстве, а мы уже видели, что делается с умственными и нравственными мотивами, если мы станем возможно чаще возвращаться к ним и таким образом культивировать их.
VII
Замечательно, что ни один тип не разрабатывался в русской литературе так часто и так усердно, как тип лишнего, устранившегося от дела и общественной жизни человека. Этот тип воспроизводится нашими беллетристами с тех пор, как стала существовать русская литература, и продолжает воспроизводиться и в наши дни. Меняются времена и внешние условия жизни, меняются темпераменты героев повестей и романов, меняются отношения авторов к этому типу; но тип в своих основных чертах остается один и тот же, хотя изучается беллетристами в самых различных проявлениях. Иванов Чехова, герои Эртеля37 в «Карьере Струкова», Тимковского38 — «Маленькие дела и большие вопросы», Вересаева39 — «Без дороги» напоминают нам пушкинского «Евгения Онегина», тургеневского «Рудина», лермонтовского «Печорина», гоголевского «Тентетникова» и гончаровского «Обломова». Все они, хотя и разными путями, приходят к одному и тому же концу. Всем им не чужды думы «над бедствиями человечества», «безвестные, безыменные страдания», стремления «куда-то вдаль». Правда, различно проявляются у них эти стремления. У Обломова «сладкие слезы потекут по щекам. Случается и то, что исполнится презрения к людскому пороку, ко лжи, к клевете, к разлитому в мире злу; и разгорится желанием указать человеку на его язвы; и вдруг загораются в нем мысли... он, движимый нравственной силой, в одну минуту изменит две-три позы, с блистающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом... Вот, вот стремление осуществится, обратится в подвиг... и тогда, господи! каких благих последствий могли бы ожидать мы от такого высокого усилия! Но смотришь... бури и волнения смиряются в душе, голова отрезвляется от дум... Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд в окно к небу, с грустью провожает солнце, великолепно садящееся за чей-то четырехэтажный дом».
Произведение Гончарова дало повод знаменитому русскому критику40 к блестящей характеристике современного ему русского общества. Критик не был согласен с Гончаровым, воображавшим, будто Обломовка отжила свой век. «Обломовка, — говорит критик, — есть наша прямая родина. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово». Он видит Обломова и в помещике, толкующем о правах человечества, и в чиновнике, жалующемся на запутанность и обременительность делопроизводства, и в офицере, рассуждающем об утомительности парадов.... «Когда я нахожусь в кружке образованных людей, — продолжает он, — горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменыпающимся жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломов-ку... Остановите этих людей и скажите: «Вы говорите, что не хорошо то и то, — что же нужно делать?» Они не знают... Предложите им самое простое средство, они скажут: «Да как же это вдруг?» Они вам ответят тем, чем Рудин отвечал Наталье: «Что делать? Разумеется, покориться судьбе. Что же делать! Я слишком хорошо знаю, что это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами» и пр. Больше от них вы ничего не дождетесь, потому что на всех их лежит печать обломовщины»
Современные нам разновидности этого старого типа идут дальше Обломова. Свои мечты они пробуют иногда воплотить в дело. Но они очень скоро устают в борьбе с суровой действительностью. Натиск враждебных их замыслам жизненных влияний приводит к одному и тому же концу: к апатии, равнодушию, сознанию своего бессилия, разочарованию или к бесплодным мукам совести, отчаянию, тоске.
Есть что-то роковое в русской жизни, что заставляет наших художников слова на разные лады описывать на протяжении целого столетия разновидности одного и того же типа. Какой другой язык так богат синонимами одного и того же понятия: лежебока, соня, байбак, сидень, лежень, увалень, дармоед, бездельник, трутень, коптитель неба, гранитель мостовых, паразит и т. д. Этот роковой недуг, это преобладание пассивного элемента в характере русского человека не могло не обратить на себя внимания нашей педагогической литературы. Знаменитый наш педагог Ушинский41 выразил главную, руководящую идею своей «Антропологии» или, вернее сказать, всей своей педагогической деятельности — в лучшей из своих статей «Труд в его психическом и воспитательном значении». «Если бы люди, — говорит Ушинский, — нашли сказочный мешок, из которого выскакивает все, чего душа пожелает, или изобрели машину, вполне заменяющую всякий труд человека, то самое развитие человечества остановилось бы, разврат и дикость завладели бы обществом». И он иллюстрирует свою мысль целым рядом примеров. Он сравнивает характер римского гражданина в тот период, когда он от сохи переходил к занятиям консула и диктатора, с характером римского обжоры времен Домициана42, когда целый мир присылал в вечный город изысканнейшие произведения самых отдаленных стран, когда римляне презирали всякий труд, когда ими овладело равнодушие к жизни, выразившееся в бесчисленных самоубийствах, изображенных Тацитом43, когда вся жизнь Рима представляется мрачной оргией, в которой столько же несчастья и душевных страданий, сколько разврата, рабства и даром доставшихся богатств.
Обращаясь к отдельным сословиям, он находит, что, как только необходимость труда, будет ли это наука, торговля, промышленность, покидает какое-нибудь сословие, оно вырождается и уступает свое место другим, более энергичным, более предприимчивым и трудолюбивым слоям населения.
Ушинский приглашает нас всмотреться в физиономию отъевшегося кулака и утверждает, что «напрасно мы стали бы искать выражения человеческого достоинства на белом, гладком, румяном, как крымское яблоко, и лоснящемся, как атлас, лице сидельца в енотовой шубе, похаживающего около своей лавки... Морда толстого кота, выглядывающего в окно той же лавки, глядит разумнее!»
Только труду люди обязаны минутами высоких наслаждений. Ушинский приводит в пример художника, который, посвятив всю свою жизнь труду в области искусства, постоянно наслаждается произведениями художества. Но если он бросит трудиться, а станет только любоваться, то наслаждение быстро станет утрачивать свою цену и наконец совершенно исчезнет. И живопись, и поэзия должны служить отдохновением после труда или должны находиться в живой связи с трудом человека; когда же они делаются предметами праздной прихоти, то не только теряют всю свою развивающую силу, но действуют отрицательно на наши нравственные и умственные силы.
Он берет семейную жизнь и также приходит к выводу, что семейное счастье может быть прочным только тогда, когда жена является действительной помощницей мужа, когда супругов связывает общая работа. Если этого нет, молодые, полюбившие друг друга люди недолго плавают в блаженстве. Чувство удовлетворенной страсти скоро притупляется, в их жизни закрадывается скука, и оба супруга начинают посматривать по сторонам, искать наслаждений вне домашней жизни, и вихрь света скоро уносит их в разные стороны.
Даже удовлетворение наших благороднейших порывов великодушия и любви может дать прочное счастье только тогда, когда оно требует от нас постоянной и планомерной работы на пользу ближнего. Если же мы ограничимся только созерцанием своих подвигов, доставшихся нам без труда и усилий, мы рискуем сделаться несносными, бесполезными людьми и безвозвратно
погибнуть нравственно. Вывод отсюда ясен. Он стар, как само человечество. «Только животворная сила труда служит источником человеческого достоинства, а вместе с тем нравственности и счастья...»
...Однако же далеко не всякий труд дает человеку душевное удовлетворение и душевный покой, возвышает его в нравственном отношении, развивает его силы, поддерживает его человеческое достоинство. Труд подневольный, труд из-под палки, труд крепостного или каторжника не возвышает, а принижает работника, угнетает и деморализует. Труд, не согласный с требованиями совести и долга, труд Разуваева, труд Сквозника-Дмухановского точно так же разрушительно действует на человеческую личность.
Превосходную иллюстрацию нравственно перерождающего влияния труда «по душе» мы находим в рассказе Горького «Супруги Орловы»...
...Нам скажут, что странно говорить о значении труда по отношению к детям народа. Наш мужик отправляется на работу с солнечным восходом и оканчивает ее с солнечным заходом. Не нам надо учить его трудолюбию, а самим надо учиться у него терпению и выносливости в труде. И это правда. Только близорукость или недобросовестность может обвинять в лености наш простой народ. Но, однако, можем ли мы установить в труде нашего простолюдина наличность всех условий, при коих труд дает полное нравственное удовлетворение?
И прежде всего здесь по условиям, от самого народа не зависящим, мало здравого понимания законов природы, с которыми приходится иметь дело простолюдину в своей работе. Чтобы не прорывало плотины на мельнице, народная мудрость указывает как на самое надежное средство на какую-то траву «синь»; чтобы избавиться от тараканов, по мнению простолюдина, надо поймать белого таракана и потрясти его за ногу; в важных случаях жизни крестьянин обращается к колдуну, а тот советуется со своим малым братом домовым; чтобы укротить драчливого мужа, крестьянка поит его водой, в которой варит палец, отрезанный от трупа младенца. По представлению суеверного крестьянина, в лесу его водит леший, в воде покушается утопить водяной, дома давит и его лошадей, и его самого домовой; деревенские колдуны и ведьмы портят его здоровье и сокращают его век; недобрые люди делают на его полях заломы, глазят его, ставят из мести к нему переломленные свечи перед иконой Иоанна Воина и тем причиняют ему всевозможные болезни; он верит в появление антихриста и считает прививку предохранительной оспы антихристовой печалью; он ежегодно ожидает светопреставления. Если мы сравним его миросозерцание с миросозерцанием культурного человека, то разница окажется неизмеримо больше той, какая существует между имущественными состояниями Ротшильда и безлошадного крестьянина. Тысячи опутывающих его со всех сторон суеверий мешают ему понять зависимость между явлениями природы, объяснить, отчего истощается его почва, расстраивается его хозяйство, вырождается его скот, умирают его дети.
Орлов в рассказе Горького видит преимущество своей новой работы в бараке в том, что «тут ум требуется... Что такое холера? Это надо понять, и сейчас валяй ее тем, чего она не терпит». Там, где все невзгоды объясняются вмешательством ведьм, колдунов, леших, домовых и пр., ума требуется немного. Еще меньше требуется понимания естественных причин того или другого. Зачем ломать голову над исследованием причин, когда и без того все ясно; все зависит от каприза и прихотей какого-нибудь колдуна или домового. Эта удивительно сложная сеть суеверий является непреодолимой преградой на пути к пониманию естественных причин окружающих простолюдина явлений, а стало быть, и на пути к улучшению народного труда. Она же лишает человеческий труд его воспитательного, морализующего влияния; она же гонит крестьянина в кабак заливать грусть-тоску водкой. Недаром решительно все наблюдатели народной жизни приводят в связь эти два явления: умственную обращенность народа и его пьянство.
Вот что, например, писал нам учитель сельской школы г. Давыденко: «Наше местечко обширное, здесь много магазинов, полных разных товаров, но ни одной книжной лавки. Книга не заняла у нас подобающего места. Одурманивающая жидкость хранится под золотым ярлыком, а книжка скромно лежит на рогожевой подстилке вместе с дешевым товаром, засыпаемая пылью, ропчущая на свою судьбу, что у ее врага много попечителей, а у нее никого». Недаром наши попечительства о народной трезвости являются наиболее энергичными ходатаями перед Министерством народного просвещения об ослаблении тех путей, препон и тормозов, какие ставят делу народного просвещения сотни ограничительных циркуляров, капризы и светобоязнь местного учебного начальства. Нет, при таких условиях народный труд не даст, не может дать работнику полного нравственного удовлетворения, не избавит его от тоски и скуки жизни, не разовьет его умственных и нравственных сил.
А между тем, казалось бы, что, например, земледельческий труд содержит в себе все элементы, необходимые для полного душевного удовлетворения. Что он кормит и поит всех нас, что это божье, доброе дело — это так ясно, так бесспорно. Что крестьянин нужный в этом насущном деле человек — это признали даже щедринские генералы-робинзоны. Что им можно заинтересоваться, полюбить его — доказывается уже тем, что ни одна отрасль труда не опоэтизировалась так часто и с таким успехом и в народной поэзии, и в художественной литературе, как именно земледельческий труд. Что «тут ум требуется», что тут многое «надо понять», если не представит помех весь этот ужас народных суеверий, — видно уже из того, с какой массой разных отраслей знаний пришлось бы иметь дело земледельцу, если б он захотел вести рациональное хозяйство.
Ему надо изучать и полеводство, и огородничество, и садоводство, и стало быть, иметь сведения о жизни растений, об их питании, о почве и т. д. ему надо знать скотоводство, быть немного и ветеринаром, и плотником, и каменщиком, и грабарём, и продавцом, он может быть и пчеловодом, и кустарем, и я не знаю, с какой только отраслью знаний не соприкасаются его занятия.
В то же время нашему народу нельзя отказать и в дарованиях; каждый раз, когда крестьянин становится в сколько-нибудь благоприятные условия для своего умственного развития, он поражает нас своими успехами. Мы уже указывали выше на пример наших всем известных самоучек из народа. Но сколько вышло из этой среды лиц, неизвестных нашей литературе, но точно так же удивляющих нас при встрече с ними своей необыкновенной даровитостью!..
...Но если труд земледельца дает, с одной стороны, столько пищи для ума и если, с другой стороны, наш народ отличается удивительной даровитостью, то почему же он вносит в труд так мало знания, почему его приемы так рутинны, отсталы, примитивны. Несомненно, что экономические и иные условия играют здесь чрезвычайно важную роль. Но не от нас — народных учителей — зависит разрешение этих наболевших вопросов. Для нас важно знать, что минимальными условиями для проявления народного гения являются хорошие книги и хорошая школа. Не менее важно для нас знать, что может сделать школа, чтобы заставить ребенка и юношу полюбить умственный труд и внести затем этот элемент и в свои земледельческие занятия, и в свою общественную деятельность в сельском обществе, в волости, в земстве, в суде... и в воспитание своих детей. Как можно достигнуть этого? В других своих работах пб методике преподавания мы подробнее говорим о том, что во главу угла всего строя начальной школы должен быть положен интерес к преподаванию; и потому мы не будем здесь останавливаться на этом существенно важном элементе. Такое преподавание имеет в виду развить общий и бескорыстный интерес к знанию. Здесь мы ставим вопрос значительно уже. Можно задаться целью дать определенное направление будущей деятельности нашего воспитанника. Можно, например, поставить своей задачей заставить его полюбить прочной любовью сельскохозяйственный труд, построенный на рациональных началах, с книгами и счетами в руках, с опытами на экспериментальном участке, можно заставить его полюбить общественную работу в деревне...
...Вы хотите воспитать в учениках любовь к земледельческому труду на своей ниве, развить в них потребность не застывать на рутине, а читать, делать наблюдения и опыты, вы воспользуетесь богатейшими материалами, какие дает наша художественная литература, чтоб опоэтизировать этот труд, рельефнее представить его привлекательные стороны. Один Кольцов44 дает почти вполне достаточное число стихотворений, навеянных на него поэзией земледельческого труда во всех его видах. Он опоэтизировал и труд косаря («Ах, ты, степь моя, степь привольная!..») и пахаря («Весело на пашне, я сам друг с тобой, слуга и хозяин...»), и ниву («Урожай») и пр. На примерах, фактах вы покажете значение земледельческого труда для государства, для общества, для народа. Вы будете в образах, в рассказах говорить и читать о тех улучшениях, какие может внести в это дело наука, знание.
На примерах же, взятых хотя бы из биографий наших самоучек из народа, вы покажете, что связать земледельческий труд с книжным и опытным изучением сельского хозяйства — дело возможное для всякого грамотного: стоит только сильно захотеть. Не будем во всех подобных случаях начинать с рассуждения и отвлеченных построений: пусть общие отвлеченные выводы сделают уже сами ученики. Наше дело — дать им материалы: примеры, образы, факты, одновременно действующие и на ум, и на чувство, а стало быть, и на волю ученика. Пока ваши ученики малы, они не могут делать попыток к рациональному ведению хозяйства, но они могут читать, учиться, производить некоторые опыты, и такая работа на первых порах будет достаточным исходом того умственного возбуждения, какое им даст ряд поучительных образов, обогативших их ум.
Вы хотите заинтересовать учеников ежедневной школы и еще более взрослых учащихся в воскресных классах общественной деятельностью в деревне, вы воспользуетесь такими доступными и любимыми народом книжками, как, например, «Делатели золота» Цшокке, или рассказами Блинова и Дружинина45 о сельском обществе, волостном сходе и пр.
Вы познакомите их с общественной деятельностью в деревне наших самоучек из народа. Эти примеры покажут ученикам, как велики могут быть результаты общественной работы даже одного человека, не облеченного никакой властью, но разумно пользующегося книгой; те же примеры убедят, что такая плодотворная общественная деятельность возможна для всякого, кто твердо решится на такую работу, что для этого нужны только знания, какие можно найти в соответствующих книгах. Ученики сопоставят то, что они прочтут, с тем, что они видят вокруг себя, и поймут, до какой степени деревня нуждается в общественных работниках, как много терпит она от того, что среди ее обывателей нет знающих, деятельных и думающих об ее нуждах людей. В глазах детей работа на общую пользу будет вполне справедливо окружена ореолом возвышенного, божьего дела, где требуется и ум, и любовь, и готовность на некоторые жертвы. Вы будете чаще и чаще по всякому подходящему поводу возвращаться к образам, примерам, фактам, иллюстрирующим значение и красоту жизни для своего общества. Исходом и здесь будет служить на первых порах чтение соответствующих книг, приобретение знаний, нужных деревенскому общественному работнику; но школа, как мы об этом подробно говорим дальше, представля-
ет очень много возможностей дать исход общественным чувствам ученика и на практическом деле.
Сделать известный, определенный труд привлекательным — это лучшее средство дать надлежащее направление воле. Даже ленивый начнет работать, раз труд будет манить его силой своей привлекательности. Стоит каждому из нас припомнить, какая огромная разница была в наших занятиях в школе между любимыми и нелюбимыми предметами. Дарвин сам рассказывал о себе, что он был по природе ленив, постоянно чувствовал себя усталым, больным, что ум его отличался медлительностью, внимание — рассеянностью, его память была слаба, он был почти лишен воображения. Что же заставило его совершить такой гигантский труд, требующий невероятных усилий, обогативший науку такими открытиями, которым не было ничего подобного за все истекшее столетие? Это чудо сделала только привлекательность идеи, овладевшей всем его существом, руководившей всеми его работами. Те же черты мы найдем в деятельности Золя, который, по собственному признанию, предпочитает прелесть отдыха работе, обладает посредственным вниманием, быстро устает и в молодости боялся сделаться неудачником, начинающим сотни вещей, йо не оканчивающим ни одной. Бальзак сам признавался в трудно победимом стремлении к лени. Ньютон в первые годы учения в деревенской и городской школах признан был неисправимым лентяем, но потом удивил мир колоссальными работами, возможными только для величайшего гения. Мы могли бы сколько угодно продолжать перечень знаменитых людей (Руссо, Гете, Альфиери46 и т. д.), ленивых и слабых от природы, но выполнивших затем удивительные и по своей колоссальности, и по своим результатам работы. И всеми этими людьми во всю их жизнь руководила плодотворная, привлекательная, очаровавшая их господствующая идея, своего рода конек, устойчивая, неотступная мысль, господствовавшая над ними в продолжение всей жизни или же сменявшаяся затем другой такой же господствующей идеей. Такая мысль возникает в их уме почти постоянно, непроизвольно, сама собой, без всяких усилий внимания; она, как всякая самопроизвольная мысль, является в сознании непринужденно, легко и свободно, не утомляет, не сопровождается усталостью. Она облегчает работу, делает ее привлекательной, неутомительной и, можно сказать, более продуктивной. Она становится для них более чем мыслью — целой жизнью. «Что такое великая жизнь? — спрашивает Альфред де Виньи47 и отвечает: — Юношеская мысль, осуществленная в зрелом возрасте».
Вся разница между господствующей идеей великих людей и самого обыкновенного человека не в силе этой идеи. Встречаются неотвязные идеи и в очень дурных людях, и, однако, эти идеи точно так же дают направление жизни. Вся разница только в содержании идей. Одними двигает страсть к деньгам; другими управляет честолюбие; третьего оседлала страсть к удовольствиям и т. д.
Все дело в том, чтобы заменить узкие, абсурдные, эгоистические идеи плодотворными, широкими, великодушными, справедливыми и гуманными, а для этого необходимо возможно ярче представить в образах, в движении, в красках, формах и звуках, а не в отвлеченных построениях всю их чарующую красоту, всю прелесть их обаяния, всю привлекательность их проявлений; необходимо возможно чаще возвращаться к ним, необходимо представить данные цели практически осуществляемыми.
Говоря о труде, нельзя обойти молчанием одну особенность русского человека. Мы способны на чрезвычайные усилия, бурные проявления энергии, но временные, а не постоянные, под давлением случайного импульса. Эти вспышки напряженной энергии и вдохновения, эти порывы на час, истощающие организм, обыкновенно сменяются продолжительным бездействием, праздным препровождением времени, жизнью увальня и байбака до тех пор, пока какой-нибудь новый импульс — будет ли это возродившееся вдохновение или материальная необходимость — снова не разбудит в нас силы, спавшие непробудным сном до того времени.
Мне приходилось наблюдать жизнь нескольких провинциальных городов, где эта черта русского обывателя особенно резко бросается в глаза. Там всевозможные заседания и присутствия обыкновенно приурочиваются к какому-нибудь определенному числу каждого месяца. Наступает это число — и зазвенели колокольчики ямщиков, переполнились все помещения постоялых дворов и гостиниц, засуетились делопроизводители и дворянской опеки, и крестьянских учреждений, и училищного совета, и тюремного комитета, и воинского присутствия и десятка других местных учреждений, заскрипели перья, открылись заседания, продолжающиеся часто до 3 ч ночи. Решаются тысячи дел, выслушиваются тысячи просителей, ответчиков, свидетелей, составляется неимоверная масса постановлений, ходатайств, представлений и предписаний. Удивляешься, бывало, как может человеческий организм выдержать такую напряженную, без перерыва и отдыха, деятельность. Но прошла эта страдная пора, эта горячка работы — и разъедутся по своим имениям местные общественные деятели, заснет город, разойдутся по домам секретари и писцы и будут коротать время, спать, есть, ухаживать за барышнями или играть в карты.
В жизни наших учебных заведений есть тоже своего рода страдная пора — это экзамены, требующие от учащихся огромного напряжения сил, изнуряющие учеников и резко нарушающие обычный порядок учебных заведений.
Даже история русская представляет, по-видимому, полную аналогию с такой лихорадочной работой в отдельные моменты, сменяемой затем продолжительной спячкой. Чудеса самоотвержения и подвигов, кипучая, поражающая воображение деятельность, небывалый подъем духа в годы опасностей или в эпохи преобразований и сменяющий их затем полный и до отчаяния продолжительный застой.
Люди благих порывов, рыцари на час — это наши родные типы. Есть сказка о спящем богатыре. На него возлагают огромные надежды и ждут, когда он проснется. И он проснулся. Он обнаружил колоссальные силы, но кончил тем, что нашел дупло по своему росту, влез туда и снова заснул. И здесь мы видим хорошо знакомые нам черты. Можно различно объяснять происхождение свойств русского народа. Можно, например, видеть причину этой особенности русского народа в условиях земледельческого труда. В короткое лето приходится выносить нашему земледельцу изумительный по напряженности труд, тогда как долгая зима нередко обрекает нашего крестьянина почти на полное бездействие. Но чем бы мы ни объясняли свойства нашего характера, если они оставляют желать лучшего, с ними можно и должно бороться. А что этот горячечный труд, эти периоды крайнего напряжения, вспышки вдохновения и порывы неестественно бурной энергии, сменяющиеся продолжительной спячкой, действуют разрушительно на организм, непроизводительно поглощают массу энергии и дают жалкие результаты — едва ли это надо доказывать. Едва ли кто будет оспаривать, что самый умеренный, но регулярный, изо дня в день труд с достаточными промежутками для отдыха даст несравненно лучшие результаты и будет вдесятеро успешнее содействовать укреплению и развитию всех способностей человека. Дарвин работал с 8 до 9 ч утра, затем отдыхал среди своей семьи до Ю’/г ч, потом он снова возвращался в свою лабораторию и работал до 12 ч. Более продолжительной работы он не мог вынести по слабости своего здоровья. И однако же, несмотря на то что его рабочий день равнялся лишь 2 !/2 ч, кого другого могли бы мы поставить с ним рядом по колоссальности сделанной работы? Золя работает в день только по 3 ч, и, однако,» это не мешает ему давать каждый сезон по замечательному, хорошо обдуманному и тщательно отделанному роману. Мы можем забыть о гениальности этих людей, но уже одно количество сделанной ими работы, без всякого отношения к ее качеству, должно бы показать нам, что значит регулярный, ежедневный труд по часам. Эта привычка начинать и оканчивать дневную работу в определенный час обусловливает и свежесть мозга, и продуктивность труда. Она же освобождает нас от излишних усилий, чтобы заставить себя приняться за работу. Когда я ежедневно в один и тот же час берусь за перо, это делается самопроизвольно, почти инстинктивно, по привычке, без всяких усилий, над собой, без всякой борьбы с противодействующими стремлениями. Но когда меня выбивает что-нибудь из колеи, когда надолго нарушается заведенный порядок и привычка уже не приходит мне на помощь, я вынужден делать над собой каждый раз значительные усилия, чтобы взяться за работу. У органов нашего тела есть у каждого свой круг деятельности и покоя. Продолжительность этих периодов различна: она очень мала для сердца, длиннее для легких, еще длиннее для желудка. Для мозга круг деятельности суточный, со своими приливами и отливами сил, с периодами работы и отдыха. И надо, чтобы эта смена покоя и деятельности, эти приливы и отливы совершались правильно в одни и те же часы дня и ночи.
Школьные занятия располагались бы вполне сообразно с этим принципом, если бы здесь более внимания обращалось на соразмерность классных и домашних работ с силами учеников и если бы уничтожены были те нарушения обычного порядка, какие вносятся в нашу школьную жизнь экзаменами.
Но и за всем тем хорошо известно, что привычки к регулярным занятиям, приобретенные в школе, чрезвычайно быстро разрушаются при выходе ученика из школы в жизнь. Необходимо, стало быть, чтобы эти привычки не были только бессознательными, нужно, чтобы ученик выносил из школы твердое убеждение в том, что только регулярный труд обеспечивает и успех, и здоровье и дает человеку нравственное удовлетворение. Эта задача ближе касается воскресных школ и вообще обучения взрослых; но она не должна быть чужда и начальной школы.
И это убеждение в необходимости регулярного труда подросток и оканчивающий курс начальной школы ученик почерпнет не из отвлеченных рассуждений, а из целесообразно подобранных живых примеров, из рассказов, из биографий и из художественных произведений. Отвлеченные выводы из этих примеров сделает уже сам ученик.
VIII
Все вышеназванные средства нравственного воспитания и поддержания школьной дисциплины обращены к лучшим свойствам детской природы. Поддерживает ли учитель порядок во время урока силой интереса к занятиям, вызывает ли внимание и прилежание путем предупредительных мер в организации занятий, действует ли на детей примером, образом или нравственным внушением с целью пробудить в них лучшие свойства детской природы и вызвать их на целесообразную деятельность, упражняет ли их волю, содействует ли образованию их идеалов, работает ли над образованием добрых привычек и наклонностей — он во всех этих случаях опирается на то, что есть лучшего в детском сердце и уме, и подавляет то, что есть в них грубого, жестокого, эгоистичного. И благо учителю, если для него будет достаточно этих могущественных, хотя еще до сих пор очень мало использованных орудий нравственного воспитания. Довольствуясь ими одними, учителю не придется прибегать к мерам, опирающимся на грубые, эгоистические стороны детской души. Его ученики будут жить в области высших наслаждений, их будет удовлетворять интерес к знаниям, взаимная любовь и дружба с учителем и с товарищами, наконец, идеалы, не надо будет искать других, низменных, грубо эгоистических мотивов. Удовольствие победы над трудностями урока, победы над самим собой, сочувствие к ним любимых существ будут их лучшей наградой. Огорчение любимого учителя, укоры развитой совести, стыд перед друзьями будут их высшим наказанием, и в других видах наказаний они нуждаться не будут.
Но в школах употребляются иногда и другие меры исправления. Рассмотрим и мы каждую из них в отдельности и со стороны пользы, какой от них ожидают, и со стороны вреда, какой они несомненно приносят. Говорят, что похвала и награды со стороны учителя доставляют сильные и приятные ощущения успешным ученикам; и чем выше уважение и доверие к учителю, тем сильнее действует его похвала. Насколько распространено это мнение, видно из того, что балловая система, рассчитанная на эти стимулы, разработана нашими педагогами с такой тщательностью, как будто бы это был краеугольный камень всего воспитания и обучения. Было бы не удивительно, если бы эта работа производилась только в управлении Министерства народного просвещения, занимавшегося с особенным усердием этим вопросом. Управление учебным ведомством у нас всегда принадлежало администраторам, а не педагогам. Но вопрос этот постоянно выходил из душных канцелярских сфер и в педагогическую литературу, и в педагогические собрания. Я хорошо помню, как долго Петербургское ныне не существующее педагогическое общество занято было вопросами о том, какая из двух балловых систем лучше: пятибалльная или двенадцатибалльная. Педагоги, занимавшиеся этим вопросом, справедливо думали, что хорошие баллы поощряют учеников. Но способные и прилежные ученики меньше нуждаются в поощрительных мерах, чем слабые и ленивые, а последних хвалить было бы несправедливостью по отношению к лучшим. Порицание и хула учителя, выражена ли она баллом или выговором, обыкновенно доставляют детям глубокое чувство страдания и принадлежат к числу наиболее тяжких наказаний. Но мы видели уже выше, насколько угнетающим образом действует это наказание на слабого ребенка, какой огромный вред может оно принести, внушив ему ужасную мысль о том, что он никуда не годится, что ему никогда не стать хорошим учеником, хорошим человеком.
Есть целый ряд наказаний, опирающихся на чувство страха и признаваемых потому жестокими мерами. Несомненно, что эти меры сильно действуют в том случае, когда надо разрушить какое-нибудь намерение действия, когда надо остановить драку. Нельзя, однако, путем страха возбудить какую-нибудь способность к деятельности, нельзя путем страха сделать ученика внимательным и прилежным. Страх может только разрушить, но никогда не может вызвать к жизни что-нибудь полезное. Страхом можно остановить мятеж толпы, но нельзя заставить эту толпу сделать какой бы то ни было подвиг, возбудить какую бы то ни было энергию, кроме разве энергии панического бегства. И, однако, даже в первом случае страх едва ли не приносит больше вреда, чем пользы. Страх — это чувство крайнего угнетения и страдания; это — анемия мозга. Страх подавляет всякую душевную и физическую деятельность. Страх истощает силы и приводит к физическому изнеможению и изнурению. От страха человек теряет и сообразительность и память. В крайних своих формах он может повести к серьезным расстройствам.
Достаточно присмотреться к внешним выражениям страха, чтобы понять, как разрушительно действует это чувство на организм. Страх производит бледность лица, спазматическое сужение сосудов, озноб; под влиянием, этого чувства выступает холодный пот, по телу бегают мурашки, волосы становятся дыбом, дыхание спирается, чувствуется стеснение в груди, сжатие в горле, во рту ощущается сухость, язык прилипает к небу, голос делается хриплым, надтреснутым или же совсем пропадает, движения ослабляются, появляется конвульсивная дрожь.
Врачи утверждают, что страх является одной из причин детской истерии. Даже самые легкие телесные наказания, связанные либо с испугом, либо с ожиданием наказания, нередко настолько потрясают нервную систему, что в результате получаются истерические припадки. В школах, где часто прибегают к мерам, рассчитанным на чувство страха, господствует подавленное, угнетенное настроение, отсутствие жизнерадостности, а это нередко влечет за собой тяжелые нервные страдания, например ту же истерию...
...Не усиливать это и без того преобладающее чувство в ребенке, а ослаблять его всеми возможными способами в беспомощных, слабых и часто беззащитных детях — вот истинная задача школы и воспитания.
Когда страх внушается взрывом учительского гнева, то это еще хуже. Гнев заразителен, жестокость учителя порождает жестокость в учениках, равно как кротость учителя делает кроткими учеников, а равнодушие учителя к нуждам учащихся вызывает такие же отношения и среди учеников. Как может потом учитель останавливать ученика от вспышек гнева, учить его кротости, когда так недавно он сам разразился по адресу класса или отдельного ученика целым градом гневных восклицаний.
Если меры, рассчитанные на чувство страха, еще держатся до сих пор и в семьях, и в школах, то это свидетельствует только либо о лености воспитателей и родителей, либо об их полной неспособности к своему делу. Все понимают, что убедить и разъяснить полезнее, чем приказать, что внушить важнее, чем наказать; но это требует и времени, и труда, и умения, а приказать и наказать — это так легко, так просто. Не надо много наблюдательности, чтобы убедиться, что система, основанная на страхе, забьет слабого ребенка, сделает лицемером и лжецом ребенка сообразительного, который скоро найдет, что для него выгодно притворяться послушным и примерным, оставаясь тем же, чем он был, ожесточит ребенка правдивого и искреннего. В Англии сосчитали, что молодые преступники, наказанные розгами, чаще других возвращались в тюрьму...
...И мы уверены, что всякие наказания и награды, всякие баллы и экзамены мало-помалу отойдут в область печальных преданий, как давно уже похоронены в этой области и жестокости египетской и римской учебы, и пытки средневековой школы, когда педагоги не могли и вообразить себе, что можно обучать и воспитывать без розги и плети. История хотя и с колебаниями, и с остановками, иногда даже с попятными временными движениями все же ведет нас к человеколюбию, к разуму и свободе.
Нигде среди цивилизованных стран школа не играет такой выдающейся роли в деле культуры и смягчения нравов населения, как у нас. На Западе общественная жизнь бьет ключом и ежедневно вносит в народную среду тысячи идей: народы Запада вышли на культурное поприще на несколько столетий раньше нашего; и многие завоевания культуры вошли в кровь и плоть населения, передаются детям чуть ли не с молоком матери; там давно уже не знают многих из тех препятствий, какие мы в силу исторических условий встречаем на пути развития культуры; там школа является только одним из бесчисленных средств в деле прогресса. Совсем не так стоит дело у нас. Те немногие из наших организаций, которые преследуют культурные задачи, крайне незначительны в' числе, слишком молоды по своему происхождению, не располагают достаточными силами и средствами, принуждены считаться с тысячами препятствий всех видов и могут оказывать на население только слабое влияние в то время, как силы, враждебные культуре, импонируют своим могуществом, своей организацией и опираются на вековую рутину, традиции, наследственность и пережитки. Газета, играющая такую видную роль за границей, у нас не доходит до народа. Периодических изданий у нас мало. В то время как в Соединенных Штатах Америки выходит 20 тцс. периодических изданий, у нас при населении, вдвое превышающем население Америки, выходит газет частных 57 ежедневных и 110 неежедневных. Даже Япония, всего четверть века назад вступившая на культурное поприще, издает в год более 2000 газет. Чтобы сравняться с Соединенными Штатами, какая-нибудь Пермская губерния пропорционально своему населению должна бы располагать 800 газет, а до этого числа очень далеко и всей России. Народные чтения в уездных городах и селениях стало возможным устраивать только после издания закона 11 октября 1894 г., но и теперь еще разрешение на открытие народных чтений в деревне обставлено такой волокитой и требует стольких хлопот, что их могло бы хватить на устройство двух университетов. Не удивительно, что народные аудитории и до сих пор представляют собой редкие оазисы на мрачном фоне безразличного отношения к тому, как коротает свои досуги простой русский человек, какой духовной пищей он питается. Число наших народных библиотек и книжных складов ничтожно. Народный театр приходится отнести к области благих пожеланий. О лекциях для простого народа пока еще нет и помину. Несколько более посчастливилось народным школам, которые считаются теперь десятками тысяч. И как бы ни были слабы лучи света, какие проходят в народную среду через наши начальные школы, это почти единственные в культурном смысле лучи для 90% всего русского населения. Поэтому естественно, что мы возлагаем на школу и больше задач, и больше надежд, чем это имеет место на Западе. И в числе этих задач одно из первых мест занимает смягчение нравов населения, подъем человеческого достоинства и чувства чести. И в том и в другом отношении русская жизнь поразительно отстала от жизни Запада. Кто близко видел домашнюю жизнь простолюдина, тот приходит в удивление, каким образом может выносить человеческое существо все виды истязаний, каким подвергаются иногда русские женщины и дети...
...Истязания, какие происходят в деревне, совершаются у всех на глазах. Стоны и крики жертв расходившегося самодура слышат соседи, наиболее любопытные часто собираются, чтобы посмотреть на это зрелище, тем более что деревня так бедна развлечениями. На их глазах какой-нибудь малютка, только что избитый отцом, смотрит на истязания матери и плачет, ломая ручки; а собравшиеся зрители слышат стоны матери, и никто из них не тронется с места, чтобы унять буяна, который на их глазах дико, ненасытно, злорадно, зверски расправляется с беззащитными; ведь он имеет, по понятиям деревни, все права на то, чтобы учить жену и детей. Волостной суд в этих случаях скажет только одно — «живите согласнее». И во всей деревне, во всей волости не найдется никого, кто бы заступился за горемычную женщину, за истязаемого ребенка. Жестокие нравы, изумительное бессердечие и безучастие окружающих к судьбе «малых сих»: полная беспомощность баб и детей без всякой надежды на перемену своего положения — вот атмосфера, в которой живут и воспитываются тысячи и миллионы многострадальных деревенских детей. Спросите народных учителей, вышедших из крестьянской среды, и они подтвердят вам, что действительно такова атмосфера, в которой воспитывается большинство крестьянских детей. Школа может и должна внести луч света в эту непроглядную тьму, своим примером показать, что убеждения действуют на детей лучше и вернее, чем какие-либо наказания. И школа уже и теперь делает кое-что в этом направлении. В моих руках находятся сводки мнений по этому вопросу, высказанных учителями Полтавской и Курской губерний. «Бывшие ученики, становясь впоследствии главными членами семьи, обнаруживают гуманные чувства в семейных отношениях», — сообщает один. «Училище заметно смягчает нравы и обычаи», — пишут другие. «Под влиянием училища нравы населения сильно изменились к лучшему и очень смягчились отношения к женщинам», — говорят третьи. «В семействе грамотных гуманнее отношения к детям и отношения между другими».
Еще характернее отзывы о влиянии школы, полученные от бывших учеников: «В грамотных семьях жить веселее: там хорошие порядки, грамотные меньше пьянствуют и ругаются»; «Неграмотный ходит как бурлак, подойдет к хороводу и говорит срамные слова»; «Неграмотные и праздника-то не умеют провести: пообедав да отдохнув, обыкновенно садятся они в избушке по нескольку человек вместе, судят да рядят: тот — лентяй, другой — скупой, третий — жадный. Попадет в такую компанию грамотный человек, начнет читать душеполезные книги, и неграмотный человек, выйдя из такой компании, наверное, будет держать и не скоро переменит свою мысль и дело на худое»; «грамотный человек в свободное время может что-нибудь из книг изучить, развлечь себя чтением во время скуки, удержать себя от пагубных дел и дурных примеров»; «неграмотные верят в разные глупости, выполняют старинные языческие обряды, обижают друг друга и сами не замечают этого». Так характеризуют влияние начальной школы на смягчение нравов бывшие ее питомцы. Еще труднее направить к добру взрослого человека... Фабричные воскресники даже поговорку сложили: «Перестал пить, знать, стал в школу ходить». Кузнец 43 лет — ученик Уржумской воскресной школы — сам рассказывает, что до поступления в школу страшный был пьяница, бил жену, бранился; теперь же очень, очень редко бывает выпивши, а до прежнего безобразия уже никогда не доходит. Мы не сомневаемся, что, раз школа поставит совершенно определенно как одну из главных задач смягчение нравов населения, поставит ее выше чисто внешних целей вроде каллиграфии, правописания и приготовления к экзамену, она добьется в тысячу раз более видных, более благодеятельных результатов, чем достигает теперь. В связи с жестокими нравами находится еще другое зло нашей деревни — это забитость ее обывателей, отсутствие чувства собственного достоинства, понятия о Личной чести. Трудно было выработаться этим понятиям в среде, где так часто приходится мириться не только с оскорблениями, но и с физическими истязаниями, где так редко раздается слово «право», но постоянно говорят о безропотном исполнении тысячи часто фантастических обязанностей. Редкие попытки проявить чувство своего достоинства со стороны мужика в лучшем случае оканчиваются комическими эпизодами.
Г. И. Успенский изображает пьяненького мужика, попробовавшего показать, что и он не хуже других. И вот на одной из станций подходит он к буфету закусить и, подобно прочим, грозно восклицает: «Бутенброту!», но, увидав господ, пугается, тотчас же сбрасывает шапку и бурчит: «Дозвольте бутенброту, ваше вскародие». Сформировать и поднять чувство собственного достоинства в народе — это такая задача, над которой стоит ничуть не менее поработать, чем над культурой гуманности. Несомненно, и теперь хорошая начальная школа поднимает чувство личного достоинства в своих учениках. Об этом имеют хотя и несколько смутные понятия сами ученики начальной школы. «Неграмотного могут обидеть во всяких случаях, — пишет один бывший ученик, — и ничего ему не поделать, потому что не знает никаких законов». «Грамотному нигде не страшно, ежели он живет по закону; а неграмотный когда и по закону делает, а ему говорят: не по закону». Сложное чувство чести, заключающее в себе значительную долю эгоизма, соединенного с некоторой частью героизма, вполне доступно и ребенку. Для развития этого чувства нужно так немного. Уважать человека в ребенке, не оскорблять его, деликатно относиться к его чувствам — вот все, что требуется от учителя в этом отношении. А между тем развитие этого чувства прямо ведет к очеловечиванию отношений в крестьянской среде. Очеловечивание же народной массы ничему повредить не может; ее озверение ни для кого и ни для чего не нужно, жестокие нравы, возможные только при отсутствии чувства собственного достоинства в массах народных, едва ли найдут теперь защитников даже среди мракобесов. Не встретится теперь особенных препятствий на этом пути и со стороны самого народа. Народ, несмотря на свою дикость, грубость, бессердечность и подчас прямо-таки жестокость, напластованную на него историей, все же сохранил в глубине души искру божию, красоту человеческого образа, большой запас энтузиазма и рвется к свету, ищет идеалов.
Работа на поприще народного образования в России — благородная работа. Для всех теперь очевидны результаты оживления, наступившего в этой сфере с начала 900-х гг. Десятками тысяч насчитывается на это время открытых новых начальных школ; более нежели в 25 губерниях поставлен на ближайшую очередь вопрос о всеобщем обучении народа. Десятками тысяч насчитывается вновь открытых школьных библиотек и тысячами народных библиотек, воскресных школ, организуются народные чтения и книжные склады. И народ сознательно идет навстречу этому движению, переполняя школы, аудитории и библиотеки, принося на это дело свои гроши и свои усилйя, принимая иногда на себя и самую инициативу в устройстве этих учреждений. А между тем много ли в самом деле людей беззаветно и искренно отдали себя служению этому делу и не было ли гораздо больше людей, сознательно и упорно затруднявших это течение. Если бы возможно было сделать подсчет, с одной стороны, усилий, направленных на удовлетворение нужд населения, а с другой — сил, затраченных на то, чтобы, не разбирая средств, во что бы то ни стало дать ему задний ход, то еще вопрос, на чьей стороне оказался бы плюс и на чьей — минус. А между тем движение к знанию, свету и правде за это пятилетие все-таки отмечено несомненным успехом; и этот успех был бы в тысячу раз больше, если бы энергия, затраченная на то, чтобы ставить ему преграды, нашла другое, более достойное применение. Народное образование — это такое поприще, на котором всякое малейшее усилие в прогрессивном направлении, всякий грош, всякая самая скромная попытка дает для всех очевидные, для всех, казалось бы, одинаково желательные результаты. Это дело должно быть
поставлено вне партии и выше их. Умственное и нравственное развитие народа никому помешать не может. Невежество и темнота народная никому не нужны. Образованный народ скорее и вернее поймет и оценит всякую меру, предпринятую в его интересах, и окажет ей свое сочувствие и поддержку. Только злоупотреблениям нужна народная темнота; но злоупотребления одинаково ненавистны всем честным людям, к какой бы партии они ни принадлежали. Чистое, хорошее дело не боится света. Но необходимо спешить. Если теперь же не будет принято самых энергичных и широких мероприятий к очеловечиванию народных масс, если нас удержит от этого шага непонятная светобоязнь и какое-то странное отвращение к широким программам в деле народного просвещения, то будет уже поздно. Тысячи признаков показывают, что в духовной жизни народа происходит кризис. Предоставленный случаю и под влиянием тяжелых условий современной действительности, народ — и этого всего естественнее ожидать при таких условиях — направит огромный запас своего энтузиазма в сторону варварства и дикости, жестокостей и изуверства, куда толкают его унаследованные им пережитки.
IX
Когда мы в предыдущих главах говорили о силе нравственного внушения и примера, о развитии воли, детских идеалов и нравственного чувства, почти все сказанное нами в равной мере могло относиться и к семье, и к школе. Теперь мы приступаем к области явлений, имеющих мало отношения к семье и преобладающих в школе. Если мы заглянем в себя, то мы найдем в своей душе неодолимые наклонности, пружины, то инстинктивно толкающие нас навстречу ближнему, побуждающие нас согласовать свои действия, свои настроения, свои идеи с поступками, чувствами и идеями других людей, то соединяющие людей узами сознательной привязанности и объединяющие их в союзы, подобно тому как атомы, обладающие взаимным притяжением, дают соединения, называемые молекулами, а эти последние, также благодаря только взаимному сцеплению, образуют тела. Мы верим, что мы любим людей, жалеем их, желаем им добра и что они нас тоже любят, что им не чуждо великодушие, милосердие, сожаление и преданность. Это — любовь к ближнему, по одной терминологии, это — социальные или общественные чувства, по другой. Мы радуемся радостям ближнего, мы горюем его печалями, мы сознаем необходимость заботиться о нем, мы готовы для него на некоторые жертвы.
И мы убеждены, что развитие этих чувств представляет важнейшую, наиболее существенную задачу в нравственном воспитании. Да и что такое сама нравственность, как не цемент, связующий людей друг с другом в целые общества? Если бы человек жил вне общества, не существовало бы самого понятия о нравственности. Отношения между людьми, составляющими общество, их отношения к самому обществу — вот что служит предметом этики. Этика ближе всего к социологии. Чтобы какое-нибудь общество было здоровым, надо, чтобы отношения, связующие его членов воедино, были нормальны... Вместе с изменением форм, какие претерпевают в своем развитии человеческие общества, изменяются и нравственные понятия. Чтобы судить о том, как велик прогресс в этой области, достаточно представить себе расстояние между людоедством первобытного человека и идеями универсальной справедливости и жизни для других. Самое понятие о том, кто наш ближний, которого мы любим, с которым связаны чувством солидарности и симпатии, претерпевает значительные изменения, и это развитие идет от более узких к более широким кругам. Могут существовать и теперь самые идеальные отношения членов семьи друг к другу рядом с враждебным отношением ко всему остальному миру. Это будет пережитком, идущим к нам из глубины веков, когда существовали только одни семейные, родственные связи. Деревенский кулак усердно молится богу о счастье своей жены и детей, но он ставит переломленную свечку перед иконой угодника божия, чтобы так же переломило его соседа. Любовь к людям своей расы может уживаться рядом с ожесточенной ненавистью к народам другой расы. Это будет также пережитком, но уже позднего происхождения. Современным идеалом служит учение Христа о том, что все люди — братья, для нас не должно быть ни эллина, ни иудея, что каждый человек — наш ближний. Те связи, какие раньше соединяли только членов одного класса, позже людей одного племени, еще позже подданных одного государства, мы делаем попытки перенести на всех людей, на все человечество. Но по существу это одни и те же связи, и в области чувства им соответствуют общественные эмоции, побуждающие нас жить для другого. Может быть, дело только в том, чтобы признать брата в человеке, которого мы считаем чужим только по недоразумению. В английской литературе есть рассказ про двух горцев-братьев. Они жили недалеко друг от друга. И один из них рано утром пошел навестить своего брата. В долине, через которую он шел, стоял густой туман и придавал всем предметам самые причудливые, фантастические формы. На полпути горец заметил, что навстречу ему двигается какое-то громадное, страшное существо, и суеверный человек принял его за злого гения этих гор. Горец с силой сжимает ореховую палку, которая была в его руке, и храбро наступает на неприятеля. Его враг делает то же. Но вот ветер прогоняет туман, и при ярких лучах солнца горец сразу узнает в своем враге родного брата. Оказалось, что они оба вышли, чтобы навестить друг друга; их обоих туман ввел в заблуждение, и каждый из них принял родного брата за врага. Оба они за минуту перед тем готовы были вступить в борьбу друг с другом. И кто знает, не похожи ли и отдельные лица, и целые народы на этих братьев, не ведут ли они борьбу друг с другом только потому, что невежество и вековые предрассудки не позволяют им признать брата в другом человеке. И мы верим, что настанет время, когда свет знаний поможет нам видеть и в наших соперниках-соотечественниках, и в людях другой страны и другой расы не врагов, а своих братьев.
...Значение общественных чувств и инстинктов в нашей жизни громадно. Все, что мы имеем, создано трудом других людей. Во все время нашего беспомощного детства мы пользовались заботами других. Все удобства жизни, все наши удовольствия, все идеи, ставшие нашим достоянием, — все это открыто, сделано, распространено, передано нам другими людьми. Робинзон возможен только в области вымысла; но даже Робинзон пользовался орудиями, найденными на разбитом корабле, а эти орудия были произведениями тысячи других людей.
Люди были бы бессильны в борьбе с природой, они погибли бы, если бы общественные чувства не объединили их в роды, общины, государства. Еще Конт48 требовал, чтобы воспитанникам было внушено, сколько ума, гениальности и труда, сколько слез и крови было употреблено на достижение благ, которыми мы пользуемся; сколько известных и забытых благодателей работало и в области мысли, и в области практической деятельности для нашего благополучия. Это пробудит в душе юноши стремление и самому внести свою лепту в общую сокровищницу народного блага, побудит его жить для других, потому что он сам живет при помощи других.
Мы знаем возражения, какие обыкновенно приводятся, когда идет речь о развитии чувства симпатии и любви к другим. Говорят о том, что надежды на царство мира, любви и правды — химера, что в животном мире царит ожесточенная борьба за существование, а не любовь, что та же самая борьба за существование, жестокая и неумолимая, преобладает и в человеческом обществе, что более умными и более развитыми надо признать тех, кто, не желая быть наковальней, сумеет стать молотом, что воспитатель, не вооруживший своего питомца необходимыми средствами для борьбы за существование, заранее обрекает его на неудачи, на поражения в борьбе за жизнь, что на войне как на войне и потому мягкое, незлобивое сердце, жалость и сострадание к другим только повредят ему в неизбежных столкновениях с другими, заставят его шаг за шагом уступать более выгодные позиции своим конкурентам; что там, где господствует соревнование, борьба за лучшее место, за благосостояние, за заработок, за каждый кусок хлеба, берет верх каменное сердце, бездушные типы, не знающие жалости борцы. Невозможно скрывать, что и в настоящем, и в прошлом человеческой жизни борьба за существование принимает очень часто именно эти формы, хотя это положение может быть принято только со значительными оговорками. И в прошлом, и в настоящем наряду с безобразной, зверской борьбой, какая идет между людьми, была и теперь существует еще и солидарность, и жалость, и помощь.
Задатки чувства симпатии есть даже в животном мире. И примеры проявления этого чувства знает естественная история. Брем4* рассказывает, например, про обезьяну, бросившуюся как настоящий герой в середину стаи собак, окруживших маленькую, беззащитную обезьянку, чтобы спасти последнюю от опасности. Он же рассказывает про ворон, кормивших свою слепую подругу. Там, где между людьми альтруистические чувства развиты сильнее, где шире распространены идеи солидарности, где эти идеи чаще и лучше воплощаются в практической жизни, там люди пользуются большей долей благосостояния и счастья...
Но в данном случае важен не столько вопрос о том, что есть, сколько вопрос о том, что будет. Человечество развивается так же, как растет дерево, как развивается ребенок. То, что казалось непреложным законом в его прошлом, может оказаться уродливым исключением в будущем. Мы часто поражаемся эгоизму маленького ребенка. Он думает только о себе, все тащит для себя одного, ежеминутно готов вступить в ссору и драку с товарищем из-за обладания какой-нибудь игрушкой, яблоком, простой палочкой, изображающей лошадь. Но если бы кто стал на основании этих наблюдений предсказывать, что этот ребенок никогда не будет в силах принести значительную жертву для кого бы то ни было другого, тот впадет в грубую ошибку.
Такая характеристика вполне справедлива для прошлого и отчасти для настоящего этого ребенка, но она будет совершенно несправедливой для его будущего, она не может быть перенесена на взрослого человека, каким станет потом этот ребенок. Мало этого: ребенок, каков он сегодня, носит в себе, в скрытом состоянии, зародыш менее корыстного будущего, и оно проявится в его поступках и образе жизни, когда он наберет достаточно силы и мощи. Ребенок вырастет; личные интересы и тогда не станут ему чужды, но вместе с тем у него явятся другие стремления, он станет способен на жертвы, и, может быть, очень большие. Если он полюбит женщину, он не остановится ни перед какой жертвой ради нее. Когда он станет отцом, его жизнь станет непрерывным рядом жертв, которые он будет приносить с радостью и любовью для своих детей. Может быть, он дорастет до любви к своей родине и будет готов отдать за нее свою жизнь. И кто признает тогда в нем маленького эгоиста, проявляющего только инстинкты варвара и дикаря? Разумеется, и тогда он станет заботиться и о своем здоровье, и о своих силах, и о своем влиянии, он, может быть, подчинит эти заботы своим высшим стремлениям: и здоровье, и силы, и влияние ему нужны будут для того, чтобы с наилучшим успехом работать для своей семьи, для своего общества, для народа...
...Человечество тоже растет и развивается. В прошлом мир был не таков, каков он сегодня, но и теперь он не таков, каким он станет в будущем. То, что существует теперь, существовало как зародыш, в скрытом состоянии, в людоедах каменного века, когда закон борьбы за существование в самых грубых его формах, превосходно изображенный Дарвином, был, может быть, единственным законом; но мы носим в себе точно так же, в скрытом состоянии, еще зародыш будущего, которое тоже не будет походить на настоящее, как настоящее не похоже на прошлое. На первой ступени человеческая жизнь характеризуется латинским изречением: «Homo homini lupus» («Человек для человека — волк»); на второй — поговоркой: «Живи сам, но давай жить и другим» — и на последней, нам известной ступени — принципом: «Живи сам, заботься о себе, но в заботах о своем благополучии не забывай, что твоя жизнь имеет смысл только в том случае, если ты живешь для других, для блага народа, для блага человечества; и если ты заботишься о том, чтобы твоя жизнь была наиболее продолжительной и наиболее интенсивной, то это лишь для того, чтобы возможно дольше и возможно энергичнее работать для всеобщего блага, всеобщего развития, свободы, справедливости и солидарности; и если ты заботишься о своем умственном и нравственном развитии, то это опять-таки лишь для того, чтобы вернее и лучше сообразовать все твои действия, всю твою жизнь с той же целью всеобщего, равного для всех развития и блага; и если ты заботишься о воспитании твоих детей, то и здесь ты руководишься той же целью приготовить из них умных, знающих, мужественных и стойких борцов за те же общечеловеческие идеалы».
Ряд сравнений между различными историческими эпохами убедит каждого в том, что прежняя, животная борьба в ее грубых формах, может быть слишком медленно, может быть с колебаниями и попятными движениями, но зато со всевозрастающей быстротой, уступает в человеческих обществах место стремлениям к солидарности, взаимопомощи, единению, согласию и гармонии, борьбе за общее благо и справедливость. И если бы мы сумели заглянуть в тайники души самых бессердечных, по-видимому, люд ей, мы, может быть, и там нашли бы зародыши тех же стремлений — к правде, ко всеобщему благу и всеобщему развитию. А если это так, если всех людей, несмотря на видимые противоречия, объединяют одни и те же стремления, если все они — одни вполне сознательно, быстро, без колебаний и без уклонений, а другие полусознательно, медленно, с остановками и временными попятными движениями, — но идут к одной и той же цели, то мы не можем не верить, не можем не питать твердой надежды на то, что в будущем ожесточенная животная борьба за жизнь заменится борьбой с неправдой и тьмой, борьбой за всеобщее счастье, за всеобщее гармоничное развитие всех высших человеческих способностей, за воплощение форм справедливости в общественной жизни. И в этой борьбе более слабые не будут гибнуть, как это имеет место в зверской борьбе за существование, а их будут лечить, развивать и воспитывать, чтобы поднять до общего среднего уровня. Стоит сравнить, например, средневековую школу с современной. В средние века господствовал простой отбор учеников, обладающих феноменальной памятью и воловьим терпением; тогда путем массовых исключений и жестоких зверских наказаний, обращавших в бегство всех, кто не подходил под тогдашние требования, педагоги отделывались от менее терпеливых и менее способных. Теперь наши лучшие школы почти не знают исключений по неспособности и лени, по испорченности и злой воле; хорошая школа теперь почти не пользуется отбором дарований, она гораздо больше заботится о слабых и отстающих, чем о сильных и успевающих: она не хочет знать борьбы за первенство даже в ее более мягких формах и тем не менее достигает и в нравственном и в умственном отношении несравненно более ценных результатов, чем средневековая схоластическая школа, оставлявшая в своих стенах только сильных и безжалостно изгонявшая слабых. Та же тенденция красной нитью проходит и в изменениях, какие совершились в отношениях народов друг к другу. Как поступали победители с побежденными в древние времена? Мы не говорим уже о ганнибализме, но и на более высокой ступени развития мы встречаемся, например, с такими требованиями: «Поразиши Амалика и Иерима и вся яже суть его... и искорениши его, и проклянеши его и вся сущая его и не пощадиши его; и да убиеши от мужска пола и до женска и от юнош и до сосущих млеко» (I кн. Царств. XIV, 3). Какая огромная пропасть существует между этими отношениями к побежденным и современными стремлениями внести в покоренные страны культуру и просвещение мирными средствами: через посредство школ, мйссионеров, торговли, общественных учреждений. Побежденные уже не уничтожаются, как этого требовал бы жестокий закон грубой борьбы за существование; более слабых, напротив, теперь стараются поднять и сделать более сильными. Правда, и теперь мы еще часто встречаемся с пережитками, с грубыми и жестокими остатками варварства; но они с каждым годом встречают все более и более протеста и осуждений, и недалеко время, когда наиболее отвратительные из этих пережитков отойдут в область печальных преданий. Древняя грубая борьба за жизнь нужна была для того, чтобы путем отбора создать расы более сильные, более смелые и храбрые; потому что и сила, и храбрость, и смелость нужны и теперь в борьбе за общее благо и справедливость; это была подготовительная работа, когда человечество копило силы, необходимые для другой, более высокой, более гуманной и справедливой общественной жизни. Но раз уже пройден период подготовительного развития, раз необходимые силы накоплены — в самих этих силах, в их избытке уже заключается стремление не только брать, но и отдавать, не только пользоваться чужими силами, но и самим помогать себе подобным, жить не только для себя, но и для других, для родины, для общества, для всего человечества.
Если бы люди точно измерили накопленные ими уже силы — кто знает, может быть, они уже давно бы смело и бодро вступили на новый путь, оставив позади отвратительные, грубые, животные формы, кто знает, о скольких бы людях можно было тогда сказать словами поэта:
Но знал сиротина, что выросли крылья,
До неба достанет, когда полетит.
Человечество растет, и прежние пеленки для него уже тесны, новые силы проявляются в нем, а вместе с новыми силами являются и новые стремления, и новые цели, и новые формы. Тысячи признаков указывают, как с каждым годом увеличивается, несмотря на пережитки и колебания, сама быстрота этого роста. Книга, доступная некогда только ученым монахам, становится теперь доступной вчерашнему рабу, вчерашнему дикарю, а книга кроме знаний разносит еще и идеалы, зажигает энтузиазм. Демократизируется искусство, а роль его в образовании и распространении идеалов никто не станет оспаривать. Каждое новое изобретение в области книгопечатания, фотографии, литографии, каждая железная дорога, новая проволока телеграфа, всякое улучшение в почтовых сношениях, всякая новая организация в области распространения народного образования, науки, промышленности, торговли влекут за собой все большее сближение между людьми, усиливают их связи, увеличивают солидарность.
Надо ли прибавлять, что те же средства увеличивают и общую сумму знаний и умственного развития народных масс, а также сумму симпатии людей друг к другу?
Для учителя и воспитателя существенно важно выяснить условия, благоприятствующие развитию симпатических чувств, и условия, которые задерживают это развитие, потому что это значит найти наиболее верные средства воспитания альтруиста...
...Чем выше будет умственное развитие ребенка, тем он будет объективнее. Особенность ума — «объективность». Недостаток умственного развития ,и недостаток сил — вот главная причина эгоизма в ребенке. Он все тянет в себя и к себе; ему трудно поставить себя на место другого: трудно отнестись беспристрастно к себе и к другим, если здесь замешана личная выгода. Более развитой и живой ум, напротив, при помощи воображения легко выводит нас за пределы своего эгоизма и личной выгоды, легко переносит нас в положение других и, обратно, легко сознает, что несправедливое и злое по отношению к нам также несправедливо и дурно и по отношению ко всем другим, легко приходит к выводу: желай другим того же, чего желаешь себе; не делай другим того, чего не желаешь себе. Еще больше умственного развития требуется там, где объектом чувства является собирательное целое: семья, школа, деревня, народ. Для этого надо привыкнуть представлять себя только как часть целого, как одного из многих, надо подняться до объективного отношения к себе. Еще, кажется, Кант удивлялся, что добрых людей много, а справедливых мало. Но это вполне естественно, потому что для доброты достаточны полусознательные симпатические чувства, а для справедливости нужна объективность развитого ума. Но было бы неразумно дожидаться того времени, когда умственное развитие станет вполне достаточным для наших целей. Будем развивать ум ребенка, обогащать его великодушными образами, но начнем дело воспитания симпатических чувств с первого дня поступления детей в школу, воспользовавшись теми представлениями, какие ребенок получит в дошкольный период. Да и сами представления, чтобы руководить нами, должны опираться на какое-нибудь чувство. Холодные представления не могут дать сильных побуждений к действию. И симпатия к другим, прежде чем стать сознательным чувством, проявляется у ребенка в инстинктивной, бессознательной форме. Немного надо ума, чтобы ребенок пожалел мать, если она больна и стонет, не надо большого развития, чтоб его тянуло к играющим на улице товарищам. Надо развить эти полусознательные симпатии, чтобы общественные идеи нашли в них достаточно сильный двигатель.
Лучшими средствами пробудить эти симпатии ребенка к другим — это одарить его самого симпатией, быть внимательным к его маленьким жертвам, какие он приносит другим, не скрывать своей радости, когда в ребенке проявляются симпатические чувства к другим. Равнодушие и сдержанность учителя в данном случае принесут только вред. Чем меньше ласки испытывают на себе дети, тем более в них самих черствости сердца...
...Другое средство вызвать жалость ребенка — это при виде страдания другого напомнить ему об аналогичных его личных страданиях. Еще Руссо обратил внимание на эту связь между личными страданиями и сочувствием чужому горю. «Для того чтобы сделаться жалостливым, — пишет он в своем «Эмиле», — необходимо, чтобы ребенок знал, что есть другие, подобные ему существа, которые страдают так же, как и он страдал, чувствуют такую же боль, какую он чувствовал».
Замечено, что дети после болезни или пережитого личного горя делаются сердечнее. Объяснением этого явления может служить, во-первых, что за это время ни видели со стороны окружающих больше ласки и участия, а во-вторых, что живое воспоминание о своих страданиях облегчает им возможность представить себе и чужие страдания.
Знания и ум учителя, его трудолюбие, высокое нравственное развитие могут вызвать в ученике уважение к нему; но для нежной привязанности это мало. Надо еще, чтобы сам учитель любовно, мягко и ласково относился к ребенку. И если последнему кажется, что близкие люди не любят его, он переживает тяжелое состояние. Нежные привязанности к окружающим пробуждаются в детях очень рано. Уже на втором году ребенок горюет, когда ему приходится расставаться с близкими людьми, и радуется, когда встречается с ними. Он делится иногда с близкими людьми своими лакомствами, игрушками, плачет, когда они печальны, делает наивные попытки их утешить. Любовь к близким людям — вот с чего начинается развитие общественных чувств в ребенке.
Наши деревенские дети умеют любить, они любят и товарищей, и учителя, и даже животных, хотя подчас бывают и жестокими. В детях так смешано и хорошее, и дурное, что один и тот же ребенок может своими поступками то привести своего учителя в отчаяние, то вызвать в нем восторг...
...Задача воспитания — развить в детях, сколько возможно в этом возрасте, чувства симпатии и привязанности и целесообразно направить эгоистические инстинкты, не разрушая их, но согласуй с мотивами общественными, а задача дальнейшего воспитания и самовоспитания — поднять альтруистические чувства на такую высоту, чтобы несчастье ближнего дети чувствовали как собственное несчастье, радость его — как собственную радость. Если мы не будем пробуждать в детях любви и жалости к людям, если не будем предоставлять им исхода из этого чувства хотя бы в самом крошечном, вполне доступном их маленьким силам деле помощи, то ребенок будет жить только одними эгоистическими инстинктами, которые едва ли нуждаются в усиленном развитии.
Для того чтобы развить какое-нибудь чувство в ребенке, нет другого средства, как дольше и чаще удерживать его внимание на образах, возбуждающих это чувство. Чувство вызывается представлением, а из представлений станут господствующими только те, которые опираются на самое большое число опытов и воспоминаний. Я знал людей, которые просто от нечего делать и по моде стали заниматься педагогией в воскресных школах, но чем более увеличивался их опыт, чем больше копилось в их душе воспоминаний о пережитых в школе радостях и печалях, удачах и неудачах, тем все искреннее, все теплее и теплее они относились к своему делу, и из них выходили люди, до фанатизма преданные делу воскресных школ. Попробуйте больше думать о добре, которое сделал вам ваш знакомый, и вы почувствуете к нему глубокое чувство благодарности. Думайте больше о зле, какое он вам принес, — и вы его возненавидите.
И если это верно для образов и воспоминаний, то это также верно и относительно реальных восприятий, действующих несравненно сильнее, нежели воспоминания.
Школа не только представляет случаи для пробуждения в детях симпатических чувств, но она, кроме того, дает еще новое могущественное средство действовать на детей в том или другом направлении, влиять на чувство и волю каждого ученика, на все его поведение с такой силой, что едва ли какой-либо другой способ может быть более действительным. Мы говорим о влиянии общественного мнения школы на поведение ученика. Всякий из нас по себе знает, насколько возбуждающим образом действует на нас всякое собрание, куда мы приходим, как оно электризует нас, как оно заставляет нас волноваться и как часто оно с непреодолимой силой увлекает нас за собой своим общим массовым порывом. Общественная среда часто незаметно для самого человека, но так же сильно влияет на него, как воздух. Она заставляет нас смотреть на себя и делать оценку своих поступков
с точки зрения кружка, сословия, народа, к которому мы принадлежим.
История массовых движений полна примерами того, какие чудеса превращения может сделать с душой человека даже простая случайная толпа. Действие толпы на наши чувства и волю одинаково непреодолимо и тогда, когда она толкает нас на высокий подвиг, и тогда, когда она влечет нас к преступлению. Вот почему чрезвычайно важно для учителя овладеть мнением и волей класса. Тогда всякое состоявшееся общее решение будет в состоянии заразить общим стремлением или чувством каждого ученика, хотя бы все его привычки, все предшествующее воспитание находились в прямом противоречии с установившимися в классе порядками, обычаями, требованиями, поддерживаемыми мнением всей школы. Иной бы и не захотел, будучи предоставлен одному себе, подняться до общего уровня. Но когда он попадает в школу, он чувствует себя на виду у всех, толпа одобряет его, когда он делает усилия сравняться с другими, порицает его, когда он отстает, возбуждает его силы, и он действительно делает успехи, чтобы не стать хуже других. Мало этого, ребенок привыкает к гармоническому строю школьной жизни; нарушение его звучит для него неприятным диссонансом, и он не хочет нарушить этого строя, приспособляется к нему сам и желает приспособить других: то помогает своим товарищам, то сам пользуется их помощью. Теперь никто не оспаривает, что толпа — будет ли это школа или другая какая-либо организация — поднимает до общего уровня всех посредственных по своим способностям людей. Но некоторые думают, будто влияние таких сообществ принижает уровень наиболее даровитых товарищей. Мнение это, однако, едва ли можно признать основательным. Влияние общества путем одобрения или порицания со стороны общественного мнения создает и великих поэтов, и художников, и артистов, и ораторов, и писателей, а это как раз те профессии, где требуется огромная масса и усилий, и способностей, чтобы завоевать себе известность. Дело в том, что общество, порицая и поощряя, требует от нас таких способностей и умений, которые бы вели к развитию общественного блага. И это благо естественно является целью наших стремлений под влиянием на нас общественного мнения. Если учитель сумеет овладеть мнением школы — а при доверии, уважении и любви к нему детей этого не трудно добиться, — то в его руках явится орудие, с помощью которого он может заставить работать самых отъявленных лентяев, соблюдать порядок и тишину во время урока самых отчаянных шалунов; пользуясь этим орудием, он заставит драчуна щадить и защищать маленьких детей, хотя бы он до поступления в школу не давал никому проходу; самые грубые эгоисты будут у него оказывать друг другу услуги и помощь, самые неряшливые ученики будут беречь книги и учебные пособия. Лишь бы только эти требования стали требованиями не одного учителя, а всей школы, лишь бы только большинство учеников не ради страха перед наказанием, а добровольно и сознательно поверили в справедливость и неизбежность этих требований. Тогда класс силой своего влияния, одними одобрениями и порицаниями, выражающими общее мнение класса, в состоянии заставить ребенка сдерживать самые сильные из своих порывов, даже вспышки гнева, злобы, жестокости...
...Нам скажут, что в обществе детей легко возникают между ними столкновения. Это правда, но сами общественные инстинкты ребенка, его неодолимая потребность быть, играть и работать вместе с другими, если этими силами правильно пользоваться, скоро заставят ребенка принести в жертву товариществу свои наиболее шероховатые эгоистические мотивы, лишь бы не лишиться общения со своими сверстниками. О тяжелом положении овцы без стада говорится даже в пословицах. А между тем жизнь в стаде обязывает к содействию с другими, развивает привычку действовать в согласии со своими другими, думать о других, служить им. Именно так слагаются нормальные, здоровые отношения между детьми. И эти же отношения переходят затем и в жизнь взрослого человека, с теми изменениями, какие внесет в них его последующая жизнь, его дальнейшее развитие, идеалы, принципы.
В большинстве наших народных школ практикуется совместное обучение мальчиков и девочек, и это еще более усиливает благотворное влияние сообщества учащихся на каждого из них. Целым рядом наблюдений доказано, что при этих условиях девочки отвыкают от жеманства, становятся более самостоятельными и независимыми, а мальчики отвыкают от грубости, делаются более мягкими и вежливыми во взаимных отношениях. Ж. П. Рихтер50 справедливо пишет: «Лучшая гарантия хорошего поведения в училище — т это совместное воспитание детей обоего пола...»
Мы сказали выше, что предмет этики — это отношения людей друг к другу; а стало быть, научить этим отношениям ребенка возможно только тогда, когда он будет находиться .в обществе других детей. Нельзя научить ребенка любить своих родителей, удаляя его из родной семьи, как это хотели бы сделать закрытые учебные заведения, нельзя научить его любить народ, не показывая народа, удаляя его от общения с ним. Точно так же нет никакой возможности сделать ребенка нравственным, уединив его от других детей. Совершенно так же стоит вопрос и об отношениях обоих полов друг к другу. Но здесь есть еще одна особенность. В возрасте, когда дети учатся в начальной школе, половые инстинкты находятся в дремлющем состоянии и несравненно легче устанавливается гармония в отношениях между мальчиками и девочками, а раз она установилась, ее влияние перейдет и на последующие возрасты. Все впечатления детства так новы, так свежи, жизнь представляется в глазах детей в таких волшебных красках; все так полно для них неиссякаемого интереса и значения, что гармония отношений детей друг к другу, если ее не удастся установить в раннем детстве на началах симпатии, справедливости и равенства? станет одним из мощных факторов нашего поведения во всю последующую жизнь. Ничем нельзя будет затем исправить ошибки, если эта счастливая, невозвратная пора прошла у ребенка или в одиночестве, или в уродливых отношениях с своими сверстниками. Не в наших ли средних и высших школах, где мальчики и девочки воспитываются обособленно, как будто бы это были люди двух различных индийских каст, надо искать причин ненормальностей в отношениях мужчины к женщине?
Может быть, нигде развитие общественных чувств и солидарности не представляет задачи такой огромной важности, как именно в нашей деревне.
Вот что, например, сообщает мне в заметках о своей школе учитель Хорольского уезда г. Симоновский: «Общественная жизнь нашего народа представляет много неустройства и неурядиц. В праздничный день стоном стоит гул возле сборной избы. Крик, ссоры, драки, взаимные оскорбления. В самом пустячном житейском деле не могут сойтись. Богачи и кулаки главенствуют на сходах и почти всегда постановляют приговоры в своих интересах. В памятные голодные годы многие крестьяне не могли себе взять хлеба на продовольствие и обсеменение, потому что богатеи, мироеды, заправлявшие сходами, давали отписку начальству, что крестьяне не нуждаются в ссудах. Голодающий народ поневоле обращался к ним за помощью и получал ее втридорога. В других местах сами крестьяне обращались за ссудой, но кулаки и их приспешники, составляющие большинство, не хотят за них поручиться, и их насущные нужды остаются без удовлетворения. Наши волостные порядки не всегда хороши. Волостные судьи далеко не отличаются беспристрастием».
Писатель, одаренный удивительной наблюдательностью, тщательно изучавший деревенскую жизнь в течение многих лет, Г. И. Успенский51, которого никто не заподозрит в тенденциозномрачном изображении психики русского крестьянина, рисует сторону житейских отношений в деревне в таких красках, что, читая его, можно прийти в отчаяние от современной действительности. «Сколько в деревне нищих, убогих, калек, сирот, бездомных, случайно несчастных и оставленных на произвол судьбы! — восклицает он. — Обо всем этом должна бы заботиться неугнетенная чуткой заботой мысль; но она не заботится, потому что не знает, что об этом надо заботиться. Мирские дела почти исключительно состоят в раскладке и питиях водки по разным случаям». Автор сравнивает заботы крестьянина о скотине с заботами о собственном ребенке и приходит к крайне неутешительным выводам. «Одного мальчика, — по словам Успенского, — зашиб барин, мальчик сначала лежал без чувств, потом, очнувшись, рыдал, как помешанный от испуга». Автор думает, что этот испуг останется в нем на всю жизнь. Отец и мать оба мучились над мальчишкой: прикладывали что-то, например навоз теплый, вообще лечили и болели душой, но лечили они его средствами, какие найдутся вокруг дома; а вот захромала у того же Ивана Ермолаевича кобыла, полечил он ее так же собственными средствами, так же намазывал на тряпку какую-то дрянь, а кончил тем, что поехал и привез коновала и три рубля серебром ему не пожалел. Для лошади в народе есть уже профессия не вполне шарлатанская, к услугам коновала прибегают и культурные владетели лошадей. А вот когда мальчишка орет, то тут могут только плакать и прикладывать тряпку с навозом. Если таково отношение деревенского обывателя к своим детям, то отношение к соседям и общественным делам безразлично до ужаса.
Отыскивая причины этого печального индифферентизма деревни и к общим интересам, и к людям, мы не можем видеть их в каких-либо особенных природных свойствах русского человека. Наблюдения над отдельными лицами из народа, прошедшими хорошую школу и пользовавшимися хорошей книгой или непосредственным влиянием на них образованного человека, показывают, что русский крестьянин способен и на коллективную работу в общественных интересах, и на пожертвования, что его душе доступно и участие к горю ближнего, и солидарность, что он может страстно тосковать по идеалу, искать его и жить согласно с его требованиями. То же самое подтверждают примеры наших самоучек, проявивших столько энергии в работе на пользу окружающих, столько любви к людям, столько веры в дело общественного служения. Нет, корни этого безразличия к другому человеку, к общественным делам лежат не в природных качествах русского крестьянина: невозможно отрицать дарований в народе, из которого вышли Ломоносов, Посошков и другие. Причину здесь мы можем видеть только в невежестве народа и нашем историческом прошлом. Крепостное право усиленно культивировало в крестьянах только одну способность — к мускульному труду за счет всех остальных качеств человека, энергично вело войну со всеми малейшими проявлениями среди него солидарности, заботы об общих интересах. Лучшие из помещиков брали эти заботы на самих себя, худшие оставляли крестьян на произвол бурмистров и управляющих, но ни тем, ни другим не приходило даже мысли о том, что их живой инвентарь сам может сообща позаботиться о своих нуждах, может иметь какие-нибудь общие стремления, планы, надежды. «Здесь тягостный ярем до гроба все влекут, надежд и склонностей в душе питать не смея», — характеризовал этот строй наш гениальный поэт Пушкин. После 1861 г. мы также не можем констатировать особенного усердия в смысле смягчения нравов деревенского населения.
Теперь, спустя 40 лет после освобождения, пора обратить внимание на это наследство нашей истории, пора принять самые широкие меры к развитию в народе солидарности, заботы об общественном деле, внимания к другому, к сироте-ребенку, к беспомощному старику, к бездомному калеке.
Лет 10 тому назад газеты ретроградного пошиба как на панацею деревенских зол указывали на необходимость возможно большего подчинения деревенской жизни надзору чиновников, увеличения числа таких надзирателей и расширения их полномочий...
...Нет, в нашей деревне никогда не было недостатка в начальстве всех видов, степеней и наименований. Кочегар на железной дороге — это уже начальство с деревенской точки зрения, лакей важного барина — это уже грозное начальство. Начальства в деревне вполне достаточно и приказывающего, и постановляющего приговоры, и секущего, и арестующего, и разносящего, и штрафующего, и ревизующего, и доносящего; начальства форменного и самозванного. И если до сих пор мы не видим порядка в деревне, если деревенские нравы поражают нас своей жестокостью, то виной тому — начальство, исполняющее свои обязанности с большой энергией и усердием. Чего недостает в деревне — это образованного человека, который бы воздействовал на крестьян не приказаниями и сечением, не арестами и доношениями, а своим примером, советами, разъяснениями и помощью старался бы внести в деревенские отношения побольше справедливости, человеколюбия и правды. История не знает ни одного примера, когда бы аресты и розги делали людей мягче, справедливее и гуманнее, везде и всегда было как раз наоборот. Всегда и везде эти меры только озверяли население, вносили в его нравы ни для кого не нужную жестокость, грубость и бессердечие.
Целесообразность мер против этого недуга надо искать совсем в другой плоскости. И в первом ряду мер, какие необходимы в данном случае, несомненно будет стоять влияние школы, как об этом подробнее мы поговорим в следующей главе.
X
У нас не было недостатка в попытках внести строй и порядок в народную жизнь путем всевозможных мероприятий, кроме одного — кроме всеобщего распространения образования в народных массах. Но нередко опыты, не опирающиеся на умственное и нравственное развитие народа, как и следовало ожидать, имели печальный конец...
Народная школа уже и теперь вносит свою долю света в эту индифферентную к общественным интересам массу, несмотря на самые неблагоприятные условия, в какие современная школа поставлена в этом отношении.
Уже то одно, что десятки детей ежедневно проводят вместе несколько часов подряд, смотрят друг на друга, слушают, говорят, вместе работают, создает привычку к общественности. Привычка во всех случаях человеческой деятельности — великое дело.
Мы уже говорили о роли привычек в деле воспитания...
...Можно точно так же развивать и прочные общественные привычки: жить в ладу с людьми, жить с ними общей жизнью, думать об общих интересах, работать для общества.
Если можно усвоить привычки к курению табака, к водке и к другим предметам и действиям, которые вначале вызывают неприятные ощущения, то тем более естественно привыкнуть к обществу себе подобных, так как общественные инстинкты врождены в нас, и тогда удаление от этого общества будет вызывать в нас тоску, скуку, беспокойство. Но дети в школе не только сходятся вместе, они еще живут здесь общей жизнью. Во время интересного урока им всем одинаково весело. У них есть общая радость и общее горе; у них есть общие минуты увлечения работой. Эта привычка заражаться общим настроением и общими интересами, имеющая корни и в наследственности, созданной веками, укрепляется в школе и переходит в жизнь. Всякий видел, как иной ребенок в самом разгаре слез вдруг рассмеется, когда раздается дружный смех его товарищей. Когда ребенок вырастет, он также будет близко принимать к сердцу события, влияющие на окружающих, хотя бы лично его эти события и не касались, и он примет участие в общем деле уже в силу одной привычки.
Общественные инстинкты у людей наследственны, но это не значит, что нечего заботиться об их развитии. Совершенно напротив. Мы уже видели выше, как мало еще развиты эти инстинкты в нашей деревенской среде и как много еще работы предстоит сделать в этом направлении. Несомненно, что одной привычки жить общей жизнью с другими людьми, заражаться их настроением, радоваться и горевать вместе с ними мало, надо дать еще определенное содержание общественной работе, надо знать, какая именно общественная деятельность является наиболее целесообразной, наиболее выполнимой и лучше содействующей общественному благосостоянию, и надо внушить любовь именно к этой, а не к другой форме общественной работы. Ведь теми крестьянами, которые сжигали ведьму или приняли немца за холеру и утопили его в реке, тоже руководили общественные инстинкты. Конечно, в этом отношении будет важнее влияние хорошей воскресной школы и библиотеки, но и в начальной школе можно сделать многое в этом направлении. Мы говорили о воспитывающем значении чтения. Учитель будет читать и рассказывать ученикам о понятных им примерах общественной деятельности из жизни наших самоучек, из истории, из беллетристических произведений, из собственных воспоминаний. Даже ребенок, только что поступивший в школу, слушая эти рассказы, увидит, как горят восторгом глаза его товарищей, когда идет речь о подвиге общественного служения, услышит слово похвалы и восхищения от самого учителя, и он невольно признает изображаемую деятельность чем-то безусловно хорошим, хотя бы он даже еще не вполне понимал ее значение. И он уже любит эту деятельность, восхищается ею. Позже, когда он лучше поймет ее
значение, его восторг перед общественной работой станет еще больше. И он захочет сам, по мере своих сил и возможностей, походить на этих деятелей. Пусть, пока он еще не созрел, это будут только мечты и планы; но чем чаще он будет возвращаться к этим мечтам, тем более вероятности, что хоть небольшую часть из них он попытается осуществить, когда станет взрослым. Биографии известных общественных деятелей полны примерами, как детская великодушная мечта дала направление всей последующей жизни взрослого человека. Нам уже преходилось говорить о том, как детское увлечение Пирогова врачебным искусством определило его будущую ученую деятельность. Ребенок вырастет с этими мечтами и планами, и, если он богат инициативой, он сам попробует осуществить эти планы в жизни; если он недовольно активен, он примкнет к другим, которые начнут его любимое дело, и в худшем случае он окажет им поддержку своим сочувствием, своим одобрением, а ведь это тоже важно в общественных делах. Такая поддержка влияет на перемены в общественном мнении, огромного значения которого нельзя отрицать. Сквозник-Дмухановский обкрадывал казну и брал взятки, не испытывая никакого стыда, потому что все чиновники так делали, потому что общественное мнение относилось к таким делам снисходительно, а протестовали против этого одни «проклятые щелкоперы», но тот же Сквозник-Дмухановский не взял бы на себя работы толстовского Акима, хотя и сознавал, что в нравственном отношении это дело неизмеримо выше казнокрадства и взяточничества. Таково уж общественное мнение, презирающее труд Акима, и против него не пойдет даже городничий. Под влиянием общественного мнения дикарь переносит большие мучения, накалывая на своей коже разные узоры и изображения. У новозеландцев такие насечки делаются щедрой рукой, раны остаются открытыми в течение нескольких дней; им не дают заживать, чтобы в эти зияющие раны втирать потом краску. Известны случаи, что некоторые не переносят этой операции и умирают. Но такова уже сила общественного мнения. Ей повинуются и дикари. Хорошо направленная, эта сила может стать огромным благом, направленная дурно, она становится великим злом. И внести свою долю влияния на общественное мнение школа может, и она, как мы видели выше, уже и теперь делает это, хотя ее роль в этом деле чрезвычайно затруднена внешними условиями.
Когда перечитываешь все эти изданные различными учреждениями планы преподавания в народных школах, объяснительные к ним записки, программы экзаменов, циркуляры и даже методические и педагогические руководства для учителей, то удивляешься, до каких тонкостей разработано, например, преподавание каллиграфии и грамматики. В строжайшей постепенности предписываются скучнейшие упражнения сначала в черчении всевозможных линий. Тут и горизонтальные слева направо и справа налево, и прямые, и овальные, с нажимом и без нажима. Рекомендуется черчение на все манеры — и так, чтобы одна линия ложилась на другую, и так, чтобы они шли параллельно и рядом. Детей упражняют в черчении бессмысленных фигур, напоминающих то четырехугольники обыкновенные, то четырехугольники разогнутые, то какие-то странные закругления с целым рядом не менее удивительных фигур внутри их и т. д. И все эти фокусы-покусы предписывается проделывать с детьми еще тогда, когда они не знают, что такое буква, и не в состоянии понять, какой смысл имеют все эти фигуры и для чего необходима эта механическая муштровка, которая ничего не скажет их сознанию. Но в этих планах, программах и записках вы почти ничего не найдете о том, как развить в детях заложенные в них самой природой общественные инстинкты, как научить их солидарности, внимательности к нуждам другого.
К счастью, практика школьной жизни далеко опередила в этом отношении и наших современных педагогов-теоретиков, и еще более официальные руководства. Творец современной народной школы Песталоцци дал нам высокий образец того, как следует развивать в детях общественные чувства, деятельную, а не созерцательную только любовь к нуждающимся в нашей помощи, внимание и сочувствие к горю другого человека. Песталоцци работал в приюте в Станце в то время, когда во всей стране то и дело происходили стычки между французами и австрийцами. После одной такой битвы при селении Альтдорф французы заподозрили местных жителей в тайных сношениях с австрийцами и в наказание сожгли селение. Песталоцци, конечно, не мог отнестись равнодушно к положению пострадавших, оставшихся без крова, и особенно к положению несчастных детей, но что мог сделать он, сам бедный человек, когда у него не хватало средств и на содержание приюта, где он служил? И однако же любящее сердце подсказало гениальному педагогу средство, удивительное и по своей простоте, и по крупному воспитательному значению. Песталоцци обратился за помощью к воспитанникам приюта. Он собрал их и сказал: «Альтдорф сгорел, может быть, в эту минуту бродит по пожарищу до ста детей без крова, без пищи. Желаете ли вы попросить наше начальство, чтобы оно дало приют им в нашем доме?» Все дети в один голос отвечали: «Желаем, желаем!» — «Но у нас мало средств, — продолжал великий педагог, — вы принуждены будете больше работать для этих бедняков, меньше получать пищи и должны будете поделиться с ними даже своим платьем — желаете ли вы все-таки помочь им в их несчастье?» И дети единодушно отвечали: «Пусть все они придут сюда! Мы согласны и больше работать, и меньше есть». И когда затем прибыли в приют дети погорельцев, воспитанники приюта приняли их как своих братьев, поделились с ними своими постелями, своим платьем и заботились о них с нежностью хороших нянек.
Когда дети искренно и шумно выражали Песталоцци свою признательность за все, что он делает для них, их знаменитый воспитатель говорил им, что для него лучшим выражением их благодарности будет, если они сами, когда вырастут, посвятят себя бедным, покинутым детям, станут жить среди них, учить их и воспитывать. «Великодушный мечтатель», как его называли многие современники, думал, что если он сам мог посвятить все свои думы и заботы воспитанию несчастных и бедных детей, то на это хватит сил и у его учеников. Было ли это ошибкой? Мы думаем, что Песталоцци в известной степени был прав, и если не все из его учеников, то, по крайней мере, некоторые из них должны были своей жизнью оправдать его ожидания. Если бы это было не так, Песталоцци не мог бы создать такого широкого движения в пользу всеобщего, всенародного обучения, в пользу призрения покинутых и бедных детей.
В одном из рассказов г. Засодимского52 выведен учитель, который вместе с детьми принимает меры против распространения чумы рогатого скота. Когда взрослые крестьяне не захотели внять доводам о необходимости зарыть трупы павших животных, он обращается к детям и вместе с ними проделывает эту работу. Мы лично знаем случай, когда учитель вместе с учениками своей деревенской школы сделал нечто подобное. Колодец, из которого брали воду жители деревни, был вырыт на низине, куда весной и осенью стекали нечистоты с крестьянских дворов. И вот школьники, по слову учителя и вместе с ним, впрочем, с согласия схода, делают насыпь около колодца, проводят канавки для стока нечистот и улучшают воду для питья.
Достоевский, посетивший колонию малолетних преступников под Петербургом, вот что, между прочим,рассказывает о порядках колонии: «Там дети привлекаются к участию в общей работе по уборке своих помещений, причем и сам воспитатель работает с ними заодно. Там в каждой семье, находящейся под наблюдением воспитателя, царят простые дружные отношения, причем воспитатель не начальник, а только как бы старший товарищ. Там существовал «самосуд» воспитанников. Всякий провинившийся поступал на суд всей семьи, к которой принадлежал, и мальчики или оправдывают его, или присуждают к наказанию, причем единственным наказанием служило отлучение от игр».
Аналогичные воспитательные меры употребляет учитель Хорольского уезда Полтавской губернии г. Симоновский53. Вот что сообщил он мне в заметках о своей школе:
«Имея в виду повысить нравственный уровень своих учеников и подготовить в них будущих деревенских общественных деятелей, сознательно относящихся к своей общественной жизни, я задумал учредить «школьное товарищество». Преобладающее число из моих учеников составляют мальчики от 13 до 15 лет, хорошо знакомые с деревенской жизнью, с ее темными сторонами. Всем им очень понравилась идея «товарищества», и все они сами дали слово помогать своим меньшим товарищам во всех их нуждах, ласково обходиться с маленькими детьми, вести себя хорошо дома и на улице, быть вежливыми с прохожими и приезжими, предостерегать друг друга от дурных дел».
Далее г. Симоновский рассказывает, как дети, не желая огорчать учителя, избегали сообщать ему о шалостях своих товарищей, а исправляли их сами путем товарищеских увещаний...
...Почему не пойти дальше? Почему бы не попробовать устроить всю школьную дисциплину и порядки на началах существующего сельского самоуправления? Почему бы не предоставить ученикам права выбирать своего школьного старосту и судей, разумеется, без права оставлять без обеда, ставить на колена? Подобные опыты были в Америке. Начальник одной школы, где обнаружена была особая распущенность детей, передал самим ученикам все обязанности по поддержанию классной дисциплины. Все ученики изображали из себя избирателей. Рассказывают, что результаты получились удивительные: беспорядки прекратились, и школа стала вполне благоустроенным заведением. В другой школе в основу самоуправления положены были начала городового управления. Дети были гражданами; они избрали мэра, полицию и других должностных лиц. Любопытна одна подробность. Различия между полами не делалось, и девочки оказались превосходными исполнительницами полицейских обязанностей.
Против подобных мер делались разные возражения. Говорили, что они отзываются чем-то книжным, что есть много гордых детей, которые будут оскорблены этой «вечевой властью» таких же, как они сами; что среда, которая решает дело, почти всегда середина, и не приговор уязвит самолюбие иного, более других умного и талантливого из учащихся. Но это пренебрежение к «вечевой власти» середины едва ли выдерживает критику вообще. Наша литература, наш театр, наше искусство не сделались хуже оттого, что стали служить интересам широких слоев серединной публики, а не отдельных меценатов, как было в прежние времена; уровень талантов нисколько не понизился оттого, что писатели, артисты и художники принуждены теперь сообразоваться со вкусами и требованиями массы, а не маленькой горстки высокопоставленных покровителей литературы и искусства. Но если бы даже противники «вечевой власти» и были правы, если бы суд середины, действительно, грешил увлечениями, у школы всегда найдется корректив — это учитель, от которого во многом будет зависеть, как направить суд школьников. Он всегда может прийти на помощь своему классу в случае, если заметит какие-либо нежелательные уклонения. У пишущего эти строки есть личный опыт относительно привлечения самих учащихся к исполнению функции общественного характера в начальных школах. В 90-м году мне пришлось принять на себя заведование учебной частью начальных училищ в Москве, и меня с первого же осмотра школ поразило невнимательное отношение некоторых учащих к внеклассному чтению детей в одних школах и даже полное отсутствие ученических библиотек в других. Например, одно из старейших казенных училищ, существующее ПОлет, — школа с расширенной программой, рассчитанной на шестилетний курс, с правами второго разряда по воинской повинности — не имело ни единой книги в ученической библиотеке, а заведующее школой лицо прямо-таки считало и вредным и излишним подобное новшество. Пришлось позаботиться и о том, чтобы преподаватели обращали побольше внимания на внеклассное чтение учеников, но прежде всего о том, чтобы при всех начальных школах были основаны ученические библиотеки...
...Школа готовит людей для жизни. Настанет время, когда теперешние ученики станут общественными деятелями, будут на сельском и волостном сходах выбирать должностных лиц, решать вопросы о налогах, продовольствии и призрении, о школах, о библиотеках, о народных чтениях, в земстве будут рассуждать о санитарном и школьном деле, будут судить то в качестве волостного судьи, то в качестве присяжного заседателя. Мы справедливо жалуемся, что наши общественные деятели не всегда стоят на высоте своего положения, что наши общественные учреждения могли бы функционировать лучше; но что мы делаем для того, чтобы приготовить идущее нам на смену поколение к его общественной деятельности? Ничего или почти ничего. Мне кажется, что на учеников в интересах воспитания необходимо возлагать известные обязанности с общественным, а не личным значением, с самого раннего возраста приучать их к заботам, хлопотам, трудам не для себя самих только, но и для других... мы верим, что настанет время... когда воспитание общественных чувств и привычек к общественной деятельности станет во главу угла всех школьных порядков. И в этом смысле нельзя не признать хорошим воспитательным средством исполнение учениками обязанностей по ведению библиотеки.
И в то же время такой порядок значительно облегчит труд учителя по заведованию библиотекой.
Можно было бы выбрать для этой цели несколько учеников, распределив между ними занятия, например, по отделам библиотеки: одному можно было бы поручить книги духовного содержания, другому — беллетристику и т. д. Выбранные ученики могли бы выдавать книги, получать их и вести записи о читаемости книг.
Если бы таких записей собрано было много, то это было бы драгоценным материалом для решения вопроса о том, что читают дети. За разработку такого ценного материала были бы рады взяться некоторые из деятелей наших просветительных обществ, некоторые из публицистов. И ученики-библиотекари оказывали бы услуги не только школе, не только своим деревенским читателям, но еще содействовали бы, сами того не подозревая, решению вопросов, которые давно уже волнуют русское общество. Пользуясь помощью учеников-библиотекарей, можно без особых затруднений для учителя организовать выдачу книг и утром до начала уроков, и в перемену между уроками, и по окончании уроков; и по праздникам, и по будням, и зимой, и летом. Только двух функций нельзя будет поручить библиотекарю из учеников: он не может рекомендовать книги и не в силах произвести проверку прочитанного. Обе эти функции учителю надо взять на себя. В американских школах из учеников составляются кружки для чтения. В таком кружке всегда есть выборные лица, которые заведуют выдачей книг. Говорят, что дети относятся к книгам с особенной внимательностью и аккуратностью. Мне пришлось демонстрировать на учительских курсах в г. Курске детскую библиотеку, руководимую выбранными из учеников начальной школы детьми. Эти библиотекари-дети исполняли свои обязанности с усердием и с успехом. И мало ли таких функций общественного характера можно найти для учеников начальной школы?
Сельская школа мало-помалу делается центром, куда тяготеют все учреждения народообразовательного характера. При школе может существовать книжный склад, и некоторые из его операций смело могут быть возложены на учеников. Я хорошо помню, как учитель Б. училища в Смоленской губернии с огромным успехом пользовался добровольцами из учеников, чтобы торговать книжками школьного склада на б-ском сельском базаре. При школе устраиваются народные чтения. Почему бы ученикам не взять на себя и здесь некоторые из доступных им ролей: приготовить помещение, рассадить публику по местам, помочь лектору при демонстрациях чтений «туманными» картинами. При школе могут быть устроены воскресные и вечерние занятия для взрослых. Почему бы и в этом случае не обратиться к помощи добровольцев-школьников, хотя бы по раздаче учебных принадлежностей и книг и т. д. ...
...Где существуют общежития и ночлежные приюты, можно было бы с несомненным успехом организовать продовольствие на артельных началах. Примеры такого артельного хозяйства я наблюдал в некоторых дельских школах Смоленской губернии: там ученики сами распределяли между собой обязанности по заведованию артельным хозяйством, и мне не приходилось слышать никаких жалоб на небрежность или недобросовестность. Там, где ученики на свои средства приобретают учебные принадлежности, можно было бы выписывать бумагу и карандаши оптом, в складчину. Эти привычки к артельным предприятиям, образующиеся в таком раннем возрасте, не могут не отразиться на развитии солидарности и, наверное, внесут свою долю добра и света в деревенскую жизнь.
В степных, безлесных местностях было бы в высшей степени полезно привлекать детей к посадке деревьев...
В г. Лубнах, на руководимых мною учительских курсах, был устроен праздник деревьев. Детям временной школы после урока о значении растительности одной из учительниц было рассказано, как благодаря, между прочим, школьникам безлесный край был превращен в лесистую местность. Затем дети отправились в приют для бедных и на земле, окружающей приют, вырыли несколько ямок для посадки деревьев. Надо было видеть оживление и радость детей во время праздника, усердие, с которым они работали, чтобы не сомневаться в том, что идея праздника глубоко проникла в душу детей.
В Америке в день благодарения — национальный американский праздник — в школах дети устраивают складчину на какое-нибудь доброе дело. Один несет пару яиц, другой — картошку, третий — деньги и т. п. В школах Сент-Поля на деньги, собираемые таким образом, оказалось возможным содержать в течение целого года одну бедную семью.
Почему бы и у нас не устраивать время от времени чего-либо подобного?
Почему бы, наконец, лучшим в нравственном отношении, устойчивым и надежным школьникам, пользуясь советами и руководством учителя, не взять на себя высокую миссию исправления порочных детей фабрики, улицы, деревни, вступая с ними в товарищеские сношения, влияя на них своим примером, словом, чтением. Это было бы школой любви в высшем значении этого слова. Они учились бы искать образ божьего человека в человеке испорченном и падшем; они учились бы любить человека, несмотря на его пороки, жалеть его тем больше, чем он порочнее. Они учились бы находить божию искру там, где поверхностный взгляд видит только падение.
Если, как мы уже видели, школа и книга учат простолюдина человеческому отношению к иноплеменнику, если они учат жалости к падшей женщине, то непосредственное участие в исправлении порочных детей заставит найти и полюбить человека в испорченном ребенке, и это тем более, что испорченных детей в сущности нет; все дурное, что делают дети, они делают лишь под влиянием порыва или непрочной, неуспевшей пустить глубоких корней привычки.
Чего нельзя сделать прямым привлечением детей к участию в делах общественного значения, того можно достигнуть посредством целесообразной организации детских игр. Главное свойство игры состоит в том, что в ней упражняются те самые способности, какие необходимы и в жизни. Играющий котенок толкает клубок ниток, изображающий для него мышь, гонится за ним, прижимается к полу, точно прячется в засаду, и затем вдруг прыгает и бросается на него. Но то же самое он станет потом делать и с настоящей мышью; то же самое и теперь делает его мать. Детская игра, тоже основанная большей частью на подражании, всегда до известной степени отражает свойства и образ жизни взрослых и нередко представляет первые шаги в подготовке к будущей деятельности. Посмотрите на девочку из светской семьи. Она нянчит кукол, принимает визиты, сама отдает их, рассуждает с куклой о нарядах, даже о танцах. Но это самое делает и ее мать, это самое будет делать и девочка, когда она станет взрослой. У народов, живущих охотой или рыболовством, детей с помощью игр приучают к охоте или рыбной ловле. У римлян, для которых главным делом была война, игры детей носили военный характер. Средневековые рыцари, напоминающие римлян по своей страсти к завоеваниям, сходились с римлянами и в выборе игр для своих детей. Будущему воину нужна была сила, ловкость и умение владеть оружием, и всего этого стремились достигнуть, между прочим, с помощью игр. Отчего бы и в наших сельских школах наряду с другими уже существующими играми не попробовать ввести игры, изображающие, что делается на сходе, в волостном суде, при раскладке повинностей и т. д. Эти игры, чередуясь с другими излюбленными детскими играми, внесут в школьную жизнь много оживления и удовольствия и таким образом будут содействовать жизнедеятельности всех органов тела. Их нечего и сравнивать со скучными, под команду учителя, гимнастическими упражнениями. В этих играх будет изображаться деревенская жизнь, какую видят дети, а то, что они видят, они любят драматически изображать в своих играх. Но учитель сумеет выбрать из изображаемой детьми среды те элементы, которые могут содействовать не только физическому, но и нравственному развитию детей, и устранить при игре все то, что могло бы произвести на детей дурное влияние. Конечно, дети играют и сами, но почему бы учителю не внести луч света в их игры, нередко заключающие в себе скорее развращающие, нежели воспитывающие, влияния. Г. И. Успенский художественно описывает игры деревенских детей, изображающих то, как пропивают невесту, то, как поймали вора. Мальчик, представляющий вора, как ветер несется с украденной сумкой, закинув голову назад, весь потный и бледный. Вот он споткнулся о бревно, и вся орава, гнавшаяся за ним, наваливается на него. «Веревку, давай кушак, вяжи ему руки!» — раздаются крики. Вор связан, он устал, он еле стоит на ногах, волосы у него спутаны. Когда мальчик, изображающий станового, допрашивает вора, ему советуют: «Ругай, ругай его нацерво: мошенник, каналья, упеку!» Тот ругает. «Ударь его по морде!», «Бей его сначала по щеке ... а теперь приказывай: «В холодную его, щельму!» Далее вора прогоняют «сквозь строй», приносят прутья, силом валят его на пол, исправник кричит: «Бей сильнее!» Вор вопит все слабее и слабее, это значит, что его засекают. Наконец он умолкает. Он без памяти. Десятские на руках несут его и кладут в большую плетеную корзину. Это лазарет. Мы только вкратце передали рассказ Успенского, но и отсюда видно, как фотографически верно изображают дети отрицательные стороны деревенской действительности. Не их вина, если все, что проделывается в этой игре, так отвратительно и жестоко.
Вредное влияние таких игр в воспитательном отношении едва ли может подлежать сомнению. Рассказывают, что некоторые артисты, изображавшие известный тип, сливают его с собственной личностью (Джемс). Но если это не всегда верно для взрослого человека, то это безусловно верно для множества детей, участвующих в играх. Ребенок, изображающий вора, десятского или исправника5* в какой-нибудь игре, действительно, может настолько войти в свою роль, что совершенно сольет с ней свою личность. Если он так легко представляет себе простую палку лошадью, или ружьем, или саблей, то ему гораздо легче представить себя десятским. Рассказывают про детей, не только вошедших в роль, что они и по окончании игры отзывались лишь тогда, когда их называли не по имени, а, например, кучером, раз такова была их роль в игре. Здесь мы имеем дело с самым сильным воспитательным средством — самовнушением. Путем самовнушения ребенок преобразует свою личность во время игры в изображаемого им героя. В его душе, а не в словах и не в жестах только, возникают все стремления, все чувства, все побуждения этого героя, каким он должен быть по мнению ребенка. Ребенок, который ругает вора отборной бранью и бьет его по морде, как бьет, по его мнению, исправник с криком: «Бей сильнее!» — переживает все воображаемые состояния исправника: и жестокость, и злобу, и сознание, что он исполняет таким образом исправнический долг.
Почему бы учителю, ничем не насилуя детей, без всякого принуждения, ничем не ослабляя интереса игры, не внести в эту игру воспитывающие, облагораживающие мотивы, светлые, радостные образы, заставить ребенка путем самовнушения превратиться в игре в доброго человека, в деятельного общественного работника, в примирителя, в справедливого и гуманного судью, в добросовестного, радеющего о мирских интересах старшину и т. д. Ведь если дети сами не вносят эти мотивы в свои игры, так только потому, что ни окружающая их действительность, ни книга — ничто не познакомило их с этими мотивами. Хорошо известно, что дети вводят в свои игры не только эпизоды, которые они наблюдают в жизни, но и то, что поражает их в рассказе, в прочитанной книге. Даже в игре, описанной Г. И. Успенским, несомненно, есть эпизоды, которых дети не наблюдали самолично, а знают по рассказам взрослых.
У пишущего эти строки есть в этом отношении, правда, единичный личный опыт, о котором мне уже приходилось упоминать по другому поводу. Как-то раз мне пришлось приехать в одну сельскую школу вечером, когда там оставалось в общежитии около 30 детей обоего пола. Они играли, и я предложил им сыграть в волостной сход. Дети с восторгом согласились, и мы приступили к баллотировке должностных лиц, большинством голосов выбрали старшину и волостных судей. Избранники были очень довольны выборами, а один мальчик безуспешно баллотировался во все должности, и только под конец дети сжалились над ним и выбрали его, к большому его удовольствию, на какую-то второстепенную должность. Затем мы стали составлять смету предполагаемых волостных расходов, чтобы потом сделать разверстку по числу душ волостных платежей. Мне бросилась в глаза одна маленькая подробность. Дети очень долго и упорно спорили о размерах жалованья писарю и старшине, очень скупы были по отношению к этим должностным лицам; но оказались очень щедрыми, когда речь зашла об ассигновке на школу, на библиотеку-читальню, на волшебный фонарь и картины для народных чтений и на сиротский приют. Даже школьному сторожу была вотирована щедрая прибавка к жалованью, вероятно, потому, что и он служит просвещению народа. Этот сторож стоял в дверях, и довольная улыбка не сходила с его лица все время, пока велись разговоры о прибавке к его жалованью. Когда смета расходов была составлена, дети приступили к разверстке платежей. Каждый из этих заявлял, сколько душ представляет его двор; один счетчик подвел итоги и разделил сумму предположенных расходов на полученное число душ. Каждому надо было сосчитать, сколько платежей приходится на его двор, и с этой задачей большинство детей справилось без затруднений. После того мы перешли к игре в волостной суд. Перед судом предстал мальчик с просьбой взыскать с другого школьника, изображавшего ответчика, просроченный долг. Помню, что сначала некоторые из судей высказались было за строгие меры и немедленное взыскание и долга, и роста; но потом все мы перешли на сторону ответчика и. стали мирить тяжущихся, стали уговаривать истца, чтобы он отсрочил уплату долга и уменьшил рост, стали заявлять об обстоятельствах, извиняющих ответчика. И не трудно было заметить, как обрадовались все дети, когда дело окончилось миром, истец согласился подождать и уменьшить проценты, а ответчик обещал уплатить при первой возможности. И мне хотелось надеяться, что это хорошее чувство, это гуманное отношение к воображаемому ответчику, эти усилия покончить дело миром, без обиды, без свары, даром не пропадут; что об них, может быть, вспомнят эти дети, когда станут сами творить суд и расправу, и уже не на игрушечном судоговорении, а в форменном волостном суде.
Было уже поздно,» пора было спать и детям, и мне, а школьники все просили меня придумать им еще и еще такую же интересную игру, и я придумал для них сначала игру в почту с заготовлением и сортировкой писем, с отправкой ее в разные города и с доставлением по адресам. Но и этого было мало. Пришлось придумать игру в земское собрание с выборами должностных лиц, с вопросами о школах и больницах, со сметой на то и другое. И я не знаю, когда бы кончились игры, если бы я слушался детей и придумывал для них новые игры, основанные на подражании учреждениям общественного характера.
Разумеется, это нисколько не исключает и других любимых детьми игр. Здесь все должно быть основано на доброй воле учащихся, и игра перестает быть игрой, если она насильно навязана свыше. Надоедает одна игра, и дети переходят к той, какая в данный момент им более всего нравится.
Предполагаемый нами способ изучения предстоящих ученику общественных обязанностей не заключает в себя ничего нового. Еще Коменский рекомендовал знакомить детей с государственным и общественным устройством посредством игр; и только схоластика, поработившая педагогов его времени, помешала плодотворной идее великого педагога получить широкое распространение...
XI
Когда мы говорили о значении ума в деле нравственного развития, мы отметили самую крупную роль ума, состоящую в том, чтобы определить относительную важность и подчиненность каждой из наших идей, каждого из наших стремлений и целей. Существенно важно, чтобы мы расположили все свои мотивы, цели и стремления в более или менее стройную систему по их относительному значению. Только при этом условии мы будем в состоянии разобраться, как поступить в каждом отдельном случае, когда сталкиваются два или несколько мотивов; только тогда мы сделаем надлежащий выбор, которому из этих мотивов в каждом данном случае отдать предпочтение.
Это стремление к гармонии между нашими идеями, нашими чувствами и желаниями живет в душе каждого из нас. Противоречия, когда мы встречаем их внутри себя в идеях или в чувствах, могут быть мучительны для нас, как мучительны для музыканта грубые диссонансы в любимой пьесе. Мы естественно стремимся водворить в нашей душе строгий порядок, тесную логическую связь между образами и влечениями на разумных основаниях, и если этой связи нет, если наш внутренний мир представляет непоследовательную и беспорядочную игру образов, влечений и желаний, если мы сейчас хотим одного, а потом другого — противоположного, если мы переходим от любви к отвращению, то эта неустойчивость, эти диссонансы доставляют нам страдания. Между идеями, между целями, желаниями и стремлениями должен быть установлен известный строй, известное равновесие в движении, как это существует в движениях планет, комет и метеорных туч в нашей Солнечной системе или как это существует в движениях атомов, образующих частицы. Подобно тому, как в нашей планетной системе Солнце занимает господствующее положение и управляет движениями планет лишь потому, что оно заключает в себе наибольшую массу вещества, так точно и в нашем внутреннем мире будет играть доминирующую роль та цель, с которой соединено наибольшее количество ярких образов, влечений и желаний. Подобно тому как в Солнечной системе каждая планета живет собственной жизнью, но в то же время и движется вокруг общего центра, подчиняется влиянию других планет и сама на них влияет, так точно и в нашей душе все естественные стремления должны найти себе место, но должны быть приведены в равновесие друг с другом и также сведены к одному общему центру.
К этому же выводу мы придем и другим путем. Мы уже имели случай говорить о том, что развитая воля вносит во все наши действия единство нашего «Я». Но сама воля представляет лишь одну из сторон этого «Я». Она сама определяется идеями и образами, живущими в нашей душе и согретыми чувством, а также отношениями и связями, существующими между образами. Для нас в данном случае безразлично, определяется ли действие нашей воли в каждый данный момент только теми идеями и образами, которые в этот же момент вспыхивают в нашем сознании, или на наши поступки влияют и скрытые образы, лежащие за порогом сознания. Во всяком случае, каждое действие воли определяется лишь теми идеями и образами, которые дает нам жизнь; и чем образ ярче, чем чаще мы к нему возвращаемся, чем многочисленнее его связи со всеми другими образами, тем сильнее он будет влиять на наши желания, на нашу волю, на наши поступки, тем более подчинены ему будут другие идеи и образы, другие побуждения и мотивы. Дело воспитателя укрепить путем повторений и упражнений более важные мотивы, связать их с возможно большим количеством душевных движений, превратить их в господствующие и, таким образом, внести гармонию и стройность в душевную жизнь воспитанника. Чтобы получить стройное и красивое изображение в зеркале, нет другого средства, как стройно и красиво расположить перед ним предметы, в зеркале отражаемые. Чтобы волей нашего воспитанника руководил стройный и гармонический порядок связанных между собойГ образов и идей, есть только одно средство, и другого нет, — внести гармонию и строй в те образы, какими снабжаем его мы, семья, книга и весь внешний мир, его окружающий. Только впечатления, получаемые от нынешнего мира, определяют наши мотивы и цели. Но мало сказать, что надо правильно расположить мотивы и цели в их взаимной подчиненности; важнее определить, что следует считать правильным расположением. В сущности, все основные стремления нщпи вполне естественны и законны. Самые эгоистические наши стремления имеют в виду либо поддержать наше здоровье и силы, либо сделать счастливой нашу жизнь, а такие цели ни в ком не могут вызвать порицания, если они не сталкиваются с какими-нибудь другими целями, признаваемыми за более важные. Весь вопрос, стало быть, в том, какие цели следует признать высшими, какие поставить ниже и как их связать друг с другом естественной логической связью. Хорошо известна попытка вывести все наши стремления из одного эгоизма. В основе самых высоких побуждений и поступков, требующих и самопожертвования, и геройства, видели один эгоизм, и ничего более. Но если этому слову не давать слишком широкого толкования, если, например, не признавать эгоизмом простое удовлетворение всех наших стремлений, не исключая и самых бескорыстных из них, то было бы очень трудно в наше время защищать эту теорию. Люди принимают меры против истребления лесов, рыбы и дичи, хорошо зная, что на их век хватило бы и того, и другого. Общественные деятели нередко ставят делом своей жизни достижение отдаленных целей, хорошо зная, что при их жизни на избранном ими пути им удастся пройти лишь несколько шагов, а результатами их работы воспользуются только потомки их современников. Нам скажут, что и чистопробный эгоист чувствует себя неловко при виде чужого страдания; но отсюда еще далеко до желания помочь другому, ведь отделаться от этих неприятностей гораздо легче, устроив свою жизнь так, чтобы не встречать на своем пути ни стонов, ни проклятий, окружить себя избранным обществом довольных и . счастливых людей. Это будет стоить немного дорого; для этого, может быть, потребуется покрыть сетью кабаков целый край, но ведь можно жить вдали от всех этих сцен ужаса и горя и видеть только веселые картины и лица, слышать молодой смех, наслаждаться природой, театром, музыкой, жить в богатых квартирах, на даче, в Ницце, где нет ничего, что вносило бы диссонанс в розовое, безоблачное, жизнерадостное настроение. Нет, из одного эгоизма не выведешь всех остальных стремлений, какими живут люди. Эгоизм поведет в этом случае к отрицанию и атрофии, по крайней мере, некоторых альтруистических стремлений. И пока эти альтруистические мотивы живут в нашей душе, мы не сумеем согласовать их с эгоистическими мотивами, если эти последние поставлены нами на первом месте, мы не отделаемся от противоречий и диссонансов.
Но что трудно оспаривать из принципов этой школы — это то, что свобода личности не должна быть подавлена и приносима в жертву какому-либо фантому, что личности должно быть предоставлено свободное проявление ее индивидуальных сил, что ее отношения к другим личностям могут быть основаны на добровольном соглашении с другими.
Существует другая, противоположная теория. Говорят, что стоит только расположить наши стремления по степени их важности в обратном порядке — и получится замечательно простой и стройный план, где все связано одно с другим тесной логической связью. Стоит только поставить выше чисто эгоистических стремлений заботу о других, а на самых высших ступенях — о всем человечестве, и тогда устанавливается самая строгая, стройно пригнанная во всех своих частях система, своего рода иерархия решительно всех без исключения наших стремлений. Если поставить интересы своей семьи, интересы общества или народа выше интересов своего «Я», выше чисто эгоистических стремлений, то эта постановка не требует ни отрицания, ни атрофии ни одного из стремлений, присущих людям. Если во главу угла поставить, например, физическое, умственное и нравственное развитие других людей, то... все мотивы надо будет признать и законными, и справедливыми, лишь бы они были поставлены на своих местах. Развитие предполагает известный уровень материального благосостояния и, стало быть, требует забот и об экономическом положении других. Оно предполагает удовлетворение стремления к счастью, а стало быть, требует и забот о счастье других. Общая цель — забота о других будет стоять вверху, ей одной будут подчинены все другие цели; но она не только не отрицает эгоистических стремлений, а, напротив, требует их здорового удовлетворения. Чтобы работать для других, надо быть самому здоровым, умелым, сильным и бодрым. Чтобы быть здоровым, надо хорошо питаться, дышать чистым воздухом и жить в обстановке, удовлетворяющей требованиям гигиены. Чтобы быть добрым, надо, чтобы личная жизнь была сравнительно счастливой. Чтобы уметь помочь другим, надо быть самому достаточно развитым и в умственном, и в нравственном, и в физическом отношении. Ни одно из стремлений не противоречит другому; все они сливаются в общую гармонию, но эта гармония обусловливается лишь тем, что жизнь для других мы поставили выше жизни для себя и последнее стремление подчинили первому. Попробуйте переставить это стремление на другое, низшее место, и вся гармония исчезнет, между различными стремлениями возникнут непримиримые противоречия, одно из них будет отрицанием для другого, диссонансы наполнят жизнь; не может быть и речи о стройности, согласованности между нашими мотивами; получится хаотический нравственный мир, где можно было бы восстановить порядок только путем уничтожения всех неэгоистических стремлений, что едва ли возможно.
Но другие говорят, что если идти далеко в этом направлении, то мы придем к полному поглощению личности обществом. Это будет рабство общественного блага, это будет деспотизм большинства над меньшинством или наоборот. Это будет подчинение личности целому, а между тем целое не может существовать без личностей; без них оно простая абстракция, простое отвлечение. Благосостояние целого — это только благосостояние его частей. И само общество существует только для блага составляющих его всех без исключения личностей. Когда люди в интересах самозащиты соединяются в общество, они делают это не для ограничения своих индивидуальных проявлений, а для увеличения своих сил. Раньше каждый защищал себя только своими личными силами, а теперь каждого защищают все...
...Чем просвещеннее люди, тем лучше они понимают, что для обеспечения личной и всеобщей свободы развития необходима кооперация на началах взаимопомощи, а не порабощения, на началах справедливости, а не силы. При свете знания, ясно представляя себе общие задачи, люди будут стремиться к общей цели и «заодно мыслить», а при широком развитии общественных чувств они будут «заодно чувствовать». И это будут добровольные связи, это будет не подчинение, а свободное соглашение. Когда гений формулирует бесспорные общественные идеалы, а всеобщее образование и воспитание сделает их достоянием всех народных масс, то каждый будет сознавать этот идеал, и он станет руководящим принципом поведения каждого. У каждого будет сознание не только своего «я» с его интересами, но еще и сознание целого, сознание общих идеалов и стремлений. Таким образом, каждый будет не только благородным свидетелем совершающихся событий, но еще и творцом событий. Каждый будет по мере своих сил помогать осуществлению идеала. Этого мало. Чем более развивается личность, тем больше остается у нее свободных сил за удовлетворением всех личных потребностей, тем больше количество этих сил идет на общественную работу, тем сильнее в ней стремление к общественной деятельности.
Все дело в том, мыслима ли и осуществима ли эта гармония между возможно полной жизнью для себя и жизнью для других. Наиболее решительные возражения против такой возможности идут со стороны некоторых сторонников органической теории общества. По аналогии с организмом животного, где все подчинено мозгу, ставят на личности крест и предсказывают ее порабощение целому. Но во-первых, аналогия еще недостаточное доказательство и аналогиями можно доказывать любой абсурд, а во-вторых, даже аналогии общества с организмом далеко не приводят к таким безнадежным выводам, как это кажется с первого взгляда...
... Мы не думаем, впрочем, чтобы выводы, сделанные путем аналогии, имели большую цену в смысле убедительности, хотя они пригодны в смысле иллюстрации защищаемых положений. Мы хотели только показать, что даже органическая теория общества не противоречит убеждению в том, что полная личная жизнь может быть согласована с жизнью для других, с общественной жизнью и деятельностью. В этом убеждении поддерживает нас и история. Достоинство и свобода личности хотя и не довольно быстро, но все же возрастают. В цивилизованных государствах теперь нет рабов, нет крепостного права. Возрастают общественные связи, развиваются и общественные чувства. В этом же направлении идет воспитание юношества.
Задача воспитания не подавлять даже эгоистических стремлений, а развивать их в гармонии с общественными стремлениями; не бороться со стремлениями к личному довольству и счастью, а только согласовать их с общественными целями. Будем поднимать личность ученика, развивать в нем чувство человеческого достоинства и чувство чести; но в то же время чаще направлять ум его к великодушным образам, каждое событие в жизни, в рассказе оценивать с точки зрения блага других, предоставлять ученику посильное участие в деле, служащем интересам всей школы, может быть, даже деревни, околотка, фабрики, волости; приучать мысль ученика чаще возвращаться к этой цели, с этой точки зрения определять значение своего и чужого поступка, логически связывать с ней все другие цели. Но ученику трудно будет возвыситься до представлений таких отвлеченных понятий, как народ, отечество, человечество. Ему нужно на первых порах что-нибудь конкретное, ясно представляемое. И такова для него семья, школа, деревня, фабрика, может быть, волость. Вот почему ему особенно понятны рассказы о наших самоучках из народа, их деятельность... Вот почему его так увлекает игра в волостной суд и волостной сход. Вот почему наши школьники с такой радостью берут на себя труд по поддержанию в школе чистоты и опрятности, помогают отстающим ученикам, просматривают их письменные работы, помогают учителю в выдаче ученикам книг и учебных принадлежностей. Вот почему дети с таким восторгом берутся за посадку деревьев на отведенном участке земли. Вот почему они охотно берут на себя суетливые роли в народной библиотеке-читальне и в народной аудитории.
Жить для общества, возможно точнее определить и возможно лучше выполнить свою роль в общественной жизни, но в то же время жить и для себя, чтобы тем успешнее была наша общественная работа — такова задача нравственного воспитания. Жизнь для других, наравне с жизнью для себя самого — это тот высший принцип, который проповедует христианство. Тот же принцип провозглашает философия. Такую жизнь воспевают поэты. Тому же самому учат нас примеры великих друзей человечества. Может ли быть сомнение в том, что тот же самый принцип должен быть проведен и в воспитании, и в обучении ребенка и юноши?
МИР В РАССКАЗАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Предисловие к первой книге
Зимой 1921/22 учебного года я по поручению Центрального педагогического института в 5 московских школах первой ступени производил исследования методов и приемов обучения посредством естественного педагогического эксперимента. Пользуясь методом сопутствующих изменений, уравнивая условия утомления, времени, состава учащихся, трудности тем и вообще всех факторов, кроме одного, а именно данного приема обучения, я пришел к выводам, из коих некоторые имеют прямое отношение к обучению чтению. Между прочим, моей задачей было исследовать влияние на интерес, запоминание и уразумение прочитанного, во-первых, иллюстративного рисования, во-вторых, взаимного рассказывания детей друг другу, в-третьих, рассказывания учительницы и, в-четвертых, письменного переложения прочитанного. В двух школах было прочитано два неизвестных детям рассказа, причем одну из статей дети иллюстрировали посредством свободного рисования, а другую — нет. Но статья, иллюстрированная в первой школе, не была иллюстрирована во второй, и наоборот. Так как на другой день производился подробный подсчет результатов урока, то можно было судить о сравнительной успешности исследуемого приема. На мой вопрос, какая из двух статей более понравилась, дети обеих школ назвали разные рассказы, но каждый ребенок назвал именно тот рассказ, который был им иллюстрирован. Через 3 мес был сделан такой же опрос, и результат получился тот же. Создалось впечатление, что рассказ нравится ребенку не сам по себе, а по тем переживаниям, какие дала ему сделанная им иллюстрация. При подсчете результатов урока на другой день оказалось, что из зарисованных детьми моментов (сцен) забыто было только 7%, а из моментов, не иллюстрированных учениками, было забыто почти в 6 раз больше (47%). Степень уразумения отмечалась баллами (моими и ассистента), и воспроизведение иллюстрированных статей было оценено в среднем выводе на 13% выше. Из наблюдений над детьми хорошо известно, как любят рисовать дети. Рисунок во многих случаях выразит мысль ученика точнее, чем слово. Дети мыслят по преимуществу образами, а из образов у большинства
детей преобладают зрительные и моторные. В рисовании же участвует глаз и рука ребенка. И мы рекомендуем предлагать детям иллюстрировать чтение беллетристических статей, зарисовывая отдельные сцены и делая под каждой из них соответствующие подписи. Как бы ни были плохи рисунки ребенка, его воображение сообщит им достаточно красоты, яркости и правдивости. Такая иллюстрация вызовет более сознательное, живое и яркое восприятие и запечатление урока и, возбуждая интерес и радость в детях, перенесет это настроение и на самый урок чтения. Те же рисунки покажут, насколько правильно понял ученик прочитанное.
Другое наше исследование показало, что настенные картины, соответствующие содержанию урока, уменьшают число забываемых моментов в 1,5 раза, и мы рекомендуем перед чтением статьи показывать детям подходящие картины, употребляя при этом 2 — 3 мин на предварительную беседу. Но так как при современных условиях это далеко не всегда возможно, то придется в большинстве случаев ограничиться одной краткой вступительной беседой. Такая беседа имеет целью возбудить у детей интерес w к данной статье, направить их внимание на определенную тему, ввести их в круг образов и мыслей, какие дает статья, и создать соответствующее настроение. В этом вступлении учитель, чтобы преодолеть равнодушие детей и усилить их внимание, свяжет тему статьи с каким-нибудь из преобладающих в данный момент детских интересов, приведет их ум, воображение и чувство в соответствие с предстоящим чтением, — словом, поставит учеников в условия, необходимые для понимания статьи. Хотя мы подбирали для своей книги статьи, доступные для данного возраста, но все же могут встретиться места, которых ребенок» не поймет без предварительной беседы. Тогда надо неизвестное свести к известному. Иногда надо будет напомнить что-нибудь из прочитанного раньше или из детских наблюдений; иногда надо будет перенести воображение детей в другой век, в другую страну, в другую обстановку; иногда дать им краткую характеристику действующих лиц и почти всегда ввести их в круг этих лиц; иногда можно воспользоваться для этого иллюстрациями в самой книге. При этом учитель должен быть скуп на слова, предварительная беседа должна быть краткой, и после нее учитель сейчас же сам читает статью, читает медленно (торопливое чтение — плохое чтение) и по возможности выразительно, делая надлежащие паузы, оттеняя отдельные выражения, выделяя наиболее важные слова, сохраняя музыку фразы. Но одних вышеприведенных приемов недостаточно для возбуждения интереса детей. Необходимо, чтобы статья и сама по себе могла привлечь внимание учащихся. А потому учитель при выборе статьи каждый раз соображается с преобладающими в данный момент интересами класса.
Один из экспериментов касался влияния на успешность обучения взаимного рассказывания детей друг другу содержания прочитанного. Дети по своему выбору делились на пары. Первые номера каждой пары вполголоса передавали вторым номерам содержание прочитанной первыми номерами статьи, не известной вторым номерам, и обратно. Для сравнения всем детям прочитана была третья статья, которая не пересказывалась. Но то, что пересказывалось в первой школе, не пересказывалось во второй, и обратно. На другой день большинство детей (89,8%) как на более интересные указали на различные статьи, но именно на те, которые ими были пересказаны своим товарищам; и только у 10,2% детей художественные достоинства статьи пересилили интерес, возбужденный пересказом, и они назвали статьи, не пересказанные ими товарищам. Взаимное рассказывание вызвало у детей большое одушевление и увлечение. Этот прием, рассчитанный на взаимопомощь и сотрудничество самих детей, может иметь применение и при обучении другим предметам, и это тем более, что многие дети проявляют при взаимном обучении нередко удивительную изобретательность. Но здесь с целью сделать чтение более привлекательным для учеников и в видах развития речи мы рекомендуем его особенно на уроках самостоятельного чтения про себя, причем первые номера каждой пары читают про себя одну статью, а вторые — другую, а затем каждый рассказывает свою статью товарищу. В школе, вполне естественно, преобладает чтение вслух, потому что в этом случае на помощь зрению приходят слух и произношение, а также и потому, что только при таком чтении можно приучить детей к выразительному чтению. Но в жизни мы большей частью читаем про себя; школа готовит к жизни, а потому необходимо и в школе (особенно на самостоятельных уроках, когда учитель занят с другим отделением) понемногу приучать детей к чтению про себя, тем более что такое чтение гораздо быстрее (в 1,5 раза) чтения вслух. Надо постепенно приучить детей читать самостоятельно, самим схватывать смысл текста с тем, чтобы по выходе из школы ученики могли учиться одни при помощи книги и усваивать ее содержание без посторонней помощи. Но если бы мы на первых порах давали детям статьи обычного текста, то все внимание начинающего ученика, его память, его сообразительность были бы направлены лишь на то, чтобы по напечатанным знакам найти соответствующие устные слова. Ученику не оставалось бы ни времени, ни сил отнестись с должным вниманием к смыслу фразы, к оценке относительного значения слов. И потому для чтения про себя всего лучше выбирать помещенные в конце нашей книжки кумулятивные народные сказки с нарастающим действием, где много повторений, где предыдущее помогает чтению последующего и где начинающий ребенок после нескольких встретившихся в статье повторений одного и того же слова начинает схватывать его сразу, читать его так, как читают хорошо грамотные, угадывая слово по его характерным чертам (длине, надстрочным и подстрочным знакам и пр.) и по контексту речи. В таких статьях ребенок быстрее и вернее схватывает целые слова и фразы, редко смешивает слова и запинается. Благодаря этому получается у него возможность вызвать в уме соответствующие понятия и образы, проникнуть в связь между ними, ясно понять прочитанное и даже пережить соответствующее настроение. Кроме того, такие народные сказки близки детям, ибо они облагораживали народную жизнь еще в те времена, когда народная психика была во многом похожа на психику ребенка. В народных сказках есть ритм, который любят и инстинктивно чувствуют дети.
Один из моих экспериментов относится к тому, как влияет письменное переложение на интерес, запоминание и уразумение прочитанного. Не касаясь других результатов исследования, считаю нелишним отметить здесь следующее. При опросе детей на другой день, какая из статей им нравится больше, дети подали голоса за разные статьи, но огромное большинство назвали как раз ту статью, которую они не перелагали. Очевидно, что переживания, связанные с письменным переложением, омрачают интерес детей к художественным ценностям прочитанного. И этот результат получился в IV классе школ, где дети уже привыкли к переложениям.
Быть может, письменное переложение и его разновидность — свободная диктовка и помогают приобрести кое-какие полезные навыки, но в смысле интереса к прочитанному и в смысле любви к чтению они могут принести вред. И вместо них мы рекомендовали бы на первой ступени коллективное изложение мыслей. Как его вести, об этом мы говорим в своей брошюре «Как учить читать и писать», а также во всех прежних изданиях своей методики грамоты «На первой ступени обучения».
Предисловие ко второй книге
Мы убеждены, что на первых ступенях обучения книга для классного чтения кроме статей беллетристического характера должна давать и деловые статьи, дополняющие и освещающие реальные знания, получаемые детьми на уроках природоведения, географии и пр. Это одно из средств установить связь между различными предметами преподавания. Один из самых крупных недостатков старой школы состоял в том, что между отдельными предметами преподавания не существовало связей. Хорошо известны случаи, когда ученики на уроке природоведения не могли сказать, что такое Париж, но тотчас же давали правильный ответ, если им скажут, что это из географии. А между тем не объединенные между собой сведения составляют мертвый груз. Мы все знаем школы, где при огромном количестве учебного материала не развивали, а притупляли учеников именно тем, что каждый предмет занимал изолированное положение, стоял особняком, не был связан с другими предметами, не входил в мировоззрение ученика и являлся балластом, подавляющим умственные силы ребенка. Всякий опыт на уроке природоведения, всякое наблюдение, всякий новый факт будет надлежаще понят и прочно усвоен лишь тогда, когда его свяжут с общим миросозерцанием. Это — требование неразрывности и единства, а без него нет цельного миропонимания, как бы примитивно оно ни было.
Книга для классного чтения гораздо ближе к жизни детей, чем все учебники, справочники, и потому естественно именно с ней связать другие предметы преподавания. Конечно, читать статью делового характера можно лишь тогда, когда дети уже ознакомились с ее темой путем опыта или наблюдения или по поводу этой темы возник вопрос у самих детей. Без этого статьи книги не будут вполне понятны. Отдельные уроки природоведения необходимы, потому что они разнятся не только по содержанию, но и по методу. Но в то же время необходим и синтез их, а он достигается, между прочим, посредством книги для классного чтения. Когда ученик, еще не усвоивший как следует одного предметного урока, переходит к другому, это является тормозом для сохранения не окрепших еще сведений, полученных на первом уроке. Когда же за предметным уроком, где ученик наблюдает или производит опыты, идет чтение классной книги, трактующей о том же предмете, то это не только упрочит полученные сведения, но и углубит и расширит их, прибавит к ним новые мысли и образы, быть может, даст им новое освещение, заставит работать воображение детей все в том же направлении. С другой стороны, предшествующий предметный урок служит самой естественной подготовкой к уроку чтения, направляет внимание учеников, ум и память именно на тот круг образов и мыслей, о которых говорится в статье. Таким образом, классная книга содействует единству и организации знаний, от отсутствия чего так страдает развитие детей. Нужно знакомить детей не только с языком беллетристики, но и с языком научно-популярных произведений, потому что было бы очень печально, если бы наши ученики по выходе из школы читали только беллетристику. Ведь о достижениях школы можно судить по тому, что именно читают ученики по выходе из нее. Школа дает детям очень небольшой запас сведений. Все остальное они узнают чаще всего из книг, которые они могут читать и по выходе из школы в течение всей жизни. Из книг они узнают, что лежит за пределами их местной колокольни; из книги они узнают о тех опытах, которые не могли быть произведены в условиях классной комнаты, а производятся в хорошо оборудованных лабораториях. Чтение статей делового характера и имеет, между прочим, своей целью подготовить детей к чтению книг научно-популярного характера.
Если выбор статей делового характера естественно определяется содержанием предшествовавшего опыта или наблюдения, то в выборе литературного материала следует, между прочим, руководиться преобладающими в данный момент интересами класса. Такой выбор не труден, если мы будем зорко присматриваться, какими интересами живут в данное время дети. Вчера дети посетили зверинец и сегодня говорят о заинтересовавшем их
слоне или обезьяне. Вот удобный случай выбрать рассказ об одном из этих животных. Дети были на концерте, разговаривают о пении и музыке, и учитель выбирает соответствующую статью. Детей может особенно заинтересовать что-нибудь на экскурсии или на картинной выставке;*, их может заставить говорить о себе какое-нибудь явление природы (гроза, буря, наводнение): какое-нибудь вчерашнее происшествие, ярко выразившее дружбу между детьми, несчастье на железной дороге, свежее сенсационное газетное сообщение, злободневный разговор в деревне и многое другое могут возбудить интерес класса, чем и воспользуется учитель при выборе статьи1.
В деле обучения имеют значение не одни только знания, но еще более те переживания, какие связаны с приобретением этих знаний. И задача каждого урока не в том, чтобы исчерпать до дна данную, тему, но (и это главное) в том, чтобы возбудить интерес, чтобы у детей явились вопросы, сомнения, желание узнать о предмете еще больше, чтобы блестели оживлением их глаза, румянились щеки. Без интереса к делу не написана ни одна талантливая статья, не сделано ни одного полезного изобретения, ни одного открытия. Образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать и кто умеет добывать эти знания.
Интерес к уроку возбуждает ум, внимание, память, воображение, воспитывает любовь к знанию, закрепляет приобретенные сведения, возбуждает самодеятельность ребенка.
Именно в этих видах мы рекомендуем выбирать для чтения статьи, связанные с господствующими интересами класса. С той же целью мы предлагаем предпосылать чтению краткую вступительную беседу, о чем мы писали в предисловии к первой книге «Мир в рассказах для детей». Там же и в тех же видах мы советовали рекомендовать детям либо иллюстрировать прочитанную статью, либо рассказывать ее своим товарищам. Эти последние приемы мы рекомендовали там не на основании только теоретических соображений и догадок, а на основании произведенных нами естественных педагогических экспериментов в московских школах.
В тех же видах мы рекомендуем, чтобы басни и другие подходящие статьи дети читали по ролям, втроем, вчетвером или более, сообразно с числом действующих лиц.
Теми же видами мы руководились и при выборе или составлении статей для своей книги. И чтобы определить степень интереса, мы не нашли другого средства, как прочитывать каждую статью с детьми соответствующей группы. И что не интересовало детей, мы выбрасывали и останавливались лишь тогда, когда убеждались, что статья интересует детей и доступна их пониманию. Однако же мы старались не приносить содержания в жертву интересу, равно как и интереса в жертву содержанию.
Предисловие к третьей книге
Наблюдения над детьми школьного возраста (первых годов школы первой ступени) приводят к выводу, что у детей чувство преобладает над мышлением, а образное мышление — над отвлеченным. Представления, окрашенные чувством, возбуждают у детей живой Интерес и вызывают стремление к воспроизведению их в той или другой форме. Дети ищут в книге сильных ощущений, и книга, которая дает им их, — это хорошо знают, например, библиотекари — делается их любимой книгой. В то время как взрослые мыслят большей частью словами общего значения, ребенок истолковывает слова как конкретные, индивидуальные представления. Ребенка не интересуют описания природы, но зато возбуждает его внимание все живое, движущееся. Мораль рассказа дети большей частью передают в эмпирической форме, в применении к данному случаю, не делая обобщений. Ребенок равнодушен к отвлеченной истине. На него сильнее всего действует простой, доступный его пониманию и в то же время яркий, красочный образ; ему нужны звуки, краски, движение, драматизм, а все эти признаки характеризуют произведения изящной словесности. И вот почему, чтобы дать ребенку возможность как можно больше пережить и перечувствовать облагораживающих и возвышающих настроений, мы помещаем в книгу художественные произведения, изображающие положительные стороны человеческой природы. Но мы не чуждаемся изображения и отрицательных свойств человеческой природы. И это не только потому, что ребенок в своей жизни сталкивается с ними, но и потому, что на фоне людских недостатков ярче выступает и сама красота человеческой природы. Дети любят контрасты. И если для нас, по выражению поэта, «чем ночь темней, тем звезды ярче», то для ребенка значение контраста еще значительнее. В этих видах после чтения статьи с отрицательными образами полезно переходить к соответствующей статье противоположного характера, с положительными образами.
Психические особенности ребенка служат отправной точкой нашей работы, но наша цель заключается в том, чтобы постепенно вести ребенка к согласованию бессознательных движений его чувств и инстинктов с общественными идеалами. Правда, путь этот долог, но здесь на помощь нам приходит искусство. Мы уже указывали в предисловии к первой и второй книгам «Мир в рассказах для детей», какое влияние на интерес к статье имеет иллюстрирование прочитанной статьи самим ребенком, не говоря уже о самодовлеющей воспитательной ценности рисования. То же значение имеет и «взаимное рассказывание» прочитанного (об этом методе мы тоже говорили в предисловии к предшествующим книжкам). И поэтому по прочтении иных рассказов мы приглашаем детей то иллюстрировать их, то прочесть их по ролям, то рассказать их товарищам. Те же цели преследует и лепка, которая может дать даже лучшие результаты, чем рисование.
Однако мало дать детям только материал хорошего качества; мало даже дать возможность путем таких упражнений, как драматизация, иллюстрирование, глубже пережить его; необходимо, чтобы между образами была логическая связь. Эта цель прежде всего достигается на классных беседах. Все наши статьи подобраны так, что их можно разделить на отделы, изображающие отношение то к обществу, то к самому себе, то к природе как среде, в которой живет человек. Когда из какого-нибудь отдела будет прочитано несколько статей, учитель ведет беседу, чтобы связать эти статьи между собой. Дети указывают из числа прочитанных такие статьи, которые подходят к данной по содержанию. Выбирая ряд статей, связанных единством содержания, они располагают их по выработанному ими плану и, таким образом, объединяя статьи, исчерпывают тему. Нечего и говорить о том, что и здесь, и при всех других случаях живая детская речь будет предметом особого внимания учителя и он будет пользоваться всеми способами ее развития и свободного изъявления.
Но одно дело — связь между статьями отдела, важно еще установить и связь между самими отделами, нужен стержень, вокруг которого можно было бы расположить материал. Таким стержнем, по нашему мнению, должен быть человек (сам человек, его труд, его отношение к среде и к обществу, в котором он живет), и здесь опять простор для учителя дать детям возможность уловить и почувствовать эту связь.
Для связи между статьями могут быть полезны пословицы. Такая, например, пословица, как «Дружно — не грузно, а врозь — хоть брось», может объединить несколько рассказов. Но пословицы, загадки, поговорки — эти жемчужины народной речи, — конечно, имеют и свою собственную огромную ценность, о которой не забудет учитель. Кто близко наблюдал жизнь детей наших крестьян и рабочих, тот хорошо знает, что они любят пословицы и особенно загадки, что они сами приносят их из дома в школу, а иногда и обратно, и это важно, потому что есть местности, где забываются и эти загадки, и эти пословицы. Ушинский недаром придавал огромное значение загадке и пословице в деле первоначального обучения, считая их незаменимыми для детей по форме и по содержанию. Простые и яркие, они, отражая в себе жизнь народа, являются в то же время посильными для ученика. И когда в некоторых школах практикуется собирание самими детьми циркулирующих в их местности загадок, пословиц, сказок, песен, эта работа увлекает детей и иногда служит началом другой плодотворной работы — изучения местного края в его природе„ быте и искусстве. Но это уже в несколько более старшем возрасте.
НАШИ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И УМСТВЕННЫЙ ПАРАЗИТИЗМ
Все методы и приемы преподавания могут быть разделены на две категории: к одной мы относим те приемы, когда учитель имеет в виду возбудить самодеятельность учащихся, дать толчок и пищу их творческим силам, когда он предлагает ученикам материалы в известном расположении и ставит задачи, а до всего остального ученики доходят сами. Они сами делают выводы из данных материалов, фактов и цифр, а когда возможно, то сами же делают и наблюдения; они сами производят все упражнения, если полученный вывод имеет практические применения и ученикам необходимо приобрести соответствующие навыки. Словом, они сами наблюдают, делают опыты и сами же рассуждают, чтобы сделать необходимые выводы. Сами ученики сообразно со своими творческими силами претворяют предложенные материалы, они рассчитывают на самих себя, на свои личные силы, на свой ум, на свое воображение, на свое внимание, на свою волю; они учатся самостоятельно побеждать препятствия и трудности.
Этот метод справедливо называют то сократическим, то эвристическим методом и далеко не вполне справедливо называют вопросительным или катехизическим. Сократическим этот метод называется потому, что его изобретателем, насколько это нам известно, был Сократ. Он первый своими в высокой степени остроумными вопросами заставлял своих учеников самих доходить до широких отвлеченных обобщений и возвышенных моральных выводов. Он довольно метко называет свое искусство родовспомогательным, потому что оно помогало его ученикам родить понимание.
Эвристическим, по-русски — изобретательным (от греческого глагола, переводимого словами «находить», «открывать») этот метод называется потому, что здесь ученик ставится в положение изобретателя: он сам делает открытия и изобретения, он сам переживает тот умственный процесс и даже те чувства, какие переживает творец и изобретатель, он сам, преодолев трудности и сделав какое-нибудь открытие, готов в восторге от одержанной победы и от сознания своей. мощи, воскликнуть победоносно вместе с Архимедом: «Эврика!» («Нашел!»). Но этот метод
несправедливо называют катехизическим или вопросительным, хотя творец этого метода Сократ именно вопросами заставлял своих учеников делать выводы, хотя и теперь учителя, пользующиеся эвристическим методом, то и дело прибегают к вопросам. Вопросы — это только форма обучения, а не сущность метода. Вопросами может пользоваться и учитель, не имеющий ни малейшего понятия об эвристическом методе преподавания. Вопросы мы даем и на экзамене, желая вызвать ученика на ответ о предмете, давно и хорошо ему известном. Чтобы указать самую характерную черту, по которой можно отличить эвристический метод от другого, мы еще раз повторим, что цель этого метода — вызвать в уме ученика тот самый мыслительный процесс, какой переживает творец и изобретатель данного открытия или изобретения.
Ученик, после долгого труда решивший трудную задачу, действительно напоминает Архимеда с его знаменитым восклицанием: «Эврика!» Тут и сознание собственной силы и умения; тут и радость творца и изобретателя; тут и сделанное умственное приобретение; тут и зародыш того Прометеева огня, которым держится мир; тут зачаток всевозрастающего в человечестве бескорыстного стремления к истине. Это то самое душевное настроение, которое заставило Лессинга1 сказать его знаменитую фразу: «Если бы мне предложили выбирать между готовой истиной и удовольствием искать ее, я выбрал бы последнее». Это зачаток того самого стремления, которое заставило Канта, Спинозу2 и Кеплера3 поставить делом своей жизни отыскание истины. Едва ли найдется много стремлений, столько же важных, как это стремление...
... Другой метод — дидактический. Это самый распространенный в наше время метфц в высших и средних школах и в нашей начальной школе. Читает ли профессор лекцию в университетской аудитории — это будет дидактический метод — все равно, красноречив этот лектор или нет, талантлив или бездарен, имеет известное имя в науке или является нулем. Рассказывает ли учитель средней или низшей школы историческое событие, описывает ли Сахару, доказывает ли он теорему или физический закон — это будет дидактический метод, если от учеников требуется только внимание к словам учителя, если вся цель урока в том, чтобы ученики поняли и запомнили объяснение учителя. Оба метода вполне законны, но у каждого из них есть своя область, есть свои точно определенные граничь!. Дидактический метод необходим там, где речь идет о фактах, данных и вообще материалах, которые ученикам нельзя получить путем непосредственного наблюдения.
Эвристический метод начинается там, где оканчивается подбор материалов и когда надо сравнивать их, находить в них сходства и различия, классифицировать и комбинировать эти материалы, обобщать их и делать из них выводы. Когда вывод сделан самостоятельно учениками, то можно снова перейти к дидактическому методу, чтобы передать все полученные сведения в связной литературной форме.
Оба метода уместны при изучении одного и того же предмета, но «всякому овощу свое время», и надо хорошо знать, когда уместен один метод, когда — другой. В дидактическом методе главную роль играет слово. Нет лучшего средства закрепить в своем сознании приобретенные сведения, как слово, если оно полно содержания, но нет ничего более притупляющего, как запоминание слов, если они лишены реального содержания. Плохо уже то одно, что при замене эвристического метода дидактическим мы не имеем даже гарантии, что учеником усвоены не одни слова, а понятия, образы и идеи; и тогда слово будет напоминать фальшивый кредитный билет. Как фальшивый кредитный билет может быть принят простаками за настоящий, так и заученные попугайским способом слова могут быть иногда приняты за действительные знания. Однако плохо и то, что иногда учителя пользуются эвристическим методом там, где уместен только дидактический. Впрочем, это случается не часто. Гораздо чаще бывает обратное: обыкновенно учителя пользуются дидактическим методом там, где был бы уместен эвристический метод. Повторилась старая история: тощие коровы пожрали жирных коров4. Метод, воспитательное значение которого было скромно, вытеснил другой метод, на который современная педагогика возлагает лучшие свои надежды.
Впрочем, преобладание дидактического метода вызвано чисто внешними соображениями. Этот метод является наилучшим методом для приготовления к экзамену. На этом методе основаны приемы, рассчитанные на скорое натаскивание или выгонку учеников к экзамену, на пассивное восприятие механическим путем возможно большего количества сведений, на быстрое запоминание готовых выводов, решений, правил и формул, на усвоение слов, слов и слов, на быструю дрессировку учащихся. Объясним эту мысль на нескольких примерах. Когда учитель дает орфографическое правило, в выводе которого дети не участвуют, и затем путем диктантов и списываний натаскивает учеников в правописании на это правило, то это не развивающее обучение, а механическая дрессировка. Чтобы изучение орфографического правила пробудило творческие силы ребенка, необходимо подобрать подходящие фразы, расположить их надлежащим образом и предоставить самим ученикам сравнить слова и фразы между собой, найти в них и сходство, и различие и из этого материала самим найти требуемый вывод и самим формулировать его. Учитель в данном случае только руководил бы упражнениями учеников, как Сократ руководил мышлением своих слушателей. Но говорят, что на это нужно время, а его так мало в распоряжении учителя; экзаменационные требования так определенны и сложны, так много правил надо пройти, так много упражнений надо сделать, чтобы ученики набили руку, приобрели орфографические навыки. И вот учитель направляется по линии наименьшего сопротивления, он берет грамматику, и притом грамматику, рассчитанную не на эвристический метод преподавания, а одну из самых шаблонных грамматик, где всякий отдел и всякий параграф начинаются правилом и оканчиваются диктантом или другими упражнениями на это правило, где нет и намека на активное участие ученика в выводе правил и формулировке их.
Учитель открывает грамматику, читает правило, объясняет его; ученики его усваивают, повторяют и приступают к диктанту и другим упражнениям на это правило. Может быть, в голове такого учителя и мелькает иногда мысль, что не грамматика явилась прежде языка, а язык — раньше грамматики, что не грамматика создала язык, а наблюдения над языком создали грамматику, что уже по этому одному надо было бы начать не с правила, а с наблюдений над литературной речью и перейти к выводам из этих наблюдений. Но зато, по мнению такого учителя, избранный им путь быстрее и легче ведет к практической цели. Не надо много времени, думает учитель, не надо ни усилий, ни напряжения мысли ни со стороны учителя, ни со стороны учеников. Со стороны последних надо только немножко внимания, а со стороны учителя надо умение просто и ясно говорить. Все здесь рассчитано на одно пассивное восприятие правила и работу памяти, а детская память так свежа, что на нее можно положиться. Можно успеть пройти все правила и набить руку ученика настолько, что самый придирчивый экзаменатор будет доволен. Что за беда, что результатом такой учебы явится (берем выражение знаменитого педагога) худшее из всех тупоумий — «школьное тупоумие», когда школа из способного, богато одаренного ребенка делает умственного тупицу. Возьмем теперь пример из другой области. Учитель сам дает ученикам готовые арифметические правила и не привлекает детей к выводу этих правил, а, объяснив правила, переходит к упражнениям на эти правила. Может быть, такому учителю и приходит по временам мысль, что в предмете, где все основано на рассуждении, он устраняет ученика от всякого самостоятельного рассуждения, что он готовит из детей умственных автоматов, способных слепо, без рассуждений воспринимать любые правила то со слов учителя, то со слов книги. Но для того чтобы ученики сами при помощи наводящих вопросов вывели правила сложения, деления или другого какого-нибудь действия, нужны наглядные пособия, а если их нет, учителю пришлось бы самому навязать пучки палочек или спичек по десяти и по сто штук и во всяком случае ему надо было бы подумать, как всего удобнее воспользоваться этими пособиями, как поставить ученикам свои вопросы, как лучше навести их на правильный ответ. А между тем ему так много надо думать о том, как довести детей до возможно беглого вычисления, так как этого требуют экзаменаторы, совершенно индифферентные к методам преподавания, но строгие по отношению к навыкам.
... Когда учитель объясняет детям явления природы, не привлекая самих учащихся к опытам и выводам из этих опытов, это тоже не воспитывающее обучение, а выгонка к экзамену, приучающая детей к умственному паразитизму. Эвристический метод в этой области знания дал бы не менее ценные результаты, чем и во всякой другой... но учителя будут вправе выставить следующие возражения. Чтобы дети сами ставили вопросы самой природе и заставляли ее отвечать на эти вопросы, чтобы знакомить детей не только с выводами естествознания, но и с методами этих наук, чтобы учить детей учиться, чтобы учить их науке научно, надо очень много условий, которых теперь нет в наличности. Дети сами должны делать опыты, а для этого нужны приборы и инструменты, а таковыми наши школы не располагают. Чтобы руководить детьми в таких опытах, от учителя требуются такие сведения и умения, каких учителя в большинстве случаев не имеют. А между тем для экзамена совсем не нужно ни опытов, ни наблюдений, ни приборов, ни инструментов, ни эвристического метода. Экзаменатор потребует только связного и бойкого пересказа прочитанных по классной книге статей из мироведения, а этого так легко достигнуть путем исключительно словесного обучения. Когда учитель, излагая географические сведения, не заставит учеников самих отыскивать доступные их понятию логические, соответствующие действительности связи между свойствами данной местности и ее флорой и фауной, а равно и образом жизни человека, если он не поможет им установить зависимость одного явления от другого, а сам укажет ученикам те выводы, аналогии и сравнения, какие дети могли бы сделать сами при помощи наводящих вопросов, — это опять-таки будет мнимое обучение, мешающее самодеятельности учащихся. Совершенно понятно, что здесь идет речь о такой зависимости, какая вполне доступна ученикам. Для ребенка доступны, например, следующие зависимости: если в тундре нет сена и растет только мох, то там не могла бы жить ни корова, ни лошадь, ни овца; но может жить олень, потому что он может питаться мхом и сам может доставать его зимой. Для ученика будет понятно, почему там жители одеваются так тепло, почему они носят платья из оленьей шкуры, а не из другой какой-нибудь шкуры, почему они ездят на оленях. Он поймет, почему домашний олень составляет главное богатство, почему вслед за оленями переходят с места на место самоеды5 и почему они не могут строить себе постоянных каменных или деревянных домов и т. д. Но для того чтобы ученики сами при помощи наведения учителя установили зависимость хотя бы между некоторыми географическими фактами, нужно лишнее время, а для экзаменатора все равно, расскажет ли ученик об этой зависимости со слов учебника или же потому, что сам отыскал эту зависимость.
Можно думать даже, что со слов учебника ученик расскажет гораздо складнее, произведет на экзаменатора более благоприятное впечатление, нежели если бы стал бы рассказывать на основании выводов, сделанных им самим. Ведь экзаменатор проверяет только то, какие сведения сохранила память ученика, а не то, каким путем эти сведения приобретены.
Когда учитель делает описание цветка, насекомого или минерала, вместо того чтобы предоставить самим учащимся найти доступные их наблюдению отличительные признаки изучаемого предмета, это будет не развитие сил, заложенных в ребенке природой, а атрофирование их; это станет преградой между естественным стремлением ребенка наблюдать и предметом наблюдений. Но для того чтобы руководить наблюдениями детей, надо будет сделать с ними экскурсию, а к ней надо подготовиться; надо будет, может быть, вместе с детьми проследить превращения капустной бабочки, прорастание боба, надо будет показать детям хотя бы в десятикопеечный микроскоп инфузории, цветочную пыль, клетки картофеля, арбуза и сердцевины бузины и т. п. А между тем на экзамене никто не будет проверять, насколько дети любят и умеют наблюдать. Для экзаменатора достаточно одного заучивания книги.
Когда учитель рассказывает о каком-нибудь открытии, умалчивая о том, как люди дошли до этого открытия, он точно так же только культивирует способности пассивного восприятия и легковерное отношение к чужому слову. Когда на уроках объяснительного чтения учитель дает готовый разбор данного художественного произведения и заботится только о том, чтобы дети поняли его объяснения и запомнили их для экзамена, когда он не предоставляет детям самим вникнуть в содержание статьи, самостоятельно отличить важные образы от неважных, вдуматься в отношения между частями статьи и найти основную мысль статьи — это будет не развитие изнутри, не воспитывающее обучение, не подготовка к самообразованию, а обучение «чему-нибудь и как-нибудь», по выражению поэта.
Дидактический метод отличается одним соблазнительным свойством. Многие учителя убеждены, что такой способ берет меньше времени и что, только пользуясь им, они могут справиться со сложными требованиями экзаменационных программ. Справедливо ли это утверждение? Вот вопрос, на который мы пока не решаемся дать определенного ответа. Конечно, этот вопрос было бы легко решить, если бы мы считали возможным основывать методику преподавания на одной диалектике. Нам тогда следовало бы только остановиться на симпатичном нам положении и доказывать его чисто диалектическим способом, т. е. тем способом, каким можно защищать самые смелые гипотезы. Но дело обучения так серьезно и важно, ошибки в этом деле ведут к таким опасным последствиям, что здесь требуется особая осторожность в суждениях.
Чтобы дать прямой ответ на поставленный выше вопрос, надо решить этот вопрос путем рационально поставленного опыта. Есть мнение и за, и против. Есть, например, очень авторитетное мнение, заключающееся в том, что «кто щедр на время сначала, тот выгадывает во времени потом». Если эвристический метод и берет очень много классного времени на первых порах, зато, когда ученики благодаря этому методу научатся самостоятельно учить и полюбят учение, они даже во время школьного курса сделают гораздо больше, нежели ученики, воспитанные на помочах. Однако не трудно найти аргументы и за противоположное мнение. Но, как бы мы ни решили этот вопрос, дело совсем не в том, как скорее подготовить учеников к экзамену, как быстрее выполнить программу, — все дело в том, чтобы развить умственные силы учащихся, а этого можно достигнуть только применением, где следует, эвристического метода преподавания. До сих пор еще остается спорным вопрос: что важнее: формальное образование или реальное, отвечающее жизненным требованиям? Методы обучения или сообщаемые в школе знания и навыки, нужные в жизни? И на чем должен сосредоточить свое внимание учитель? Но мы считаем ошибочной и вредной самую постановку этого вопроса, и это по следующим соображениям. Были целые эпохи, когда торжествовал взгляд, будто существенно важно только одно формальное образование, только одна гимнастика ума, без всякого отношения к требованиям современной науки, хотя бы эта умственная гимнастика ограничивалась лишь изучением грамматических форм каких-нибудь языков — древних для средней школы и родного и церковнославянского для низших. Предполагалось, будто ум, изощренный на решении грамматических вопросов, будет так же быстро и верно решать и всякие иные вопросы, какие поставит ему жизнь; будто внимание, воображение и память, развитые на изучении форм языка, будут с таким же успехом служить ученику и тогда, когда он выйдет из школы и жизнь поставит перед ним тысячи самых разнообразных задач. Предполагалось, будто каждая из названных нами способностей человека есть нечто цельное, во всех своих частях однородное и на всякую работу пригодное, как (я извиняюсь за грубое сравнение) молоток, которым можно и орех колоть, и гвозди вколачивать. Но такое предположение оказалось совершенно ложным. Занятия математикой развивают способности к дедуктивному мышлению, но математика не научит классифицировать и наблюдать, не даст привычки к индуктивному мышлению, к выводам из конкретных фактов. Эти последние качества мышления развивают занятия естественными науками. Одним словом, занятия математикой разовьют способности к математическому мышлению, занятия филологией — к филологическому мышлению и т. д. И потому для всестороннего развития мыслительных способностей нельзя ограничиться гимнастикой ума, например, на филологии, а нужна и математика, и изучение природы. Ботаник обыкновенно чрезвычайно внимателен ко всем явлениям, касающимся растений, но он может быть неимоверно рассеянным человеком, когда ему говорят о происхождении глаголов или о квадратуре круга. Занятия естественной историей развивают наше внимание главным образом по отношению к природе, но не разовьют интереса к орфографии; равно как занятия филологией не разовьют нашего внимания по отношению к математике или механике. Еще очевиднее, что изучение каждого предмета развивает специальную память и воображение именно в области этой, а не другой какой-нибудь науки. Даже слова мы запоминаем четырьмя различными видами памяти: зрительной, слуховой, графической и памятью произношения. Ярким примером в данном случае служат слепые, у которых память осязания развита до такой степени, о которой мы, зрячие люди, не смеем и мечтать. Стало быть, для гармонического развития внимания, памяти и воображения нельзя ограничиться одной какой-нибудь отраслью знаний, хотя бы учителя пользовались наилучшими методами преподавания. Мало этого. Пластичность человеческого мозга имеет пределы. Одно знание, если оно заполонило весь мозг, служит помехой для другого, как одно укоренившееся растение мешает на том же месте расти другому. Преобладание грамматики и орфографии в школе бесспорно разовьет и орфографическую память, и грамматическое мышление, бесспорно сюда же направит и внимание учеников, но эти упражнения и эти занятия ослабят внимание, мышление и память естественноисторическую и литературную,, как вытесняют сорные травы пшеницу. Нет, метод — методом, а знание — знаниями. Знание — сила, это несомненно; но хорошие методы работы тоже бесспорная сила. И потому не надо приносить в жертву знаниям формального образования, методов преподавания. Но не надо приносить и метода преподавания в жертву знаниям, пригодным для жизни.
Многие признаки показывают, что мы живем, по-видимому, накануне того времени, когда не будут противополагать ни формального образования материальному, ни метода преподавания знаниям, когда, напротив, все усилия педагогов будут направлены к тому, чтобы согласить требования формального образования с требованиями жизни, требования, исходящие из анализа детской души, с требованиями, исходящими из анализа предмета. Необходимо и то, и другое. Нужны знания, но нужен и навык к правильному мышлению. Легко можно представить себе множество случаев, когда бывшему нашему ученику ни разу не понадобится знать, как пишется «хмель» по Гроту6, как называются притоки, впадающие в Западную Двину; сколько тычинок в цветке глухой крапивы; с кем воевал литовский князь Гедимин7 и как звали двенадцать сыновей Иакова8, но невозможно представить себе ни одного случая, чтобы в чьей-нибудь жизни не понадобилось умение правильно наблюдать и сравнивать, находить зависимость между отдельными явлениями, делать выводы и обобщения из данных материалов, классифицировать. Многое из того, что усваивает ученик, забывается, но зато остается привычка определенным образом работать над материалом. Стало быть, ценны не одни знания, а прежде всего способы, какими они разрабатываются. Можно сообщать двоим ученикам одинаковые знания, но сообщать так, что получатся результаты совершенно противоположные. Сообщайте все, без единого исключения, сведения догматически, требуйте, чтобы ученик принимал их на веру, преклонялся, не рассуждая, перед авторитетом книги и учителя; дайте ему все выводы, все правила и обобщения в готовом виде, отнимите у него возможность самому пытаться делать выводы и формулировать правила из данных материалов; сообщайте ему результаты чужих наблюдений, отучите его от самостоятельных наблюдений, подавляйте в нем всякие попытки к критическому отношению — и вы приготовите идеального раба, слепо, не рассуждая, подчиняющегося всякому, кто покажется ему авторитетом, приготовите человека с атрофированными способностями наблюдать, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, находить причинную связь между явлениями, проверять себя и других, но с чрезвычайно развитой способностью схватывать и запоминать чужие слова, чужие мысли, чужие выводы, чужие правила и исполнять все формальные требования. И он будет не виноват, что выйдет таким, как не виноват Илюша Обломов, из которого вышел ни на что не нужный человек. Зачем ученику при исключительно дидактическом методе обучения наблюдать, смотреть, щупать, слушать, когда все нужные ему для экзамена результаты всех возможных наблюдений сообщает ему наскоро учитель или учебник; зачем ему сравнивать, когда все необходимые сравнения были сделаны до него, а учитель услужливо сообщил ему не о том, как сделаны эти сравнения (на это, по мнению учителя, нужно было бы больше и времени, и труда), а о результатах этих сравнений, требуемых на экзаменах. Зачем ему делать выводы из фактов, зачем формулировать правила, законы, теоремы, когда их прямо давали ему в готовом виде, как облупленное яичко. Готовые правила и выводы, услужливый учитель и учебник, где есть все, что требует экзаменатор, стали стеной между учеником и божьим миром; за этой стеной ученик ничего не видит своими глазами, не соображает своим умом, его память воспринимает только чужие наблюдения, чужие обобщения, чужие правила, чужие мысли. Ничего своего — вот девиз такой школы и такой учебы. Умственное рабство — вот ее результат.
Такой человек был бы очень ценным в стране, где еще существует рабство, но он не имеет никакой цены в стране, где люди свободны и сами, без помочей, устраивают свою жизнь. Рабу не надо думать о своей судьбе: о ней заботится его господин. В наше время каждому человеку, к какому бы он классу ни принадлежал, самому приходится устраивать свою судьбу, самому добывать средства к существованию, собственными силами и на свой страх и риск решать тысячи задач, какие поставит ему и окружающая его природа, и его работа, и его семья, и его общество и пр., в наше время каждому приходится самому разбираться во всех сложных и все усложняющихся жизненных условиях, самому отыскивать причинные связи в окружающих явлениях, самому выделять из этих явлений наиболее существенное и важное от незначительного, случайного и маловажного. Из школы ученик выйдет в жизнь, а в жизни никто не скажет, где нам всего лучше достать средства к пропитанию своей семьи, своих детей, никто не даст готовых решений на каждый частный случай. А это значит, что в наше время требуется от каждого личный почин, требуется умение правильно наблюдать и делать правильные выводы из наблюдений, требуется привычка критического отношения и к материалам, и к выводам из них...
... Современная школа должна развить в учениках личный почин, личную энергию, творческую работу ума, привычку доходить до всего самому, привычку к самопроверке, к критическому отношению к чужому слову, а для этого эвристический метод преподавания должен занять надлежащее место в наших школах.
Наблюдательность, творчество, способность делать выводы, открытия не составляют какого-нибудь исключительного дара; этот дар принадлежит всем, и его надо развивать. Этот дар был бы распространен в тысячу раз более, если бы в наших школах преобладал другой метод обучения...
...Путем выгонки и натаскивания можно сообщить ученику множество сведений. Но можно знать очень много, держать экзамен по всем отраслям человеческого знания, слыть ученым человеком — и быть полуобразованным, полуневеждой. Если кто по выходе из школы станет утверждать, что он знает те науки, которые там преподавали ему, это будет доказательством лишь того, что он не знает, что такое знание, это покажет, что ему ни разу во всю его жизнь не пришлось испытать ни того восторга, который испытываем мы, надлежащим путем приобретая действительные знания, ни тех условий и трудов, каких стоит каждое такое приобретение. Всезнайство — ясный признак полуобразования. Вот как Пульсен определяет, что такое полуобразование: «Полуобразование есть то, что в обыкновенной речи называется образованием: знакомство со всем и умение поговорить обо всем. Оно является там, где материал воспринимается лишь внешним образом. Набитые в память сведения лежат в душе, как посторонние тела, мешают естественному развитию, уродуют и коверкают духовное образование... Как и всякое украшение, эта мишура полуобразованное толкает своего обладателя выставить ее напоказ: ведь она не имеет никакой ценное, раз ее никто не видит. Полуобразование делает человека нетерпимым и грубым. Не уверенный в себе, он не может переносить чужой манеры и видит в ней покушение на его собстаенное «образование». Полуобразованного человека всегда можно узнать по тому, что он поносит и преследует всех, у кого нет того же ярлыка и диплома. Отсюда его прирожденная вражда протав всего выдающегося и своеобразного; оригинальность кажется ему наглостью. Наконец, полуобразование делает человека недовольным и несчастаым. Да и может ли чувстаовать себя хорошо сущестао, отаосящееся так к себе и к окружающему?» А вот как характеризует людей этого
типа профессор Лесгафт: «Лица, набравшиеся только различных учений, выводов и результатов различных учений и не знакомые с методами выработки их, всегда отличаются большой самоуверенностью и даже нахальством: они быстро все решают на словах, все знают и за все берутся без учения и труда, постоянно глубокомысленно не соглашаются с мнениями других и высказывают свои сомнения; сделать же что-либо, серьезно провести или доказать какую-либо мысль они никогда не в состоянии, они совершенно неспособны к отвлеченному мышлению, равно как и не в состоянии относиться серьезно и с действительным участием к какому-либо делу, требующему анализа и понимания»9.
Выгонка к экзамену, хотя бы он был выдержан блистательно, не только бесполезна, но еще и вредна, потому что задерживает и приостанавливает развитие лучших способностей человеческой природы... Мы говорили до сих пор о самодеятельности учащихся в деле классного обучения; но мы бы провели принцип самостоятельности и в деле домашнего чтения. Конечно, детская библиотека должна содержать только хорошие книги, но выбор книг из библиотеки мы предоставили бы самому ребенку. Чужая душа — потемки. Нам трудно знать, что в данный момент более всего отвечает его запросам, чем занята его мысль, какие вопросы бродят в его головке, что его всего более интересует. Сам ребенок выберет то, что для него всего интереснее в данную минуту. Мы только тогда придем ему на помощь, если он сам обратится к нам и скажет: дайте мне что-нибудь о растениях, о зверях, о Петре Великом или сказку и т. п. Для того чтобы облегчить ученику выбор, мы повесили бы на шкафу и на стенах той комнаты, где помещается библиотека, списки книг по отделам, начиная с книг самых простых и легких для понимания и оканчивая более трудными. Чтобы дать ученикам возможность пользоваться при чтении книг руководящими указаниями, мы снабдили бы каждую книгу вопросами (эти вопросы можно найти в готовящемся к печати отчете об учительских курсах в г. Курске, 1900, и в отчете о Дубенских курсах Полтавской губернии, 1898). Даже в выработке программ домашнего чтения мы точно так же обратились бы к запросам читателя...
...Попытки этого рода делались учительницами, сгруппировавшимися вокруг известной деятельницы по народному образованию X. Д. Алчевской10, и книга «Что читать народу» до сих пор служит лучшим пособием для тех, кто хочет изучить запросы народа в отношении к чтению. К сожалению, составители этой книги по самой цели своего исследования не могли уделить много места запросам детей. И разработка этого последнего вопроса еще ждет своих исследователей. Надо провести принцип самостоятельности еще дальше, даже в дошкольный период, даже в игры детей. Известный психиатр профессор Сикорский, производивший очень много наблюдений над детьми, пишет: «Опыт показывает, что если усадить ребенка одного на полу с игрушками, то он нередко любит долгое время оставаться молчаливым, погруженным в забаву, со всеми знаками напряженной умственной работы. Внешний покой, невмешательство взрослого, который должен занимать пассивную роль и находиться на втором плане, составляют, как мы могли убедиться в том наблюдении, необходимое условие развития внимания и содействуют ему. Страсть и увлечение, с которыми ребенок предается игре при таких условиях, часто бывают поразительны».
Ни для кого, однако, не тайна, что родители очень редко предоставляют детей самим себе даже в самых безобидных играх, еще реже учителя проводят этот принцип при чтении книг и еще реже при классном обучении. А это нарушение основного принципа в воспитании и обучении влечет за собой очень печальные последствия.
В связи с отсутствием эвристического метода в наших учебных заведениях всех типов, в связи с преобладанием приемов, развивающих пассивный умственный паразитизм, в связи с таким же неправильным семейным воспитанием, несомненно, стоит легковерие нашего так называемого образованного общества, непривычка к самопроверке, торопливость и небрежность в выводах, вечные ошибки в суждениях.
Чтобы бороться с этими печальными особенностями современного человечества, есть только одно средство, именно широкое распространение образования, построенного на началах самодеятельности учащихся... Мы рассмотрели почти все известные нам доводы и возражения, касающиеся эвристического метода.
...Невольно является вопрос: где же причина, почему этот метод пользуется таким незначительным распространением? Причин много. Во-первых, этот метод требует от учителя и большего знания, и большего развития, а главное — большой любви к детям, потому что без этой любви ничто не заставит учителя из двух методов предпочесть тот, который требует от учителя большей подготовки. Пользоваться дидактическим методом может каждый из учителей почти без всякой подготовки. Для этого надо только знать предмет преподавания. Для того же, чтобы с успехом пользоваться эвристическим методом, надо кроме предмета знать еще и детей, их силы и способности, а главное — надо умение руководить самостоятельными работами детей. Вторую причину мы указали уже: это экзамены и предвзятое мнение, что эвристический метод требует от учеников больше времени, нежели метод дидактический. Третья причина заключается в том, что даже те, кто искренно убежден в безусловной необходимости эвристического метода, часто не знают, где оканчивается область эвристического метода и начинается сфера метода дидактического. Никакая эвристика не в силах довести ученика до того, чтобы он сам нашел, как пишется та или другая буква, та или другая река, какие растения и животные находятся в жарком поясе, как звали первого русского ученого, чей он был сын, сколько было сыновей у Иакова... Все материалы для выводов, если только ученик не может получить их путем непосредственного наблюдения и опыта, должны быть даны учителем или книгой; и только обработка этого материала должна составить задачу эвристического метода. Между тем учителя-эвристики очень часто требуют от учеников, чтобы они сами нашли и материал для неизвестного еще им вывода, а нередко и для неизвестной им цели. Ссылаются в этом случае на Сократа, который посредством одних только вопросов умел доводить своих учеников до возвышенных и отвлеченных выводов и обобщений. Но Сократ имел дело с вопросами индивидуальной и общественной морали, с вопросами внутреннего мира, а в этой области у каждого взрослого человека есть свой опыт,, свои наблюдения и свои нравственные инстинкты. Каждому приходилось в жизни испытывать взрывы гнева и переживать чувство жалости, каждому приходилось и любить, и ненавидеть, и смеяться, и плакать, и страдать, и чувствовать себя счастливым, и завидовать другим, и гордиться собою, обижать других и самому испытывать горькое чувство обиды; каждый умеет, хотя бы инстинктивно, отличить, по крайней мере, в наиболее простых и несложных случаях добро от зла, удовольствие от страдания, и Сократу надо было только напомнить об этих опытах, направить внимание слушателей на познание самого себя и заставить громко говорить их совесть. Сократ, таким образом, имел дело с готовым материалом. Сократу не приходилось в своем учении касаться законов внешнего мира: он не учил ни ботанике, ни зоологии, ни даже географии; он считал философию природы не только излишней, но и опасной, а в изучении природы познание самого себя не играет главной роли. Правда, в Платоновом диалоге «Менон» Сократ тем же самым эвристическим методом учит слугу Менона геометрии, старается открыть, что такое добродетель; он ведет свое исследование от одного пункта до другого, и, видя, что истина постоянно ускользает от него, он наконец спрашивает: «Что значит открывать что-нибудь? Можем ли мы делать это? Если можем, то каким образом?» И на этот вопрос он против своего обыкновения вполне определенно заявляет, что мы можем открывать, и он покажет, как мы это делаем. Он призывает молодого и разумного юношу, слугу Менона, и предлагает ему простую, но не совсем, однако, ясную геометрическую задачу. Он делает на песке чертеж и задает юноше различные вопросы относительно линий, служащих для объяснения этой задачи; и юноша, хотя и говорит сперва, что он не знает, скоро начинает правильно отвечать на вопросы по своему естественному пониманию отношений пространства. При каждом случае Сократ говорит: «Вы видите, я не говорю ему ничего. Он идет к истине, но я не учу его. Он находит ее в собственном уме». Однако же в этом последнем случае Сократ дает своему ученику кроме задач и вопросов еще и материал, т. е. чертеж. Он опирается на математические аксиомы, а они не требуют доказательств, и их каждый взрослый человек найдет в своем уме, если немного подумает. Совсем другое дело в области естествоведения, истории, географии и даже языка. Кто имел случай видеть наших учителей-эвристиков, тот, наверное, часто наблюдал, что учителя в увлечении этим новым для них методом и в понятной ненависти к старому шаблону, принесшему столько вреда детям, бросаются, как это бывает с неофитами, в противоположную крайность: они применяют эвристический метод и там, где он не имеет под собой никакой почвы. Не для доказательства этого положения, едва ли и нуждающегося в доказательствах, а лишь для иллюстрации его я приведу здесь рассказ Конради" о неудачном применении того же метода: «Учителю сильно хочется довести учеников до того, чтобы они сами сказали необходимые для него глаголы «протекать» и «протыкать», необходимые потому, что он накануне готовился к этой беседе, приноровил к ней целый ряд вопросов, даже письменно изложил их и они у него в кармане. Не скажут эти примеры или скажут, но другие — дело пропало: он окажется плохим катехетом. И вот, от всей души желая быть хорошим катехетом, входит он в класс и, проделав буквально все то, что предписано делать хорошему катехету, начинает свой урок вопросом: «Что сказали бы вы во время дождя, если бы сюда лилась вода?» Следует несколько ответов: сказали бы, что здесь мокро, скверно, сыро, потолок плох и т. п. Учитель старается навести их на правильный ответ: «Погодите, что сказали бы вы о самой воде, которая лилась бы сюда?» После некоторого недоразумения дается ответ, что об этой воде можно было бы сказать, что она дождевая. Учитель начинает волноваться, хотя и чувствует, что это дурно. Но он не предполагал, чтобы ученики были так тупы, и не заготовил других наводящих вопросов. Уже несколько волнуясь, принимается он за импровизацию вопросов: «Нет, что сказали бы вы о воде-то — какое сказуемое приписали бы вы этому слову; ну, что она делает?» — кончает он скрепя сердце? и краснея от волнения, что вопрос не очень хорош. Ученики отвечают: «Каплет, течет, льется...» Учитель окончательно теряет терпение и уже злобным голосом и порывисто спрашивает: «Сквозь потолок-то что она делает?» Ученики некоторое время молчат; они видят, что учитель чего-то сердится и боятся рассердить его еще больше. Некоторые из них вполголоса говорят: «Что делает — льется». — «Ну, льется, — подхватывает учитель, — а еще как можно сказать?» — «Течет», — отвечают ему. «Ну, а еще как? Течет, ну, а если сквозь что-нибудь течет, какой слог прибавляют?» Наконец учитель после нескольких неудачных ответов добивается желаемого ответа. Один ученик говорит: «Вода протекает». Учитель пишет на доске «протекает» и затем в полном убеждении, что другого глагола он добьется скорее, берет лоскуток бумаги, обращается к ученикам и говорит: «Наблюдайте, что я буду делать». Затем протыкает пером бумагу и, надеясь сразу получить желаемый ответ, спрашивает: «Что я сделал?» Дети, начинавшие уже томиться и скучать, немного оживились и ответили: «Дыру». И учитель, озабоченный и на этот раз недогадливостью учеников, завел опять работу минут на десять». Ошибка учителя, описанного покойной Конради, именно в том и заключалась, что он возлагает все надежды на сократические приемы, которых одних вполне достаточно в вопросах нравственности, и перенес эти приемы в область, где одних их мало, где нужны еще факты, данные, сведения, которые ученик должен извлечь или из собственных наблюдений и опыта, или же из объяснений учителя и из книги. Когда запас фактов будет достаточным, тогда только наступит очередь сократического метода для окончательного вывода. Лучше всех охарактеризовал этот метод Песталоцци. Когда педагог Крюзи12 защищал перед ним универсальное значение сократического метода, Песталоцци спросил его: «Видал ли ты, чтобы орел таскал яйца из гнезда, где не неслась еще птица?» В этом образе яйца суть личные наблюдения и опыты, с одной стороны, и наблюдения и опыты чужие, с другой. Первое делает сам ученик над окружающим его миром, об остальных ему должен сказать или учитель, или книга. В первом случае мы имеем дело с личной наблюдательностью ученика, во втором — с его воображением, которому, впрочем, можно и должно помочь наглядными пособиями. Когда же материал готов, когда данных для вывода достаточно, тогда наступает очередь эвристического метода преподавания... «Орел берет яйца...» Ученики сами делают все необходимые сравнения, сами отыскивают сходство и различие, сами классифицируют, обобщают, делают выводы, находят правила и законы, сами формулируют их при наведении учителя.
НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ
Методическое руководство к обучению письму и чтению по «Русскому букварю» автора
Предисловие к первому изданию
Выраженные в настоящей книге взгляды на приемы и методы обучения грамоте я излагал на руководимых мною педагогических курсах, устраиваемых земствами в разных губерниях для учащихся в земских школах. Один из отчетов о курсах (в г. Лубнах), заключающий в себе конспективное изложение прочитанных бесед, был напечатан и выдержал два издания: в 1899 г. он был издан полтавским, а в 1902 г. — тамбовским губернскими земствами. В более подробном изложении некоторые из прочитанных мною на курсах отделов были напечатаны в «Русской школе» за 1899 г. Но до настоящего времени взгляды мои на обучение грамоте не появлялись в печати в сколько-нибудь полном и законченном виде. Мои взгляды на приемы и методы сложились под впечатлением многолетних наблюдений над школами, и если в этих взглядах есть что-нибудь ценное, то я думаю, что я прежде всего обязан этим учащимся в начальных школах. По условиям своей жизни мне приходилось присутствовать на уроках не одной тысячи учителей сначала в Смоленской губернии, потом в Москве, затем в Полтавской, Черниговской, Курской и Екатери-нославской губерниях, где я руководил учительскими курсами, и, наконец, в Твери, где я заведовал двумя многолюдными школами. И я имел возможность наблюдать, какие приемы отличаются наибольшей успешностью, что посильно начинающим ученикам, что они быстро схватывают и понимают и что превышает размеры их способностей, что интересует учащихся и что возбуждает в них скуку или отвращение.
И эти наблюдения привели меня к выводу, что в основу всей педагогики, всей дидактики и каждого приема, в частности, должно быть положено изучение психологии учащихся, исследование их способностей, их наклонностей, стремлений и интересов. В последние пять лет я имел возможность производить такие исследования в двух школах, где обучается около тысячи детей и несколько сотен взрослых.
Но, сообразуя свои приемы с интересами учащихся и выдвигая на передний план простоту и естественность, мы в то же время не забывали и содержания: из того, что любят учащиеся и что их интересует, мы берем не все, а лишь то, что ценно по своему образовательному или воспитательному значению. С другой стороны, и ценные по содержанию материалы, если они в данный момент превышают силы учащихся или же вызывают скуку, мы беспощадно отбрасываем в расчете на то, что этот материал станет доступен и интересен на другой, высшей ступени развития. Что хоройо на одной ступени, то часто совершенно неудобно на другой. Таким образом, мы старались достигнуть того, чтобы не приносить ни вкусов учеников в жертву содержанию, ни содержания в жертву наклонностям учащихся; мы старались примирить требования, вытекающие из анализа предмета обучения, с требованиями, вытекающими из анализа психики учащихся.
Перефразируя выражение одного историка, мы могли бы сказать: чтобы знать направление, куда идет методика, надо знать путь, по которому она шла до сих пор. И вот почему выводы, к которым мы пришли вышеназванным путем, мы рассмотрели с точки зрения истории письменности и истории методики. Есть старые, как мир, но вечно новые истины. Их надо повторять без конца, по всякому поводу, при каждом подходящем случае. И в этих видах мы пользовались литературой предмета. При этом мы использовали не только русских педагогических писателей: Ана-стасиева, Гербача, Павленкова, Паульсона, Л. Толстого, Ушинского, но и западных: Гедике, Жакото, Икельзамера, Коменского, Пайо, Песталоцци, Шеве и других.
Мы не согласны с теми педагогами, которые ставят себе в особую заслугу, что они «к немцам за наукой не ходят», а все выдумывают сами; что к русскому человеку не подходят законы общечеловеческой педагогики; что у нас должна быть «своя особая, русская психология». Мы знаем, до чего довело такое самомнение обитателя Китая, застывшего на иероглифах. Первое, что бросается в глаза в истории педагогики, — это заимствование улучшений одним народом у другого, это подражание более счастливому соседу. Еще Паскаль сказал, что «на все человечество можно смотреть как на одного человека, который постоянно живет и учится». Мы разделяем в данном случае мнение Э. Тэйлора, сказавшего: «Цивилизация есть растение, которое чаще бывает распространяемо, нежели развивается само от человека к человеку, из селения в селение, из страны в страну, сознательно или слепо, по обычаю или по моде, по доброй воле или из простого повиновения силе, путем организованного обучения или случайного перенимания. Каждое новое полезное открытие с большей или меньшей быстротой распространялось по лицу земли, вытесняя старые, отжившие формы». Открывался ли алфавит в Египте, силлабическое письмо у древних обитателей долины Тигра и Евфрата, звуковой способ обучения чтению и книгопечатание в Европе — «каждое такое изобретение волнообразно от центра к окружности, как волна звука или света; распространялось все шире и шире и будет распространяться до тех пор, пока не охватит весь земной шар. При этом каждая буква алфавита, каждый знак клинописи или иероглифа, каждая цифра, каждый прием обучения, каждый учебник служит сегодня копией, потому что тот, кто его воспроизводит, заимствует его у другого, а завтра — образцом, потому что другой человек станет его копировать». Финикийский алфавит был сначала копией с египетского, но затем сам стал образцом для греков; греческий был копией с финикийского, но затем сам стал образцом для римского и славянского и т. д. От индийцев цифры арабов распространились по всей земле. Педагогам хорошо известна склонность человека подражать другому. На этом основана большая часть наших педагогических приемов. Люди никогда не были Робинзонами, жившими на необитаемых островах без всяких сношений друг с другом. Они жили вместе более или менее организованными обществами. В пограничных местностях соседние народы соприкасались друг с другом, находились в торговых и иных сношениях и не могли не заимствовать друг у друга всего, что казалось им полезным. От пограничной черты данное заимствование распространялось все дальше, даже тогда, когда не было никаких массовых перемещений, путешествий, войн, когда не было ни железных дорог, ни печатного станка. Стоит сравнить хотя бы только средневековые методы обучения с современными, чтобы понять, как велик успех, сделанный в области, о которой идет речь, в последние пятьсот лет. Тот же обзор показывает нам, что с распространением здравых идей в этой области ускоряется и самая быстрота этого поступательного движения и что теперь мы идем вперед, яснее представляя себе ближайшие, предстоящие нам последующие шаги, чем это было возможно для наших предков. Как шар, брошенный с горы, катится сначала медленно, но затем с каждой секундой все быстрее и быстрее; как поезд, только что тронувшийся ‘с места, сначала двигается едва заметно, но очень скоро приобретает быстроту, о какой в прошлые века никто и не мечтал, так и народное просвещение распространялось очень медленно сначала и все быстрее потом. В древности открытия следовали одно за другим через тысячелетия, позже эти промежутки сократились до столетий, а теперь какой-нибудь десяток лет приносит нам столько открытий, например, в области книгопечатания, литографии и письма с помощью ремингтона и других машин, сколько их не уложилось бы в целые тысячелетия седой древности. Тем более непростительно не использовать все хорошее, добытое нашими соседями, в наше время, когда выдающиеся открытия и изобретения распространяются с быстротой телеграфа.
Но, пользуясь работами западных педагогов, мы делали заимствование не слепо, без рабского и безотчетного преклонения перед самыми великими из педагогических авторитетов; мы отбрасывали слабые стороны и брали только сильные и в них вносили те изменения, которые обусловливаются особенностями нашего языка и нашей народной школы.
Желая сделать нашу книгу полезной и школам для взрослых (воскресным, вечерним и т. п.), мы в планах и конспектах уроков, при изложении приемов обучения, отмечали наиболее крупные отступления, какие полезно сделать в приемах обучения взрослых. Мы не забывали и те детские школы, где одному учителю приходится заниматься с двумя и тремя отделениями учеников, различающихся по возрасту, развитию и времени пребывания в школе, и в этих видах намечали материал для самостоятельных работ. Мы памятовали также, что в обучении приходится считаться с индивидуальностью учащихся. Мы постоянно наблюдаем, например, что в обучении начинающие ученики по-разному угадывают слово, какое они читают, что разные ученики по-разному запоминают орфографию слова, что у одного преобладает слуховая, у другого — зрительная, у третьего — графическая память, а у четвертого — память произношения. Но в таких случаях наши приемы рассчитаны сразу на все четыре вида памяти слов и потому одинаково облегчают запоминание материалов как той, так и другой индивидуальности учащихся.
При этом, пользуясь всеми видами восприятий, мы руководимся не одним только соображением о возможно легком и прочном запоминании пройденного. Если бы нам надо было назвать каким-нибудь определенным именем рекомендуемое нами сочетание приемов, мы назвали бы его методом естественных связей. Этот метод проводим мы и в других отделах методики. Когда мы наперекор общепринятому обычаю на самом первом уроке, так называемых приготовительных упражнениях, при разложении фразы на слова, рекомендуем (см. гл. V настоящей книги) выразить два-три однообразных слова (а, у, о) печатными знаками, мы руководимся принципом естественных связей. Когда мы на следующем уроке, при разложении слов на слоги, стоим за фиксацию буквами двух-трех однозвучных слогов, мы руководимся теми же принципами. То же требование естественных связей заставляет нас на подготовительных упражнениях фиксировать печатными буквами каждый вновь изучаемый звук. То же требование естественных связей руководит нами, когда мы практикуем распространенный, хотя многими и оспариваемый, прием совместного обучения чтению и письму. Тот же принцип руководит нами и тогда, когда мы рекомендуем взамен обычных письменных упражнений составной способ, состоящий из разложения каждого слова на звуки, письма этого слова на доске, чтения таким образом написанного и списывания с доски в тетради. В тех же видах мы рекомендуем и письмо по картинкам и другие приемы и упражнения. Предлагая такое название метода, мы хотим, таким образом, выдвинуть на первый план необходимость того, чтобы ученики понимали, выражаясь по простонародному, что к чему; мы хотим, таким образом, подчеркнуть необходимость органически связывать всякий вопрос с его целым, гармонически согласовать друг с другом все наши воздействия на ум учащихся. Мы хотим, таким образом, обратить внимание учащих на безусловную важность требования, чтобы ученик, изучая какую-нибудь частность, понимал цель этого изучения, чтобы каждое новое сведение входило в сознание учащихся как член родной семьи, естественно связанный со всеми другими родственными членами. Этот принцип мы кладем в основу не только методики грамоты, не только методики каждого другого предмета обучения, но и в основу всего плана начального образования. Мы желали бы, чтобы не только части одного предмета были органически связаны со своим целым, но чтобы и все предметы обучения в голове ученика были связаны друг с другом естественными, логическими связями.
Если мы углубимся внутрь самих себя и проанализируем свой умственный и нравственный багаж, то мы найдем там различные состояния сознания и еще связи между ними. И ничего более. Эти связи исчезают, да и то не совсем, во время сна или обморока; но мы хорошо знаем, какой хаос происходит тогда в нашей голове. Задача нашего мозга — это связать и органически объединить разрозненные впечатления, получаемые нашими внешними чувствами.
Развитой человек отличается от неразвитого не только количеством приобретенных сведений (есть идиоты, обладающие феноменальной памятью и помнящие массу слов, имен и цифр), но — что еще гораздо важнее — количеством и качеством связей между приобретенными сведениями. Сократ, Спиноза, Кант и другие мыслители, быть может, видели и слышали не больше других людей, но они лучше других соединили в своей голове слышанное и виденное ими.
Но и связи бывают различные. Есть механические, случайные связи. На таких связях основаны суеверия: ворона каркает — быть несчастью; правая ладонь чешется — деньги получать и т. д. Механические связи любят профессора мнемоники, напоминающие по своим приемам профессоров белой и черной магии, обещающие за 50 руб. исправить какую угодно плохую память. Они в своих наставлениях любят отвлекать внимание своих клиентов от внутреннего содержания к внешним признакам, например к букве, созвучию, от смысла к бессмыслице, от разумных, естественных связей к ассоциациям по смежности.
Но есть связи не случайные и внешние, а естественные, разумные, логические — это те, которые соответствуют действительности, природе и жизни и которых требует здравый разум и здравая логика. В мире все связано одно с другим: одно другое обусловливает, одно из другого вытекает. Мир, хотя неполно и далеко не совершенно, отражается, как в зеркале, в нашем уме, а вместе с ним отражаются, по крайней мере, некоторые, резко бросающиеся в глаза связи между явлениями. И чем больше и лучше мы сознаем эти естественные связи, тем лучше помним все, что скреплено этими связями. Но такая память не губит нашего ума, как губит его память, основанная на механических, случайных связях, потому что естественные связи — это в то же время и разумные, логические связи, и чем больше их в нашем сознании, тем мы развитее и умнее.
Мы хотели бы отметить еще одну особенность рекомендуемых нашей книгой приемов. Мы ценим не одни только навыки, знания и связи между ними. Для нас имеет огромное значение еще сам процесс, каким образуются эти связи в голове ученика. Обыкновенно мы даем ученику только материалы в известном расположении, снабжаем его данными и справками, ставим задачи и вопросы; но предоставляем ученику самому, собственными силами сопоставлять и сравнивать эти материалы, делать выводы из них, решать поставленные задачи и вопросы. Мы ставим ученика, таким образом, в положение изобретателя, самостоятельно отыскивающего решение. Мы проводим этот принцип при обучении каждому предмету начальной школы, за исключением тех отделов, где все основано на одном подражании. Мы убеждены, что стремление к самостоятельности пробуждается в детях чрезвычайно рано и что даже на самой первой ступени обучения, даже при самых первых шагах его, эвристический метод и может и должен быть применен. Так, например, когда мы предлагаем самому ученику разделить фразу на слова, на двух-трех примерах предоставляем ему убедиться в возможности обозначить слово письменным знаком (см. гл. V), мы ставим его как бы в положение изобретателя идеографического письма. Когда вслед за тем ученики наши сами делят слово на слоги, а два-три примера наводят их на мысль выразить каждый слог видимым знаком (гл. VI), учащиеся переживают приблизительно тот самый умственный процесс, какой пережили изобретатели силлабического письма. Когда вслед за тем учащиеся разделят слова и слоги на неделимые звуки и зафиксируют каждый новый звук буквой, в их сознании оживает нечто похожее на умственный процесс, когда-то пережитый изобретателями алфавита.
Эвристический метод мы применяем везде, где это возможно, еще и потому, что таким образом предоставляем нашим ученикам возможность пережить те чувства радости, какие переживает изобретатель, когда он сам, собственными силами находит новую истину.
Если ребенку бесконечно далеко до умственной мощи гения и таланта, зато ребенку гораздо доступнее, нежели нам, взрослым, эти эмоции, сопровождающие творчество. Для ребенка так «новы все впечатления бытия», его так восхищает, изумляет и радует всякое новое для него впечатление, что решение трудной задачи нередко приводит его в дикий восторг, он бьет в ладоши и радостно смеется и кричит: «Решил, решил!»
Еще в начале прошлого века Гизо писал: «Нужно искать способы преподавания, которые сделали бы ребенка существом активным, изощряющим во время учения свои крепнущие силы, но отнюдь не пассивной вещью, воспринимающей все, что желают вверить ее памяти или мысли».
Знаменитый английский философ Герберт Спенсер говорит:
«Необходимо приучать детей самих делать изыскания и выводить из них следствия. Нужно им подсказывать менее легкое и приводить их к нахождению более легкого. Подумайте о нравственном влиянии привычки всегда и во всем полагаться только на себя: от нее смелость в преодолении трудностей, сосредоточенность, терпение и внимательность, настойчивость при неудачах».
И потому нельзя не разделять настроения французского беллетриста, который сказал: «Я пью из маленького стакана, но из своего». И существенно важно, чтобы учащиеся привыкли к самодеятельности с самых первых шагов обучения. Если мы не обратим внимания на развитие этой способности в раннем возрасте, то позже это будет сделать гораздо труднее.
Обучение грамоте, букварь, алфавит, азбука нередко рассматриваются как дело совсем не важное, не серьезное, не требующее от учителя ни знаний, ни ума, ни таланта. Как часто нам приходилось слышать речи вроде следующих: «Зачем нужно большое, чуть не энциклопедическое образование учителю грамоты? Чтобы учить «азам», не надо никакой учености. В былое время этому искусству с успехом обучали отставные солдаты и полуграмотные чернички». По мнению г. Горбова, вопросы педагогии, методики, дидактики становятся доступными для употребления при очень незначительном, сравнительно, образовательном уровне. Подобно этому для устройства машины требуются глубокие математические познания, но управлять машиной может простой рабочий. В нашей школьной действительности совершенно достаточный для учителя минимум образования обозначен в программе экзамена на начального учителя. Таким образом, весь образовательный запас, превосходящий этот невысокий уровень, является излишним для непосредственной школьной деятельности. Ему просто нет применения в обыкновенной школьной практике.
Для учителя это образование есть, так сказать, роскошь. Оно необходимо для руководителя народной школы в широком смысле; но руководитель и учитель не одно и то же.
Важно то, что для народного учителя, по существу его специальных занятий, достаточна довольно низкая ступень образования — и что так в действительности это и бывает! Таково мнение одной группы наших школьных деятелей. Они хотели бы закупорить учительские мозги. Они хотели бы так законопатить их, чтобы потом никакие силы не в состоянии были бы их расконопатить.
Они еще согласны с тем, чтобы учителя изучали грамматику, как можно больше грамматик, церковнославянский язык, чтобы они учили пению, ручному труду, садоводству, огородничеству, пчеловодству, арифметике и особенно каллиграфии, чтобы из географии они знали номенклатуру, из истррии — годы и имена. Но того, что зовется наукой в собственном смысле этого слова, они не хотят давать учителю: они считают это не нужным, лишним, быть может, даже вредным. Между тем лучшие учителя производят впечатление людей, не менее образованных, чем сам г. Горбов, а другие всеми силами стремятся к образованию не школьному, не грамматическому, а настоящему, серьезному и не жалеют для этого ни времени, ни жертв, ни труда. Кто из них прав? Мы держимся другого мнения. Мы придаем огромное значение первым шагам ребенка в школе и вполне присоединяемся к тому взгляду, какой имеют на это дело американцы. «Мы, — говорит один из американских отчетов, — назначаем самых лучших и самых опытных учителей в первые классы наших школ в полной уверенности, что на хорошо заложенном основании построится и прочное здание; но что, наоборот, как бы ни было совершенно дальнейшее обучение, уже ничем нельзя будет исправить ошибки, допущенные вначале».
Глава I
Методы обучения не могут быть случайными и беспочвенными изобретениями досужего ума; основываясь на природе ученика, его естественных наклонностях и способностях, все приемы обучения должны быть в то же время согласованы и с природой изучаемого предмета, сообразны с требованиями, вытекающими из сущности предмета обучения. Этот принцип должен быть положен в основу методики каждого предмета обучения. С этим принципом должны сообразоваться и приемы обучения письму-чтению. Чтобы правильно учить чтению, учителю надо знать прежде всего, в чем состоит самый процесс чтения, на какие отдельные акты он может быть разложен и к чему сводится сущность чтения.
К большому сожалению, с тех самых пор, как впервые был открыт звуковой способ обучения, вместе с этим важным и плодотворным открытием было пущено в оборот и одно заблуждение, чрезвычайно распространенное и ныне между учителями. Многие еще и теперь полагают, что, когда мы читаем какое-нибудь слово, мы узнаем букву за буквой и, по мере того как различаем их, быстро и без перерыва произносим соответствующие им звуки. Между тем обыденные, каждому грамотному известные факты давно должны были бы убедить нас, что это мнение ложное. Если мы произносим неправильно какое-нибудь привычное слово, мы и читать его будем неправильно, а этого не было бы, если бы мы читали, узнавая последовательно каждую букву, а не целое слово зараз. Я знал одного субъекта, который говорил «аргарный» вместо аграрный, но он, и встречая это слово в книгах, не замечал своей ошибки и всегда читал, как говорил, пока не обратили его внимания на эту ошибку. Другой мой знакомый читал и говорил «накротический» вместо наркотический. Если бы они читали, вглядываясь во все буквы данного слова, таких ошибок не существовало бы.
Эти примеры показывают, что мы большей частью узнаем
написанное или напечатанное слово раньше, нежели рассмотрим каждую букву, входящую в его состав; мы читаем не буквы, не слоги, а зараз целые слова. Если бы мы читали, например, слово «любят» по одной букве, а не целое слово зараз, то мы не знали бы, как нам произнести «л» и «б» — мягко или твердо: ЛЪ и БЪ или ЛЬ и БЬ? Ведь мягкое произношение этих звуков определяется последующими гласными, стало быть, раньше, чем произнести первый звук, мы должны знать вторую букву, а раньше, чем выговорить третий звук, мы должны знать четвертую букву. Мало этого, прочитать слово — это еще не значит произнести слитно все звуки, это слово составляющие. Их можно произнести с неправильным ударением, и тогда нас могут не понять.
Хорошо известно, как трудно бывает понять русскую речь иностранца, если он не привык правильно ставить ударения. Паульсон рассказывает, как немец прочитал в книге следующую фразу: «ИОНА СНИМИ ПОДОШЛЯ КИВЁ». Слушавший его русский не понял в этой фразе ни одного слова, счел ее за бессмыслицу, но когда он заглянул в книгу, то нашел там простые, всем понятные слова: «И она с ними подошла к иве». В данном примере иностранец верно передал все звуки фразы; в сущности он не изменил ни одной буквы, если не считать вполне естественного для немца смягчения «л», все его ошибки сводились только к неправильной постановке ударения, а между тем из простой фразы у него получился бессмысленный набор звуков. Чтобы правильно произнести самый первый слог, например, слова «любят», поставив над ним ударение, мы должны не только прочитать глазами все слово, но и понять его, и это мы должны сделать раньше, нежели откроем рот для произнесения самого первого звука данного слова, потому что, не понимая слова, мы не могли бы поставить где следует ударение, равно как, не понимая фразы, мы не могли бы придать ей должную интонацию. Ударение недаром называют чеканом слова. Ударение вместе с интонацией есть смысловая печать, какую мы кладем на слова; правильное ударение свидетельствует о нашем понимании слова, а правильная интонация — о нашем понимании фразы. Еще с грехом пополам можно читать славянскую книгу, не понимая смысла читаемого, потому что там над каждым слогом стоит ударение. Но читать по-русски, не понимая читаемого, нельзя.
Итак, читать — это не значит узнавать и произносить букву за буквой; это значит узнавать, понимать и произносить целые слова; это значит переводить написанные слова на разговорный язык.
Но если таково обычное наше чтение, взрослого начитанного человека, то всегда ли оно таково? Какую роль в узнавании нами целого слова играют отдельные буквы и отдельные слоги?
На руководимых мною учительских курсах мне не раз приходилось в присутствии всей аудитории ставить следующий опыт. Желающим из учителей я давал читать два ряда слов. И в том и в другом ряду было одно и то же число слов, слогов и букв; но в первом ряду все слова были знакомы («пахарь», «коляска» и пр.), а во втором — были слова, хотя и написанные русскими буквами, но малоизвестные, взятые из египетской истории («Хмунготепа», «Аменемгеба» и пр.). Вся аудитория с часами в руках отмечала число минут и секунд, употребляемых на чтение каждого ряда. При этом оказывалось, что чтение знакомых слов было вдвое, втрое и даже вчетверо быстрее чтения слов незнакомых. При этом последние слова прочитывались по складам, с длинной паузой на каждом слоге и, конечно, без надлежащих ударений. Каждый из нас замечал и за собой, и за своими знакомыми, что привычные слова мы читаем очень быстро; но стоит только встретиться со словами незнакомыми (например, с чужеземными именами, хотя бы китайскими Жень Цзун, Жуй Хуан-ди и пр.), и мы уже замедляем темп чтения. Я произвел еще следующий опыт. Обыкновенно я читаю с быстротой 700 — 800 букв в минуту, но если я буду читать тот же текст справа налево (вместо «окно» — «онко»), причем получаются непривычные бессмысленные слова, то я читаю впятеро медленнее, я разбираю не более 160 букв в минуту.
Вот еще наблюдение, имеющее прямое отношение к данному вопросу. Как часто мы, читая плохо прокорректированную книгу, не замечаем в ней многих буквенных ошибок, если только наше внимание не направлено при этом специально на корректурные ошибки. А ведь если бы мы читали каждую букву, то мы не могли бы пропустить ни единой ошибки: каждая неправильно поставленная буква резала бы тогда наш глаз, как диссонанс режет ухо хорошего музыканта. Вывод напрашивается сам собой. Привычные слова мы читаем быстро потому, что узнаем их по общему виду, не всматриваясь в каждую букву слова. Это похоже на то, как мы узнаем по общему виду хорошо знакомый дом, не вглядываясь в каждое его окно, как узнаем хорошо известную улицу, не всматрйваясь в каждый из ее домов. Когда мы встречаем знакомое слово, например «университет», для нас это слово в его целом имеет самостоятельную жизнь. Мы не видим в слове всех отдельных букв. Мы узнаем это слово как нераздельное целое по общему виду и по некоторым характерным для этого слова слогам или буквам. Привычная для нашего глаза форма слова подсказывает нам не только звуковой состав его, но и самый смысл этого слова. Если мы увидим слово doucha, то в первый момент слово это, наверное, покажется нам совершенно незнакомым, и мы не будем знать, что оно означает, хотя бы мы прочитали его совершенно правильно. Но стоит то же самое слово написать в привычной для нас форме русскими буквами — душа, и мы сразу понимаем его значение. Такое чтение напоминает нам наш обычный разговорный язык. Обыкновенно мы без всяких затруднений понимаем привычные, хорошо знакомые слова в очень неясном и часто искаженном произношении. Мы прекрасно понимаем, когда слышим ГРИТ вместо говорит, САМДЕЛЬ вместо в самом деле и т. д.; но стоит той же скороговоркой произнести мало знакомое нам по слуху слово, и мы не поймем его.
Стало быть, и в разговоре для понимания привычного слова мы не нуждаемся в каждом его звуке, мы узнаем сказанное слово по общему впечатлению и по некоторым наиболее характерным для него слогам и звукам.
Вышеупомянутые опыты с чтением непривычных слов показывают нам, что незнакомые слова мы читаем по слогам, и это совершенно понятно: каждое незнакомое нам слово может быть разложено на знакомые нам слоги, и привычные слоги, так же как и привычные слова, мы обыкновенно узнаем сразу. Когда нам незнакомо целое, мы поневоле вглядываемся в его крупные части, и если они знакомы, мы сразу узнаем их, не вглядываясь в каждую букву в отдельности. Те же опыты доказывают, что нельзя хорошо читать, не зная хорошо языка, на котором читаешь, и не понимая читаемого. Доказательством последнего может служить еще следующий опыт, не раз повторенный мной на учительских курсах. Желающие из учителей прочитывали два ряда слов: в каждом ряду было одинаковое число общеизвестных слов, одинаковое число слогов и букв, но в первом ряду все слова были связаны между собой грамматически и логически и представляли понятный отрывок из описания, а второй ряд состоял из слов, ничем не связанных друг с другом. Оказывалось, что чтение отдельных слов шло медленнее, а чтение связного описания — быстрее. Этот результат объясняется тем, что при чтении знакомых слов кроме цельного зрительного образа, исходящего не от букв, а от замкнутого целого (слова), нам помогает еще содержание читаемого.
Всякий из нас припомнит, что, когда мы не разберем какого-нибудь слова в письме, мы очень часто воспроизводим его по смыслу. Мы нередко можем восстановить таким образом даже пропущенное слово. Еще чаще мы угадываем, пользуясь грамматическими связями, падежные окончания прилагательных и существительных, совсем не вглядываясь в буквы на конце слов. Больше того, когда какая-нибудь фраза начинается словом если бы, то после запятой мы с большой вероятностью можем ожидать слово то; когда фраза начинается словом хотя, то мы ожидаем но и т. д.
Сказанное подтверждается и точными измерениями отдельных актов механического чтения.
О процессе чтения существует целая литература. Над этим вопросом работали Гельмгольц, Мюллер, Эрдман, Додже и другие. Почти все акты механического чтения Измерены посредством точных опытов на остроумно придуманных приборах, и эти измерения выражены в цифрах.
Доказано, например, что наше поле ясного зрения невелико: зараз мы видим совершенно ясно всего только около 4 букв. Конечно, это не значит, что за пределами этого поля мы уже ничего не видим; это значит только, что вне ясного поля зрения получаются более смутные зрительные впечатления. Начитанный человек зараз узнает слово даже в 20 букв, но при том непременном условии, если эти буквы связаны в отдельное привычное для него слово. Это до такой степени верно, что узнать одну большую букву оказывается для нас труднее, чем узнать привычное слово из 4 букв: доказано точными измерениями, что психическая реакция на большую букву требует больше времени, чем реакция на хорошо знакомое слово из 4 букв. Мало этого, даже ошибки в первом случае встречаются чаще, чем во втором. Очевидно, что чтение знакомого слова из 4 букв для нас привычнее, нежели чтение одной большой буквы.
Сделано еще одно очень любопытное наблюдение над процессом чтения. Попробуйте смотреть за движением глаз чтеца, когда он читает строчку. При внимательном наблюдении вы заметите, как перемещается при чтении строчки окрашенная часть глаза, и сосчитаете число движений. При чтении строчки, например, из «Детского мира» Ушинского я делаю в среднем около 6 моментальных движений и более длинных остановок, или пауз. Возникает вопрос: когда мы читаем — во время движений глаза или во время пауз? Как показали точные измерения, движения глаза так быстры, что во время их мы не можем узнать ни одного слова. Движения глаза так быстры, что если с этой быстротой вертеть круг с белыми и черными поперечными полосками, то эти полосы уже не различаются, а сливаются в серое пятно. Стало быть, мы узнаем слова во время остановок глаз, или пауз. Во время этих пауз мы останавливаем свой взор большей частью на середине слов, если слова длинные, и сразу угадываем все слово, хотя бы видели ясно лишь небольшую часть его. При этом на каждую паузу приходится в среднем около 10 — 12 букв, и мы прочитываем их без затруднения. Так как наше поле ясного зрения, как уже сказано выше, обнимает едва только 4 буквы, то очевидно, что при чтении мы не видим каждую букву в отдельности. И действительно, когда я держу буквенную корректуру, ищу ошибки и вглядываюсь в каждую букву, мои глаза делают около 15 движений, и на каждую паузу приходится уже не 10 — 12 букв, а всего только 4 буквы, и это понятно: здесь я обращаю внимание не на смысл слова и не на его общую форму, позволяющую мне угадать привычное слово; здесь я обращаю внимание уже на самые буквы, я смотрю, те ли буквы поставлены, какие надо, и потому мой глаз теперь может захватить уже не 10 — 12 букв, а только 4 буквы, помещающиеся в области ясного зрения. По той же причине учителя, исправляя орфографические ошибки детей, читают детское упражнение с гораздо меньшей быстротой. То же самое наблюдается, если мы станем читать отдельные буквы, не связанные в слова: буквы, случайно подобранные и не составляющие слова, мы узнаем точно так же не более 4 или 5 зараз.
Во всех вышеприведенных случаях речь шла не о произнесении звуков, а только о зрительных образах. Нельзя зараз произнести 4 звука: звуки произносятся последовательно. Но можно зараз, за одну паузу, узнать 4 буквы, так как эти буквы помещаются в области ясного зрения и их зрительный образ воспринимается нами сразу.
Мы видели выше, что можно узнать за одну паузу, за один раз даже 20 букв, если они составляют одно хорошо знакомое, привычное слово. Целым рядом точных измерений доказано, что 1/10 с вполне достаточно, чтобы узнать написанное на родном языке привычное слово в 20 и даже в 22 буквы. И если бы все дело было лишь в том, чтобы узнать напечатанные слова, то мы, быть может, читали бы не по 700 букв и даже не по 1400 букв в минуту, как делают некоторые, а по 12 000 букв, т. е. в 17 раз быстрее обыкновенного. Часовая лекция в печатном виде могла бы при таких условиях быть прочитанной всего только в 4 мин. Повесть Гоголя «Коляска» мы прочитали бы в 2 мин. Почему же такой быстроты еще никто не достигал при чтении вслух? Очевидно, потому, что произношение слова требует сравнительно значительного времени. То самое слово в 22 буквы, которое мы узнаем по его общему виду в 1/10 с, для своего произношения потребует в 20 раз более времени, т. е. не менее 2 с. А между тем произнесенное слово, точно так же как и написанное, имеет самостоятельную жизнь, представляет замкнутое целое. В каждом привычном слове нашем твердо спаяны между собой отдельные звуки, один звук цепляется и тянет за собой другой, и стоит нам произнести первый звук, как за ним по привычке, сами собой, один за другим, в строгой последовательности выступят все другие звуки, словно кто завел музыкальный органчик. Оптическое слово выступает все сразу, во всех своих частях, а произносимое слово выступает последовательно, звук за звуком — и вот к чему, главным образом, сводится разница во времени. Само собой разумеется1, что понимание текста тоже требует известного времени.
Зрительное впечатление от напечатанного слова — это начало процесса; произношение слова — конец, а между этими крайними актами протекает сложный психический процесс: зрительное впечатление надо претворить в движение голосовых органов, в произношение, и эту сложную работу делает наш мозг. Его задача в данном случае — претворять в движения получаемые нами зрительные впечатления, как паровоз превращает в движение теплоту, как карманные часы превращают упругость пружины в движение стрелок. Когда зрительное впечатление по нервным проводникам дойдет до центра сознания, то здесь происходит следующая работа: 1) надо узнать данное оптическое слово на основании зрительного образа; 2) надо вызвать в сознании соответствующее представление о звуковом слове, т. е. о совокупности известных последовательных движений органов речи: губ, языка, гортани и пр.; 3) надо захотеть, чтобы эти движения были произведены, и передать возбуждение через нервные проводники к мускулам органов речи. И только в конце этого процесса наступает произношение узнанного слова.
Из сказанного мы видим, что люди, хорошо умеющие читать, приступают к произнесению первого звука данного слова только тогда, когда все слово, так сказать, умственно уже прочитано ими, когда они узнали зрительную форму, цельный образ всего слова, когда они поняли его и нашли соответствующий ему, законченный образ звукового слова.
Новым подтверждением этого вывода может служить еще следующее наблюдение. Когда мы читаем слово, перенесенное с одной строчки на другую, то прежде, нежели произнести это слово, мы невольно переносим взгляд на другую строку, на окончание слова и только тогда, узнав его как целое, приступаем к его произношению.
Итак, повторяем: мы должны считать предрассудком, будто мы при чтении разбираем букву за буквой, последовательно отыскивая для каждой буквы соответствующий звук. Нет, мы читаем зараз, целыми словами, отыскивая для каждого оптического, напечатанного слова соответствующее звуковое слово и соответствующий смысл; мы имеем дело не с отдельными буквами, а с целыми словами.
Какой же вывод из вышеизложенного мы должны сделать по отношению к практике обучения чтению? Едва ли не самым важным выводом будет то, что чем развитее ученик, чем больше он знает, чем скорее он понимает смысл отдельных слов, чем легче он схватывает логические и грамматические связи между отдельными словами в целом предложении, тем он лучше читает. Заботясь о развитии детей, мы тем самым облегчаем им механизм чтения.
Вторым указанием будет то, что, стремясь научить детей беглому чтению, учитель должен заботиться о том, чтобы в конце концов дети читали зараз целыми словами, не вглядываясь в каждую отдельную букву слова, а узнавая его по общему внешнему, оптическому виду, по наиболее характерным его частям.
Вот к чему приводит нас анализ процесса чтения, вот цель, какую должен ставить себе учитель, желающий научить детей беглому чтению. Но достаточно ли для учителя сообразоваться только с анализом предмета в его сложившейся форме? В другом месте мы говорили уже о том, к каким печальным последствиям ведет обычай основывать все методы и приемы обучения исключительно на одном анализе предмета, как мстит за себя забвение психики учащихся, их интересов, их наклонностей, их способностей, уровня их развития. Мы говорили, как часто при такой односторонней постановке дела учение становится мукой, внушает отвращение учащимся, что, в свою очередь, вызывает необходимость наказывать за леность, за невнимание, за безуспешность. И в данном случае, в деле обучения грамоте, мы должны сообразоваться не только с тем, что дает анаЪиз процесса чтения взрослого начитанного человека. Исходя из одного этого анализа, можно было бы дойти до приемов обучения в Китае, где опыт
веков научил педагогов наиболее быстрым способам заучивания тысяч и десятков тысяч своеобразных знаков, из коих каждый выражает не звук, не слог, а целое слово, целое понятие. Нет, нам мало знать, в чем состоит сущность нашего чтения, нам надо знать еще, как читают начинающие ученики.
Чем же по существу отличается чтение такого ученика от нашего беглого чтения? Мы узнаем и понимаем многие слова сразу, а начинающий ученик не может узнать ни одного слова по его общему оптическому виду. Правда, со временем, когда он встретит и прочтет одно и то же слово не один раз, он в состоянии будет сам узнать это слово по его общей оптической форме. Но теперь, когда данное слово встречается ему впервые, нечего и думать, чтобы общая форма сколько-нибудь помогла ему прочесть напечатанное или написанное. Для начинающего учиться еще нет привычных печатных слов. Все слова для него одинаково незнакомы. И в этом состоит самое главное различие между беглым чтением и чтением начинающего ученика. Вот почему последний читает гораздо медленнее. Если мы прочитываем строчку в 2 с, то начинающий чтец прочитывает ее впятеро, всемеро и вдесятеро медленнее. Вот почему он делает во время чтения гораздо больше движений глазами и больше остановок. Вот почему во время каждой остановки он схватывает гораздо меньше букв, чем мы. Вот почему на первых порах он останавливается на каждой букве, а позже — на каждом слоге и еще позже — в состоянии бывает сразу схватить только особенно часто употребляющиеся небольшие слова, но подолгу останавливается на словах, встречающихся редко.
Чтобы лучше понять психику начинающего чтеца, нам следовало бы искусственно поставить самих себя в его положение. Так, например, мы приближаемся к начинающему ребенку, когда читаем слова, напечатанные справа налево, например: кинечу, ацинълетичу вместо ученик, учительница; да и то на нашей стороне в данном случае та выгода, что нас не затрудняет ни узнавание отдельных букв, ни слияние звуков. И тем не менее при таких условиях я читаю впятеро медленнее, чем обыкновенно вслух, и вдесятеро медленнее, чем могу читать на родном языке про себя; мои глаза при этом условии делают по две паузы, по две остановки почти на каждом, даже коротком слове, и во время каждой остановки я захватываю гораздо меньше букв, чем обыкновенно. Я невольно при таких искусственных условиях начинаю читать по складам, произнося их про себя, как читает начинающий чтец. Чтение по слогам — это, по-видимому, последняя грань, куда может проникнуть опытный чтец, искусственно ставящий себя в положение начинающего учиться. Правда, мы можем затруднить себе до некоторой степени узнавание букв, читая, например, отражение печатного или скорописного текста в зеркале, но слияние звуков в слоги ни при каких условиях не может затруднить нас так, как оно затрудняет звуковиков на первых порах обучения, а между тем недаром говорят, что слияние звуков в слоги представляет главный секрет в чтении. Поэтому, когда мы читаем непривычные нам слова, например собственные имена из египетской истории, мы приближаемся к чтецу, уже хорошо различающему слоги, но не узнающему слова.
Что начинающие читать очень рано привыкают различать сразу, по внешнему, оптическому виду, слоги, в этом нет ничего удивительного. Мы не можем заранее сказать, сколько раз должны мы встретить данный слог и данное слово, чтобы сразу и без всяких затруднений, по общему оптическому виду, узнать его при следующей встрече (это зависит от особенностей памяти каждого из нас); но мы знаем, что слоги считаются только сотнями, а слова десятками тысяч, мы знаем, что наиболее употребительные слоги встречаются нам в сотни и тысячи раз чаще, чем иные слова. Попробуйте открыть хотя бы русско-французский словарь Макарова, и вы найдете, что на слог по начинается более 4 тыс. слов, помещенных в этом словаре, а еще надо предположить, что этот слог по встречается в середине и в конце других слов, считаемых тоже тысячами. Если бы мы читали этот словарь, то каждое из его слов нам встретилось бы только по одному разу, а слог по встретился бы тысячи раз. Естественно, что ученики очень скоро привыкают различать склады сразу, по общей форме, естественно, что они читают по складам, хотя бы и про себя, гораздо раньше, нежели начинают читать целыми словами.
Когда ребенок не узнает всего слова сразу, он пробует узнать его по складам.
И было бы безрассудно не воспользоваться этими навыками и запрещать детям чтение по слогам, как это делают некоторые педагоги.
Но еще больше ошибка тех педагогов, которые в увлечении чтением слогов заставляют детей на первых порах читать одни только бессмысленные слоги. Это значит на место умственного развития ставить механическую муштровку, на место смысла — букву, на место понятного слова — бессмысленные сочетания звуков.
Так называемое механическое чтение в его чистом виде и сводится именно к чтению по складам, т. е. к различению одних слогов. Это видно, между прочим, из того, что только при чтении слогов отсутствует понимание смысла слов и связей между словами, а понимание текста играет самую крупную, господствующую роль в правильном чтении, потому что без понимания не может быть ни правильных ударений, ни интонации, без понимания читаемого может быть только чтение, похожее на вышеприведенную фразу: «ИОНА СНИМИ ПОДОШЛЯ КИВЁ». Читать по слогам вы в несколько дней можете научить и француза, и японца, ни слова не понимающих по-русски; но это будет только механическое чтение; идти с ними дальше, научить их читать правильно можно, только обучая их в то же время и русскому языку. Правильно читать слоги можно и механически; правильно
читать слова можно, только читая сознательно.
Поэтому не будем на первых порах запрещать детям читать по слогам в затруднительных случаях, но не будем заставлять их читать отдельные слоги вне целых слов, будем упражнять их только в чтении слов, хотя бы и разделенных на слоги, будем помнить, что самое важное в чтении не звуки и не слоги, а связь между ними и целым словом, из них составленным.
Читая таким образом, учащийся привыкает узнавать сразу, по общему виду, не только буквы и склады, но и наиболее употребительные слова.
Конечно, без навыка моментально узнавать буквы и слоги обойтись нельзя; быстрое различение букв и слогов помогает чтению, является одним из самых существенных условий беглого чтения; но в этом различении слогов еще не весь процесс чтения начинающего ученика. В каждом сочетании слогов ученик должен признать знакомое ему по разговору устное слово. Ученик должен перекинуть мост от напечатанного или написанного слова к обычному для него разговорному слову. Он должен сделать правильный перевод зрительных образов целого слова на звуковые образы знакомого и понятного устного слова; и если этого не сделано, то слово не прочитано, хотя бы ученик прекрасно произносил все слоги этого слова. В этом нетрудно убедиться, если наблюдать, как читают начинающие ученики. Положим, ученик с «акающим» говором читает слово голубь. Когда он узнал оба слога, наступает момент, когда он должен в этом сочетании признать знакомое ему по разговору слово, и пока он не перебросил этого мостика между прочитанным и разговорным словом, он может читать то как «галубь», то как «галупь», прежде чем не нападет на правильное произношение: голубь. И когда он угадает привычное слово, он произнесет его тоном, выражающим уверенность. Очень любопытно наблюдать этот процесс у начинающих: как они после нескольких неудачных попыток попадают на привычное им слово и как они оживляются в этот момент. Можно думать, что большей частью этот процесс признания в прочитанном слове привычного разговорного слова происходит в уме ученика вне нашего контроля и только по временам бросается нам в глаза; но трудно допустить, чтобы этого процесса, как бы краток он ни был, не происходило совсем.
Вот еще опыт, который может убедить нас в том же самом. Попробуйте дать ребенку книгу, где наряду с хорошо знакомыми ему словами встречаются слова малопонятные, заставьте его читать, и вы увидите, что он будет делать продолжительные паузы над словами, ему мало понятными. Что затрудняет ребенка? Не буквы, потому что все буквы хорошо ему знакомы; не слияние звуков, потому что такое же слияние он быстро делает в понятных словах; нет, ребенок ищет в своей памяти знакомое ему по разговору, понятное слово, соответствующее слову напечатанному: он переводит трудное слово с письменного языка на устную речь.
Нечто подобное мы переживаем, когда в рукописи встречаем неразборчиво написанное слово. Сейчас я бросаю взгляд на рукопись, и одно неразборчиво написанное слово привлекает мое внимание. В первый момент я прочитываю это слово — «высоко», но такое чтение оказывается ошибочным. Очевидно, в этой первоначальной моей попытке играло роль, выражаясь обыденным языком, пассивное воображение. Оно почти незаметно для меня самого успело быстро произвести привычный анализ и синтез слова, т. е. успело разложить написанное слово на отдельные штрихи и затем соединить эти неясные штрихи в совершенно определённое, хорошо знакомое целое слово «высоко». При этом, очевидно, дело не обошлось без того, чтобы кое-чего не изменить в этих неясных штрихах, кое-чего не прибавить из области воспоминаний.
Но спустя еще момент я замечаю, что в моем чтении что-то неладно, я разбираю слово по слогам и буквам, сопоставляю его со смыслом всей фразы и тогда совершенно уверенно говорю себе: здесь написано не «высоко», а «вполне». Аналогичный процесс должен очень часто происходить в душе начинающего чтеца. Он точно так же перебегает от анализа к синтезу неразобранного трудного слова, сопоставляет его с предыдущими и последующими словами читаемой фразы, ищет в своей памяти соответствующего знакомого и понятного по разговору слова, нередко точно так же ошибается и сам же себя проверяет и поправляет.
Ниже мы подробнее говорим о том, что мы не должны забывать упражнений ни в анализе слов на склады и звуки, ни в синтезе звуков и складов в целые слова и всего более должны заботиться о том, чтобы смысл читаемых слов и предложений был ясен для учащихся.
Мы говорили уже о психике начинающего читателя в тот момент, когда он уже знает хотя бы несколько букв и узнает привычные слоги, а по слогам и целые слова. Спустимся теперь еще на одну ступень ниже и постараемся представить себе психику совершенно неграмотного ученика. К чему сводится самая существенная разница между грамотным и неграмотным человеком?
Грамотный человек с оптическим видом печатных или письменных букв и слов соединяет представление об их произношении, о словах и звуках, которые мы сами можем произнести; а спросите человека, помнящего свое состояние, предшествовавшее обучению, и он скажет, что ему формы букв и строки печатного или письменного текста представлялись чем-то вроде кабалистических знаков, таинственных, загадочных и странных. Эти знаки приводили его, пока он не научился читать, в такое же недоумение, в какое приводит нас письмо, написанное неразгаданным шифром. В безграмотном человеке мы должны предположить отсутствие самой мысли о том, что его речь делится на слова, а слова — на слоги и звуки и что можно каждое слово, каждый слог и каждый звук выразить знаками. Возникает вопрос: где те знания и умения безграмотного ученика, откуда, как от неизвестного к неизвестному, можно было бы сделать переход к учению грамоты? Несомненно, что ученик, только что поступивший в начальную школу, имеет определенный запас наблюдения; то, что он видит и знает, он умеет выразить словами; он может также понять и нехитрую речь других людей; знакомые ему предметы он почти всегда узнает в рисунках; с грехом пополам он может нередко rf сам нарисовать контурами нечто напоминающее человека, коня, кошку, дом и пр. В сущности, значит, безграмотный ребенок в большинстве случаев уже владеет зачатками естественного, безыскусственного письма — образным письмом, живописью, умением кое-как рисовать известные ему предметы; что же касается чтения, то он легко и свободно читает такое живописное письмо, т. е. картинки, нарисованные другими. Правда, рисунок изображает сам предмет и понятие, а письмо, если взять это слово в общепринятом смысле, изображает только название предмета и понятия, только слово; но переход от предмета к его названию, от понятия к слову не представляет больших затруднений и для безграмотного человека. Когда он рисует какой-нибудь предмет, он думает о форме предмета, но в то же время он правильно называет его и словом; таким образом, сам предмет, его рисунок и его название (слово) — все это логически связано в голове ученика.
Как увидим ниже, опираясь на эти знания и навыки, легко идти дальше. Ученик владеет устной речью, и его легко навести на мысль, что его речь делится на слова. Ученик рассуждает по аналогии с известным, а он хорошо знает, что значит рисовать предметы, и потому его легко навести на мысль, что каждое слово можно написать,» так сказать, нарисовать, как он рисует животных, человека и другие предметы. От деления речи на слова так легок переход к делению слов на слоги (склады) и звуки, а от письма слов так легок переход к изображению на письме слогов и звуков.
Этот переход от слов к слогам тем естественнее, что некоторые односложные слова (гром, сор и т. д.) становятся слогами, частями слова, когда они входят в состав других слов (гром-ко, му-сор и т. д.). Точно так же последователен переход от слога к звуку, потому что многие слоги (все слоги, состоящие из одного гласного звука) в то же время и неделимые звуки.
Все дело здесь в том, чтобы ученик ясно представлял себе цель упражнений на каждой из этих ступеней. Ниже будет видно, что вопрос о том, как этого достигнуть на практике, представляется меньше всего разработанным в методике грамоты и наиболее спорным...
Глава V
Итак, в деле обучения процессу чтения все сводится к разложению речи на слова, слов — на слоги и звуки, к слиянию звуков и к ознакомлению детей с буквами письменными и печатными.
Исторический обзор развития письменности привел к выводу, что первоначальным актом в этом деле было разделение речи на слова и изображение каждого слова отдельным знаком. Если с изобретением алфавита нет более надобности в изображениях особым рисунком каждого слова, то и теперь, как на заре письменности, каждый учащийся должен пройти первый шаг, сделанный изобретателем письменности, должен научиться разделять речь на слова. Некоторые педагоги принимают за отправной пункт слово, а не фразу и утверждают, что слово проще фразы и потому надо начинать с разложения слова на слоги.
Если есть в дидактике не подлежащий никакому сомнению принцип, то это, конечно, правило, чтобы при обучении начинали с известного и переходили к неизвестному. Таким образом, вопрос сводится к тому: что более известно и привычно детям: отдельные слова или целые предложения? Так как все мы обыкновенно и читаем, и говорим, и пишем целыми фразами, то очевидно, что только целое предложение, выражающее определенную мысль, имеет самостоятельное значение и реальное существование, что только целая фраза имеет действительную жизнь, а отдельные слова не имеют реального существования и все их значение определяется лишь тем, что они составляют части целого предложения, входят в его состав как строительный материал. Но можно подумать, что только что сказанное верно лишь для цивилизованных народов и для взрослого образованного человека, а что на заре образования языка дело обстоит иначе.
Что в развитии речи появляется раньше — простые названия или утверждение и отрицание, отдельные слова или фразы? В этом пункте нет разноречий. Лингвисты, ломающие копья из-за того, например, что было раньше — корни или слова, согласны в том, что фраза явилась раньше слова. Мы думаем не словами, а фразами; человеческая речь всегда выражала какое-нибудь суждение. Эта речь могла состоять из двух, трех и даже из одного слова, но она всегда была суждением, фразой, а не отдельным словом, она всегда что-нибудь утверждала или отрицала. Это верно для первобытного человека, это верно и относительно ребенка, начинающего говорить. По словам Прейера, его сын, когда ему было 23 месяца, употребил прилагательное для выражения первого суждения, которое он выразил так: «горячо» (вместо: «Молоко слишком горячо»). Позже он составлял предложение из двух слов: «Дом, молоко» (вместо: «Я хочу идти домой и выпить молока»). Подобные же наблюдения сделаны и Тэном...
...Отправным пунктом должна служить фраза, речь, суждение, а не отдельные слова. В фразе мы найдем все, что нам надо при обучении грамоте: и слова, и слоги, и звуки, не говоря уже о том, что в фразе же мы найдем и смысл, доступный пониманию ребенка. Только положив в основу осмысленную и понятную речь и выделяя отсюда слово, мы поставим последнее на принадлежащее ему место, будем знакомить с отдельным словом лишь в составе речи, лишь как с частью, с элементом целой речи, чем отдельное слово и является в действительности и к чему сводится весь смысл и все значение отдельного слова.
Упражняя детей в разложении речи на слова, следует познакомить их и с выражениями: «Скажи отдельно», «Скажи вместе». Замечено, что иногда разложение слова на звуки и слияние звуков затрудняются тем, что ученикам не ясны значения слов «отдельно» и «вместе». Это наблюдается в тех школах, где на первом уроке при разложении фразы на слова и слов на слоги, при рисовании и пр. не обращалось должного внимания на эти выражения. Предыдущий урок должен служить подготовкой к последующему, и весьма важно, чтобы такой трудный для начинающих учеников процесс, как разложение на звуки и слияние, был облегчен предыдущими уроками в том смысле, чтобы дети были подготовлены к главным выражениям, с какими им придется иметь дело, и чтобы их не затрудняли уже никакие новые термины. И это тем более, что эти понятия легко выяснить на первом же уроке.
Разложение речи на слова принадлежит к числу самых легких упражнений, если начать с фраз, состоящих из слов, обозначающих понятия, а предлоги и союзы, выражающие уже более тонкие отношения между понятиями, отнести на самый конец упражнения, введя их в последнюю, заключительную фразу.
Опыт показывает, что на это упражнение достаточно на первый раз употребить лишь несколько минут.
Для разложения речи на слова мы вместо ничего не значащих фраз вроде «Мама рада», какие обыкновенно даются в этих случаях, выбирали бы более содержательные фразы, доступные, однако, пониманию учащихся. В целях ознакомления детей с процессом разложения речи на слова решительно все равно, каково содержание предлагаемой ученикам фразы, лишь бы она была понятна для них; но это далеко не все равно в интересах умственного развития детей, в интересах обучения языку, в интересах оживления урока. Вот подбор фраз, которыми мы пользуемся в данном случае: «Трещат морозы», «Пала роса», «Рыбам — вода, птицам — воздух», «Красное солнышко зашло», «Пишу, читаю — ума припасаю», «Своя хатка — родная матка». Учитель сначала сам раздельно, внятно и громко произносит фразы, ставит вопросы, чтобы убедиться, поняли ли ученики ее смысл, заставляет их самих повторить данную фразу с начала, а потом по вопросам: какое первое слово? Какое второе? Затем обыкновенно рекомендуют заставлять самих детей придумывать фразы, но на первых порах это почти всегда встречает затруднения. Надо, значит, прийти им на помощь. Мы пользуемся в этом случае следующим приемом. Мы говорим какое-нибудь слово, например «жук», а дети сами прибавляют слово или два, чтобы вышла целая речь.
Мы не думаем, чтобы необходимость разложения фразы на слова могла оспариваться серьезными педагогами. Но мы так привыкли каждый прием обучения проверять анализом детской психики, становясь сами на точку зрения начинающего ученика, что и в данном случае не можем обойти вопроса о том, как отнесутся дети к этому упражнению. Что для нас, грамотных людей, оно представляется естественным и простым — это не удивительно, потому что мы хорошо понимаем, зачем это упражнение нужно. Мы знаем, что разложение фразы на слова здесь важно не само по себе, а ввиду возможности выразить каждое слово видимыми, печатными или письменными знаками. Знает ли это и ребенок? Понимает ли он, что слово, которое он выделит из фразы, может быть изображено видимым знаком и на доске, и на бумаге? Не следует ли теперь же на примере показать ему эту возможность, не следует ли выделить из разлагаемой фразы одно-два коротеньких слова, каждое в один звук, и показать, какими знаками эти слова печатаются в книгах?
Обыкновенно к знакомству с печатными и письменными знаками в наших школах приступают только тогда, когда окончены так называемые подготовительные, чисто звуковые упражнения. Эти упражнения, где наряду с разложением фразы на слова и слов на слоги и звуки идет и слияние звуков в целое слово, и письмо элементов, и беседы с детьми об окружающих предметах, имеют далеко не одинаковую продолжительность в различных школах.
Известный русский педагог Паульсон в 1892 г. писал, что подготовительные упражнения обыкновенно продолжаются от 4 до 6 недель. В ближайшее же к нам время продолжительность таких упражнений представляет значительно больше разнообразия.
В числе вопросов, какие принято давать учителям, съезжающимся на учительские курсы, я обыкновенно ставил вопрос о продолжительности подготовительных упражнений. Суммируя ответы, я нашел, что 12% всего числа учителей отмечают эту продолжительность всего только в три дня; 31% — в одну неделю; наиболее типичным представляется срок в две недели (45% всего числа школ); 9% ответов указывают на месячную и 3% — на полуторамесячную продолжительность подготовительных занятий.
И в течение всего этого времени ни в одной школе не показывают детям ни единой буквы ни в печатном, ни в письменном виде, а ограничиваются, если не считать письма элементов, исключительно звуковыми упражнениями в анализе слов и слиянии звуков. Нам известны случаи, что любознательные дети сами просят в это время учителей показать им буквы, о существовании которых они слышали от товарищей; но общепринятый обычай запрещает учителям удовлетворять желание детей;
последние с первых же дней приучаются, таким образом, умерять свою любознательность и довольствоваться лишь тем, что отмежевано установившейся рутиной. Между тем я не вижу причины, почему бы даже на самых первых уроках, когда ученик в состоянии разложить фразу на слова, не показать ему один-два печатных знака, изображающих знакомые слова. Я понимаю, почему на этой подготовительной ступени еще рано приступать к письму. Ученикам надо еще научиться на предварительных упражнениях, как сидеть, как держать перо, как писать палочки с крючками и без них и т. д. Но что мешает учителю теперь же показать буквы выделенных звуков? Выше мы уже говорили о том, насколько выигрывают образы, если они соединены между собой по законам ассоциации. Одно дело, когда ребенок изучает звук, не связывая его ни с каким зрительным образом, и совсем другое дело, когда тот же звук он свяжет со зрительным образом, возбуждаемым в нем соответствующей буквой. В последнем случае и тот и другой образ память удержит несравненно дольше и точнее*.
Впрочем, мы, быть может, и не настаивали бы на нашем предложении, есди бы дело шло только о лучшем запоминании звуков. Звуки усваивают дети и теперь, хотя усваивают их несколько позже, чем могли бы. Нет, из-за одного более быстрого и более прочного запоминания звуков не стоило бы колебать укоренившийся обычай. Если мы решаемся это сделать, то лишь по соображениям, гораздо более существенным и важным.
Не раз меня заставляло подумать над данным вопросом следующее наблюдение. И на своих уроках, и на уроках других учителей на руководимых мною курсах всем нам бросалось в глаза, как оживлялись дети, когда мы от чисто звуковых упражнений переходили к упражнениям буквенно-звуковым.
Аналогичное отношение к этим приемам наблюдается и у родителей учащихся. По наблюдениям одной учительницы, крестьяне-отцы чрезвычайно интересуются успехами в чтении звуковиков. Родители нередко приходили к учительнице и говорили: «Что же, скоро ли ребята читать начнут? Скоро ли ты им книжки давать начнешь? Уж вторая неделя идет, а все ничего прочесть не могут!» Когда же ученикам были показаны первые буквы и учительница пригласила нескольких отцов присутствовать на уроке, где дети начинали уже читать слова, то это доставило отцам большое удовольствие.
* Любопытный в этом отношении опыт описывает проф. Балдвин. Ребенку 6 Ч2 месяца. Его няня была в отсутствии три недели. Когда она вернулась и подошла к ребенку молча, он не узнал ее. Когда она затем скрылась за перегородку и оттуда стала говорить, ребенок тоже не узнал ее по голосу. Но когда она подошла и запела знакомую детскую песенку, ребенок тотчас узнал ее и громко выражал свою радость. Здесь мы видим яркий пример того, как отдельные зрительные или слуховые образы, слабые сами по себе, усиливают друг друга, если они связаны вместе.
Очевидно, и отцы вместе с детьми поняли смысл и цель подготовительных школьных занятий лишь тогда, когда детям были показаны первые буквы как видимые знаки звуков.
И здесь не было ничего удивительного. Когда в семье учат детей говорить, то начинают не с бессмысленных, ничего не выражающих, не связанных ни с какими предметами звуков, не заставляют детей повторять, как это советовал один из директоров народных школ, бессмысленные звукосочетания вроде «кал-ды», «балды» и т. д., а, напротив, показывают предмет и со зрительным образом этого предмета связывают слуховой образ, имя этого предмета. «Мама», «баба», «папа» — эти слова ребенок воспринимает в связи с представлениями об известных ему лицах. И мы не можем представить себе ни единого случая, когда бы связь слуховых образов со зрительными не вносила сознательности и интереса в обучение и не содействовала лучшему усвоению и запоминанию как слуховых, так равно и зрительных образов.
Нам кажется поэтому, что если бы для облегчения запоминания звуков не существовало зрительных образов, то нам надо было бы их выдумать. Но необходимые зрительные образы уже есть, они соответствуют буквам, и мы должны ими только вовремя воспользоваться. Мы понимаем процесс рассуждения, которое привело педагогов к продолжительным предварительным упражнениям. И до сих пор еще цепко держится у нас привычка выводить все приемы и методы преподавания только из анализа предмета обучения. Последователи этого принципа рассуждают следующим образом: так как слова состоят из звуков, а звуки изображаются буквами, из которых составляются слова и речь, то, стало быть, прежде букв надо дать звуки, а прежде звуков — слова. Так прост и ясен ход рассуждений, и так логичен с точки зрения анализа предмета вывод, сделанный из этих рассуждений.
Но тут забыто самое главное — психика ученика. А ее не следовало бы забывать даже в интересах успехов в механизме чтения. То, что согласно с природой ребенка, что интересует его, он усвоит гораздо скорее и легче, чем то, что возбуждает в нем скуку. Скуку же возбуждает в нем все нецелесообразное с его точки зрения, все занятия, в которых он не видит определенной цели.
Для педагога должно быть важным не только то, чтобы работа имела ясную цель, определенный смысл и значение в глазах учителя, но еще важнее, чтобы работа была целесообразной и в глазах самого ученика, осмысленной и нужной с его личной точки зрения; важно, чтобы цель данных упражнений ясно представлял себе не только учитель, но и сам ученик.
Достоевский в своих «Записках из Мертвого дома» писал: «Если бы захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если бы заставить, например, каторжника переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок и т. п., я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтобы хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки». Принимается ли в расчет эта психология в данном случае? Понимает ли ученик цель так называемых подготовительных упражнений?
«Зачем?» — вот вопрос, который ставит себе ученик, когда его заставляют разлагать слова на звуки. «Зачем заставляют меня мычать и шипеть, свистеть, акать и окать? Зачем это разложение речи на слова и слов на звуки? Действительно ли нужны эти упражнения и для чего они нужны? — спрашивает себя ученик. — Что здесь важно и на что нужно обратить особенное внимание? Что неважно и можно пропустить мимо ушей?» Я не выдумал этого; одна очень образованная учительница, известная в педагогической литературе, изучившая школьное дело и в России, и за границей, сообщила нам, что ей дети прямо ставили этот вопрос: «Зачем мы так делаем, так ведь никто не говорит?»
Если задача школы состоит не в том, чтобы приготовить из ученика автомат, бессмысленно проделывающий все упражнения, неизвестно зачем и почему навязываемые ему учителем, а в том, чтобы приготовить разумное существо, отдающее себе отчет в своих занятиях, ясно представляющее себе цель каждой своей работы, то учитель больше всего должен избегать таких упражнений, цель и смысл которых не ясны для учеников. Всякая работа должна и быть, и казаться самому ученику целесообразной, простой, естественной и понятной. Цель, преследуемая детьми, может быть не такой отдаленной, как цели взрослого человека. Ребенок может оставаться совершенно равнодушным к карьере ученого, писателя и т. д. Он может смотреть на грамоту только как на средство самому прочесть интересную сказочку. Но иметь цель перед собой и ясно представить ее себе для него так же необходимо, как и для взрослого человека.
И чтобы удовлетворить этому последнему требованию, чтобы избежать указанных выше недостатков обычного типа звуковых упражнений, мы предлагаем следующий способ. Необходимо, чтобы для ученика была ясна не только цель разложения слов на звуки (это уже следующая ступенька в звуковых упражнениях), но и цель разложения речи на слова. Хотя бы на одном примере, но необходимо выяснить ему эту возможность изображать слова видимыми знаками. Такую возможность дают нам коротенькие однозвучные слова: восклицание «а», предлоги «у» и «о», союз «а». Правда, что начинать разложение речи на слова надо с фразы, где нет ни союзов, ни предлогов; но когда, таким образом, возможность разложения речи на слова стала ясна для детей, мы берем фразу уже с одним или двумя коротенькими словами, например: «У волка зубы, а у осы жало». И, произнося раздельно каждое слово, даже, так сказать, подчеркивая эту раздельность произношением, мы предлагаем детям разделить фразу на слова. Нам скажут, что трудно выделить из фразы такие коротенькие слова, как «а», «у» и т. д., но опыт доказывает обратное. Оказывается, что эти коротенькие слова гораздо легче выделить из фразы как слова, чем выделить как звуки из слова, а между тем на следующей ступени обыкновенно приступают к выделению тех же самых звуков из слов. Когда данная фраза разложена на слова, учитель говорит: «Здесь есть короткие и маленькие слова, я сейчас покажу, как они пишутся, печатаются в книгах. Какое короткое слово вы узнали сейчас?» — «У». — «Вот как печатается «У» (показывает печатную букву)». Затем идет обычное рассматривание буквы: из скольких частей она состоит, где одна часть, где другая. «Какое еще другое маленькое слово вы знаете?» — «А». — «Вот как печатается в книгах это слово. Из скольких частей оно состоит?» и т. д. Затем учитель поочередно показывает один и другой знаки, а ученики произносят их. Те же самые знаки, вырезав их из разрезной азбуки, приложенной к нашему букварю, мы даем на руки детям и на дом. Дети обыкновенно показывают этот подарок своим домашним и умеют сказать, что обозначают эти знаки.
Нечего и говорить, что на дальнейших ступенях звуковых упражнений мы поступаем так же. При разложении слов на слоги мы выбираем два слога, состоящие из одних только гласных звуков, и даем их изображения. А переходя к разложению слов на гласные и согласные звуки, мы точно так же фиксируем печатными буквами каждый изучаемый новый звук, составляем из знакомых букв слова и заставляем делать это детей, предлагаем им прочитывать набранные таким образом слова и пр.
Главное достоинство этого приема мы видим в том, что при нем звуковые упражнения получают в глазах учеников осмысленность и целесообразность.
Когда ученик, выделив коротенькое, однозвучное слово из фразы, фиксирует его по указанию учителя буквой, когда он, разложив коротенькое слово на звуки, изображает эти звуки буквами* и прочитывает только что составленное им слово, когда он найдет это слово в книге и прочитает его, он уже понимает, почему и зачем ему нужно было разлагать речь на слова и слова на звуки. Правда, он еще не пишет, но зато сам из букв разрезной азбуки составляет это же коротенькое слово, т. е. в сущности воспроизводит подлинный процесс письма. Он понимает, чего добивается от него учитель, выделяя из слова звук и разделяя слово на звуки, и, что самое важное, знает, зачем это делается. Он сам хочет того же самого и для той же понятной ему цели. Отныне его усилия принимают сознательное, определенное направление. Вся работа получает для него совершенно определенный смысл, вполне ясную для него цель и становится для него полной интереса и значения. Ввиду в высшей степени ценного и определенного для него результата, к которому эта работа приводит под влиянием живого интереса, возбуждаемого целесообразной работой, силы ученика возрастают, внимание удваивается, успех увеличивается. Радость, испытываемую ребенком, когда он сознает, что начинает проникать в секрет чтения, сам народ сравнивает с радостью слепца, когда тот чувствует, что начинает прозревать. Перед ним блеснул яркий свет знания, его физиономия озаряется осмысленной человеческой жизнью. Он уже проник в тот процесс, который пережил изобретатель алфавита, он испытывает радость, какую испытывают люди, открывая что-либо новое, им до тех пор неизвестное. И очень важно, чтобы эту радость дети испытали в первые же дни посещения школы. Первые впечатления обыкновенно самые яркие и часто остаются на всю жизнь. Это одно из лучших средств привить детям любовь и привязанность к школе. Один мальчик 4-го года обучения на вопрос, какой урок он считает самым интересным, отвечал: «Самый интересный урок был в I классе, когда мы еще не знали настоящих букв». А ведь потом этому мальчику приходилось слышать немало интересного в школе. Что такое значит для народа научиться поскорее читать — это всего яснее видно в школах для взрорлых...
...Нам возразят, что продолжительные предварительные звуковые упражнения необходимы уже потому, что это — тот самый путь, которым шел изобретатель алфавита. Он вслушивался сначала в слова и разделял эти слова на простые звуки, сравнивал эти звуки в различных словах и нашел, что их немного, что они повторяются. И только затем уже он изобрел знаки для этих звуков, и это было самым нетрудным его делом. Стало быть, скажут нам, и учащийся должен начинать с того, чтобы выделить звуки из слов, разложить слова на звуки; скажут, что это единственный правильный путь, потому что законы мышления всеобщи, потому что никаким другим путем нельзя дойти до какого бы то ни было культурного приобретения, как только тем путем, которым дошел до него первый изобретатель. Допустим, что это верно. Но разве можно утверждать, что первый изобретатель алфавита дошел до своего открытия случайно, не руководясь в своей работе определенной идеей? Выделяя из слов звуки и читая их, он делал это, наверное, не бесцельно; как заставляют детей проделывать эту работу наши горячие защитники продолжительных предварительных упражнений. В его уме должны были встретиться сначала две идеи: возможность изображения каждого звука особым знаком и возможность разложения каждого слова на небольшое число звуков. Только эта идея давала смысл всей его работе, служила достатрчным побуждением и оправданием ее. Если до него и были сделаны случайные наблюдения, то нельзя же отрицать, что у ребенка есть наблюдения дошкольного периода. Чтобы учащийся шел по тому же пути, по какому шел изобретатель алфавита, надо, чтобы его работой руководила та же самая мысль, иначе его обучение будет лишено в его глазах самого главного, самого ценного в каждом деле — смысла и цели. Изобретатель алфавита ясно представлял себе, зачем ему надо было разлагать слова на отдельные звуки, а ребенок этого не знает. Педагоги, которых мы имеем в виду, взяли у изобретателя алфавита его внешние приемы, но не усмотрели, что было главным в его труде, не заметили встречи двух плодотворных идей в его уме. Рекомендуемый нами способ имеет в виду. устранить эту ненормальную постановку дела. Мы также во главу дела ставим звуковые упражнения, разложение слов на звуки и слияние последних. Но всякому понятно, что ни один учитель не отдал бы ни минуты времени и ни малейших усилий на звуковые упражнения, если бы не существовало возможности выразить каждый звук буквой, если бы наше письмо основано было не на фонетическом, а на каком-нибудь другом принципе. Очевидно, что вся сила и вся суть звуковых упражнений, весь их смысл и все значение — в той связи, какая устанавливается между звуком и буквой, с одной стороны, и целыми словами и речью, с другой. Если бы мы не знали об этой связи, то звуковые упражнения представлялись бы нам чем-то вроде толчения воды в ступе. Вот почему, давая с первых же уроков изображение звуков, мы доводим ученика до понимания того, зачем он делает всю эту работу. С первых же уроков ученик не только знает то, что можно разложить слово на звуки и слить эти звуки в целое слово, но он видит, что можно изобразить звук буквой, что можно изобразить буквами целое слово и прочитать это слово. До этого вывода он доходит не путем отвлеченных рассуждений, а путем личного наглядного опыта, убедительного, понятного и ясного для него. Мы понимаем соображения, которыми руководятся защитники продолжительных предварительных исключительно звуковых упражнений. Трудности слияния обусловливаются еще тем, что детям при слиянии звуков, изображенных в букваре или на планке доски буквами, приходится в одно и то же время делать две работы: одна — полегче — состоит в том, чтобы припомнить звуки, выражаемые данными буквами, другая — потруднее — слить эти звуки. Если эти затруднения разделить, то все внимание ученика будет сосредоточено на одной только трудности, и он справится с ней скорее и легче. Именно ввиду этого соображения многие педагоги и относят предварительные звуковые упражнения к началу учебного года. Но трудности могут быть разделены и на каждом отдельном уроке, как это рекомендуем мы. Поэтому очень важно вначале, при изучении каждого нового звука и прежде его изображения, употребить несколько минут на каждом уроке на то, чтобы поупражнять детей на выделении этого звука и слиянии его с прежде пройденными гласными, конечно, в словах, имеющих смысл.
Дети, и особенно на первых порах, нуждаются в разнообразии. Они скучают, если их долго держать на одном упражнении. В смене работы нуждаются даже и взрослые, даже в области механического труда. Когда водонос устает нести ведро воды правой рукой, он берет его в левую руку. Тем более в смене занятий нуждается ребенок с его маленькими силами.
Вот почему хороший учитель, занимаясь с группой первогодников, заставляет их то разложить речь на слова и слова на слоги и звуки, то написать только что разложенное, то прочитать написанное, то перейти к чтению по книге, то рассказать прочитанное и т. д. Наш прием вполне удовлетворяет этому требованию разнообразия; но мы предлагаем разнообразие в единстве: и буквенные, и звуковые упражнения находятся в тесной связи между собой. Дети разлагают речь на слова и звуки, эти же слова и звуки они набирают с помощью разрезной азбуки и на классной доске, и у себя на партах; те же самые слова они читают; переходя к чтению других слов, они встречают те же самые буквы. Предыдущее упражнение здесь облегчает последующую работу. В этих же видах при чтении нового, не разложенного еще на звуки слова полезно прежде, нежели поставить разрезные буквы данного слова на планке, повторить их, но, конечно, не в том порядке, в каком они будут поставлены на доске.
Итак, все звуковые упражнения, относимые нашими методиками к предварительным, ученик обязательно проделывает на каждом уроке, но они уже не имеют для него характера бесцельных механических упражнений, неизвестно для чего навязываемых ему, а дают результат в высокой степени ценный, вполне для ребенка понятный, очевидный и определенный. При нашем приеме ученик с первых же уроков читает слова; он понимает, что ему стоит только научиться писать эти буквы и он сам напишет данное слово. Придя домой, он скажет, что он не только шипел и свистел в классе, но и прочел такое-то и такое-то слово. Выписывание первых элементов ученики проходят очень быстро, так же скоро они ’выписывают и первые буквы изученных звуков, а потому спустя несколько дней ученики в письме догоняют чтение. Здесь на помощь учителю придут самостоятельные работы, которые приходится давать в трех отделениях школы при одном учителе. Когда ученик через несколько дней в состоянии будет приступить к письму букв, он сравнивает письменную букву с печатной, он пишет те же самые слова, какие он читал; он, не переставая упражняться в слиянии знакомых звуков и в чтении, наверстывает потерянное в письме; письмо на время становится главным делом на уроках письма-чтения; он пишет и читает, что написал.
Трудности, вызываемые тем, что ученику приходится сразу знакомиться и с печатным шрифтом, и с письменной буквой, на первых порах будут разделены, а затем это перестанет быть трудным делом. Наиболее легкое (печатный шрифт) будет предшествовать более трудному (письменной букве), а это, особенно на первой ступени, имеет большое значение. Приступая затем к письму знакомых букв, учитель имеет возможность расположить их по степени трудности в письме, тогда как раньше он располагал их по степени трудности в смысле выделения из слова и
слияния (а, у, о9 с, ш, р). Не надо доказывать, насколько это важно для успешности в том и другом процессе. Мы уже видели, что именно здесь самое слабое место метода письма-чтения, и именно сюда направлены наиболее веские нападения из среды защитников раздельного обучения чтению и письму. Когда ученик умеет писать те самые буквы, с печатным начертанием которых он познакомился раньше, не будет более никаких неудобств вести обучение вполне согласно с требованиями письма-чтения, уроки письма и чтения пойдут совместно вплоть до конца азбуки.
Глава IX
Мы подходим теперь к наиболее спорному в методике грамоты вопросу о звукослиянии. Вот уже более 20 лет ведется ожесточенная полемика против упражнений в звукослиянии, а оно по-прежнему практикуется в огромном большинстве школ. Оно требует от учителя и большого искусства, и внимания, и все-таки учителя не хотят заменить его «простым и легким» для них способом, какой рекомендуется им взамен звукослияния. Уже из этого можно было бы видеть, что «простой и легкий способ» не представляет универсального метода и не исключает приемов звукослияния.
Где же причина, почему звукослияние так крепко держится в наших школах, и притом, между прочим, и в самых лучших школах? Что слияние звуков не выдумка, а факт — против этого никто не спорит. Для всех ясно, что звуки каждого слова могут быть произнесены и раздельно, и слитно. Раз существуют слоги, значит, существует и слияние звуков, потому что слог, если он не состоит из одной гласной, только и может получиться благодаря слиянию звуков...
...Некоторые педагоги говорят, что учить слиянию незачем, потому что даже ребенок все слова, какие он знает, произносит не иначе, как слитно. Еще Паульсон очень давно писал по этому поводу: «Есть ли какая-нибудь надобность упражнять учащегося в том, что он и без того постоянно делает? Разумеется, нет». И с тех пор и до нашего времени эта фраза нередко повторяется в статьях и книжках по методике грамоты. Что ребенок всегда говорит слитно, что он никогда не скажет в разговоре «п-а-п-а», а всегда «папа» — это, конечно, правда; но он, постоянно делая слияния, даже не подозревает этого. Он напоминает в данном случае того мольеровского героя, который очень удивился, когда узнал, что он весь свой век говорил прозой. Ребенок сливает звуки в разговоры, не думая об этом, как некогда он не думал о процессе сосания и как теперь он не думает о процессе ходьбы. А сливать звуки при чтении учащемуся грамоте нельзя иначе, как думая, как узнавая по этим звукам, какое слово написано и как надо его прочитать.
Существует огромная разница между слитным произношением
в разговоре и слиянием как средством прочесть написанное. Безграмотный ребенок начинает произносить слово, когда образ этого слова в целом уже ясен в его голове; слово ему дано и известно, а при обучении чтению надо, чтобы ученик по отдельным звукам угадал, какое слово он составляет, надо, чтобы ученик перешел к слиянию не после того, как он узнал данное слово, а, наоборот, надо, чтобы он отыскал целое слово посредством слияния отдельных данных звуков. До сих пор, до уроков чтения, ученик ни разу не смотрел на слияние данных звуков как на средство узнать целое слово. Слитное произношение звуков было для него лишь средством выразить заранее данное, хорошо известное и понятное слово. Теперь же он будет видеть в слиянии способ, как по данным отдельным звукам найти целое слово. Положим для примера, что безграмотный ребенок видит бегущую лошадь, хочет сказать, что он видит, и слитно произносит слово «конь». Этот ребенок, прежде чем открыл рот, уже ясно узнал слово, какое он скажет, и ясно представлял себе сам предмет, называемый этим словом, но совершенно не думал о звуках, составляющих это слово, даже не подозревал, что это слово имеет какой-нибудь звуковой состав. Слитное произношение слова являлось для него самым последним актом во всем этом процессе.
Совсем в другом положении находится начинающий ученик, который должен прочесть в книге то же самое слово («конь»). Приступая к чтению, он не представлял себе ни того слова, какое он читает, ни того понятия, какое выражено этим словом, и слово, и понятие являются для него искомыми и пока неизвестными, а отыскать их не может только по звукам к-о-нь, выраженным данными ему буквами. И всякий начальный учитель знает, что отдельное произношение данных звуков (ккк-ооо-нь) очень часто может и не вызвать в сознании ученика целого слова; напротив, если ученик те же звуки произнесет слитно, то в огромном большинстве случаев в его уме возникнет и понятие, выражаемое данным словом. Таким образом, все то, что было известно и заранее дано в первом примере (и слово, и понятие), является неизвестным и искомым во втором примере; то, что было последним, заключительным делом в первом примере (слитное произношение звуков к-о-нь), стало одним из первых актов во втором; то, что было целью в первом примере, стало средством во втором.
Указанная сейчас разница существенна и важна, и потому мы никак не можем успокоиться на мысли, будто вполне возможно пренебречь звукослиянием, потому что дети и без того все звуки в известных им словах произносят слитно. Нет, нужны не только упражнения в разложении слов на звуки, но не менее нужны и упражнения в звукослиянии; нужно, чтобы ученики умели ответить не только на вопрос: из каких звуков составлено данное слово? — но еще и на вопрос: во что (в какое слово) сольются данные звуки? Анализ и синтез должны и здесь идти рука об руку, взаимно дополняя друг друга.
Как человек, не посвященный в символический язык алгебры, не сумеет понять выражения хотя бы ему и сказали, что значат сами буквы данной формулы, так точно и ученик сам собой не сумеет составить целое слово, хотя бы по данным буквам он и узнал все звуки этого слова.
Мы уже упоминали, что, разговаривая, ученик сливает звуки бессознательно, рефлекторно, а всякое бессознательное, привычное, затверженное, рефлекторное движение отличается прежде всего необыкновенной быстротой. И ребенок в разговоре произносит каждый звук с быстротой около 1/10 с в среднем. Но вот он начинает читать самое простое слово. Первое, что ему надо для этого сделать, это узнать буквы и вспомнить их звуковое значение. А чтобы узнать только одну букву, припомнить ее звук и произнести его, на это надо гораздо больше времени, нежели 1/10 с. И это не предположение, а факт, доказанный психометрическими опытами.
Вот почему начинающий ученик, читая, не может произносить звук за звуком так же быстро и так же плавно и не прерывая голоса, без пауз, как он может это делать в разговоре. Вот почему звуки в его произношении, выражаясь фигурально, не так плотно пристают один к другому, как в обыкновенной речи. А чем чаще он делает паузы и перерывы между звуками в их произношении, тем в этом подборе звуков будет меньше сходства с разбираемым словом, тем труднее узнать это слово по данным звукам, т. е. прочесть его. И часто приходится наблюдать в школах, что дети после отдельного произношения звуков «мм-уу-хх-аа» вдруг скажут «мука» или другое, еще менее похожее слово. Но чем больше трудностей представляет для ученика известный процесс, тем нужнее помощь учителя. Рассмотрим поэтому средства, облегчающие для ученика звукослияние. Прежде всего задача учителя здесь будет состоять в том, чтобы осмыслить в глазах ученика звукослияние, бросить на него свет сознания, довести ученика до отыскания сходства слияния с тем, что уже хорошо известно ученику по предыдущему опыту. Такая задача лучше всего достигается посредством предварительного разложения слова на звуки. Важно только, чтобы разложение слова на слоги и звуки предшествовало слиянию тех же самых звуков и в то же самое слово.
Как отдельный прием этот давно уже вполне заслуженно пользуется широким распространением. Разложение слова самого по себе имеет громадную ценность не только потому, что на нем основано письмо, но еще и потому, что это упражнение имеет крупное значение и в деле обучения чтению. Этот самый процесс должен был происходить в уме первого изобретателя алфавита, тем же самым естественным путем и учитель должен вести своих учеников в обучении чтению. Изобретатель алфавита не мог поступать иначе; прежде нежели найти соответствующие буквы, он должен был разлагать слова на звуки. Звуковое разложение слова в работе изобретателя азбуки, очевидно, предшествовало и письму, и чтению; тот же самый порядок введен и в наших школах. Если ученики разложили на звуки слово «оса», то вслед затем они сейчас же сольют те же самые звуки О, С, А в то же самое слово «оса»...
...Если затем сейчас же учитель перейдет к чтению тех же самых слов на разрезных буквах или по букварю, то для учеников уже облегчен процесс чтения. Впрочем, при чтении для разнообразия можно употребить еще и следующий прием. Вы хотите, чтобы ученик прочел слово ШУМ (предполагаю, что это слово не было предметом изучения в первой половине урока на чисто звуковых упражнениях), употребите сначала тот же аналитический метод. Пусть дети разложат слово. Пусть наберут его буквами разрезной азбуки или напишут и затем написанное прочтут. Разлагая слово на звуки и тотчас же сливая эти звуки в данное слово, вы поступаете точно так же, как поступаете и при изучении начертания буквы, когда вы вместе с учениками разлагаете ее сначала на составные элементы, а потом ученики воспроизводят каждый из этих элементов в надлежащей связи, сливая их воедино с тем, чтобы написать целую букву. Разложение и слияние как две стороны одной медали должны идти рука об руку. Насколько обратный процесс помогает прямому и прямой обратному — примеры этого мы видим всюду. Всякий учитель понимает, как важно ученику знать таблицу умножения при изучении деления. Когда он знает, что 8x9=72, он легко разделит 72 и на 8, и на 9. Точно так же, кто знает, что 4+6=10, тот знает и то, что 10 — 4=6, а 10 — 6=4.
Чтобы возбудить самодеятельность учеников, весьма важно, чтобы на первых уроках каждое разложенное ими слово было написано ими, если они знакомы с письменными знаками, или, по крайней мере, составлено из подвижных букв, если они знакомы только с печатными знаками, и тотчас же прочитано. Ученик скажет известное ему слово, он его разложит и напишет или наберет буквами, и наконец, он его снова скажет, уже глядя на написанные или напечатанные буквы, т. е. прочтет.
Поступая так, учитель имеет в виду довести так называемый процесс слияния до полного и осмысленного усвоения детьми. Очень важно, чтобы ученик на первых же порах нашел сходство в изучаемом им процессе слияния с процессом, давно и хорошо ему известным, со своей речью. Когда он поймет, что слить звуки в слово — значит сказать это слово так, как он всегда говорит, то он станет сам избегать раздельного произношения звуков.
Недаром этот прием давно и усердно распространяется в Западной Европе, давно перешел и в Россию, вошел в сознание наших учителей и, насколько нам известно, ниоткуда не встречает серьезных возражений по существу.
Но когда увлечение этим приемом переходит через край, когда этот прием провозглашается единственным приемом, обеспечивающим слитное произношение звуков, тогда наступает серьезная опасность. Мы встречали учителей, которые не признавали никаких других приемов при первоначальном обучении грамоте, кроме изложенного выше. Их ученики разлагали слово, писали или набирали его печатными буквами и прочитывали. Увлеченные тем, что после такого разбора чтение не представляло никаких затруднений для детей, что таким образом упразднялся сам вопрос о слитном произношении слова, они повторяли это упражнение и сегодня и завтра, их ученики читали лишь то, что перед тем они только что разложили на звуки и затем написали или набрали печатными буквами. Учителя не думали ни о каких коррективах и дополнениях. А между тем поправки и дополнительные приемы были бы крайне нужны. В таких школах мы постоянно наблюдали, как дети, разложив слово и набрав его печатными буквами, читают по памяти, даже не вглядываясь в буквы. Замените незаметно для детей данные буквы другими, и ученики все же прочтут только то слово, которое они перед тем разложили и набрали печатными буквами. Анализ слов при таком приеме представляет центр тяжести, а синтез играет ничтожную роль. Так можно очень скоро научить писать, но не скоро достигается при этом беглость чтения.
Этот метод обучения мы должны признать аналитическим, потому что здесь почти все внимание ученика сосредоточено на разложении слова на звуки, а не на слиянии звуков в целое слово. Конечно, и здесь есть синтетическая деятельность. Ученик все же слитно произносит разложенное перед тем слово; но это слитное произношение напоминает вопрос одного ребенка в известной игре. По правилам игры ребенок должен был задумать предмет, назвать его признаки, а по этим признакам другие должны были угадать, что он задумал. Наивный ребенок сказал: «Я задумал березу, угадайте, что я задумал». Не в подобном ли положении ученик, читающий хотя бы то же самое слово «береза», если оно только что им разложено и написано? Не слишком ли в данном случае слаба синтетическая деятельность учеников? Вот почему необходимо, чтобы дети также сливали данные звуки в слово, которое не было разложено, чтобы они читали и другие ёлова без предварительного их разложения; необходимо, чтобы они в случае затруднений пользовались и другими приемами звукосли-яния, о которых речь будет ниже. Это необходимо хотя бы с целью проверки, не читают ли дети только по памяти, наобум, совсем не вглядываясь в буквы, вспоминая лишь то слово, какое они перед тем разложили.
Это необходимо еще и для того, чтобы слитное произношение звуков прошло через сознание детей, через его контроль, чтобы бессознательный процесс стал сознательным. Мы приведем, быть может, несколько грубое, но все же верное сравнение, если скажем, что для плотника или каменщика еще мало уметь разобрать на составные части избу, но надо еще уметь и построить новую избу из данных материалов. Разобранные материалы сами по себе еще не составляют избы, надо их собрать воедино и скрепить друг с другом. Здесь недостаточно только ломать и разбирать, надо еще и строить.
В начале книги мы старались дать понятие о психике начинающего читать ребенка. И мы видели, что при чтении какого-нибудь слова ученик, перед которым одни только печатные буквы, должен перекинуть мост от зрительных образов к устному слову, должен сделать перевод букв на звуки, а печатного слова на устное, он должен по буквам узнать устное слово. Мы видели, что, когда ученик переведет буквы на звуки, его работа еще не кончена, он должен составить из звуков слоги, т. е. слить эти звуки, он должен понять смысл целого слова и поставить над ним надлежащее ударение.
Правда, мы видели, что в этой, по преимуществу синтетической, так сказать, строительной работе участвует и проверочный анализ, так сказать, разбор только что построенного из данных звуков слова, причем анализ и синтез чередуются друг с другом. Правда, мы видели, что, обучаясь разложению слов, ребенок учится в то же время и слиянию, а обучаясь слиянию, учится разложению; обучаясь письму, он учится чтению, а обучаясь чтению, он учится письму.
Правда, и в чтении, и в письме наблюдается один и тот же процесс, но разница лишь в том, что начало процесса в одном случае становится концом в другом и обратно.
Но все это отнюдь не говорит за преобладание слухового разбора слов перед слиянием звуков. Напротив, это доказывает, что одинаково нужно и то, и другое, и притом в равной мере, без преобладания синтеза над анализом и анализа над синтезом, без всякого ущерба и для того, и для другого. Между тем при слиянии только что разложенного перед тем слова и при чтении только что написанного перед тем слова, очевидно, первенствует анализ. Разложение здесь заменяет собой слияние. Ученик здесь переводит слуховые образы на зрительные. Но ему здесь не надо переводить зрительные образы на слуховые, потому что устное слово ему уже дано. Это превосходный способ учить письму; но для обучения чтению этого одного способа недостаточно. Для этого нужны еще упражнения, в которых бы ученик по данным звукам, сливая их, находил целое слово, и притом слово, которого перед тем ему никто не подсказывал. Ведь читая книгу, ученик будет читать не те слова, какие перед тем ему были предложены для слухового разбора.
А читать такие слова можно, только сливая звуки в слоги и составляя из слогов целое слово.
Значит, нужны и упражнения в звукослиянии. Значит, детям надо давать не только целые слова для разложения и проверки синтеза, а надо еще, не давая слов, давать звуки или буквы, чтобы по ним найти целое слово. Значит, дети должны упражняться в том, чтобы составить из звуков целое слово, чтобы сказать, во что данные звуки сольются. Если в первом случае дети начинают с анализа, чтобы кончить синтезом, то теперь они будут начинать с синтеза, и я хотел бы прибавить: чтобы кончить анализом. Я думаю, что и в этом случае нужен проверочный анализ, как раньше был нужен проверочный синтез. Раньше мы писали слово и затем читали его или просто разлагали его на звуки с тем, чтобы слить получаемые звуки в то же самое слово. А теперь ученику будут даны буквы или прямо звуки, по этим данным он найдет целое слово, но, найдя его, он должен хотя бы время от времени и разлагать только что сказанные слова на звуки.
Мы знаем, что нас здесь ожидают следующие возражения, впервые высказанные еще лет 20 тому назад. Нам скажут, что, когда начинающий ученик пытается читать по книге, он должен прежде всего узнать буквы слова, сделать их перевод на звуки, а на это требуется время, и эта работа обусловливает паузы между звуками, а где паузы между звуками, там нет слияния. Нам скажут, что, кроме того, такое слияние перестает уже быть бессознательным, привычным, рефлекторным актом, что оно сопровождается работой сознания, а на эту работу тоже требуется время, и это еще более удлиняет паузы между отдельными звуками. Нам скажут, что если при таких условиях и получится слияние, то это будет не настоящее слияние, а только кажущееся, только иллюзия слияния. Если бы это было даже и так, то и в таком случае это хотя бы даже кажущееся слияние все же напомнит ученику разбираемое слово гораздо лучше, чем отдельные, совсем не слитые воедино звуки. Иллюзия это или нет, но раз начинающий ученик уверен, что он слил звуки в такое-то слово, то, значит, он уже понял это слово и прочел его.
Но учителя, которые, несмотря на нападки, все же продолжают пользоваться звукослиянием, хорошо знают, что это слияние не иллюзия, а не подлежащий сомнению факт. И этот факт можно доказать даже a priori...
Глава X
Из вышеизложенного ясно, что мы во все время прохождения алфавита тесно связываем обучение письму с обучением чтению; но в методике грамоты удобнее говорить о приемах обучения письму особо. Процесс письма может быть разложен на несколько актов: чтобы написать слово, мы начинаем с того, что разлагаем это слово на отдельные звуки, затем вспоминаем знаки, соответствующие каждому звуку, и, наконец, изображаем эти знаки пером на бумаге. Последний из этих актов допускает значительные видоизменения. Вместо того чтобы писать пером, мы можем воспользоваться пишущей машинкой и последовательно отпечатывать букву за буквой на бумаге, только нажимая соответствующие клавиши, подобно тому как музыкант играет на рояле. Так как ремингтон уже теперь работает втрое скорее, чем перо или карандаш, то возможно предположить, что в будущем, когда пишущие машины станут дешевы, обыкновенное письмо будет вытесняться из употребления и в школах станут учить не пером писать, а печатать на машинке. Но и тогда придется учить детей двум первым актам: разложению слов на отдельные звуки и припоминанию соответствующих знаков. Отсюда следует, что существенно важными актами в письме надо считать первые два. С этими актами имеет дело и наборщик в типографии, хотя, набирая целые книги, свободно обходится без пера и карандаша. Не может обойтись без первых двух актов и телеграфист, выстукивающий телеграмму на своем аппарате. Итак, в основе всех видов письма лежит разложение слова на звуки и соединение с каждым из этих звуков представления о соответствующем ему знаке. А с этими двумя актами мы встречаемся на самых первых уроках грамоты. С первого урока мы учим детей разлагать речь на слова, а слова — на слоги и звуки, и с первого же урока мы знакомим учащихся с одной-двумя буквами, соответствующими одному-двум знакомым звукам. Правда, ученик еще не пишет в общепринятом смысле этого слова, но если слову «письмо» дать более широкое толкование, то наш ученик пишет уже на самых первых урокам, когда он составляет из букв разрезной азбуки слово «АУ».
Из сказанного нами о выгодах совместного обучения письму-чтению ясно, что если бы позволила техника письма, то всего лучше было бы с первого же урока начать и письмо тех же самых букв, с печатными образцами коих знакомится ученик. Но здесь нам приходится считаться со следующим затруднением. Для начинающего ученика гораздо легче узнать данную букву глазами, чем написать ее; гораздо легче усвоить зрительный образ, чем воспроизвести его перцм или карандашом на бумаге. Поэтому на самых первых уроках приходится мириться с раздельным обучением чтению и письму, приходится расположить уроки письма в другой последовательности, соответствующей требованиям графической техники. Но опыт показывает, что эти затруднения остаются во всей своей силе только на первых 5 — 6 уроках, пока дети не приобретут самых элементарных навыков в письме, и уже, начиная со второй недели, обучение письму и чтению может быть совместным.
По вопросу о том, какую букву при совместном обучении письму-чтению, печатную или письменную, мы должны показать детям раньше и какую — позже, мы не можем согласиться с теми, кто полагает, что письмо-чтение теряет весь свой смысл, если печатный шрифт предпослать письменному шрифту. Конечно, письмо в широком смысле этого слова должно предшествовать чтению; конечно, письмо в этом смысле помогает чтению, как анализ помогает синтезу; но то, что с этой точки зрения существенно и важно в письме, то, что помогает уразумению грамоты, сводится совсем не к тем движениям пальцев и карандаша или пера, что называется письмом в узком смысле этого слова. Выше мы разъяснили, что для уразумения грамоты важен во всем процессе письма только анализ слова на звуки и фиксация звуков какими бы то ни было условными знаками, будут ли это письменные каракули, какие в состоянии сделать начинающий ученик, или печатные буквы разрезной азбуки. В данном случае всего важнее, чтобы ребенок постиг принцип грамоты, т. е. возможность разложить слово на неделимые звуки и выразить каждый звук особым знаком, а какой это знак — печатный или письменный, — для ученика в данном случае безразлично.
Правда, для него далеко не безразлично было бы, если бы вопрос шел о совершенном отделении письма от чтения. Правда, что ребенок хочет не только знать, но и делать, что он знает, и потому он захочет и написать то, что пишут другие и что он уже может прочитать; но в этом случае для ребенка безразлично, будет ли он сначала набирать слова разрезными буквами и затем перейдет к письму этих букв карандашом, или же он начнет с письма карандашом, а кончит фиксацией слов печатными буквами.
Итак, мы не стали бы в данном случае ломать копья за тот или другой порядок изучения шрифтов. Но так как в первой половине урока грамоты центр тяжести должен сводиться к изучению звука и звуковым упражнениям, к разложению слов на звуки и обратно, к слиянию звуков в то же самое слово, так как разрезные буквы допускают самые быстрые манипуляции с ними и не могут задерживать упражнений с соответствующими звуками; так как, с другой стороны, письмо начинающих детей идет медленно, а это задерживает упражнения в разложении и слиянии звуков, условно изображенных детьми на бумаге, то мы предпочитаем письменное начертание буквы относить к концу урока. К этому побуждает нас еще и другое соображение: каждый урок должен давать исход стремлению детей к самостоятельности. Проще сказать, каждый урок должен оканчиваться задачей для самостоятельной работы, вытекающей из этого урока и связанной с ним; а письменные работы на этой ступени надо признать более удобными для самостоятельных упражнений, потому что такие работы допускают всесторонний контроль со стороны учителя. Заканчивая урок письмом, учитель, сделав надлежащие указания, легко может оставить детей продолжать эту работу, а сам перейти к другому отделению учащихся.
Переходя к методике первоначальных упражнений в письме, мы сталкиваемся с различными взглядами на задачи начальной школы относительно письма. Есть педагоги, которые ставят начальной школе очень высокие требования по каллиграфии и отдают им предпочтение перед другими, на наш взгляд, более важными соображениями. С их точки зрения, каллиграфические требования должны быть поставлены с самых первых уроков обучения письму, и притом совершенно независимо от обучения чтению. Понятно, что при таком взгляде на дело не может быть и речи о совместном обучении письму-чтению.
Но существует и противоположный взгляд на задачи начальной школы в отношении каллиграфии. По этому взгляду, которого держимся и мы, для того чтобы наше письмо действительно удовлетворяло обычным требованиям, надо принять в расчет только интересы пищущего и интересы читающего. Для последнего важно, чтобы письмо было разборчиво, четко, а четкость обусловливается разнообразием букв, или, вернее, своеобразностью каждой буквы. Чем резче данная буква отличается по своему внешнему виду от всех других, тем меньше опасность принять ее за другую букву, тем скорее и безошибочнее она узнается в чтении, тем разборчивее письмо, тем легче и скорее оно читается. Кроме того, нужно, чтобы письмо не было слишком мелко, не портило и не утомляло глаза. Кто-то сказал, что неразборчивое или грязное письмо — признак невоспитанности, и, пожалуй, был прав. В самом деле, тот, кто пишет неразборчиво и грязно, едва ли думает о тех, кто будет его читать, едва ли жалеет их глаза и бережет их время на чтение неразборчивой рукописи, а это было бы явным признаком невоспитанности. В интересах пищущего важно, чтобы письмо не было очень медленным, а для этого кроме привычки надо еще, чтобы из существующих очертаний' букв избирались самые простые, чтобы всякое слово можно было написать, так сказать, с одного почерка. Вот главные требования, которые в смысле чистописания должен иметь в виду учитель. В самом деле, ведь письмо существует только для чтения, пишут только для того, чтобы прочитали; стало быть, главное, что надо с точки зрения читателя иметь в виду, — это одну легкость чтения, другими словами, разборчивость и четкость письма. Едва ли не главной причиной неразборчивости служат буквы, которые легко смешиваются, как, например, е и с; т, ш, ж; и и н, или буквы, которые можно принять иногда за две другие, как, например, х, ф, ш. Особенно часто смешиваются сочетания букв вроде следующих: ши и мш...
...Что же сказать о письме-каллиграфии как искусстве, как выработке изящного, тонкого, характерного почерка, на который бы приятно было смотреть? Если бы у начальной школы не было других задач, в тысячу раз более важных, если бы дети начальной школы готовились в конторы богатых фирм, ценящих хороший конторский почерк, если бы необычайная способность в каллиграфии не сопровождалась ущербом в других, более важных умственных качествах, тогда, пожалуй, еще можно было бы говорить о каллиграфии. Но теперь, при коротком курсе нашей школы, при множестве лежащих на ней важных задач общего образования, предоставим каллиграфическое письмо другим учебным заведениям с более специальным назначением и с большим досугом, предоставим им выписывать элегантные прописные буквы, завитушки и росчерки, предоставим им все тонкости симметрии, расстояния, наклона, размеров букв и ровности нажима, а окончившему курс начальной школы оставим только разборчивое и не слишком медленное письмо. Не дело начальной школы, не дело народного учителя возводить каллиграфию в степень искусства. Пример Китая пусть послужит нам уроком, к чему ведут чрезмерные требования от письма как искусства. Да и можно ли достигнуть в течение школьного времени прочного знания каллиграфии? Я слышал от одного известного русского биолога, заведующего средней женской школой, что девицы этой школы до IV класса на уроках чистописания, под влиянием продолжительной муштровки, пишут все как один человек каллиграфически правильно, но как только они переходят в следующий класс, где уже не бывает уроков чистописания, так сейчас же у каждой ученицы появляется свой индивидуальный почерк, совершенно не похожий на вымученный учителем чистописания почерк. Биолог, сделавший это наблюдение, сравнил почерки нынешних учениц с почерками их матерей и бабушек, учившихся когда-то в том же учебном заведении, и оказалось, что почерк учениц во всех деталях воспроизводит почерк их бабушек и матерей, а вымученный каллиграфический исчезает без всякого следа. Все усилия учителя каллиграфии оказались нулем под влиянием наследственности. Если же это так, то не лучше ли прямо начинать с того, к чему все равно рано или поздно придет каждый ученик и каждая ученица, — с индивидуального почерка, определяемого наследственными задатками, заложенными в мозгу, в нервах и в мускулах руки? Не лучше ли с самого начала отказаться от бесплодной борьбы со всесильной в данном случае наследственностью? Прекратить эту непосильную борьбу заставляет еще и то соображение, что она требует от учащих громадного напряжения сил, что она отвлекает их внимание от содержания к технике, от смысла к форме, от понятия к букве. И это мнение огромного большинства учителей, когда они высказываются свободно. Вот, например, как выражено мнение учителей, обсуждавших этот вопрос на руководимых мною учительских курсах в 1897 г.: «Учащие пришли к заключению, что надо стремиться достигать разборчивости в письме, требование же каллиграфического письма считать невыполнимым в сельской школе».
Преувеличенные требования некоторых педагогов-каллиграфов представляются нам простым пережитком, идущим от средневековых учителей. Тем можно было ставить такие требования чистописания, потому что они имели дело с учениками, уже вполне грамотными и почти взрослыми. В средневековой схоластической школе письмо было венцом всего школьного курса. Только дети с феноменальной памятью, с воловьим терпением, только дети, счастливо прошедшие все искусы и ужасы этой школы, получали право обучаться письму. Средневековым педагогам можно было ставить высокие требования к каллиграфии, потому что в их распоряжении было вполне достаточно свободного времени, так как при обучении письму они и не думали заботиться об умственном развитии учащихся и о том, чтобы заинтересовать учеников самим предметом, как это требуется ныне от народного учителя. Впрочем, и в этом последнем отношении у нас еще живы и до сих пор предания старой школы с ее мертвящей скукой, с неведением самых очевидных принципов обучения. Чем иным объяснить тот факт, что большинство учителей начинают обучение письму с наименее осмысленного и наиболее скучного во всем обучении — с элементов букв?
Всякий, кто наблюдал детей, знает, что им доставляет удовольствие делать только то, что имеет для них какой-нибудь смысл и что они понимают. Если ученик не видит ясно смысла в своей работе, она для него скучна, он скоро утомляется, он рассеян, обучение идет медленно и вяло. Но какой смысл имеют для ребенка, еще не знающего письменных букв, палочка с крючком вверху или внизу, полуовалы и овалы и т. д.? Ребенок приносит в школу достаточный запас мыслей, но не приносит ни единого представления о форме букв и письменных слов. Наша первая задача — довести ученика до того, чтобы он осознал связь между мыслью, с одной стороны, и начертаниями на бумаге, с другой, а для этого лучшим для начала средством является рисунок, если он напоминает ученику знакомый предмет. С рисунков, с идеографического письма началось развитие письменности, да и до сих пор еще для многих миллионов безграмотных крестьян картина заменяет книгу.
Мало этого. Из навыков руки, доступных для ребенка, письмо занимает более высокое место, нежели, например, рисование: писать для ребенка труднее, нежели рисовать. Никто не будет оспаривать, что детей сильно интересует рисование. Ребенок, раз только он имеет карандаш и бумагу, сам, без всякого внешнего толчка, по собственному почину, принимается за рисование домиков, животных, цветов и т. д. Он не знает большего удовольствия, как рассматривать картинки и самому воспроизводить их, как он умеет. И мы должны были бы воспользоваться этой наклонностью ребенка, указаниями, которые делает нам сама природа, должны были бы начать не с того, что не понятно для ребенка, не имеет для него никакого смысла и потому скучно и неинтересно, не с того, что трудно для его еще неразвитой руки, а должны начать с того, что и без наведения учителя давно уже доставляет удовольствие ребенку, для него это имеет смысл, полный самого живого интереса, с того, что для него так легко и так доступно, — с простейших уроков рисования понятных ребенку предметов. На этих уроках он скорее и лучше, нежели на элементах букв, разовьет и свою кисть, и свои пальцы, приучится проводить и прямые, и наклонные, и даже овалы и полуовалы, приучится правильно держать и корпус и карандаш, а затем и перо, разовьет несколько чувство симметрии и верность глаза. Давно подмечена тесная связь между рисованием и чистописанием. Кто хорошо рисует и чертит, тот может и хорошо написать.
Мы должны отдать полную справедливость изобретателю общепринятой теперь системы начинать обучение чистописанию с элементов букв. Эта система явилась результатом самого точного анализа искусства письма. Чтобы излагать мысли, надо уметь писать слова и буквы. Буквы состоят из известных немногих элементов. И с них-то и надо начинать обучение. Но учитель имеет дело не с одним только учебным предметом. Он имеет дело еще и с учеником. Он должен поэтому принять во внимание не только требования предмета, как бы солидно они ни были' обоснованы; он должен еще принять в расчет — и это как будто бы и есть самое главное — требования детской природы. А дети скучают, они рассеянны, невнимательны и ленивы, если не понимают цели работы, если она не интересует их.
Но осмысленность и интерес не должны оканчиваться на этой подготовительной ступени рисования-письма; совершенно напротив: как первое и главное условие успеха во всех учебных занятиях, они должны сопровождать решительно все письменные работы учащихся. На этом не мешает настаивать теперь, когда и составители прописей и методики чистописания, и учителя так часто уклоняются от этого основного правила преподавания, как будто бы мы живем еще в средние века, когда школа, с изумительным усердием культивировавшая память и механические навыки, ничего не делала для ума и любознательности учащихся. Распространенные методики рекомендуют скучные, бесцельные для ребенка упражнения в элементах, значения которых он не понимает и понять не может, правила о том, как он должен держать руку, корпус и т. д., без всяких объяснений, зачем это надо, — эти бессмысленные в глазах ребенка движения всей рукой слева направо, раз двадцать, не касаясь даже карандашом бумаги, подобные же движения вправо и обратно, горизонтальные движения тем же порядком и т. д., овальные справа налево и обратно, все эти ряды тонких, быстрых очерков по двадцати штук, столько же наклонных с нажимом и т. д., наконец, эти копирования одного и того же элемента или буквы на целых страницах. Задумываются ли наши педагоги, рекомендующие подобные упражнения, над психологией ребенка? Полагают ли они, что такие упражнения будут иметь в глазах ученика больше смысла и значения, а стало быть, и интереса, чем толчение воды в ступе или средневековое заучивание наизусть целых книг на мертвом языке, без понимания хотя бы одного слова? Не лучше ли, отнеся все подготовительные упражнения к простейшим занятиям рисованием, приступить затем к письму только того, что для ребенка имеет смысл, что он понимает? Мы успели провести принцип сознательности и интереса в обучении грамоте, бросив бессмысленные аз, буки, а, бе, ее и склады и т. п. Но нам остается еще много работы, чтобы вытеснить остатки схоластики из методики обучения письму. В этой области еще и до сих пор так много рутины, скуки и бессмысленных в глазах ребенка механических упражнений. Пора понять, что и в этой области ученик будет тем успешнее работать, чем осмысленнее и интереснее для него занятия, и тем бесплоднее будет его работа, тем быстрее он будет утомляться, тем небрежнее он станет относиться к нашим требованиям, чем менее он их понимает, чем скучнее они для него. Но интереса и оживления можно достигнуть тогда, когда мы будем сокращать чисто механические занятия и ставить письменные упражнения таким образом, чтобы они заставляли ученика в то же время и думать, понимать, сравнивать. Письмо слов будет иметь для ребенка смысл, письмо букв тоже, если он учится читать, а движения рукой справа налево и обратно, сверху вниз и обратно никакого смысла в глазах ученика иметь не могут. Не лучше ли поэтому предпочитать рисунки, буквы и слова, а всего лучше, конечно, фразы всем остальным упражнениям? Мы допускаем, что не все элементы будут усвоены на простейших уроках рисования. Ну что ж? Новый элемент может быть изучен с детьми, когда им придется писать новую букву, куда этот элемент входит. Вместе с буквой и вместе с целым словом для детей станет вполне понятным, а значит и интересным, такое упражнение. Впрочем, очень легко придумать простенькие рисунки, куда входят все необходимые элементы. Я лично начинал на учительских курсах... с рисования лесенки в лежачем положении. Конечно, это были только контуры лесенки: две длинные горизонтальные линии и между ними ряд коротеньких наклонных — при наклонном рисьме или вертикальных — при прямом. Если я замечал, что длинные горизонтальные линии затрудняют ребенка, я сам заготовлял эти линии на разлинованных ученических тетрадях, оставляя на долю детей только поперечные линии — палочки без крючков. Это был первый элемент, изученный посредством рисования. Мне нечего прибавлять, что я, предварительно показывая рисунок лестницы, сам рисовал ее на классной доске, объясняя каждый свой штрих, каждое свое движение. Дети же только подражали. Следующим рисунком был крючок удочки, которой ловят рыбу. Нарисованный в одном положении, этот рисунок приучал детей писать палочку с крючком вверху; нарисованный в обратном положении, он знакомил их с палочкой с крючком внизу. Чтобы познакомить детей с овалом, мы рисовали с ними сливу.
Мы ограничивались только немногими элементами, чтобы поскорее перейти к буквам и словам, быстро выписать первые буквы, начиная с наиболее простой из них, с ш и затем соединить письмо с чтением. Но если бы кто захотел продолжать рисование, приноровленное к письму буквенных элементов, он не затруднился бы найти подходящие рисунки. Даже петли, встречающиеся в письме некоторых букв, можно выписывать, рисуя веревку, связанную в узлы определенным образом.
На первых же уроках необходимо сообщать и правила о том, как сидеть, как держать перо, руку, корпус и т. п. Но почему бы и эти правила не осмыслить в глазах ребенка, указав в понятных выражениях, на чем основаны эти требования? Почему нельзя было бы изложить их, например, хотя бы в следующей форме: «Если во время письма вы будете сильно наклонять голову к бумаге, вы испортите глаза, вы станете близорукими. Если вы будете сгибать спину, вы будете сутулыми. Если вы будете нажимать грудью на стол, у вас заболит грудь. Поэтому надо держать голову и спину прямее, а грудь не прислонять к столу. Если вы будете держать перо только двумя пальцами, перо будет плохо держаться, у вас не хватит силы нажимать на перо, вы скоро устанете. Смотри на ножки пера: они должны работать одинаково, а не то письмо будет косое».
Вопрос о крупноте письма, или, иначе, о расстоянии между линиями строки, решается различно. Несомненно, что для начинающего ученика крупная буква — в 1/4 дюйма вышины полезнее, чем маленькая буква обычной скорописи взрослого человека, и это по тем же самым соображениям, по которым мы на первых порах обучения предпочитаем крупный шрифт мелкому шрифту. Но в письме нам приходится считаться еще с анатомией детской руки. Когда ученик пишет, мы приучаем его писать главным образом пальцами и воздерживаться от резких движений вверх и вниз рукой, как это склонны делать на первых порах ученики; и вопрос о высоте букв сводится, таким образом, к вопросу о том, как велика черта, какую начинающий ученик в возрасте 8 лет может написать без большого труда.
Мало этого. Большинство педагогов требуют, чтобы ученики писали исключительно только пальцами, не двигая вверх и вниз ни кисти руки, ни предплечья*. Раз ставится такое требование, то нечего и говорить о том, что высота букв должна быть очень небольшой, чтобы не утомлять маленькие пальцы ребенка; но этот вопрос о движении всей руки спорный. Вы можете писать, и писать очень легко и очень быстро, при совершенно неподвижных пальцах, двигая вверх и вниз всей рукой, или, вернее, всем предплечьем, когда ваш локоть слегка опирается на стол. При этом ваши пальцы будут только держать перо, но не будут ни разгибаться, ни снова сгибаться, а будут оставаться в том положении, в каком они находились в момент, когда вы взяли перо. И такое письмо будет быстрее обыкновенного, и ваша рука при этом не скоро утомляется. Правда, при таком способе письма получаются буквы с острыми углами и нет тех закруглений в загибах, которые так нужны для разборчивости письма. Правда и то, что при таком способе труднее для нашего корпуса и головы сохранить то положение, какое требуется гигиеной. Но если по этим основаниям не может быть речи о таком способе письма, зато можно говорить о комбинации движения пальцев с движениями всей руки, можно поделить роли в процессе письма между пальцами и всей рукой; можно оставить пальцам все закругления, крючки и загибы, т. е. всю тонкую и деликатную работу, а свободное движение руки можно призвать на помощь, когда приходится писать более высокие (длинные) части букв, когда приходится делать более крупные движения. Можно, например, предоставить всей руке участие в письме таких букв, как ф, р, у и т. д.
Предплечьем называется часть руки от кисти до локтя.
Но даже и при такой комбинации движений руки с дижениями пальцев высота строчных букв без подстрочных и надстрочных знаков не должна быть более 1/4 дюйма, и это по следующим соображениям. Известно, что из 35 букв русской азбуки только 7 требуют от ученика таких элементов, которые превышают расстояние между линиями строки, таковы буквы: б, в, д, з, р, ф, у, хотя из этих 7 две буквы, виз, могут писаться и в строчке.
Все остальные буквы, как, например: а, г, е, и, л и т. д., состоят из коротких элементов, не превышающих расстояния между горизонтальными линиями строки. Стало быть, писать для начинающего — это значит в четырех из каждых пяти случаев писать элементы, не превышающие высоты строки. Очевидно, для того чтобы дети не слишком утомлялись, необходимо, чтобы длина таких элементов, или, иначе, высота строк, не затрудняла детей. Но когда начинающим детям предлагают написать тот или другой элемент такой длины, какая не требует особых усилий, то приходят к выводу, что эта длина равняется приблизительно 1/4 дюйма.
Если бы затем мы взглянули на этот вопрос с практической точки зрения, то и в этом случае мы тоже пришли бы к тому же самому выводу. Мы должны вести детей к тому, чтобы впоследствии они могли писать так, как все. Мы должны приучить их к тем движениям, какие нужны в скорописи. Но в нашей скорописи нам совсем не приходится иметь дело с буквами, высота которых превышала бы 1/4 — 1/2 дюйма, а именно в этих пределах мы упражняем начинающих учеников, когда от букв высотой в 1/4 дюйма, вроде букв: а, о, и, ш и т. д., переходим к буквам высотой в 1/2 дюйма, вроде букв: д, р, у, з и т. д.
Ясно, что приучать детей к более крупным движениям в письме совсем нет никаких объективных оснований.
На графическую сетку существуют различные взгляды. Некоторые из педагогов находят ее лишней. Между тем на первых порах, когда ученика затрудняет и наклон каждой черты, и высота каждой линии, и то, где начать писать букву, и то, куда вести пером потом, и то, на каком расстоянии должна быть одна линия от другой, начинающий ученик, несомненно, нуждается в помощи, и графическая сетка с горизонтальными и наклонными линейками значительно облегчит детям их работу, сделает ее для них посильной. Когда учитель, стоя перед доской, где тоже заранее заготовлена графическая сетка, и выводя мелом хотя бы, например, букву и, говорит: «Я ставлю мел в верхнем углу клетки — поставьте и вы ваше перо (или грифель, или карандаш) там же; я веду мел вниз по наклонной линейке и пишу прямую с крючком внизу — пишите и вы то же самое», то дети хорошо понимают его и для них не представит больших затруднений подражать ему, потому что им дано не только наглядное, но и точное указание каждого штриха и каждой остановки. Стоит только представить себе психику начинающего писать, чтобы прийти к выводу о необходимости графической сетки. Без нее непривычные пальцы ребенка то и дело производят неверные движения, и основная линия буквы отклоняется то вправо, то влево, потому что он боится наклонить ее более, чем нужно, вправо, и т. д. Эти ошибки повторяются несколько раз в одну минуту, и ученика покидает то, что всего дороже в смысле успехов обучения, — бодрость духа. В школьном деле более, чем где-либо, применимо изречение Франклина: «Деньги потеряны — ничего не потеряно; время потеряно — многое потеряно; бодрость потеряна — все потеряно».
Графическая сетка несколько замедляет движения пишущего, но это замедление идет на пользу. Глаз ребенка при медленном темпе письма успевает следить за движениями пера и контролировать их. Меньше получается ошибок, а значит, и меньше поводов к унынию и сомнению в своих силах.
Пройдет немного времени, станет для учеников посильной работа без помощи наклонных, надо будет их отменить. Придет пора, когда дети не будут нуждаться в двух линейках, можно будет перейти и к письму по одной линейке, но в начале занятий, когда и при помощи графической сетки ученику так трудно справляться с новыми, непривычными для него требованиями, оставим детям и две линейки, и все наклонные...
...Я и теперь, как прежде, стою за прямое письмо. Оно и было прямым в прошлые века. Старинные рукописи написаны прямым почерком. Начинающие ученики тоже стремятся писать прямо, пока их не приучат к наклонному письму. Но все, что здесь можно сделать, это убеждать не только учителей, но и общество в преимуществах прямого письма. Жизнь сильнее школы. Я знаю случаи, когда начинали учить детей прямому письму, а в старшем отделении переучивали, потому что этого требовали запросы жизни, сами дети и их родители. Однако можно ожидать, что наклон букв будет делаться со временем все меньше и меньше. Можно настаивать, чтобы в случае наклонного письма тетрадь была наклонена к краю стола ровно настолько, насколько велик наклон букв. При этом каждая палочка с нажимом будет перпендикулярна к краю стола. Положим, отсюда еще далеко до всех выгод прямого письма, но все же это одно из его основных требований.
Многие педагоги энергично стоят за тактовое письмо. В московском учебном округе письмо под такт официально признается безусловно необходимым упражнением в чистописании (см. инструкцию для учительской семинарии). Защитники тактового письма обыкновенно основывают свое мнение на аналогии с другими механическими упражнениями, И действительно, ритм, такт в музыке и пении, хоровое чтение при заучивании стихотворений, команда в гимнастике очень употребительны и имеют некоторое преимущество. Замечено, что ритм облегчает физическую работу. Если работа производится без помощи ритма, такта, человек утомляется скорее. Если мы вводим в нее ритм, правильное чередование отдыха и напряжения через равные промежутки времени, физическая работа становится механической, не требует такого усилия воли при начале каждого напряжения мышц; происходит значительное сбережение сил. Кроме того, совместная работа многих под такт вызывает удовольствие, возбуждает бодрость и свежесть. Более слабые стараются не отставать от передовых и дисциплинируются. Примеров такого труда можно привести сколько угодно. Наши рабочие часто пользуются песней, например: «Эй, дубинушка, ухнем!» У солдат играет большую роль команда: «Левой, правой!», а также барабан, музыка и песни. Танцы также немыслимы без ритма, который обыкновенно дается музыкой.
Но на практике требование тактового письма прививается туго. Чем объяснить это явление? Мне кажется, здесь играет очень большую роль то обстоятельство, что сам такт требует от учителя и учеников таких усилий и такого продолжительного времени, что эти затраты очень часто не выкупаются выгодами, какие он может принести лишь после того, как ученики вполне им овладели. Нельзя сравнивать такт в письме с тактом в гимнастике, танцах, музыке и т. д. Там вы сейчас же увидите запоздавшего танцора или услышите запоздавшего музыканта или певца. А при письме очень трудно уследить, все ли ученики пишут то, что требуется тактом. Кроме того, в упражнениях, перечисленных выше, такт необходим потому, что его нарушение вносит и в пение и в музыку какофонию, расстраивает общий порядок. Ничего подобного нет в письме. Ученик может написать хорошо и без соблюдения такта, и никому из товарищей он не повредит нарушением такта. Он может написать плохо, торопясь соблюдать такт, и никто не будет от этого в выгоде. Больше того: быстрота письма очень различна для разных учеников одного и того же класса и возраста. Что мышцы у разных людей сокращаются с различной быстротой — это известно всякому. Сделано наблюдение, что французские гребцы на лодках делают веслами 40 ударов в минуту, а голландские — только 25. Чтобы определить быстроту детского письма, я произвел исследование над 112 детьми в конце первого года обучения в начальной школе. Я давал им написать 30 строчных букв русской азбуки и 21 цифру (в том числе 10 однозначных и 11 двузначных). При этом оказалось, что дети в среднем на письмо каждой буквы употребляют 10 с, но есть дети, тратящие на каждую букву по 5 с, а есть и такие, которым на письмо одной буквы нужно в среднем 17 2/3 с. На письмо одной цифры дети употребляли в среднем по 9 с; но в то время как одни писали одну цифру с быстротой в 4 2/7 с, другие тратили на каждую цифру по 17 1/7 с, т. е. писали ровно в 4 раза медленнее первых. А еще поэт сказал: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Такт, вполне удобный для одного ученика, будет задерживать другого и торопить третьего...
...Прежде чем написать букву, ученик должен ясно представить себе ее оптический образ, а также и процесс ее письма. Поэтому, знакомя учащихся с новой буквой, учитель пишет ее на глазах учеников, чтобы они наглядно познакомились не только с формой буквы (форму буквы они могут видеть и в букваре), но и с процессом ее письма. При этом он привлекает внимание детей вопросами: с чего он начал, как продолжает и чем кончает письмо данной буквы. Кроме того, существенно важным делом в данном случае является анализ буквы, разложение ее на составные элементы. Учитель при этом опять-таки посредством наводящих вопросов обращает внимание учеников на то, из скольких частей составлена данная буква, какая первая часть, какая вторая и т. д. Важно также сравнение букв со сходными уже известными буквами, причем особенное внимание детей обращается на их разницу, и в этих видах разница, так сказать, подчеркивается, т. е. штрихи, отличающие данную букву от сходных, на первый раз пишутся толще. Так, сравнивая ц с и, можно нижнюю петельку у ц сделать больше обыкновенного.
Для прописных букв следует вначале выбирать формы, близкие к строчным буквам и, т и т. д...
В какое время дня всего удобнее назначить уроки письма? При решении этого вопроса следует руководиться, главным образом, двумя соображениями. Во-первых, письмо требует хорошего освещения. Для этого самым удобным временем будет полдень. Во-вторых, письмо не требует от ученика особой свежести мозга, но представляет прекрасную смену усиленных умственных занятий на пол у механические. Если учитель первые уроки, когда мыслительные способности учащихся особенно бодры, употребит на арифметику и чтение, то остающиеся полчаса до большой перемены, когда мозг учащихся нуждается в смене занятий, будет всего удобнее посвятить письму.
Глава XIII
Ничего нельзя было бы возразить против необходимости приучить детей писать сколько-нибудь грамотно, если бы современная школа не сделала из правописания своего идола, которому приносит в жертву самые лучшие из своих задач, если бы она поставила орфографию во главу угла обучения. Совершенно безграмотное письмо не имеет большой цены: оно мало понятно, оно вызывает насмешки. Знать язык — это не значит только уметь говорить и понимать что слышишь и читаешь, но это значит еще писать так, чтобы тебя понимали. И потому мы отводим правописанию свое место в деле обучения, но это место должно быть второстепенным. Правописание должно быть поставлено гораздо ниже толкового чтения как главного предмета обучения в народных школах, как самой широкой двери, через которую народ может проникнуть к сокровищам нашей художественной литературы и всяких знаний, тысячелетиями накопленных человечеством и хранящихся в литературе. Но можно нисколько не оспаривать важности самих основных правил правописания в народной школе, тех правил, несоблюдение которых делает непонятной нашу речь, и все-таки возражать против общепринятых приемов, посредством которых достигаются в наших школах навыки к грамотному письму. Главным средством к изучению орфографии у нас обыкновенно служит диктант. Нельзя смотреть на диктант иначе, как только на одно из средств изучения языка, который должен представлять центральный предмет в начальной школе, главную цель преподавания. А между тем диктовка большей частью ведется таким образом, что все внимание ученика фиксируется только на форме слова, на его орфографии. Ученик может прекрасно написать фразу и не понимать ее содержания; он может правильно написать слово и не знать, что оно выражает; он может с соблюдением всех тонкостей орфографии писать диктуемые слова и не суметь выразить на бумаге самой простой своей мысли. При такой постановке диктанта цель, к которой должны стремиться учитель и ученики, забыта и приносится в жертву средству. Эта опасность особенно важна у нас, где большая часть звуков имеет для своего изображения только одну букву, где ученику очень редко приходится встречаться с такими словами, как Mip и мир, труд и трут, пруд и прут, словами, требующими для правильного их начертания того, чтобы ученик понимал их. Вы можете продиктовать ученику фразу, которой он не в состоянии понять, и он, несмотря на то, может написать ее правильно.
Большой ошибкой было бы думать, будто безупречный диктант служит доказательством хорошего знания языка. Ученик в этом случае докажет только знание орфографических правил, умение ими пользоваться и чисто внешнее знание форм в таких словах, которые он, может быть, даже не понимает. Ученик, умеющий читать и писать по латыни и знающий немного латинскую грамматику, но совсем не умеющий переводить, ведь тоже может сравнительно правильно написать продиктованный ему отрывок. Наша цель должна быть другая: слово всегда должно быть в уме ученика связано с выражаемым им понятием, отношения между словами всегда должны вызывать в уме ученика соотношения между идеями. Диктант в современной его постановке удаляет, а не приближает нас к этой главной цели преподавания, потому что он отвлекает внимание ученика от внутреннего содержания к внешней форме, от понятия к букве, от идеи к орфографическому правилу, от выражения своих мыслей на бумаге к механическому воспроизведению слов. С этой точки зрения бесконечно важнее диктанта будут беседы учителя с учениками, чтение книг, пересказ прочитанного, изложение своих мыслей и устно и на бумаге. Кроме того, едва ли диктовка, как она ведется в большинстве случаев, достигает значительных результатов даже в смысле правописания. Можно вместе с французским инспектором академии Пайо утверждать, что если дети пишут правильно, то это отнюдь не благодаря диктовке в том виде, как она ведется, а наперекор ей. Диктант, если он не предупредительный, представляет охоту учителя за ошибками; но эта охота нередко содействует не истреблению ошибок, а размножению их. Но нам возразят, что правописание не есть только дело сознания. Скажут, что оно столько же, если не больше, и дело навыка, привычки, дело памяти. Мы допускаем, что правописание есть столько же дело памяти, сколько и сознания. Известны волостные писари, пишущие грамотно, хотя совершенно не знакомые с грамматикой. В то же время известны ученики очень развитые и прекрасно знающие все правила правописания, однако то и дело допускающие самые грубые ошибки. Надо различать такие случаи, где фонетическое письмо будет правильным, где произношение слова совпадает с его начертанием. Если бы все правила были сведены к фонетике, правописание было бы самым легким предметом преподавания. К сожалению, многие слова пишутся не так, как выговариваются. Одни из этих слов в своем правописании подчиняются широким и ясным правилам, и в этих случаях, казалось бы, нельзя пренебрегать усвоением этих правил без грамматических терминов, без определений, при условии, что ученики сами выведут эти правила из примеров, как это показано, например, в нашей книге «Мир в рассказах», год 2-й, в отделе самостоятельных упражнений. Другие из слов, уклоняющихся от фонетического начертания, трудно подвести под широкие, доступные ребенку правила правописания...
В конце 1899 г. по инициативе состоящего при Московском педагогическом обществе отделения преподавателей русского языка и словесности произведено было исследование грамотности в 30 учебных заведениях (начиная с классических гимназий и оканчивая четырехклассными женскими училищами). Оказалось, что на каждого ученика пришлось по 6 1/4 ошибки, а на каждую ученицу — почти 5 ошибок. Сравнение же количества ошибок, сделанных каждым учащимся средних и старших классов, показало, что в среднем учащийся VII класса сделал немного более 4 1/2 ошибки, а IV класса — более 5 1/2 ошибки. В общем итоге из 600 слов, заключающихся в тексте трех диктантов, безошибочно написанных едва наберется 150 слов, но из этих последних большая часть приходится на союзы: или, и, вот, но. Исследование это приводит к выводу, что учащихся в наших средних школах грамотными назвать нельзя.
Производившиеся в разных местах страны проверочные испытания окончивших курс учеников начальных училищ показали, что такие предметы, как чтение, не только не забываются окончившими курс учениками, но многие из них по достижении 21 года (большая часть обследований приурочивалась к моменту призыва к отбыванию воинской повинности) читают значительно лучше, чем читали 9 — 10 лет тому назад — при окончании курса.
Совсем другие результаты дали проверочные испытания в отношении правописания. В подавляющем большинстве случаев все правила и навыки оказались забытыми: осталось одно фонетическое правописание. Есть данные, что орфография исчезает чрезвычайно быстро в первый год по окончании курса.
И этот вывод представляется объективным и далеко не лестным приговором по отношению к обучению правописанию.
Но этого мало. Главное, на что мы хотели бы обратить самое серьезное внимание всех учителей, — это на то, что необходимо соображаться не столько с тем, как скорее достигнуть правильного письма, сколько с тем, какое влияние оказывают наши приемы на развитие ученика, на его психику.
Между тем влияние самых распространенных в наше время упражнений — списывания и диктанта на развитие ребенка в большинстве случаев вредное. Мы уже не говорим о педагогах, поставивших своей задачей культ бессознательных навыков и механической долбни, — о педагогах, почерпающих свои педагогические знания из различных распоряжений «времен очаковских и покоренья Крыма», но и люди, более их сведущие в учебном деле, так же настоятельно рекомендуют эти упражнения. Из ответов, доставленных мне учителями, присутствовавшими на руководимых мною курсах, видно, что во многих школах на списывание употребляется до 6 ч в неделю... К сожалению, в последнее время польза списывания получила в глазах учителей авторитетное подтверждение в недавно появившейся у нас, в России, книге г. Лая56, приобретшего в последнее время европейскую известность. Не желая нисколько умалять большого значения интересных работ этого известного немецкого педагога, мы хотели бы только предостеречь учащих от увлечения списыванием. Мы не сомневаемся в правильности поставленных г. Лаем экспериментов, и это тем более, что эксперименты, поставленные мною в 1897 г. и здесь описанные, не находятся в противоречии с экспериментами г. Лая. Но мы, как читатель увидит в настоящей книге, предлагаем совсем другйе способы использовать выводы из наших экспериментов. Мы хотели бы предостеречь и самих экспериментаторов. Когда ставишь педагогический эксперимент, то не только надо думать о том, какими приемами скорее и прочнее усвоить тот или другой навык, то или другое знание, но, главным образом, надо сосредоточить свое внимание на том, как отразится данный прием на развитии ученика. Прием может быть превосходен в смысле орфографических навыков или в смысле беглости чтения... но, если при этом он вредно отразится на развитии ученика, на его психике, этот прием надо безусловно отвергнуть как вредный. Отставные солдаты и чернички иногда достигали замечательных результатов в смысле беглости чтения и чистописания; но так как их приемы не развивали, а притупляли учеников, то все педагогические авторитеты вполне справедливо высказывались за изгнание таких приемов из школы.
Кто занимался перепиской, тот хорошо знает, какое притупляющее действие производит эта работа. Мы справедливо жалеем швею, чью безотрадную жизнь так ярко изобразил Томас Гуд в своем знаменитом стихотворении, но швея может думать о чем угодно во время своей механической работы. Ее пальцы работают автоматически, по привычке, почти не требуя участия сознания, как мы автоматически ходим, что нам не мешает думать при этом о другом. Совсем иное дело — работа начинающего переписчика. Его внимание должно быть сосредоточено на буквах каждого слова. Стоит ему дать простор своему воображению или уму — и он неминуемо делает ошибку за ошибкой. Надо ли говорить, что положение списывающего ученика гораздо хуже, так как у него нет навыков, какими обладает даже начинающий переписчик. Все внимание ребенка приковано к буквам, которые он выводит одну за другой, не связывая ни понятий со словами, ни идей, ни отношений между ними с фразами. Мы вполне справедливо жалеем канцелярских писцов, отупевших за перепиской рапортов, отношений и предписаний, нам жаль Акакия Акакиевича, но там мы имеет дело с людьми, уже более или менее свыкшимися со своей печальной долей. Но когда такая работа из канцелярии переносится в школу, когда это мертвое, безжизненное дело мы навязываем детям, мы не можем ожидать, чтобы их ключом бьющая душевная жизнь легко и просто, без борьбы и протеста уложилась в эти тесные рамки бессмыслия и автоматизма. Правда, что несколько месяцев таких упражнений, может быть, одолеют природную живость и любознательность ребенка; но ведь не этого же результата ожидаем мы от начальной школы?
Мы понимаем мотивы, почему большинство учителей так охотно предлагают детям списывание с книги. При сколько-нибудь внимательном отношении к этому упражнению ученики почти не делают ошибок, у них не получается вредных навыков в смысле правописания: нет надобности просматривать работы, исправлять ошибки. Для учителя так просто, так легко задать такую работу ученикам: не надо ни объяснений, ни бесед; от учителя не требуется никакого умственного напряжения. И мы не можем не стать на точку зрения начального учителя. На нем лежит такое множество в тысячу раз более важных задач, что у него не хватило бы ни времени, ни сил изобретать самому более продуктивные самостоятельные упражнения. Это, скорее, дело методик, дело педагогических авторов.
Хорошо известно, как ведутся эти упражнения. Во многих учебниках помещаются целые ряды слов или фраз, предназначаемых для списывания. Учителю остается только указать, где именно найти эти упражнения. И ученики принимаются за списывание, воспроизводя одну за другой буквы в том самом порядке, в каком они напечатаны в книге, не задумываясь над содержанием того, что они пишут. Последнее было бы с точки зрения ученика даже вредно, потому что смысл фразы отвлек бы его внимание от точного воспроизведения букв, а это одно, чего от него требует учитель в данном случае. Но нам скажут, что гораздо легче критиковать чужое, чем создавать свое. Нам скажут, что надо же как-нибудь развивать навыки к грамотному письму и что подобные упражнения надо начать возможно раньше, с самых первых уроков обучения письму-чтению. И мы сами не раз задумывались над этими вопросами. И на этом пути мы встретились прежде всего с чисто методологическими затруднениями.
Когда мы читаем методики, мы встречаем там массу правил, большое число методических рецептов, или ничем не мотивированных, или подтвержденных только ссылками на педагогические авторитеты или на традиции или — и это в лучшем случае — указаниями на те или другие положения психологии или физиологии. Рецепты первой категории, изложенные в догматической форме, напоминают собой распоряжения начальства, обязательные для учителя и не допускающие ни сомнений, ни возражений, ни уклонений. Когда с этой формой требований мы встречаемся в предписаниях начальства, там это совершенно понятно, хотя в наше просвещенное время даже начальство, делая какие-либо распоряжения, часто считает не лишним так или иначе доказывать их целесообразность. Но методика не есть предписание начальства и едва ли ей приличествует такая форма.
Рецепты второго рода, опирающиеся на предания, на право давности, также нуждались бы в лучшей основе, потому что наше прошлое теории и практики обучения скорее история ошибок и заблуждений, нежели история плодотворных открытий. Впрочем, я не хочу сказать, что эти правила не имеют уже никакой цены. Так или иначе, но они представляют личный, — правда, часто случайный — опыт учителей-практиков, когда учителя, вспоминая удавшиеся им почему-либо приемы, рекомендуют эти приемы другим. Однако еще Милль сказал, что настанет время, когда привычка основывать свои суждения на одном личном опыте будет служить верным признаком низкого умственного развития.
Гораздо ценнее методические правила, основанные на психологии и физиологии. Но психология и физиология дают для учителя только общие положения, а каждое из этих положений допускает самые различные применения на практике. Психология и физиология дают лишь руководящие начала, но детальных приемов преподавания и воспитания они дать нам не могут. Это подобно тому, как физиология растений может дать много ценных для земледельца сведений, но не заменит для него прикладных знаний, необходимых в полеводстве и огородничестве. Педагогика и дидактика пока еще находятся в той стадии развития, которую в наше время начинает перерастать, например, медицина. Было время, когда практическая медицина тоже состояла из ряда рецептов, то заимствованных из народной медицины, то переходящих от одного поколения к другому по преданию, то составляющих свод личных случайных наблюдений. Но теперь врачи в деле методов лечения вступили на путь точного, выводного, опытного знания. При всяком методе лечения стараются точно определить смертность, вычисляют, сколько в данной болезни процентов выздоровления и смертных случаев дает один метод лечения и сколько процентов дает другой. Сравнивая на точных, неподкупных цифрах успешность лечения одного метода с дру-
гим, по возможности при равных других условиях, производя опыты и наблюдения то над людьми, то над животными, подсчитывая наблюдения, собирая возможно большее число фактов, классифицируя, сопоставляя и сравнивая их, врачи приходят к твердому, обоснованному выводу. Когда такие выводы уже сделаны, врач лечит не наобум: он знает и может доказать это цифрами, что его метод лечения дает наименьшую смертность. Статистика играет в этой области, как и во многих других, часто решающую роль...
...Чтобы яснее представить себе, насколько плодотворен этот путь точного опытного исследования, достаточно припомнить, как ничтожно было содержание естественных наук до тех пор, пока они не приняли методов опытного знания, и как необъятно громадно количество плодотворных открытий, сделанных в этой области знания с тех пор, как естественные науки воспользовались этими методами.
На этот же путь не случайного, личного, субъективного, а точного, коллективного опыта и гуртовых наблюдений должны вступить и методика и педагогика. Только при этом условии их рецепты и правила будут обоснованными, опирающимися на точные доказательства, только при этом условии они будут адресоваться к разуму учителя и воспитателя, станут для него убеждением, точным знанием, а не требованием, воспринятым на веру и затверженным памятью.
Не представляется, по-видимому, особых, совершенно непреодолимых затруднений к тому, чтобы учителя и воспитатели также воспользовались методом исследования, давшим такие богатые результаты везде, где он имеет применение. Об одной из этих попыток я и хочу сказать несколько слов.
Исследование производилось мною в одной большой фабричной школе. Условия для наблюдений здесь были чрезвычайно благоприятные: школа эта насчитывает около тысячи учащихся, она снабжена вполне достаточным запасом учебных пособий, учителей в ней много, и каждый из них занимается только с одним отделением, состоящим из учащихся приблизительно одного развития, времени пребывания в школе и уровня познаний.
Случай представлялся очень благоприятный для наблюдений над успешностью тех или других приемов преподавания, и я в 1897 г. им воспользовался. Чтобы с чего-нибудь начать, я остановился на вопросе о том, какие из общеупотребительных упражнений, преследующих навыки в правописании, дают более успешные результаты.
Опыты я начал с учениками первого года обучения. Число таких учеников было наиболее значительным (их было около 230), и выводы из такого большого числа наблюдений представляли, конечно, гораздо большую цену, чем если бы они были произведены при меньшем числе учащихся...
...Суммируя выводы из всех четырех опытов, мы остановимся только на том, что без изменения повторялось в каждом из них и
не подвергалось значительным колебаниям. К числу таких, по-видимому, бесспорных выводов принадлежит, во-первых, тот, что упражнение, состоящее в разложении слова, затем чтении и списывании его, по успешности занимает самое первое место; в младшем отделении оно уменьшило число ошибок на 47%, а в старшем при однократном списывании — на 80%...
...Второй, тоже обоснованный вывод состоит в том, что проверочный диктант во всех решительно опытах по успешности занимал самое последнее место: в младшем отделении он приносил вред, увеличивая число ошибок во втором контрольном диктанте, а в старшем — уменьшил число ошибок на очень незначительную величину. Самое нежелательное письменное упражнение — это проверочный диктант в том виде, как он ведется на экзаменах. Мы понимаем, что учителю необходимо иногда удостовериться, насколько он подвинулся вперед, и если у него нет никаких других средств для этого, то он может изредка, не более 3 — 4 раз в год, прибегать к этому средству, но пользоваться им часто — - значит приучать детей к безграмотному письму. Самые распространенные среди учащихся виды памяти — это зрительная и моторная. Как же пользуемся мы, диктуя ученикам без предупреждения ошибок, этими важнейшими видами памяти? Ученик видит только то, что сам он написал со всеми сделанными им ошибками. Эти ошибки хорошо запечатлеются в его зрительной памяти и будут воспроизведены и в следующий раз, если учитель не искоренит их упорной борьбой. Моторная память сохранит следы всех движений, какие сделала рука ученика, пишущего под диктовку, со всеми ошибками, и эти последние он будет воспроизводить всякий раз в аналогичных случаях. Конечно, и здесь возможна упорная борьба с ошибочными навыками; но чего стоит эта борьба и уненикам и учителю!
Списывание во всех опытах занимало по успешности среднее место, но в младшем отделении в опытах с предшествовавшим контрольным диктантом, допускавшим массу непредупрежденных ошибок, этот результат был достигнут только троекратным повторением одного и того же слова, а в старшем отделении, при той же возможности непредупрежденных ошибок, те же результаты дало и простое списывание, без повторений. Точно такое же списывание без повторений дало вполне удовлетворительные результаты и в младшем отделении, но лишь в одном первом опыте, когда списыванию не предшествовал проверочный диктант, бесспорно, вредный в смысле орфографии, когда огромное большинство возможных ошибок было предупреждено. Стало быть, при обычном ведении дела, когда ошибки предупреждаются, нет никакой надобности даже в младшем отделении в повторном списывании слов; и лишь только в тех случаях, когда принято выписывать ошибочно написанные слова так, как их надо писать, можно допустить повторное списывание, да и то ни в каком случае не следует выписывать их более трех раз даже в младшем отделении и более одного раза в старшем. Что касается остальных исследованных упражнений, то их результаты, всегда более или менее удовлетворительные, подвержены колебаниям. Как мы уже говорили выше, колебания в результатах этих упражнений зависят, по-видимому, от того, на чем, как долго и как сильно учитель фиксирует внимание учащихся. По той же, по-видимому, причине особенно большие колебания в результатах дает предупредительный диктант. В младшем отделении эти колебания в сокращении ошибок простираются от 1 — 51%...
...Мы видим, что наилучшим из всех приемов, оставляющим далеко позади себя все остальные исследованные приемы обучения орфографии, оказался тот, где соединены в одно целое разложение слов на звуки, чтение и однократное списывание. И этот вывод вполне подтверждается и психологией. И с точки зрения последней, чтобы правильно написать слово, ученик должен правильно запечатлеть его форму в своей зрительной памяти, его глазу оно должно быть предлагаемо всегда написанным или напечатанным безупречно в орфографическом отношении, его рука должна писать это слово всякий раз, когда оно встречается, с соблюдением всех орфографических требований. Его ухо при классных письменных упражнениях должно воспринять это слово в том произношении, которое отвечает орфографии слова, а не разговорной речи: сердце, а не «серце»; голова, а не «галава», причем, конечно, учитель в нужных случаях делает оговорку о том, что данное слово пишется так-то, а выговаривается так-то. Ученики должны хорошо произносить это слово: раздельно, отчетливо и ясно, каждый слог и каждый звук этого слова, так, как оно пишется, причем в случаях, где обычное произношение не соответствует орфографии, учитель опять делает необходимую оговорку. Надо ли говорить, что это слово должно пройти и через сознание ученика, должно быть соединено с соответствующим понятием, чего учитель достигает или посредством картинки, или посредством беглого вопроса: где вы видели этот предмет? или: что им делают? и т. п., или посредством понятной фразы, в которую входит данное слово...
...Иногда можно написать ряд таких слов, а списывание составит уже предмет самостоятельной работы. Иногда можно написать под диктовку учеников слово, предупредить их, чтобы они внимательнее всматривались в написанное, что сейчас оно будет стерто и им придется писать его на память... Если данное упражнение производится над словом, неправильно написанным учениками раньше, в самостоятельных работах, если, таким образом, мне предстоит борьба с неправильным навыком, я заставлю детей списать это слово, конечно, в его правильной форме, уже не один, а два и три раза (здесь мы говорим лишь о младшем отделении). Каждая написанная таким образом фраза и каждое слово, соединяясь с мыслью и понятием ученика, вошло в его сознание, удержано всеми четырьмя видами памяти. Слово изучено со всех возможных сторон, оно стало полной собственностью ученика. Это не диктант, имеющий дело только с формой и буквой, это уже изучение языка, потому что здесь понятие неразрывно соединено с выражением, как письменным, так и устным, как с графическим и зрительным образами, так и с образами слуховыми и моторными. Ученик видел, как это слово написано учителем на доске, и снова увидит, как оно написано в его собственной тетради; над произношением этого слова, когда он повторял его и разлагал на звуки, работали его органы речи, он слышал, как это слово произносили другие ученики и как выговаривал его учитель; наконец, его рука выводила это слово на бумаге.
И все эти виды памяти: память глаза, память уха, память голоса и память руки — соединились вместе, они поддерживают и помогают друг другу, опираясь в то же время на сознание ученика, на понятие или образ, какие соединяются с данным словом, на мысль, выраженную данной фразой.
В замене обычного диктанта предлагаемым нами составным упражнением мы видим еще одну, на наш взгляд, существенно важную выгоду. Это составное упражнение настолько хорошо предупреждает все ошибки, что учителю не будет стоить большого труда довести ученика до того, что ошибки станут лишь редким, исключительным явлением. Уже простое списывание и то предупреждает большинство ошибок.
В моем первом опыте с учениками, еще изучающими звуки, списывание дало настолько хороший результат, что ошибку в списывании сделали только 5% учащихся. И это в группе начинающих звуковиков, где мы не можем предполагать сколько-нибудь развитого внимания. Но если присоединить к списыванию еще разложение слова на звуки, чтение, слияние, то процент ошибок даже в группе звуковиков даст величину, близкую к нулю. А раз ошибки в тетрадях станут исключительным явлением, учителю не надо будет исправлять диктант, как он делает это теперь. У него останется время на чтение книг и на приготовление к урокам. Уменьшить количество такой монотонной, механической работы, каков этот просмотр ученических диктантов, — это вопрос самообразования учителя, вопрос о том, идти ли ему вперед в своем развитии или тупеть за утомительной, скучной и иссушающей мозг, почти бессмысленной работой. При предлагаемом нами способе учителю пришлось бы просматривать работу только у немногих невнимательных детей, да и то только до тех пор, пока они не привыкнут внимательно относиться к этому нетрудному делу.
Если затем и понадобится просмотр наиболее слабых работ, то совсем не для того, чтобы обратить внимание детей на ошибки. Чем дальше от глаз будут эти ошибки, тем лучше. Знать ошибки нужно для самого учителя, и только для того, чтобы на следующем уроке он научил детей писать ошибочные слова как надо. Но просмотр нескольких работ с этой целью совсем не то, что подчеркивание всех ошибок во всех работах. Другая выгода этого способа будет заключаться вот в чем. Почему у нас не приступают к изложениям раньше, нежели ученики не привыкнут писать мало-мальски сносно в орфографическом отношении? Конечно, потому, между прочим, что в своих изложениях неподготовленные дети будут делать во множестве орфографические ошибки и в результате получится такая повальная безграмотность в письме, перед которой придет в ужас самый непритязательный экзаменатор. Между тем, раз мы будем держаться этого способа письма, мы можем с первого же года приступить к изложению мыслей при условии коллективной работы.
Чтобы говорить о практичности того или другого способа обучения в начальной школе, надо знать еще, как много времени берет этот способ от учителя и от учеников. Курс нашей начальной школы до отчаяния короток, и потому из двух способов обучения, равных в других условиях, мы должны выбрать тот, который поглощает меньше учебного времени. Мало того, учитель начальной школы нередко вынужден заниматься не с одним классом, а с тремя отделениями или классами учеников, различающихся и по возрасту, и по времени пребывания в школе, и по количеству пройденного, не говоря уже о развитии. Поэтому из двух способов обучения мы должны предпочесть тот, который при равных прочих условиях допускает самостоятельную работу учеников без помощи учителя. Чтобы оценить с этой точки зрения наш составной способ, я обратился к следующему опыту. Осенью, когда с вновь поступившими учениками одной многолюдной школы оканчивали алфавит, я в один и тот же день во время диктовки обошел три класса звуковиков, руководимых тремя разными учительницами. С часами в руках я отмечал время, какое шло на диктовку каждого слова и каждой фразы. Разделив затем цифру секунд на число букв, я узнал, что в среднем на каждую букву тратится 44,3 с, при maximum’e в 67,5 с и при minimum’e в 30 с. При этом на диктовку учителя, раздельное произнесение по складам или по звукам каждого слова детьми и на само письмо идет очень немного времени: на произнесение слова учителем — от 2 1/2 до 3 с на букву, на произнесение детьми — от 2,5 до 7,5 с и на письмо — от 2,5 до 7,5 с, смотря по классу и по трудности слова.
Все же остальное время шло на просмотр работ, исправление ошибок и поддержание порядка во время этого исправления. Время не уменьшалось и в том классе, где в видах исправления ошибок по написании данного слова в тетрадях вызывался один ученик к доске и снова писал то же самое слово. Ошибок обыкновенно оказывалось очень много, и, несмотря на большую трату времени, большая часть ошибок оказывалась неисправленной.
В тот же самый день и в тех же самых классах (в двух) я заставил детей написать несколько фраз по нашему составному способу: я говорил фразу, дети, разлагая каждое слово на звуки, как бы диктовали мне, что я должен писать на доске, а я писал под их диктовку буква за буквой, заботясь только о разборчиво-
сти своего письма, и затем предлагал детям списать написанное на доске. В одном случае я стер только что написанное на доске, предупредив об этом детей и приглашая их внимательнее всмотреться в написанное, прежде нежели я возьму тряпку в руки. Когда дети начинали писать, я обходил их, и так как этот способ работы обусловливает почти безошибочное письмо, то во время их списывания я успевал заметить все их очень немногие ошибки и указать, как исправить их. Моя работа шла в три с лишком раза скорее, чем диктовка учительниц, а именно: мы тратили на каждую букву в среднем 12,8 с (учительницы — 44,3 с), при maximum’e в 16 с (учительницы — 67,5 с) и minimum’e в 8 с (учительницы — 30 с).
Так как при этом работа учителя занимала только 1/3 времени (maximum 1/2, minimum 1/4), то в 10 мин я мог бы заготовить на доске для самостоятельной работы материала на 20 мин.
Самостоятельная работа детей состояла бы в списывании с доски написанного мною под диктовку детей, а контроль за этой работой легко мог бы взять на себя ученик старшего отделения, если бы учитель был занят в это время, например, со средним отделением.
Если бы позволительно было на основании недостаточно большого числа опытов с недостаточно большим числом учеников делать общие выводы, то мы сделали бы из всех вышеизложенных опытов следующий вывод: каждое из данных упражнений тем успешнее в смысле орфографии, чем оно вернее обеспечивает предупреждение ошибок. В самом деле, последнее место по успешности (отрицательное) занимает проверочный диктант, но он менее всех других упражнений рассчитан на предупреждение ошибок.
Выше стоит разложение слова на звуки (14 — 47%), и это упражнение с успехом предупреждает ошибки, и особенно случайные, не предвидимые учителем. Еще выше стоит чтение (от 22 до 47%), и это упражнение довольно успешно предупреждает ошибки, какие может предвидеть сам учитель. Всего выше стоит упражнение, сложенное из разложения, чтения и списывания; и оно лучше всех других предупреждает все ошибки, как случайные, так и те, какие предвидит учитель. В середине стоит списывание (31 — 34%), и это упражнение в смысле предупреждения ошибок и должно занимать среднее место, оно по совершенно понятным соображениям выше проверочного диктанта, ничего не делающего для предупреждения ошибок; сравнивать его с другими упражнениями мешает то обстоятельство, что в младшей группе — а о ней одной у нас и идет речь в данном случае — внимание учеников значительно поглощается графическими затруднениями. Даже колебания в успешности таких упражнений, как предупредительный диктант, легко объясняются с нашей точки зрения. Удастся учителю предвидеть и предупредить все возможные ошибки — получится превосходный результат (в предпоследнем опыте предупредительный диктант дал 51% уменьшения ошибок). Не удастся учителю предусмотреть и предотвратить ошибки — и результат получится жалкий (в одном из опытов это упражнение дало всего только 1% уменьшения ошибок). По-видимому, все дело орфографии на первой ступени обучения, т. е. в младшем отделении, если не считать немногих правил об употреблении и т. п., сводится только к тому, чтобы возможно лучше предупреждать ошибки в письменных работах учеников.
Если наших опытов мало, если число учеников, с которыми произведены эти опыты, невелико, то желательно было бы, чтобы такие опыты были проверены и в других местах, при иных условиях. Но вывод, к которому привели нас эти опыты, настолько согласуется и с данными психологии, и с многочисленными наблюдениями над школами, что мы и теперь можем уже настаивать на этом выводе, мы и теперь уже можем с этой точки зрения оценивать различные приемы обучения орфографии.
Мы видели выше, что в наших школах преобладает проверочный диктант. Ученики при этом естественно делают пропасть орфографических ошибок: пишут ь вместо е и наоборот, д вместо т, ш вместо ж, а вместо о и т. д., а каждая сделанная ими ошибка кладет основание к безграмотному письму, как бы красноречиво учитель ни обличал затем детей за сделанные ими ошибки. «Диктантомания» напоминает нам того отца, который, желая своего сына воспитать трезвым, поставил его в такие условия, чтобы тот не мог не выпивать, но зато после каждой выпитой рюмки выслушивал от отца наставления, как нехорошо пьянствовать...
...Особенно быстро образуются навыки именно в детском возрасте. Психологи говорят, что первые навыки образуются, может быть, с первого же раза. Первое впечатление самое важное. Впервые написав данное слово правильно, быть может, ребенок уже навсегда сохранит привычку к грамотному начертанию этого слова. Ребенок в несколько месяцев приучается говорить на иностранном языке так, как взрослый не научится и в несколько лет. И обратно — привыкнув к искажению слов с первых же недель обучения, ребенок будет затем делать ошибки не вследствие незнания правил орфографии, а по привычке. Он может отлично знать, как писать то и другое слово, а его рука, помимо его сознания, будет делать грубые ошибки. Достаточно припомнить, каких усилий стоит нам отвыкнуть, например, от присловий в разговоре, от какого-нибудь жеста или неправильно произносимого слова, чтобы понять значение навыка, хотя бы и бессознательного. Придется потратить бездну времени и сил, чтобы побороть эти вредные навыки.
Направляя внимание детей на исправление какой-нибудь привычки, мы можем иногда очень скоро достигнуть того, что ученик перестает делать привычную ошибку. Но и в этом случае мы не должны упокоиться на лаврах. Погребенная, казалось, навеки, ошибка может воскреснуть, и тогда она снова потребует и от учителя и от учеников новых усилий на борьбу с собой.
Легко представить теперь, сколько вреда приносят детям диктовка и другие виды письменных работ, если учитель не принял необходимых предосторожностей к тому, чтобы ученики отнюдь не допускали в своих тетрадях ошибки, если он не будет самым тщательным образом предупреждать каждую возможную ошибку и путем громкого и ясного разложения диктуемого слова на слоги и звуки, и путем предварительного записывания трудных слов на классной доске, и путем наводящих вопросов, и путем списывания данного слова, или другими способами, о которых речь будет ниже. Сколько ошибок по оплошности учителя, не сумевшего их предупредить, сделает ученик, ровно стольким же вредным в смысле орфографии навыкам он положит начало. Было бы несравненно легче для учителя помешать ложному образу запечатлеться в уме, нежели затем бороться с созданными привычками; но, как мы уже видели, в большинстве школ об этом не заботятся. И эта одна из причин, почему орфография и грамматика вытеснили из начальной школы более важные предметы преподавания.
Чтобы успешнее бороться с вредными навыками, учителя все увеличивают и увеличивают число диктантов.
Но там, где 9 уроков в неделю идут на диктант, там, где все силы учителя направлены на то, чтобы ученик начальной школы изумил экзаменатора безошибочной диктовкой, там, где учитель на втором, после диктанта, месте ставит каллиграфию, — там угрожает свить свое гнездо «школьное тупоумие» и общеобразовательная школа рискует обратиться в фабрику тупиц. Пушкин и Гоголь не выдержали бы экзамена по диктанту во многих наших начальных училищах. Чтобы добиться в начальной школе безукоризненного письма под диктовку нужно принести в жертву этому Молоху нашей школы fece другое: и чтение художественных произведений, и знакомство с явлениями природы, и историю, и географию родины, умственное и нравственное развитие детей, любовь и вкус к чтению книг, стремление к самообразованию.
Некоторые, видя такую ненормальность, прямо требуют, чтобы на правописание не обращалось никакого внимания.
Мы знаем, однако, школы, где при незначительных усилиях достигались удовлетворительные результаты в правописании. Орфография на ступени обучения — это столько же дело знания правил правописания, сколько и дело навыков. Мы нисколько не отрицаем тем самым роли сознания в правописании. Сознание и здесь служит существенно важным фактором, однако же не единственным. Мы пишем навыком, большей частью не думая о том, как надо писать то или другое слово. А навыки могут быть приобретены при умелом ведении дела попутно на письменных упражнениях, преследующих еще и другие задачи. Приучаем же мы детей правильно говорить и читать на уроках закона божия, истории, географии и т. п. Вывод отсюда ясен: какие бы цели ни преследовали письменные упражнения, необходимо предупреждать орфографические ошибки, необходимо поставить дело, что-
бы ученики мимоходом, между делом, так сказать, и притом без особых усилий, приобретали навык к письму грамотному, а не наоборот.
Если в моей памяти запечатлено произношение слова не только в том виде, как его произносят в разговоре, но еще и в том виде, как его пишут; если я хорошо помню зрительный образ слова, его физиономию, так сказать, если рука моя привыкла писать его так, как надо; если я никогда не писал сам и не видал данного слова написанным неправильно — то правописание слова в огромном большинстве случаев будет вполне обеспечено, если бы даже я совершенно не имел понятия о грамматике...
...Во всяком случае, знание правил должно перевешивать чашку весов в сторону грамотности, а не наоборот. Мы хотим сказать только, что одних правил недостаточно, что необходимы навыки, а они приобретаются предупреждением ошибок.
НОВАЯ ШКОЛА
I. Каждый из нас, чтобы внести в общество свою долю труда, должен обладать профессиональной подготовкой, но в то же время мы и люди и граждане и поэтому наряду с профессиональным образованием, получаемым в технической и профессиональной школе, должны получать общее образование в общеобразовательной школе.
II. Бюрократия запрещала принимать в гимназии «кухаркина сына».1 Мы не должны стремиться к тому, чтобы все дети без исключения и без различия состояния, веры, национальности и пола прошли равную для всех общеобразовательную школу до самых высших ее ступеней. Если при современном и всеразвива-ющемся состоянии техники, юриспруденции, медицины и пр. мы не можем мечтать сделать для всех одинаковым профессиональное образование, зато вполне мыслим и крайне желателен такой порядок, когда через общеобразовательную школу на всех ее ступенях будут проходить все без исключения нормальные дети. И это будет возможно, когда рациональная педагогика получит все свои права в школьном деле, когда будет обращено должное внимание на новые методы преподавания, когда из школы будет выброшен весь старый хлам, которым она завалена из корыстных побуждений правящих классов, когда в нее будут введены одни существенные общечеловеческие элементы знания, для всех равно необходимые, когда будут подготовлены кадры соответствующих учителей. Правда, это задача будущего, и на первых порах, в переходное время, придется ограничиться сравнительно меньшими требованиями, придется допустить, что многие дети по экономическим и другим обстоятельствам не в состоянии будут пройти всех ступеней общеобразовательной школы, а остановятся на второй или даже на первой с тем, чтобы перейти в какую-нибудь профессиональную школу и вообще к профессиональной подготовке. Но и в ближайшем будущем общеобразовательная школа всех ступеней должна быть общедоступной и бесплатной, а обучение на первых ее ступенях и всеобщим.
III. Общеобразовательная школа делится на три ступени: 4 года — в первой, заменяющей прежнюю начальную школу, 4 года — во второй, заменяющей прежние четырехклассные прогимназии, городские классные училища 1772 г. и уездные 1828 г., и, наконец, 3 года — в третьей ступени, заменяющей старшие классы гимназии.
IV. Между всеми ступенями обучения должна быть органическая связь, выражающаяся в беспрепятственном переходе из школы низшего типа в школу следующей, высшей ступени.
V. Должна существовать еще связь между общеобразовательными и профессиональными школами, выражающаяся для данного момента в том, чтобы ученики начальной школы могли беспрепятственно поступать в низшие профессиональные школы, из школы второй ступени — в средние профессиональные школы и из школы третьей ступени — в высшие профессиональные и специальные учебные заведения. Но казалось бы справедливым установить еще связь между профессиональными школами в таком виде, чтобы ученики низшей профессиональной школы могли поступать в соответствующую среднюю, а из средней — в высшую школу того же типа.
VI. Желательно совместное обучение детей обоего пола на всех ступенях общеобразовательной школы.
VII. Образование должно быть светским; оно должно быть основано на началах свободы совести и веротерпимости и не должно стоять в зависимости от духовенства той или другой церкви.
VIII. По педагогическим соображениям и в соответствии с современными общественно-политическими идеалами все преподавание в школе должно вестись на родном языке для каждой национальности, что не исключает и преподавания русского языка как средства для взаимного общения между разноязычными племенами, населяющими страну.
IX. Старая школа руководилась министерскими инструкциями, преследующими полицейские цели; новая школа должна руководиться требованиями рациональной педагогики и современными демократическими общественными идеалами. Министерство народного просвещения'посредством экзаменов и программ заставляло старую школу из всех способностей упражнять по преимуществу словесную память, игнорировать методы, возбуждающие самодеятельность и творческие силы учащихся, и широко практиковать схоластические приемы обучения. Новая школа должна обеспечить широкое применение так называемого эвристического метода преподавания, когда учащийся становится в положение исследователя и изобретателя, когда учитель дает ему только задачи и материалы, а все наблюдения, опыты и выводы из данных материалов делает сам ученик.
X. Старая школа, занятая преимущественно натаскиванием к экзаменам, где требовались почти исключительно словесные ответы, не имела времени пользоваться в достаточной мере наглядностью. Новая школа должна будет пользоваться этим средством на всех ступенях, и особенно на первой ступени — в начальной школе.
XI. Полицейский строй стремился к тому, чтобы старая школа в своих воззрениях сообразовалась не с природой и интересами учащихся, а с своекорыстными стремлениями правящих классов; новая школа должна, поставить во главу угла природу детей, психические свойства их возраста и должна воспитывать детей для них самих и для народа. Она должна дать возможный простор индивидуальным склонностям детей. В этих видах она должна будет предоставлять учащимся известный простор и свободу в выборе самостоятельных работ, в чтении книг и допускать переводы способных учеников в высший класс и в середине учебного года как по всем предметам, так и по отдельным предметам преподавания, причем ученики самостоятельно или при помощи учителя могут догнать опередивших их товарищей. Придется индивидуализировать и меры воспитательного характера сообразно с особенностями детей. Когда возможно, то в многолюдных школах следовало бы выделять отстающих детей в особое отделение, поручая его наиболее опытному учителю.
В многокомплектных школах желательно дробление годичного курса на 2 или более семестра с переводами всех успевающих учеников по окончании каждого семестра в соответствующее отделение. При обучении ручному труду и элементам искусства (рисованию, лепке, пению) желательно групповое обучение, когда класс делится на несколько групп и каждый учащийся переводится в следующую группу в зависимости от успехов в любое время учебного года.
XII. Старый строй в своих корыстных видах фальсифицировал науку. Новая школа должна сообщать учащимся лишь то, что признается современной наукой.
XIII. Старой школе была навязана свыше цель поддерживать в умах народа те предрассудки, на которых зиждился старый порядок; новая школа должна ставить своей целью только благо ученика, развитие его духовных сил, любознательности и стремления к самообразованию, его самодеятельности и общественных чувств.
XIV. Старый порядок, покоившийся на суеверии народных масс, принуждал школу охранять эти заблуждения и воспрещал, например, всякие попытки ввести в школу элементы современного естествознания и обществоведения. Если же он и допускал в школах преподавание естествоведения, то строжайше преследовал самые намеки на те принципы, на которых зиждется современная наука о природе. Новая школа должна будет отвести широкое место наиболее доступным и особенно ценным в смысле развития элементам естествоведения. Причем элементы естествоведения, доступные наблюдению и опыту и передаваемые путем наглядного обучения и существенно важные для развития и в смысле подготовки к дальнейшему самообразованию, могут быть введены в школу, начиная с первой ступени, с начальной школы.
Преподавание элементов из естествоведения кроме необходимых сведений ставит своей задачей приучить учащихся к наблюдениям, опытам и рассуждению, возбудить в них интерес к этой области знаний. Опыт показывает, что интерес детей к этой отрасли знаний значительно увеличивается, когда тот или другой факт связывается с любопытной биографией ученого, впервые открывшего изучаемое явление.
XV. Одной из важнейших целей сообщения географических и исторических сведений является развитие любви к чтению географических и исторических книг и к соответствующим наблюдениям в природе и жизни, окружающей ученика. При этом из истории сообщается лишь то, на чем нет следов той фальсификации, какой этот предмет чуть ли не более всех других подвергался в старой школе в интересах правящих классов.
Из истории большую ценность имеют сведения, какие легко и наглядно можно передавать детям при помощи картин, моделей о доисторическом человеке, об его орудиях, его жилище, одежде, пище, занятиях, образе жизни, сопоставляя все это с современным положением человека: ничто не дает детям такого понятия о прогрессе, о том, что мир теперь не таков, каким он был прежде и каким он станет в будущем. Та же самая идея может быть наглядно представлена детям посредством изучения в родной местности размывов, окаменелостей, ледниковых отложений и других доступных пониманию фактов о влиянии природы на человека, на его знания, трудоспособность, выносливость, образ жизни, на его питание, одежду, жилище, на его богатство и на его характер. Быть может, еще более ценны факты, свидетельствующие о всевозрастающей власти человека над природой.
XVI. Важное значение придаем мы в школе преподаванию элементов обществоведения, которые как требующие привычки к отвлеченному мышлению должны быть отнесены ко второй ступени; но и в начальной школе могут и должны быть сообщены сведения из этой области, доступные для данного возраста: рассказы из географии и истории, иллюстрируемые картинами, рисунками; чтение в классе и дома путешествий, былин, народных песен, стихотворений и беллетристических стихотворений. Но и практически проведение в сознание детей элементов общественности может быть осуществляемо путем организации игр, товарищеских кружков, обществ покровительства животным, древонасаждения, товарищеских судов, привлечения учащихся к ведению библиотек и т. п.
XVII. Старая школа, подавленная учебной администрацией, не имела возможности заботиться о том, чтобы связывать логическими, соответствующими природе и жизни связями отдельные предметы преподавания; новая школа должна будет поставить это требование на главное место, потому что умственное развитие сводится не столько к количеству знаний, сколько в доброкачественности связей между ними. В этих видах статьи для объяснительного чтения должны быть сгруппированы и связаны между собой определенной идеей: например, в течение определенного времени читают статьи литературного характера о жизни в школе,
затем статьи, посвященные человеческому труду, затем о жизни общества и далее о жизни в семье и т. д.
Эти связи должны быть по возможности установлены и между всеми школьными занятиями. И в этих видах можно было бы в течение определенного времени классные занятия связывать с определенным центром, чего требует и гигиена умственного труда. Так, на первоначальных уроках в течение нескольких недель таким центром будет обучение грамоте. Весною и осенью таким центром могли бы быть сведения из физиологии растений, биологии, геологии. Предметы обучения также следовало бы связывать друг с другом. Так, географические сведения, с одной стороны, могли бы быть связаны с тем, что дети знают из физики, химии, природоведения, а с другой — с историей, а то и другое — с природой, памятниками и жизнью в родной местности. Но нужен еще общий центр, с которым должны быть связаны все предметы преподавания, и таким центром должен быть человек. И притом не только в глазах учителя, но и в глазах детей. Так, в литературных произведениях изображаются отношения человека к школе, к просвещению, к семье, к обществу; исторические рассказы изображают жизнь человека в прошлом, география и природоведение — обстановку, в которой живет человек, влияние ее на человека и, обратно — власть самого человека над природой.
XVIII. Каждая школа должна быть снабжена приборами, картинами и учебными пособиями, необходимыми для изучения входящих в курс школы элементов из физики, химии, физиологии растений и человека, биологии, геологии, географии и истории.
XIX. Начальная школа должна довести детей, оканчивающих школу до чтения беглого, сознательного и до известной "степени выразительного. Ученики должны получить привычку и любовь к чтению книг, для чего гфи каждой школе должна быть устроена библиотека для бесплатного пользования книгами, доступными по изложению и ценными по своему содержанию.
XX. Изучение грамматики на этой стадии признается излишним. Те немногие правила правописания, какие необходимо усвоить детям, передаются без грамматики*.
* Ввиду экономии времени и сил на изучение орфографии Лига образования должна поддержать движение в пользу упрощения русского правописания.
XXI. Славянский язык исключается из программы начальной школы. Такие сокращения ныне действующей программы дадут возможность более продуктивно использовать остающееся время в интересах общего развития учеников.
XXII. Ученики, окончившие курс начальной школы, должны уметь рассказать своими словами устно и письменно виденное, слышанное или прочитанное, не представляющее каких-либо затруднений для понимания и передачи.
XXIII. По арифметике учащиеся в начальной школе должны усвоить четыре действия с целыми числами, иметь понятия об общеупотребительных дробях, о метрической системе, измерении площадей и объемов в применении к обыденной жизни и к тем элементам физики, химии, естествоведения и географии, какие входят в курс начальной школы. Из ныне принятых программ должны быть исключены все определения правил, задачи сложные или с неестественными условиями или требующие особенной изобретательности для данного возраста.
XXIV. Признавая бесспорное значение введения в начальную школу элементарных искусств: рисования, лепки, пения, а также ручного труда, в настоящее время, при недостаточном числе учащих, подготовленных к преподаванию этих предметов, нельзя настаивать, чтобы введение этих предметов в курс начальной школы стало всеобщим.
XXV. Полицейский порядок требовал, чтобы школа готовила исполнительных чиновников и послушных обывателей и в полном соответствии со своими целями действовала на детей посредством наград, наказаний, баллов и экзаменов; новая школа должна готовить свободных граждан и, руководствуясь требованием рациональной педагогики, должна упразднить все переходные и выпускные экзамены, все баллы, награды и наказания, а должна воспитывать учащихся путем нравственного внушения, примером учителей, пользующихся доверием и любовью детей, возбуждением любознательности и стремления к самообразованию. При этом особое внимание должно быть обращено на развитие чувства собственного достоинства, атрофируемого в старой школе, и на пробуждение общественных инстинктов.
СПОР МЕЖДУ ШКОЛОЙ И ОБЩЕСТВОМ
Многие признаки показывают, что дело народного образования намеревается взять в свои руки та самая бюрократия, благодаря которой наша страна по степени распространения образования занимает одно из самых последних мест на земном шаре. Возможно, впрочем, что ее заявления сделаны лишь в расчете на то, чтобы вызвать в народных массах недовольство распущенной Государственной думой, будто бы игнорировавшей этот важный вопрос. Но если акты, которые мы имее в виду, вполне искренни, то несомненно, что ближайшему будущему нашего просвещения угрожает серьезная опасность. И все русское общество должно стать на страже народного образования. Оно должно ясно представить себе, каков должен быть строй будущей школы и других просветительных учреждений, и прежде всего — в чьих руках должно находиться это дело, как оградить его от растлевающего влияния тех сил, которые задерживали его развитие, изгнали рациональную педагогику из школы, фальсифицировали школьную науку, обезличили учителя, обратили школу в казарму, восстановили учащихся против учащих, семью против школы и школу против семьи.
Характер школы всегда находится в соответствии с общественным строем и от него зависит. Так было на Западе, так стоит дело и у нас. Столпы нашего отживающего полицейско-сословного строя считали этот строй единственно разумным, возможным, незыблемым и научным. Всякую мысль о другом, лучшем строе они признавали бессмысленными мечтаниями. На людей они смотрели как на пассивный материал для существующего государственного здания, забывая, что обыватели, хотя бы они и не были гражданами, не похожи на тот материал, над которым работает плотник, каменщик или садовник. Чтобы укрепить и сделать совершенно неподвижным государственное здание, им нужно было посредством школы и других учреждений выдрессировать каждого человека так, чтобы он наилучшим образом исполнял заранее предназначенные для него совершенно определенные функции, как плотник обтесывает каждую доску, заранее намечая для нее определенную роль в постройке. Кто родился крестьяни-
ном, для того открывался беспрепятственный доступ в церковноприходскую школу грамоты с определенной программой, а поступать в привилегированное учебное заведение он не мог, и даже в прогимназию ему был затруднен доступ и циркуляром о «кухаркином сыне» и другими ограничениями. Школа существовала не для ученика, а для поддержания строя: она должна была приготовить крестьянина к роли плательщика, опекаемого бесчисленным множеством всякого начальства, и потому должна была обезличить его и научить его беспрекословному повиновению. Столпы общества хорошо понимали, что их строй держится не на их силе (она была равна нулю), а на рабских чувствах и привычках народа. Так как существовавший строй для крестьян был невыгоден, то необходимо было возможно крепче закупорить его мозги, не дать проникнуть в его голову ни единой критической мысли, держать его сознание в полусумрачном состоянии, отучить его самостоятельно мыслить и рассуждать. Он не должен был ничего знать о других, лучших порядках, о новых умственных течениях и требованиях века. Он беспрепятственно мог набивать свою голову только суевериями и предрассудками, «дорогими для русского народа», как выражались столпы. Но истинные, нефальсифицированные знания нещадно изгонялись из школы, так как такие знания свидетельствовали против старого строя. «Нет ничего труднее, как управлять образованным народом...», «Мы не любим умных людей...» Таковы были выражения столпов отечества в минуту откровенности. Они твердо верили, что их строй может держаться только на невежестве масс.
Сын дворянина, имевшего крупный чин, мог поступить в училище правоведения и другие привилегированные учебные заведения, где муштровали из него будущего столпа отечества, и делали это тем легче, что существующий строй был для него выгоден. Точно так же определенные школы и карьера предназначались для поповского сына, другая — для офицерского и т. д. Для еврея существовала своя школа и определенная черта оседлости. В сущности, перед столпами рисовался тот же идеал, который руководил Аракчеевым1 в устройстве его знаменитых военных поселений. Это — идеал генерала, мечтающего об обществе как об армии, вытянутой в прямые линии и разбитой на полки, эскадроны и бригады. Каждому было заранее отведено свое место в обществе, свое образование, свой духовный мундир и шаблон, свои обязанности, а иногда и права, и все это определялось одной случайностью рождения. Правда, что способности и таланты распределялись совсем не так, как хотели бы столпы отечества. Непривилегированные классы, несмотря на все плотины и преграды, дали Ломоносова, Посошкова, Сперанского2, Чернышевского, Добролюбова, Горького, Андреева3, Шаляпина4, Репина и других, а из привилегированных классов выходили виновники севастопольского, мукденского, ляоянского и цусимского поражений5. Правящие классы привели страну к нищете, голоду, финансовому расстройству и к неслыханному позору. Но
чем более трещин давал старый строй, тем усерднее оберегалось сознание народа от попыток критического отношения к этому строю. Отсюда все усиливающееся давление на школу, боязнь каждого новшества, недоверие к обществу, частной инициативе и учителям, ограждение учащихся от влияния книги, газеты, интеллигенции, самый подозрительный надзор над учащими и учащимися зараз посредством экзаменов и целой системы шпионства, замена педагогики и дидактики официальными программами и циркулярами и крайне своеобразная система школьного заведования, монополизировавшая в руках бюрократии и поглотившая образование, ставшая тираном и палачом детской души.
В прошлом самым влиятельным учреждением в школьном деле был департамент полиции, связанный интимными связями с камарильей вроде звездной палаты и бесчисленное множество подчиненных ему учреждений и лиц. Ни одна школа не могла быть открыта, ни один учитель не мог быть назначен без разрешения полиции. Но и разрешенная уже школа не могла просуществовать и одного дня, если полиция признавала ее вредной. Все эти органы и лица действовали совершенно произвольно и бесконтрольно... Самый низший чин жандармского управления, охранного отделения, полиции или шпионажа, как бы невежествен он ни был, какими бы личными и корыстными мотивами ни руководился, оставался за пределами недосягаемости. Жаловаться было некому и не на кого, потому что все дело велось секретно и действительные мотивы закрытия школы или увольнения учителя никем не могли быть сообщены пострадавшему. Точка зрения была такая: предпочиталось иметь среди учителей 20% пьяниц и 80% невежд, лишь бы не было ни одного учителя, который мог бы оказаться неблагонадежным.
К этим бесчисленным, самодержавцам примыкали в качестве добровольцев все, кому совесть позволяла из личной выгоды заниматься доносами. Нужно было взяточнику и казнокраду отделаться от неприятного ему сослуживца, и он обращался к политическому доносу, часто ложному, как к совершенно безопасному средству. Надо было небрезгающему средствами человеку получить определенное место, и в том же доносе он находил верное средство освободить для себя вакансию.
Второе по своему влиянию место занимала обер-прокурорская канцелярия Синода и духовенство. Оно неусыпно следило и за учителями, и за направлением школ, и там, где не были заинтересованы полиция и ее наемные или добровольные агенты, но были заинтересованы отдельные лица из духовного ведомства, последнее так же легко могло добиться увольнения учителей и закрытия школ. Министр народного просвещения обыкновенно был послушным исполнителем распоряжений этих ведомств. Я знаю случай, когда министерство, исполняя желание обер-прокурора Синода, в одной только губернии закрыло сразу более сотни школ, пользующихся особым сочувствием населения, а о закрытии отдельных школ и увольнении отдельных учителей нечего и говорить. И министерство не всегда даже умело открыть свою подчиненную роль. Один министр на ходатайство за одно частное общество по народному образованию не постеснялся сказать, что он сочувствует целям этого общества, но ничего не может сделать, потому что против стоит обер-прокурор Синода. На возражение, что это дело не может касаться обер-прокурора, что оно всецело принадлежит компетенции министерства, министр прямо отвечал, что он бессилен тогда иметь такого противника.
Там, где оканчивались интересы полиций и духовного ведомства, начиналось влияние Министерства народного просвещения с ученым комитетом, попечителями учебных округов, директорами и инспекторами народных училищ, влияние училищных советов с предводителями дворянства, земскими начальниками и попечителями школ; еще в 70-х гг. барон Корф сосчитал, что у каждой начальной школы 18 начальников, но с тех пор число их значительно возросло. Каждый из этих начальников, в большинстве случаев не заинтересованных в рациональной постановке учебно-воспитательной части и преследующих цели, ничего общего не имеющие ни с благом детей, ни с истинным просвещением, мог налагать свою властную руку на все стороны школьного дела, влиять на направление обучения, на дисциплину, на выбор книг и учебников и пр.
Зато у лиц и учреждений, всего более заинтересованных в правильной постановке школьного дела, — у учащих, у родителей учащихся и у содержателей школ — не было сколько-нибудь самостоятельного положения, почти не было прав: на них лежали только одни тяжелые обязанности. Учителя должны были беспрекословно исполнять все приказания, циркуляры и инструкции многочисленного поставленного над ними начальства. Родители обязывались исполнять все требования, предъявляемые к ним школой. За домашней жизнью детей был учрежден строгий надзор и шпионство в лице надзирателей, помощников классных наставников и самих учителей и наставников. Эти лица должны были посещать ученические квартиры и доносить начальству обо всех отступлениях от подробно регламентированных правил для учащихся.
Но старый сословно-полицейский строй в самом себе носил все задатки разрушения. Дальновидные люди еще сто лет назад утверждали, что гнет сверху, устранение народа от общественных дел, лишение простора в самодеятельности могут привести страну к разложению и гибели. И когда политика старого строя привела страну к Цусиме на море, к Цусиме в финансах, в экономическом положении страны, к Цусиме в школе,'то самые темные слои населения поняли предстоящую опасность вырождения и гибели. С другой стороны, гонения на свободомыслящих людей, давно предсказывавших, к чему ведет политика угнетения, заставили самых индифферентных людей с жаром неофитов стать на защиту поруганной свободы. Самые вялые люди проявили такой энтузиазм и энергию, что теперь для всякого ясно, что русские умеют
любить свободу, стоять за нее и приносить ей жертвы. Кому теперь не ясно, что порядок постоянно нарушался бюрократией, но что он может быть поддержан самим обществом. У людей есть общие интересы, и сознание этих интересов заставит само общество установить порядок в школе и взаимную безопасность в общественной жизни, как он Легко и просто устанавливается на улице, в толпе, без всякого участия полиции. Несомненно, мы накануне того давно деланного строя, когда ни полиция, ни сословия, ни бюрократия, а само общество устраивает общественную жизнь. Сами обыватели превратятся в граждан и, сгруппированные по профессиям, по интересам, по месту жительства, по разным общественным учреждениям, построенным на широких демократических началах, проявят все сдавленные до сих пор творческие силы, чтобы создавать, раздавать, развивать и улучшать новый строй, основанный на самодеятельности всех личностей, без различия классов, пола, вероисповеданий, национальностей. Маленькую кучку правящего класса, привыкшую к произволу, самовластию, бесконтрольности и безответственности, — кучку, воспитанную в школе Д. Толстого, Победоносцева7 и Плеве8, лишенную творчества, должны заменить все живые силы страны. И чтобы поставить школу в соответствие с современными общественными стремлениями русского общества, в заведовании новой школой не должно быть никакого места ни департаменту полиции, ни обер-прокурору Синода, ни попечителям округов, ни директорам и инспекторам училищ, ни училищным советам прежнего состава, ни дворянству в лице предводителей и земских начальников, ни единоличным попечителям школ.
Нужно организовать живые и действенные общественные силы, способные работать на поприще просвещения.., и только этим общественным организациям должно быть предоставлено ведение школьного дела в стране. Централизация школьного дела, принесшая ему столько вреда, должна уступить место децентрализации. При этом нечего бояться, что таким образом будет нарушена идея единства общеобразовательной школы. Единство школы достигается совсем не бюрократическими циркулярами. Оно достигается широким распространением основных принципов, на которых должна быть построена школа. Все школьные деятели или, по крайней мере, подавляющее большинство их по своим убеждениям явятся детьми своего века и потому будут согласны друг с другом в том, что является для данного времени бесспорным и для большинства наиболее желательным. Останутся частности, спорные вопросы, которые будут решаться по-разному в разных местах, но в этом-то и заключается залог прогресса. Ни наука, ни искусство, ни литература, кажется, ни разу и нигде в мире еще не жаловались на отсутствие соответствующих канцелярий, регулирующих их деятельность, и едва ли кто решится утверждать, что канцелярии могли бы служить им на пользу. Нет оснований думать, чтобы и педагогическое дело не обошлось вполне благополучно без руководящих циркуляров и канцелярий.
Первая из сил, ближайщим образом прикосновенная и заинтересованная школой, — это учащие. Никакие программы, никакие планы обучения, никакие руководители, учебники и руководства — ничто не заменит живого учительского воздействия на учащихся. И от того, как учащие поймут и исполнят свое назначение, будет прежде всего зависеть и будущее нашей школы, и в значительной мере будущее нашей родины.
Й насколько наши учителя будут сами просвещенны, любознательны, знающи и умелы, настолько будут велики и результаты наших просветительских учреждений. До сих пор учителям давали такую подготовку, чтобы у них не было ни научных знаний, ни педагогических умений. Если в общеобразовательных школах всего более старались о том, чтобы охладить юные умы и закупорить мозги учащегося юношества, то в учительских школах всех видов эти цели преследовались с таким усердием и с такими ухищрениями, какие непосвященному во все тонкости дела человеку покажутся просто невероятными. Достаточно прочитать программы учительских семинарий и объяснительную к ним записку, чтобы видеть, как из курса этих профессиональных заведений устранялся всякий намек на современную науку, и особенно на принципы, лежащие в ее основе, с какой заботливостью оберегались все суеверия и предрассудки, особенно дорогие правившим классам. Будущий народный учитель должен обладать широким образованием и знаниями, и особенно из областей естествознания и обществоведения, а также знаниями, имеющими прямое отношение к его профессии, из физиологии в связи с гигиеной, экспериментальной психологии, дидактики, методики и истории педагогики. Но он должен не только знать, но и уметь. Он должен обладать умением обучения, приобретаемым на практических занятиях в образцовой школе, должен быть знаком с наглядными и другими пособиями, употребительными учебниками, книгами для классного и внеклассного чтения; на экскурсиях он должен познакомиться с постановкой учебного дела в школах, особенно заслуживающих его внимания.
И дело подготовки учителей, соответствующих новым условиям, должно быть поставлено на первом месте. Будем мы иметь хороших учителей — надлежащее развитие школьного дела будет обеспечено. Не будет у нас хорошо подготовленных учителей — не будет ничего.
И вместе с тем необходимо раскрепощение учителя. Это требование должно быть поставлено в ряду главнейших; о нем нельзя забывать ни на одну минуту. В будущей школе учитель будет воспитывать не рабов, не обывателей, лишенных воли, а свободных граждан; но для этогб он сам должен чувствовать себя свободным гражданином. Учитель воспитывает детей не только посредством обучения и словесного внушения, но, что еще важнее, своим примером. Только в этом случае ученики незаметно для них самих подчиняются влиянию искренних стремлений и убеждений учителя. Но для этого учитель должен быть независимым и полноправным: он должен иметь возможность принимать участие как в местной общественной жизни, так и в политической борьбе, проводить в жизнь и бороться за свои общественные и политические идеалы; но это возможно лишь при том условии, если правовое положение учителя будет улучшено и он будет огражден от всяких покушений на его права как со стороны духовенства, так и других классов и учреждений, стеснявших до сих пор самостоятельность учащих. Сопоставьте успехи школьного дела в разные времена и в разных странах, и вы увидите, как с улучшением правового положения учителя улучшалась и школа. Если самостоятельность учителя не должна быть стеснена в области общественной и политической деятельности, то тем более свобода должна быть предоставлена ему в его профессиональной деятельности.
Когда он по требованию столпов старого строя готовил послушных обывателей, учил детей одному повиновению, ему не надо было простора и свободы: свободолюбивый учитель был бы совсем не пригоден для этой роли. В будущей школе учителю должны быть предоставлены свобода в обучении, инициатива и известный простор в его творческой деятельности. Только при такой свободе учитель будет учить правде, а не лицемерию и лжи. Конечно, он должен быть знаком по возможности со всеми распространенными методами преподавания, учебниками, пособиями, руководствами, но пользоваться он будет лишь теми из них, которые отвечают его личному убеждению. Насилие в этом отношении принесет только вред. Как врач в своей деятельности руководителя наукой и своей совестью и при лечении больного не справляется с желаниями начальства, а если советуется, то лишь с более опытными товарищами, так и учитель должен руководиться педагогикой в обширном смысле этого слова и своими убеждениями. Если бы он поступал не так, он очень скоро утратил бы необходимое ему доверие населения...
Обучение и воспитание в известном смысле — искусство, а учитель — художник, и, как художнику, ему должен быть предоставлен простор. Свобода художника или артиста не обозначает еще бесконтрольности, для него нет суда строже ежедневного тысячеглавого контроля публики. Что для художника делает публика, выдвигая вперед достойнейших не по их нынешнему положению, а по их личным дарованиям и заслугам, то для учителей должно делать общественное мнение. Деятельность учителя должна находиться под постоянным контролем общества.
Но кроме контроля общественного мнения есть еще товарищеский контроль. И учителя должны организоваться в автономные, независимые от бюрократии профессиональные союзы, и это не только в интересах их материального и правового положения, что, конечно, существенно важно, но также и в интересах самой школы. Каждому профессиональному и особенно народному учителю, часто одинокому, живущему в глуши, вдали от интеллигентных центров, нужна товарищеская поддержка. В случае затруднений, встреченных им в своем деле, он всего охотнее обратится к товарищам, легче всего для него выслушать указания на свои ошибки от товарищей. К решениям товарищеской корпорации он отнесется с особенным доверием. Их порицания он более всего боится. Их похвала для него лучшее поощрение. Из этого следует, что учительская корпорация в целом должна иметь представительство во всех органах, заведующих школьным делом в мелкой общественной единице, уезде, губернии и области, равно как и каждому учителю должна быть предоставлена видная роль по заведованию школой, в которой он служит.
Но освободить учителя от гнета и насилия, гарантировать свободу обучения — это еще не значит узаконить цеховую замкнутость учащих. История народного образования показывает, что такая замкнутость всюду вела к застою, рутине и неподвижности. Замкнутые в самих себе, варящиеся в собственном соку, раз навсегда создавшие себе свои беспрекословные авторитеты, далекие от жизни и высокомерно смотрящие на нее со своего мнимого педагогического Олимпа, они очень скоро отстают от быстро текущей, все усложняющейся жизни, перестают прислушиваться к требованиям времени, делаются реакционной силой. При этих условиях не может быть прогресса, а есть только застывшая, окаменелая на одном уровне школа. Даже наука обречена на смерть, если ученый мир замкнется в цех. В этом случае не помогут никакие права и привилегии.
Нет, если мы не хотим окаменелости и застоя, мы должны сблизить школу с жизнью, мы должны привлечь к участию в школьном деле все общество, все живые силы страны, и прежде всего тех, кому дороги дети, их счастье, их развитие, — родителей. Права родителей существовали еще тогда, когда не было ни школ, ни учителей. Эти права основаны на глубоких инстинктах человеческой природы — на родительском чувстве, и это чувство — первый общественный инстинкт, и родительские права — первое общественное право.
Сословно-полицейский строй, защищая гонения на семью, приводит в свое оправдание, что многие родители ничего не понимают в педагогическом деле, но если это так, то учителям следовало бы познакомить таких родителей со своими взглядами, убедить их в истине своих воззрений, и это прежде всего для того, чтобы привлечь на свою сторону семью, с которой связывают ученика его лучшие и самые прочные привязанности. Школа, имеющая на своей стороне семью, всесильна; школа, враждующая с семьей, мертва и ничтожна по своему значению.
Если школа не ладит с семьей, то жертвой разлада являются дети, расплачивающиеся за ошибки школы ценой ни для кого не нужных страданий и исковеркания жизни. При этих условиях школа теряет свой авторитет, учителя перестают быть руководителями в духовной жизни учащихся, дети ненавидят школу, исполняют ее требования за страх, но не за совесть, и самые лучшие намерения учащих перетолковывают в дурную сторону,
все их советы понимают наоборот, видят в них указание, как не следует им поступать. Не семья существует для школы, а школа — для семьи, и обе вместе — для ребенка. Не может быть, чтобы люди, заинтересованные в данном вопросе, не напрягали всего своего ума к усвоению учительской точки зрения и оказались бы не в состоянии отличить истину от лжи. В совете школы могли бы участвовать только выборные представители родителей, а выборы дадут лучших людей. Но невозможно предположить, чтобы в целом школьном районе не нашлось среди родителей лиц, способных сознательно отнестись к вопросу об обучении их детей и с пользой принять участие в совете школы, и это тем более, что им виднее, как влияет школа на интересы и поведение их детей, на их развитие, их настроение, здоровье. Они знают интимную жизнь детей и обогатят учителей неподдельными фактами из детской жизни, имеющими решающее значение в большинстве вопросов учебно-воспитательной части школ. Еще были бы понятны защитительные речи бюрократии, если бы ее школа шла впереди народа и опережала взгляды родителей. Но мы знаем, что в огромном большинстве случаев это было не так. В последнее время было очень много родительских собраний при средних и низших школах. Мы все читали в газетах, как много свежего, здорового внесли в нашу школьную жизнь многие из этих собраний, какие серьезные вопросы школьной жизни выдвигали они, насколько выше, разумнее и жизненнее были требования многих родителей сравнительно с существующей постановкой школьного дела. И если в таких собраниях отмечались недостатки, то они объясняются особенностями момента, когда два лагеря, ведущие постоянную партизанскую войну, — родители и учителя — впервые решили заключить перемирие и сообща столковаться о нуждах школы. Почти то же самое можно сказать и о народной школе. Мне приходилось уже цитировать требования, предъявляемые народом к школе. Если не умом, то чутьем и сердцем многие родители доходили до требований, гораздо более рациональных и высших, чем те, каким удовлетворяет современная школа. Заурядные крестьяне требовали от школы для своих детей «смекалки, толковости/дошлости», т. е. умственного развития, и находили, что школьная грамматика им «ни к чему».
Они хотят, чтобы школа выпускала «знающего человека», т. е. они требуют расширения начальной программы в смысле сообщений знаний. Они хотят, чтобы детям сообщали «о громе и молнии», о том, «что их окружает», о том, «что делается на белом свете». Они хотят, чтобы их дети перестали «верить разным суевериям», чтобы они полюбили чтение, потому что «все почерпается из книг», «книжки — лучший руководитель человека»... они «указуют путь»... Рядовые крестьяне требуют, чтобы в народных библиотеках были все книги, какие читают образованные люди. Нечего и говорить, насколько эти требования выше того, что считала возможным предоставить народу бюрократия. Не надо забывать, что в последнее время у нас народилась крестьянская и рабочая интеллигенция и ее взгляды на школьное дело вполне заслуживают быть выслушанными. Вывод ясен: родителям, во-первых, должно быть предоставлено право участвовать в заведовании через своих представителей той школой, где учатся их дети, и все они должны иметь право присутствовать на уроках, при одном условии: не мешать ни учителю, ни ученикам в их работе.
Конечно, еще более, чем родители, заинтересованы в постановке школы сами учащиеся; но когда речь идет о детских народных школах, то о формальном праве их представительства в заведовании школой не может быть и речи. Вопрос об активном участии их в школьных порядках является вопросом педагогическим, а не юридическим.
После учащихся и родителей никто так близко не заинтересован в постановке школьного дела, как органы самоуправления, начиная с будущей общественной единицы, продолжая городской думой, уездным и губернским земствами и областным самоуправлением, которое, вероятно, осуществляется, чтобы обслуживать большие районы, объединенные культурно-историческими особенностями. Даже то сословное земство, какое существует доселе и представляет протекторат дворянского сословия над всеми прочими, — даже оно имеет заслуги в деле народного образования. Если наша начальная школа, несмотря на весь гнет со стороны полицейско-сословного строя, еще сохранила в себе здоровые элементы, то этим она обязана не только лучшим из учащих, частной инициативе в лице просветителей обществ и организаций, прогрессивной литературе, но и лучшим из земских и городских деятелей.
Большая часть расходов на школьное дело поступала от органов самоуправления. Наряду с частными деятелями по народному образованию и литературой эти органы вели трудную борьбу за лучшую школу с правительством. И школы, содержимые на средства земства, были несравненно лучше школ казенных и особенно церковноприходских. Нет никакого сомнения в том, что, когда местное самоуправление будет реформировано на широких демократических началах, деятельность земства будет несравненно продуктивнее во всех отраслях, и особенно в области народного образования. Несомненно, что тогда эти все органы самоуправления будут пользоваться в глазах всего населения таким доверием и авторитетом, каким никогда не пользовались существующие теперь самые лучшие и прогрессивные земства. А так как и тогда значительная часть школьного бюджета будет покрываться органами самоуправления, то тем более должно быть им предоставлено право в заведовании делом народного образования. Представителям земства должно быть предоставлено видное участие не только в областном, губернском и уездном школьных советах, не только в органе, ведающем школьное дело в районе мелкой общественной единицы, но и в каждой школе в отдельности. Только тогда органы самоуправления будут охотно давать необходимые средства на школьное дело, когда оно будет их собственным делом. Наибольшие заслуги в смысле распространения просвещения принадлежат интеллигенции. Она является носительницей и выразительницей современных политических и общественных идеалов, и чем выше интеллигенция, чем больше у нее знаний и умений, тем основательнее и выше то просвещение, которое она дает народу; чем она бескорыстнее и искреннее, тем скорее и шире она распространит свои знания и свои идеалы в народе. И с этой стороны нам нечего бояться за будущее нашей родины. В целом мире нет более идейной и бескорыстной интеллигенции, чем наша. Нигде образованные классы не принесли столько жертв на благо народа, как наша многострадальная интеллигенция. Никакая другая страна не знает стольких преследований, сколько выпало на долю наших идейных борцов за благо народа с его злейшими и своекорыстными врагами. Массовые хождения в народ, бесплатная воскресная школа, курсы для крестьян и рабочих, библиотеки, народные чтения, дешевые издания для народа — все создано ею не только бескорыстно, но и под дамокловым мечом, под угрозой со стороны всевозможных держиморд и палачей, ненавидевших всеми силами души русского интеллигента.
Эта интеллигенция и заслужила, и выстрадала свое право едва ли не на первое место в деле строительства русского просвещения, и ей необходимо обеспечить право голоса во всех уездных, губернских и областных школьных советах по выбору таких обществ, как Лига народного образования или другое аналогичное общество, преследующее такие же культурные и демократические цели, куда обыкновенно входят в качестве членов интеллигентные лица, интересующиеся делом народного образования.
Бескорыстное отношение и преданность этих лиц делу просвещения, их знания, их опыт и таланты — все ручается за то, что их мнения и их советы были бы особенно ценными. Устранить их от участия в заведовании школами — это значило бы пренебречь главным рычагом, двигающим в стране просвещение народных масс.
Вот и все элементы, из которых должны быть составлены советы, как уездные, так губернские и областные. Эти советы сами должны выбирать и назначать педагогов-руководителей, входящих в состав советов. Такие руководители будут объезжать школы, давать примерные уроки, помогать учителям своими советами и о всех школьных нуждах доводить до сведения подлежащих учреждений. Они же будут составлять отчеты о школьном деле в своих районах, обращая внимание на явления, особенно поучительные для учащих и всех деятелей по народному образованию.
Начальная школа стояла бы слишком далеко от органа, заботящегося об ее нуждах, если бы по-прежнему этот орган был в уездном городе и обслуживал весь уезд. Более того, школа стояла бы далеко даже от управы проектируемой мелкой земской единицы, если бы при самой школе не было посредствующего органа, куда входили бы местные лица, ближайшим образом заинтересованные в школе и хорошо знающие все местные условия школьного района. Вот несколько примеров, иллюстрирующих эту мысль. Надо хорошо знать экономические и иные условия каждой семьи, чтобы облегчить доступ в школу всем без исключения детям школьного возраста. Надо хорошо знать пути сообщения со школой всех селений школьного района и привычки местного населения, чтобы правильно определить начало и конец дневных учебных занятий. Надо хорошо знать местные условия, чтобы определить начало и конец учебного года, зимних каникул и пр., вовремя прийти на помощь учителю выдачей пособий и пр. То же самое надо сказать и об улучшении школьного здания и об устройстве ночлежного приюта, об организации подвоза учеников из отдаленных селений, об устройстве вечерних, воскресных занятий и классов для бывших учеников и т. д. Никакой другой орган не может так чутко прислушиваться к школьным нуждам и потребностям, как местный попечительный комитет, при участии в нем заинтересованных местных лиц и учреждений. Никакой другой орган не свяжет так близко школу с местным населением, как орган, состоящий из местных людей. Этот орган, по соображениям, выше изложенным, должен состоять из всех учащих школы, из представителей самоуправляющейся местной единицы и представителей от родителей. Представители от родителей могли бы входить и в школьную управу при мелкой земской единице, куда, само собой разумеется, должны, кроме того, входить еще и представители общественной единицы и учащие. Из последних двух элементов, а также школьного или санитарного врача и представителей Лиги образования должны состоять уездные, губернские и областные советы.
Перечисленные нами учреждения совместно с учительскими съездами ведут все школьное дело и учебно-воспитательную и хозяйственную часть в своих районах. Я умалчиваю здесь о функциях каждого из этих органов и о числе представителей от разных организаций, потому что об этом я говорю в другом месте.
Учебные заведения, содержимые на частные средства, не должны подлежать ведению названных нами органов. Для них достаточно контроля общественного мнения, а в случаях злоупотреблений — суда. Их свобода особенно ценна ввиду того, как много творчества и изобретательности вносят они в школьное дело. Мне уже приходилось писать о том, как много нового, свежего и прогрессивного внесли в нашу школу, например, частные воскресные школы, несмотря на все гонения, которым они подвергались со стороны администрации.
Но и общественные школы, для которых мы наметили схему заведующих органов, должны быть освобождены от всяких административных давлений. К сожалению, в своем проекте о всеобщем обучении, сообщенном газетами, Министерство народного просвещения и теперь еще держится своих старых взглядов и полагает, что за ним должно быть оставлено общее руководство и наблюдение за учебной частью. Последние события его ничему не научили, и оно ничего не забыло. Мы хорошо знаем, что значит его общее руководство и наблюдение за учебной частью. Не то ли самое министерство издало такие программы и экзаменационные требования, которые заставили народных учителей уделять в среднем выводе 12 ч в неделю на диктовку и грамматику и только 3 ч на русское чтение, включая сюда и объяснительное чтение по истории и географии, для чего навязывались школам книги, представляющие крайний предел фальсификации современных знаний? Не оно ли изгнало из школы почти все развивающие элементы и оставило только механические навыки руки, глаза и уха? Нет, если оно хочет, чтобы народная школа, действительно, отвечала обновленному строю, основанному на самодеятельности общественных сил, оно должно отказаться от административного руководства и наблюдения за школами. Школа не официальный орган, обязанный за денежную подачку проводить ту или другую часто меняющуюся политику министерства. За центральным органом мы оставили бы только представление в парламент сметы по народному .образованию, печатание и широкое и даровое распространение отчетов и монографий по народному образованию как в России, так и за границей, но и для этих функций в него должны войти кроме представителей министерства выборные представители от губернских и областных советов.
Только освобожденная от давления администрации школа могла бы быть в действительном смысле общественной школой. Школу, заведоваемую только одними общественными учреждениями, общество, действительно, считало бы своим детищем, своим созданием и своей заботой. Живая связь между обществом и его школой не прерывалась ‘бы. Прогрессирование такой школы шло бы вместе с развитием общества. Такая школа не отставала бы от жизни, а вместе с ней двигалась бы вперед по пути к высшим идеалам человечества.
Возможно ли равное для всех общее образование?
Кроме неравенства экономического и правового существует еще неравенство в образовании, и сознание этого неравенства обусловливает страдания не менее жгучие, чем неравномерное распределение между людьми материальных богатств и политических и гражданских прав...
...Неравномерность распределения материальных богатств между людьми вполне справедливо обращает на себя должное внимание и среди интеллигенции, и среди рабочих классов, и среди крестьян. Мы твердо знаем, что духовная пропасть между образованными классами и народом у нас неизмеримо больше, чем в Западной Европе, чем в Америке, чем в Азии и где бы то ни было. И потому в борьбе за справедливое распределение богатств мы не можем и не должны забывать о безусловной необходимости самых энергичных мер и к более справедливому распределению образования.
Наш идеал — равное для всех общее образование. При идеальной системе просвещения не должно быть ни низшего, ни среднего, ни высшего общего образования, а должна быть общая для всех общеобразовательная школа, считающаяся лишь с индивидуальными наклонностями и способностями каждого ученика. Если приказной строй запрещал принимать в гимназию детей кухарок, то нашей целью должно служить, чтобы все дети, не исключая и кухаркиных, прошли до полного окончания курса вместе с детьми всех других сословий одну и ту же общеобразовательную школу от нижних ступений до самых высших. Науку сравнивают с солнечным светом, но солнце посылает свой свет повсюду и равномерно. Так и научное знание. Народу должны быть сообщены самые последние выводы науки, а не те средневековые суеверия, которыми с благословения Амалии Грингмута в наше время считают возможным наполнять головы простого люда.
Мы считали такую реформу величайшей реформой — величайшей и в то же время справедливейшей.
Быть может, некоторые сочтут этот идеал неосуществимой мечтой, беспочвенной иллюзией, фантастической утопией. И они будут не правы.
Начать с того, что когда мы говорим о равной для всех школе, то мы имеем в виду не специальные и не профессиональные учебные заведения, а только одну общеобразовательную школу. Современное состояние техники, торговли и промышленности не допускает и самой мысли о том, чтобы все люди имели одинаковые сведения в педагогике, механике, электротехнике, бухгалтерии, агрономии, юриспруденции. Но педагог, бухгалтер, электротехник, агроном, адвокат, музыкант и механик в то же самое время и люди, и граждане, и потому кроме специальных знаний, различных для каждой особой профессии, всем им равно необходимы общечеловеческие знания — общее образование, одинаковое для всех людей, к какой бы профессии они ни принадлежали. Конечно, это общее образование не должно походить на то очень сомнительное образование, какое необходимо для получения аттестата зрелости. Даже в те времена, когда наши гимназии не были изуродованы реформой Каткова-Толстого, из гимназий выходили в полном смысле самые невежественные и неразвитые люди. Такой талантливый человек, как Д. И. Писарев, по окончании гимназического курса вынес из гимназии такой кругозор, такие интересы и такое развитие, что по окончании гимназического курса его самым любимым занятием было, по его собственному признанию, раскрашивание картинок в иллюстрированных изданиях, а любимым чтением — романы Купера и особенно Дюма-отца. История Англии Маколея оказалась для него непреодолимой. Критические статьи в журналах производили на него впечатление кодекса иероглифических надписей.
Такие жалкие результаты получились не потому, конечно, что курс гимназии был недостаточно продолжителен, а только потому, что гимназия давала тогда и дает теперь то, что ни для кого и ни для чего не нужно,» совершенно излишне, а большей частью даже вредно, и не дает того, что нужно для общечеловеческого развития.
Наши гимназисты подробно расскажут про битву на реке Калке, про все водные системы, но они не имели бы ни малейшего понятия о роли, какую играет воздух в дыхании, о законе спроса и предложений, если бы не получали этих сведений вне школы и часто наперекор ей. Они умеют написать слово дуб и просклонять его на пяти языках, но они ровно ничего не знали бы о жизни дуба, о питании растений, об их оплодотворении, если бы не пользовались, часто вопреки распоряжениям учебного начальства, книгами из общественных и частных хранилищ.
Если бы выбросить из гимназического курса никуда не годный хлам, весь излишний балласт вроде номенклатуры, ненужных дат, терминов, выбросить всю фальсифицированную историю, древние языки, славянский язык, все ненужные подробности, все мелкие, не связанные логическими связями факты, все сомнительное, основанное на суевериях, все, что признано современной наукой ошибочным, если... сосредоточиться только на главном и существенном; если внести в курс общеобразовательной школы изучение наиболее достоверных законов и бесспорных принципов, выраженных в широких, простых, определенных и ясных формулах, иллюстрируемых доступными для всех опытами и примерами; если вместо обычных методов и приемов преподавания ввести новые, рациональные — то можно при значительном сокращении лет обучения в гимназии достигнуть Неизмеримо более высоких результатов.
Будущая общеобразовательная школа возьмет из наук только самое ценное и достоверное и только наиболее общее и существенное. Если бы мы не могли сгустить в небольшое число широких обобщений весь громадный материал человеческих знаний, то мы не имели бы возможности двигаться вперед, потому что наш мозг был бы завален громадным количеством хлама. Чем больше приобретено человечеством знаний, тем больше они должны быть сгущены для общеобразовательной школы. При этом условии на прохождение общеобразовательной школы потребуется значительно меньше времени. И тогда станет вполне возможной для всех равная и даже обязательная общеобразовательная школа без всяких подразделений ее на начальную, низшую, среднюю и т. п. Школа, дающая несравненно больше, чем современная гимназия, перестанет казаться несбыточной мечтой.
В истории народного образования всякого педагога поражает тот факт, что когда правительство устраивало учебные заведения и посылало в них учиться, то люди разного звания — дворяне при Петре I, крестьяне государственных имуществ при министре Киселеве — не хотели принимать даров, приносимых правительством, не скрывали своей ненависти к учению и даже оказывали энергичное противодействие... Не помогали и привилегии, щедро раздаваемые учебными заведениями всех типов. Петр силой тащил дворян в учебные заведения, позднее старшины палками загоняли крестьянских детей в училище государственных имуществ, а между тем никто не станет отрицать, что потребность к знанию присуща всем людям, не исключая ни дворян, ни крестьян. Спросите профессоров, читающих лекции в университете и на рвбочих курсах, и они вам скажут, что они более довольны вниманием рабочих, живущих под гнетом вечной нужды и изнурительного физического труда, чем студентами, располагающими несравненно большим досугом для научных занятий. Кому неизвестно, как охотно бегают крестьянские дети в хорошую современную школу?
Если мы обратим внимание на то, что школа прошлого стремилась приспособить учащихся к известным внешним условиям, что она ставила себе целью не развитие человека, а внешние посторонние цели — приготовить тех или других профессиональных работников, нужных для правительства, что она игнорировала естественные, природные, свободные человеческие стремления и охоту и нередко ставила противоестественные, не согласованные со здоровыми человеческими инстинктами задачи, то станет понятно, зачем требовались всевозможные права, связанные с окончанием курса, с одной стороны, и палки старшин, с другой, чтобы наполнить школы, учреждаемые русской бюрократией.
Психология доказала, что ум, память, внимание и все другие душевные силы работают наилучшим образом, дают наивысшие результаты лишь тогда, когда их работа не носит тягостного принуждения и насилия, когда она произвольна, сознательна и возбуждается здоровыми человеческими стремлениями, природой любознательности, интересом к предметам изучения.
С другой стороны, если бы существовал человек без естественной любознательности, без вкуса, без чувств голода, жажды, усталости, боли и других природных стремлений, указывающих нам дорогу к здоровью и счастью, то самые лучшие воспитатели и врачи не в состоянии были бы поставить что-либо на место инстинктов и по всем правилам науки отправили бы такого человека на тот свет. Современная школа мало считается с естественными стремлениями людей, и вот почему она требует такой огромной затраты времени и сил, а дает такие ничтожные, и хорошо еще, если не одни отрицательные результаты.
Возьмем для примера географию и историю. Что эти предметы можно сделать чрезвычайно интересными, доказывает тот факт, с какой жадностью читаются детьми и подростками путешествия и исторические рассказы, талантливо составленные брошюры по географии и по истории. А между тем современная школа ставит эти предметы так, что они, кроме отвращения и скуки, ничего другого не возбуждают.
Несколько лет тому назад устраивались курсы для взрослых. В числе предметов преподавания объявили лекции по истории и географии. В первые же дни записались 604 слушателя, и все на такие предметы, которыр не преподавались в школах... Историю же и географию никто не хотел слушать — ни один человек... И только тогда, когда их удалось убедить, что им будут читать не ту историю и географию, какую они учили в школе, они стали посещать лекции по этим предметам и очень скоро изменили свой взгляд на них.
Отвращение к предметам обучения достигается в наших школах, как известно, очень простым способом. От учеников по программе требуется огромное напряжение памяти.
Попробуйте записывать ассоциации, которые возникнут в памяти окончивших нашу школу, так называемых образованных людей, при словах река, гора и т. д., и вы найдете, что более половины воспоминаний придется на имена рек, гор, а также городов, расположенных на этих реках и горах, и очень мало ассоциаций будут напоминать о роли рек и гор в геологии, в промышленности и торговле, в распространении культуры. Такие опыты убедят нас, что память людей, прошедших нашу школу, скорее напоминает память ученого попугая, чем память развитого и мыслящего человека.
Что, кроме вреда, приносит ученикам этот хлам и балласт?
Какой вывод сделает ученик из этих бесчисленных собственных имен?
Когда военные и гражданские казнокрады тратят народные деньги на разврат, балы и пиры, мы справедливо протестуем. Но когда бюрократическая школа тратит силу благородных клеток мозга наших детей на запоминание никому не нужных имен вроде Гваделупы, Кцу-Сиу, Явы, Целебеса в географии и на запоминание имен фараонов и королей в истории, числа тычинок и лепестков в ботанике, мы должны протестовать еще больше, потому что человеческий мозг дороже денег. И сколько жестокой изобретательности, сколько злого ума и человеконенавистнического старания употреблено было на пополнение программ всей этой номенклатурой, датами, иностранными словами, формулами, цифрами...
Еще можно понять, почему от школяров требовали заучивания мелких фактов справочного характера до изобретения книгопечатания. Бедняк не мог иметь книг, справочной библиотеки, и надо было многое удержать в памяти. Но теперь, когда за несколько гривенников можно купить справочную книгу по любой отрасли знаний, зачем забивать головы учащихся всевозможными сведениями справочного характера? В наше время ничего другого, кроме рутины и полицейских соображений, нельзя придумать в оправдание того, зачем современная школа приносит в жертву памяти и рассудок и воображение подрастающих поколений.
Современная школа, руководимая полицейскими целями, совершала великий грех, атрофируя в детях естественные человеческие стремления либо давая им ненормальное направление.
Легко понять, что наилучшие результаты получаются тогда, когда приобретенные знания являются ответом на назревшие вопросы, выдвинутые внутренним логическим процессом детской мысли, когда ученик сам ищет ответы на эти вопросы. Найлуч-шее понимание предмета получается тогда, когда учитель держит внимание детей на том, на чем они сами хотят сосредоточиться.
Отсюда огромное значение самодеятельности в деле обучения. Огромное большинство великих писателей, ученых и мыслителей Англии, ее знаменитостей были самоучки. Из всех великих английских ученых едва ли не один Дарвин окончил университет, но и тот, по собственному его признанию, ничем не обязан университету. Эти самоучки в огромном большинстве случаев принуждены были бороться с крайней нуждой и бесчисленными внешними препятствиями на пути к самообразованию. И все-таки* они опередили тех, кто обладал и досугом, и материальным достатком, и, казалось, всеми учебными средствами. И это понятно. В то время как современное школьное обучение построено на дрессировке, на «слепом, пустом и рабском подражании», на авторитете и рутине и ведет к порабощению подрастающих поколений стариками — самоучка руководится большей частью своими внутренними потребностями и запросами, естественными стремлениями к творчеству и к исследованию причинных связей между явлениями.
Мы не можем входить здесь во все детали педагогики и дидактики, но мы могли бы доказать, что современное школьное обучение почти совершенно чуждо так называемому эвристическому методу обучения. Этот метод состоит в том, что ученик ставится в положение исследователя, когда ему дают лишь данные для решения вопроса, факты и справки, а выводы и обобщения делает он сам.
Когда Пифагор принес в жертву богам сто быков, когда Архимед в экстазе бежал голый по улицам и кричал: «Эврика!», то их радость вызвана была сделанными открытиями, а не заучиваниями данных фактов. И мы понимаем философа, который говорит, что если бы ему предлагали на выбор в одной руке истину, а в другой — путь к истине, то он без всяких колебаний выбрал бы путь к истине.
Это наслаждение искать и открывать, врожденные инстинкты исследователя и изобретателя были теми двигателями, которые подняли человеческий гений на неизмеримую высоту. Но эти инстинкты и этот дар присущи не только Сократу, Ньютону, Спинозе, но и всякому здоровому ребенку, если бы только уродливое воспитание нашего времени не искалечивало этих благородных стремлений человеческого духа. Ребенок — это типичный исследователь и экспериментатор. Он исследует все, что бросается ему в глаза, что обратит на себя его внимание.
Но школа, руководимая бюрократией, систематически с раннего детства забивает эти дары природы. Она преподносит ученику готовые выводы, требует, чтобы он принимал их на веру, без возражений, чтобы он преклонялся перед авторитетом одобренных бюрократией учебников.
Здесь все приготовлено заранее — и выводы, и правила, и обобщения. Ученику остается только повторять эти чужие выводы, чужие мысли, чужие слова и запомнить их для экзамена. Что же удивительного, если из него выйдет нечто вроде сомнабулы, слепо, не рассуждая повинующегося каждому авторитетному приказанию? Что удивительного, если в нем атрофируется способность сравнивать, обобщать, делать выводы, производить исследования, формулировать законы и правила, а развивается только механическая память, необходимая для всевозможных экзаменов? Его учили чужим словам и чужим мыслям, а не процессу мышления. Он не умеет учиться самостоятельно. Весь этот материал готовых, заученных мыслей, никому и ни на что не нужных имен и мелких фактов становится стеной между умом ученика и божьим миром. За этой стеной он уже ничего не видит, не слышит и не понимает.
Быть может, такое воспитание годится для раба, турецкого чиновника или солдата без личной инициативы, слепо повинующихся чужой воле, но оно совершенно не годится для человека, который сам должен добывать себе средства к жизни, воспитывать своих детей, подавать мнение в земстве, на сходе, при парламентских выборах. Во всех таких делах нужно уметь самому найти необходимые и достоверные данные и справки и самому же на основании их сделать правильный вывод — как раз то, от чего с усердием, достойным лучшего дела, отучает его наша современная школа.
И в то же. время современная школа развивает в детях ослиное терпение и подавляет личную предприимчивость и активную энергию.
Быть может., такие люди нужны были во времена господства неприкосновенного авторитета, но в наше время такие люди не только не нужны, а вредны. И только один приказной строй в ослеплении своего корыстолюбия, с жестокостью, превзошедшей подвиги Горкемады, вот уже в течение целого столетия гонит в отдаленные места и весь путь от центра до Сахалина покрывает могилами людей, осмелившихся самостоятельно мыслить ... Наша эпоха одной своей чертой напоминает эпоху Сократа. Все мы читали, как Сократ в борьбе с научным шарлатанством путем вопросов обнаруживал пустоту звонких фраз, с помощью которых софисты морочили публику. Все значение его учения заключалось не в том, чему он учил, а в том, как он сам отыскивал истину и как руководил другим в поисках истины. В эпоху ему предшествовавшую, греки руководились учениями, передававшимися от отцов к детям и воспринимавшимися без критики и почти без рассуждений. Но мало-помалу доверие к этим учениям падало. И когда всякие авторитеты были низложены и кумиры повержены, настал момент искать опоры в своем собственном разуме. Отсюда требование Сократа: «Познай самого себя». Рядом вопросов Сократ доводил собеседника до самых общих и возвышенных положений.
Мы в настоящее время тоже переживаем, момент, когда традиционные верования рушатся, когда старые кумиры повержены, когда общепризнанных авторитетов более не существует. Теперь каждому из нас приходится мыслить и действовать на свой страх и риск, руководиться не ходячими мнениями, а велениями собственного рассудка. И потому в наше время более, чем когда-либо, школа должна заботиться о том, чтобы подготовить учащихся к самостоятельному мышлению. Надо, чтобы ученики привыкли сами делать выводы из фактов, пользуясь научными приемами исследования. А этого мы можем достигнуть лишь тогда, когда будем ставить учеников в положение изобретателей и исследователей, когда заставим их переживать те же психические процессы, какие переживает исследователь.
Мы не сомневаемся, что будущая школа, руководимая демократией, свергнет гнет столько же своекорыстных, сколько и тупоумных руководителей просвещения. Будущая педагогия сумеет основать учение на самостоятельности учащихся, сумеет сохранить и развить до возможного совершенства лучшие дары природы — стремление и способность к исследованию, и нетрудно предсказать, что это одно в состоянии вызвать такой расцвет просвещения, науки и техники, о котором мы в настоящее время не смеем и мечтать.
Это одно пробудит дремлющие силы даровитого народа, заставит бить ключом энергичную жизнь, откроет самые широкие перспективы в области экономической, социальной, умственной и нравственной.
Требуя простора для самостоятельности учащихся, заявляя о необходимости идти навстречу стремлениям, стараться сделать предмет обучения интересным, мы совсем не хотим приносить в жертву этому интересу содержание, но а в то же время мы не хотим приносить в жертву содержанию и интерес обучения. Мы полагаем, что рациональная программа и методы обучения удовлетворяют обоим этим требованиям.
Кто близко изучал детей, тот знает, что они питают непреодолимое отвращение к хронологии, собственным именам, мелким фактам и вообще ко всему тому, что они не могут связать логически, разумными связями. Но это самое и составляет один из важнейших недостатков нашего современного обучения.
... Не количество и разнообразие воспринятых материалов, но главным образом обработка их — вот что даст вес и цену нашему умственному багажу.
Подобно тому как одна сумма вещества в животном не характеризует еще степени развития (кит весит в 200 раз больше обезьяны, но гораздо глупее ее), так точно и количество знаний далеко еще не характеризует умственного развития. Одна идиотка знала наизусть несколько томов истории. Если бы можно было выучить на память целую библиотеку, то это еще не сделало бы нас развитыми и образованными. Нужны связи между знаниями, нужна гармония. Наши ‘мысли ясны только тогда, когда они хорошо связаны друг с другом. Узнать предмет — это значит определить его связь с другими предметами. Сократ или Кант, прожившие почти всю жизнь в маленьком городе, видели и слышали гораздо меньше какого-нибудь путешественника, но они лучше связывали виденное и слышанное. Лаплас только однажды посмотрел в телескоп, да и то, говорят, с другого конца, но это не помешало ему выдумать систему, удивившую всех астрономов.
Мыслить — это значит связывать идеи друг с другом, хорошо мыслить — это значит хорошо соединять. Быть развитым — это значит обладать наибольшим запасом наиболее важных и наилучше связанных между собой образов и понятий.
Но связь связи — рознь. Связь тем лучше, чем вреднее она отражает реальные связи, существующие в природе и жизни. Но мир со своими связями отражается в нашей душе, и человек усваивает эти постоянные связи. «Сама логика, — по удачному выражению философа, — это отражение в нашем уме связей между явлениями в природе». «Живой мозг представляет собой, — по образному выражению другого философа, — миниатюрное повторение вселенной».
Правда, все эти связи отражаются в нашем уме далеко не совершенно. Мы живем в крошечном уголке мира и о других частях не имеем понятия. Даже и в той точке мира, где мы живем, мы далеко не все знаем и не все понимаем. Тем не менее современный человек вернее представляет себе жизнь и природу, чем люди XVIII в. Историю цивилизации можно рассматривать как постепенное приспособление нашего ума к природе и жизни.
Руководится ли наша школа только что изложенными соображениями? Она действует как раз в обратном направлении. Все в ней разрозненно, бессвязно. Конечно, это отчасти объясняется крайней специализацией знаний. Я помню, как несколько лет тому назад популярный и широко образованный профессор Московского университета в первый раз в жизни услышал название неизвестной ему науки от своего товарища. Но специализация знаний, быть может вполне законная в профессиональных школах, не должна иметь места в общеобразовательной школе. И между тем связь между различными предметами преподавания выражается разве лишь в том, что все предметы преподаются в одной и той же школе в течение одного и того же курса. Но это связь не логическая, не та, какая нужна для развития.
Удивительно ли после этого, что в нашем, так называемом образованном обществе сплошь и рядом уживаются предрассудки и суеверия рядом с определенными научными теориями.
Понятной становится и вся невообразимая путаница в нашей общественной, семейной и личной жизни. Недостатком последовательности мысли можно отчасти объяснить, почему так часто мы наблюдаем быструю смену течений в одной и той же интеллигентной голове... При каждом переходе от одного воззрения к другому мы обыкновенно очень много шумим, но по кажущейся буре нельзя судить о глубине, продуманности и стройности наших мнений. Скорее, этот шум напоминает импульсивность дикаря или ребенка, у которого все поступки так же порывисты, решения так же внезапны и быстры, увлечения так же бурны.
... Мы не сомневаемся, что будущая школа, руководимая не полицейскими соображениями, обратит серьезное внимание на то, чтобы все предметы преподавания были связаны в головах учащихся логическими связями, соответствующими природе и жизни. И эти связи будут в соответствии с тем, что дает последнее слово науки, а не пережитки и суеверия. Какое влияние это преобразование окажет на все стороны человеческой жизни, об этом нечего и говорить. Это будет величайшим и лучшим из всех переворотов, о каких мы можем мечтать.
Несколько лет тому назад в школе, насчитывающей до 1000 учащихся, я произвёл статистическое исследование, описанное в свое время в специальном журнале, по вопросу о том, насколько усваивается детьми один и тот же урок при наглядном обучении и при исключительно словесном способе обучения. Исследование было обставлено таким образом, что все остальные условия опыта (одни и те же ученики, учащие, одни и те же уроки, одно и то же изложение, одно и то же время) были уравнены. И оказалось, что стоит к словесному объяснению присоединить опыт — и число успешных учеников сразу увеличится почти вчетверо, а число неуспевающих учеников уменьшится в 8 раз, число обстоятельных ответов увеличится в 9 раз. И эти цифры вполне подтверждают принцип, провозглашенный еще Комен-ским, Руссо, Песталоцци. Этот принцип заключается в том, чтобы все, что может быть передано ребенку наглядным путем опытов и наблюдений, и было передано именно так, а не иначе. Этот принцип был перенесен на русскую почву в 60-х гг.; но затем он неоднократно подвергался преследованиям и насмешкам. Один из видных деятелей церковноприходской школы писал, что этот принцип, как и вся современная педагогика, годится для Запада, который не знает таинства миропомазания, но совершенно не годится для православных, которые с названным таинством получают духовные дары, недоступные всем иноверцам. Другие педагоги высмеивают наглядное обучение и утверждают, будто можно дать наглядное представление о предмете посредством одного только слова. Но что такое слово? Кто-то справедливо сравнивает наше познание с ассигнационным банком, где слово соответствует банковскому билету, а золотая монета — наглядному восприятию. Слово без наглядных восприятий — это вексель, который нечем уплатить. Миллионы, значащиеся в таких векселях, стоят дешевле одной золотой монеты. И самый небольшой запас собственного опыта дороже миллионов чужих, заученных слов.
Даже искусство процветает только тогда, когда оно жизненно и реально, когда оно берет содержание из наблюдений. Недаром все эпохи, когда искусство шло по другой дороге, были временем упадка, а века, когда художники снова возвращались к требованиям жизненной правды, к наблюдениям над природой и жизнью, были эпохи возрождения и расцвета. А о науке и практической деятельности нечего и говорить. Адаму Смиту внушили его знаменитую политико-экономическую систему наблюдения над небольшой общиной рыбаков и ткачей. Какой жалкой пародией на науку было естествознание в Европе, когда его единственными источниками были книги древних. И какой изумительный, никогда раньше небывалый расцвет этой обширной отрасли знаний наступил в тот век, когда ученые во главу угла положили наблюдение и опыт. Без наблюдений и опытов нельзя шага шагнуть и в практической деятельности.
Нам возразят, что в жизни важнее всего ум, логика. Конечно, ум — великое дело; но для ума нужны материалы, факты, данные, справки, и если эти материалы не будут соответствовать действительности, то самый величайший гений и самая строгая логика придут к ложным выводам.
То, что мы воспринимаем наглядно, не требует от нас ни усилий, ни доказательств, а лишь внимания. Все воспринимаемое таким путем не вызывает в нас ни сомнений, ни колебаний.
Все только что сказанное может быть отнесено и к взрослому, развитому человеку, но в детском возрасте наглядность обучения имеет особое, исключительное значение.
Самой первой по времени своего развития из душевных способностей интеллектуального характера является способность наблюдать, воспринимать впечатления от внешнего, материального мира. В поисках за новыми наблюдениями ребенок готов и на некоторые жертвы. Он проникает и туда, откуда его выгоняют, где его бранят, где он рискует, даже быть побитым.
Таковы эти маленькие исследователи природы и жизни. В какой-нибудь год времени они производят гораздо больше наблюдений, чем самый усердный естествоиспытатель. Но они не только пассивные наблюдатели. Им еще больше нравится деятельная роль экспериментатора. Случайно сделанный опыт над светом, звуком, падением тела какой-нибудь юный исследователь, как настоящий Паскаль или Ньютон, повторяет затем намеренно. Недаром говорят, что ребенку подобает быть реалистом, юноше — идеалистом, а взрослому — скептиком. Лучше уж совсем не учить ребенка, чем ограничивать его обучение только пустыми именами да словами.
Итак, если одна наглядность в преподавании увеличивает успешность обучения вчетверо и вдевятеро, если одно исключение из школьного курса ненужного и вредного балласта значительно сократит время прохождения курса, если интерес обучения возвысит продуктивность школьной работы благодаря усилению памяти, внимания и сообразительности учащихся, если логическая связность преподавания каждого предмета в отдельности и всех вместе даст небывалую основательность и прочность образованию учащихся, если эвристический метод поднимет их самодеятельность — то возможность единой, обязательной и всеобщей для всех нормальных детей, не исключая и самых бедных, доступной общеобразовательной школы, без разделения ее на высшую, среднюю и низшую, не может представляться чем-то утопическим и несбыточным. Самое высшее общее образование должно быть доступно и обязательно для всех. Но в то же время нельзя не сказать, что в данный момент для его достижения у нас нет ни подготовленных учителей, ни вполне разработанных методов преподавания, нет необходимых образцов, не говоря уже о материальных средствах. Тем не менее организовавшаяся у нас Лига народного образования должна поставить этот идеал на своем знамени, как ту цель, к осуществлению которой должны быть направлены все наши усилия, все ступени в деле народного образования, через которые мы должны пройти в ближайшее к нам время. Только такой идеал даст нашим практическим начинаниям и в данный момент, и в ближайшем будущем надлежащую перспективу и освещение. Только при свете этого идеала мы в состоянии будем дать правильную оценку каждому из своих начинаний и в данный момент, и в последующие за ним, более благоприятные времена. Только при осуществлении такой цели всеобщее избирательное право будет действительно всеобщим, потому что только образованный народ будет подавать голоса сознательно, а не под влиянием гипноза. Во Франции после крушения старого порядка, во время самого крайнего разгара политических страстей, всеобщим лозунгом были знаменитые слова: «После хлеба образование представляет первую потребность народа».
Мы знаем, что эта потребность не была своевременно удовлетворена, и мы знаем последствия: деспотизм Наполеона, опиравшегося на невежество масс. Будем надеяться, что спустя целое столетие другой великий народ при аналогичных условиях не сделает такой же роковой ошибки.
ТЯЖБА МЕЖДУ ОБЩИМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Было время, когда об общем образовании никто не думал. В средние века педагоги ставили своей целью выучку тому, что требовали от них практические задачи века, и забывали об ученике. Католическому духовенству нужны были клирики, и школы должны были готовить клириков. Городам и феодалам нужны были писцы, и школы должны были готовить писцов. Школы же готовили певчих. Это была профессиональная, а иногда и подготовительная к специальной высшей школе, где подготовлялись тоже специалисты: богословы, юристы и врачи, но не общеобразовательная школа. Она преследовала интересы духовенства, феодалов и пр., но не заботилась о самом ученике. Приемы преподавания, распределение учебного материала выводились не из анализа природы ученика, согласовались не со свойствами и способностями учащихся, а были результатом анализа (удачного или нет — все равно) предметов, какие нужно было преподать детям. Но анализ предмета очень часто дает расположение материала, обратное тому, чего требует природа детей, их способности, их интересы. Это естественное при таком взгляде на школу забвение природы учащихся приводит к тому, что учение становится мукой, внушает отвращение детям. Отсюда — необходимость в розге и других видах телесного наказания, чтобы заставить детей учиться. По мере того как дети привыкают к наказаниям, низшие степени этих наказаний перестают действовать — наступает необходимость усиливать их все более и более до тех пор, пока учителя не превратят, по верному выражению гуманистов эпохи Возрождения, в разбойников, мясников, палачей, тиранов. Вот естественный, логически неизбежный результат навязывания народной школе посторонних задач, забвения природы, сил и способностей ребенка, привычки выводить методы и приемы преподавания не из анализа душевных сил ребенка, а из анализа предметов преподавания. Но мало-помалу люди приходят к мысли, что начальное образование само по себе, без всякого отношения к профессиональным и партийным целям, имеет значение.
Первыми пионерами на этом пути были великие итальянские гуманисты. Они нашли «человека в человеке», освободили личность от нравственного порабощения католицизмом и феодализмом, провозгласили неотъемлемое право личности на свободное развитие своих сил и на удовлетворение своих потребностей. Чтобы охарактеризовать дальнейшее развитие этого движения, достаточно назвать Коменского, Рахова, Руссо, Песталоцци. Благодаря им широко распространилась мысль, что законы воспитания и обучения должна предписывать человеческая природа, что вся педагогка должна быть основана на изучении природы человека и ребенка. Создалось целое движение, своего рода эра, в области народного образования. Смысл этого могущественного течения позднейших времен, опрокидывающего на пути своем все препоны, заключается в том, что народное образование цивилизованные народы начинают рассматривать не как средство к достижению тех или других политических, религиозных, практических, экономических задач; они приходят к мысли, что развитие природных физических, умственных и нравственных сил народа само по себе представляет задачу такой огромной важности, что дело это необходимо поставить вне различных классов и утилитарных соображений, посторонних и партийных влияний и выше их. Школа была подчиненным учреждением, а теперь она стремится стать независимой. Она была орудием в руках других учреждений, и теперь она сама ставит себе свои цели, и с этих пор школа поднимает свои задачи — таково плодотворное значение великой идеи — до высоты, до которой едва достигали самые мечты величайших гениев, живших в века, нам предшествующие. Мало этого: именно с этих пор школа, прогрессируя в высоту, быстро распространяется и вширь. Раньше она была делом благотворительности; теперь это одна из важнейших обязанностей общества и государства. Начальное образование делается теперь всеобщим, общедоступным, даровым и обязательным; оно становится не только общественным, но и всенародным, общегосударственным, даже всемирным делом.
Приблизительно то же самое происходило и у нас, в России. Было время, когда никто и не думал об общеобразовательной школе. Школы должны были готовить священников и клириков, это — духовные школы. Другие должны были готовить моряков, офицеров, чиновников и пр. Были школы для купцов. Были школы сословные: для дворян, для духовенства, для мещан, для крестьян. Школы подразделялись даже ио чинам отцов: для крупных чинов — особо привилегированные школы, для мелких чиновников и офицеров — другие. Основным принципом было: «Всяк сверчок знай свой шесток». Громогласно провозглашалось требование удержать низшие сословия государства в пределах соразмерности с гражданским их бытом, в отношении к образованию их детей, и побудить их ограничиваться уездными училищами и обучением, в этих заведениях доставляемым. Были школы для детей кантонистов. Не существовало только одной общеобразовательной школы. Даже в ближайшие к нам времена такие школы, как гимназии и уездные училища, стоявшие, по-видимому, ближе других к общеобразовательным школам, и те имели в виду подготовление к государственной службе и давали окончившим курс известные права на получение чинов и должностей. Правда, и теперь даже на Западе общему образованию далеко до идеала. На школу давит рутина, дурные традиции, предрассудки. С рациональной школой ведет борьбу клерикализм, косные реакционеры, политические партии, боящиеся движения вперед. В программах школы еще много никуда не годного хлама. Школа неохотно дает место последним выводам науки, как бы ценны они ни были. В средней школе еще и до сих пор во многих местах царит классицизм, и ко многим юношам и до сих пор применимы те слова, с какими Карл Бар в первой половине прошлого века обратился к студентам Кенигсбергского университета: «Я нисколько не сомневаюсь, что между нами, слушатели, нет ни одного, который бы не знал, что Капитолий в Риме был спасен гоготаньем гусей, и в то же время, конечно, никто между вами, за исключением разве некоторых врачей, не знает, состава гусиного яйца. Да и вообще очень многие из дельных немецких учителей совершенно не знали бы, что птицы несут яйца, если бы об этом не упоминал Плинций!» Все это так, но принципы Коменского, Руссо и Песталоцци делают все больше и больше завоеваний, и недалеко время, когда рутина и реакция будут побеждены. Впервые мысль об общеобразовательной школе горячо и громко высказана в эпоху 60-х годов. Движение 60-х годов в области обучения и воспитания слишком хорошо всем известно, чтобы надо было подробно на нем останавливаться. Достаточно только напомнить о нем, чтобы подтвердить тот же самый вывод, к которому приходишь, изучая историю западной школы.
Справедливо говорят, что новое движение в школьном деле началось со статьи Пирогова. Пирогова и Ушинского называли отцами русской педагогии. Но смысл этого движения, поднятого Пироговым, и заключался именно в том, чтобы общая школа не преследовала никаких других задач, кроме одной: воспитать человека. Кто из нас не читал его «Вопросов жизни»? Кто не помнит его эпиграфа? «К чему вы готовите вашего сына?» — «Быть человеком», — отвечает Пирогов. Правда, ему возражают, что человека собственно нет, что это простое праздное отвлечение, что нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, мастеровые, юристы, чиновники, а не «люди». Но мы помним, как гениально разбил Пирогов своих оппонентов. «Не ищи ничего в школе как быть человеком в настоящем значении этого слова», — говорит он в другом месте. И эта мысль стала лозунгом широкого движения в области обучения и воспитания.
Мы хорошо знаем, каковы были последствия этого движения, этого принципа. Что такое была русская школа до статьи Пирогова? Казарма с ее порядками, розгами, зубристикой, дрессировкой, вселявшими ужас в детях. Чем стала школа, где руководились идеями Пирогова? Радостью детей, мастерской гуманности. Прежде нужны были палки старших, чтобы загонять детей в народную школу. А после Пирогова и Ушинского школьные стены не вмещали всех детей, желающих учиться. Дети шли туда не из-за прав, не из-за выгод, как это имело бы место в средних учебных заведениях: народная школа не дает прав. Они шли не по принуждению родителей, иногда даже препятствовавших обучению детей. Они шли добровольно, иногда замерзая от холода, питаясь черствым хлебом по целым неделям. Отчего не было этого раньше? Какая чудодейственная сила могла в несколько лет народную школу, устроенную по типу казармы и бурсы, справедливо сравниваемую нашим талантливым критиком с «Мертвым домом» Достоевского, превратить в любимое место для детей? Это чудо сделала идея о том, что у общеобразовательной школы не должно быть никаких других задач, кроме одной — приготовить человека, развить его природные способности.
И всякий раз, когда эта мысль становится ясной среди педагогов и среди общества, мы можем констатировать и фактами и цифрами усиленное движение в пользу народного образования, его быстрое развитие вверх, но в то же время не менее заметное распространение .вширь; мы можем установить быструю перемену в отношениях к школе не только взрослого населения, но и учащихся. И это потому, что чем выше цели, поставленные перед школой, тем сильнее они импонируют мнениям людей, будят общественную и частную инициативу, возбуждают энергию в общественных деятелях. И наоборот, каждый раз, когда забывают эти великие слова, когда на школу начинают смотреть как на орудие к достижению посторонних целей (я не одни профессиональные знания имею в виду), школьное дело замирает, перестает привлекать к себе сочувствие и со стороны общества, и со стороны народа, и прежде всего со стороны детей.
Наступившая после 60-х годов реакция была крайне неблагоприятна для общеобразовательной школы. Средняя школа стала по-прежнему готовить к казенной карьере, родители на нее смотрели то как на преддверие либо в департамент, либо в палату и канцелярию, либо в полк, то как на подготовительную школу к специальному образованию: врача, инженера и пр. Министерство требовало от нее, чтобы она охлаждала умы, закупоривала мозги от веяний времени, готовила послушных и исполнительных чиновников.
Народная школа стала изображать собой крепость, осаждаемую со всех, сторон. Одни хотели, чтобы народная школа готовила пахарей; другие — огородников, садовников, пчеловодов, шелководов; третьи — столяров и сапожников; четвертые — певчих и церковных чтецов; пятые — писцов и счетоводов и т. д. И в соответствии с такими взглядами на школу мы встречались в последние десятилетия и в нашей педагогической литературе с попытками снова воскресить схоластику средних веков, обосновать и распределение учебного материала, и методы преподавания на одном анализе учебных предметов.
Напрасно современные составители учебников для народных школ, предлагая те же средневековые приемы, маскируют их фразой: «То, что дает анализ учебного предмета, то самое будет впору ученику, потому что законы мышления всеобщи». Нет, законы мышления не настолько всеобщи, как думают авторы современных учебников для народных школ. Взрослые люди, двигающие науку, мыслят отвлеченными понятиями, а ребенку нужны образы, формы, краски, звуки, наглядные предметы. Люди науки в совершенстве владеют дедуктивными методами мышления, а ребенку дедукция чужда и непосильна. Для специалиста-астронома глаз должен быть приспособлен к телескопу. Общеобразовательная школа развивает глаз всесторонне, приспособляя его то к рисованию, то к чтению, то к письму, то к наблюдению растений, животных, природы и людских дел.
Нет, умственное и нравственное развитие народа не есть только средство к достижению каких-либо других, посторонних целей, а само по себе представляет одну из важнейших задач нашего времени, начальная школа должна ставить сама себе задачи, она не орудие в руках тех или других групп для достижения тех или других практических целей, а самостоятельное, независимое от посторонних соображений учреждение. Если бы эта мысль проникла во все слои русского общества, и прежде всего в педагогическую профессию, то при выборе материалов для преподавания руководились бы не тем, какие из этих материалов нужны земледельцу, ремесленнику, плательщику податей, солдату, купцу и т. п. или же требуются какими-либо другими соображениями, а только тем, какие материалы лучше всего содействуют умственному и нравственному развитию ребенка. Тогда бы расположение этого материала по годам обучения, методы, приемы преподавания выводились не из анализа предметов, поставленных в программах, а из анализа природы ребенка, его способностей, наклонностей, интересов, стремлений, запросов. Тогда бы школа, отдавая должное развитию глаза и кисти руки, обратила бы самое главное внимание на знания и упражнения, развивающие мыслительные способности ребенка. Тогда бы открытие школ мотивировалось не тем только, что крестьянину надо уметь написать и прочитать письмо, расписку, повестку и т. д., а тем главным образом, что и крестьянину, и мещанину, как и всякому другому человеку, прежде всего необходимо умственное и нравственное развитие — безусловно необходимо не только потому, что оно лучше поможет каждому выполнить все его и общественные и семейные обязанности, поможет лучше устроить свою личную жизнь, но необходимо само по себе, как цель, к которой мы должны стремиться. Тогда бы думали не о том только, чтобы приготовить хороших работников, а и о том, чтобы приготовить хороших людей. Тогда бы не было места никакому насилию в школах, стремившемуся обломать и переделать ученика сообразно со знанием профессии или сословия, а было бы место только свободному развитию человеческой личности. Когда люди ставят себе целью дипломы, открывающие путь к заработку, к жалованью, чинам и карьере — это почтенное и неизбежное стремление, но это задача профессиональной, а не общеобразовательной школы.
Мы горячо стоим за безусловную необходимость безотложного и возможно широкого распространения профессионального образования. Человечество и до сих пор еще не обеспечено хлебом. Голод и до сих пор еще не отошел в область преданий. Вопрос о средствах к существованию и до сих пор еще волнует людей гораздо сильнее, чем все остальные вопросы, взятые вместе; больше, чем религия, политика, искусство, наука, воспитание. Борьба за существование в самом буквальном смысле этого слова, борьба за материальные средства и до сих пор еще стоит на самом первом плане. Поэтому игнорировать профессиональную школу могут только паразиты, аристократы и плутократы, обеспеченные случайностью рождения от необходимости зарабатывать хлеб. Говорить против профессиональной подготовки было бы бессмысленным аристократизмом. Профессиональное образование обеспечивает кусок хлеба — и это одно уже лучше всяких других доводов доказывает необходимость профессиональной подготовки с точки зрения личности ученика. Но это образование не менее необходимо и с точки зрения общества, нуждающегося в работниках. Особенно необходимо это там, где до сих пор царит трехпольная система севооборота, соха и деревянная борона, где не знают употребления молотилки, сеялки и льномялки, где кустарные промыслы так не развиты, где фабричные продукты так дороги и так плохи, где люди и не подозревают о массе удобств, которые дает современная техника, где труд рабочего так мало продуктивен, — там профессиональное образование составляет одну из важнейших задач данного времени.
Современные условия таковы, что народ, не желающий гибели, должен выдвинуть во всех отраслях практической и теоретической деятельности наилучших специалистов и профессионалов. Нам нужны агрономы, знающие во всех подробностях и теоретически и практически свое дело. Надо, чтобы они помогли народу поднять русское земледелие на ту высоту, на какой оно стоит в культурных странах. А для этого необходимо, чтобы наша агрономическая наука не отставала от западной... Нам нужно много медиков, получивших наилучшее специальное образование и в то же время хорошо знакомых с местными условиями. Больно читать и слышать, что у нас на каждую сотню детей до 3-летнего возраста умирают 50 человек, в то время как на Скандинавском полуострове из этого числа умирают только 25 человек.
Быть может, когда у нас медицинское образование будет поставлено лучше, наши врачи найдут средство улучшить русские условия настолько, чтобы сократить эти бесчисленные человеческие жертвы. Нам нужны и горные и всякие другие инженеры, хотя бы для того, чтобы эксплуатировать несметные природные богатства страны, лежащие втуне. А еще больше нам нужны специалисты-педагоги, чтобы поднять на должную высоту нашу отсталую, изуродованную школу, недостатки которой теперь общепризнаны. Нам нужны юристы, хотя бы для того, чтобы наши первые министры не изумляли мир юридическим невежеством. Более того, само общее образование и его содержание находятся в тесной зависимости от развития специальных знаний. Свое содержание и методы общее образование берет из науки и искусства, а наука и искусство, главным образом, двигаются специалистами. И чем выше развитие науки и искусства, тем более ценный выбор материала может быть сделан для общего образования. Пусть при этом выборе критерий педагога будет не тот, каким руководится ученый; но из большого и достоверного материала педагог выберет больше ценного, чем из скудного и малодостоверного. В былые, отдаленные от нас времена вопрос об общем, специальном и профессиональном образовании не стоял так резко. Натуральное хозяйство не требовало такого разделения труда, как капиталистическое хозяйство и машинное производство. Наука и техника не были развиты в такой степени, как ныне. Дробление труда дошло до того, что такая вещь, как булавка, проходит через несколько машин, а каждая машина находится в ведении особых рабочих, знающих только ее одну.
Рабочий стал винтом в очень сложной машине. В былое время большинство усовершенствований в машинах делалось самими рабочими. Машины были несложны. Рабочие понимали принципы, на которых построена машина, и ее механизм. Теперь не то. Рабочему трудно понять сложное устройство машины, так как он знает одну ее часть. Не меньшую специализацию представляет и современная наука. Наука так обширна, что средний по способностям человек лишь тогда может сделать что-нибудь в научной области, если ограничится одной узкой специальностью. Есть науки, названия которых совсем неизвестны широкой образованной публике. Есть ученые, которые всю свою жизнь изучают только одну небольшую часть какой-нибудь одной науки. Достаточно пробежать объявления в газетах о специальностях врачей: одни из них глазные, другие — зубные, третьи — ушные и т. д. Давно и очень много говорилось о вреде такого разделения труда для развития человека. Специальность высасывает кровь из всего организма в пользу одного органа. Недаром специальность сравнивают с флюсом. Где царит одна специальность, там при современных условиях не может быть равновесия между способностями, там нет места для всестороннего развития. Там одна способность развивается в ущерб всем другим. Не удивительно при таких условиях, что ученые часто поражают своим невежеством иногда в областях, очень близких к их специальности.
Так, например, профессор-естественник на вопрос студентов: что такое реторта? — отвечал, что это трубка, через которую проходит воздух. Ученый, готовивший работу с микроскопом, допускал, что ахроматизм стекол в микроскопе происходит от зеленых занавесей на окне. Другой ученый сказал, что тучи бегут выше месяца. И мы понимаем Ницше, когда он говорит: «Одному недостает глаза, другому — уха, третьему — ноги, но есть и такие, что утратили язык, или нос, или голову. Есть люди, которые не что иное, как один большой глаз, или один большой рот, или одно большое брюхо, или вообще одно что-нибудь большое, калеки наизнанку называю я их. Ухо величиной с человека! Я посмотрел пристальнее: и действительно, за ухом двигалось еще нечто до жалости маленькое, бледное и слабое. И поистине чудовищное ухо сидело на маленьком тонком стебле — и этим стеблем был человек! Вцоружась очками, можно даже было разглядеть маленькое завистливое личико, а также пухлую душонку, висевшую на стебле этом. Народ же говорил мне, что большое ухо не только человек, но даже великий человек, гений».
В былые времена, когда сословия и касты стесняли развитие человека, это делалось путем насилия, которое вызвало протест, а теперь каждый избирает свою профессию и свою специальность добровольно и очень часто с любовью и увлечением занимается ею. И потому положение представлялось бы совершенно безвыходным, если бы нельзя было найти противовеса против этого вампира века — крайнего разделения труда.
И таким противовесом, между прочим, служит общее образование.
Специалист в пределах своей специальности должен изучить все, что добыто в этой области его современниками. Но большинство из этих специальных сведений не имеет почти никакой цены для людей другой специальности. Те технические знания, какие необходимы для устройства мола или ледореза, совершенно не нужны для медика, садовода, астронома, бактериолога и пр. Специальность не содействует общей культуре ума, она ограничивается культурой лиш| определенных способностей. Но все специалисты в то же время и люди, и граждане, и члены семьи. Они имеют общие интересы, общие стремления, и потому для них кроме специальных знаний нужны еще общие для всех людей и граждан знания, идеи, общие идеалы, общее миропонимание. Общее образование создает общую почву для всех детей данного века и данной страны. Оно носит в себе дух века, его сущность, его науку, его литературу, его искусство, и, что главнее всего — жизни, действительности и среды, где приходится жить. Общее образование раздвинет кругозор людей и их интересы далеко за пределы узкого круга данной профессии. Кто не знает отличных химиков, физиков или классиков, поражающих своей пошлостью, некультурностью, дикостью, антиобщественными инстинктами ? Без общего образования люди были бы разъединены, разделены на отдельные профессиональные группы, не понимающие друг друга, иногда даже враждебные друг другу. Только общечеловеческие идеи, общее образование объединяют всех людей и всех граждан в одно целое.
Без него каждая профессия развивала бы только определенные органы и способности и вела бы к атрофии всех остальных способностей и органов. Механика развивала бы руку, астрономия и бактериология развивала бы глаз, музыка — ухо и т. д. Только одно общее образование стремится развить все способности сообразно с современными идеалами, стремится образовать не техника или астронома, а человека и гражданина. Есть силы и есть время и для общего и для профессионального образования. Нельзя выбирать профессии в 10 — 12 лет. Специализоваться можно позже. В детстве общее и всестороннее преобладает над частными особенностями. В детском возрасте нет специалистов — ни художников, ни химиков, ни писателей, а есть только дети. Дети хотят испытать себя в различных сферах деятельности. Их любознательность не знает пределов. Словно они стремятся сами найти свое призвание, ту деятельность, которая всего лучше соответствует их склонностям и задаткам, и не хотят замкнуться в определенных границах, а хотят перепробовать все, что возможно и что они видят кругом. Следуя закону развития, упражняя все силы, они в это же время как бы нащупывают то место в общественном строе, куда больше всего влекут их природные способности и стремления. Это стремление не покидает их и в юношеском возрасте: и в старших классах средней школы, и в высшей школе многие учащиеся пользуются то руководствами, то печатными программами домашнего чтения вне своей специальности. С той же целью они составляют кружки самообразования, устраивают заседания, читают рефераты и обсуждают их. С той же целью они посещают публичные лекции, библиотеки, сообща выписывают журналы. И не их вина, если современные средняя и высшая школы не могут удовлетворить этой, казалось бы, вполне законной потребности юношества в общем образовании. Скажем больше: если есть еще у нас образованные люди, то они обязаны своим образованием не школе, а вот именно таким товарищеским организациям. Но если по вине отжившего свое время строя так было до сих пор, то это не значит, что так будет и впредь, при лучших условиях.
Общеобразовательную школу можно с успехом защитить даже с утилитарной точки зрения.
От правильной постановки общего образования выигрывают и промышленность, и торговля. Нигде высшая школа не стояла ближе к идеалу общеобразовательной школы, нигде она так мало не заботилась о технических и профессиональных знаниях, даже об учености, как в Англии. И однако же, нет народа, который превзошел бы англичан в деле науки и в деле техники, промышленности и торговли. Приготовляй человека, развивай его природные способности, а все остальное придет само собой — вот вывод, который напрашивается при этом примере. Нет такой профессии, в которой бы не требовалось от человека того, что ставит себе общеобразовательная народная школа. И земледельцу, и столяру, и сапожнику, и фабричному рабочему нужны и развитая память, и умение сосредоточивать свое внимание на вопросах, какие выдвигает перед ними жизнь, и наблюдательность, и здравый, развитой рассудок, и светлое, разумное миросозерцание. Жизнь не стоит на одном месте. Она двигается вперед и видоизменяется, ставя перед людьми все новые и новые требования и задачи. А чтобы угадать запросы времени и уметь ответить на них, для этого одного профессионального или специального образования мало, для этого нужен всесторонне развитой ум.
По словам Дж. Ст. Милля, «люди могут быть компетентными юристами без общего образования, но только общее образование может сделать их юристами-философами, которые хотят и которые способны уразумевать принципы, вместо того чтобы только загромождать свою память подробностями. И точно так же бывает во всех других полезных занятиях, включая и механические. Воспитание делает человека более умным сапожником, если он занимается сапожным ремеслом, но оно делает это не тем, что учит его шить сапоги: оно делает это тем умственным упражнением, которое оно дает, и привычками, какие оно сообщает». Люди бывают людьми, прежде чем они бывают юристами или медиками, купцами и мануфактуристами; и если вы делаете их способными и рассудительными людьми, они сделаются способными и рассудительными юристами или медиками. Общее образование — самый надежный фундамент, и без него у нас не будет ни хороших ремесленников, ни хороших врачей, юристов и ученых. Без него всякие реформы, всякие улучшения натолкнутся на непреодолимые препятствия. Известно, что идеи паровой машины, телескопа явились за целые столетия до их осуществления; но благодаря невежеству масс эти идеи были основательно забыты. Известно, что паровая лодка устроена была задолго до парохода, но по тем же причинам это изобретение должны были вновь повторить через несколько десятилетий. Еще Ломоносов удачно производил опыты, доказывающие основные законы естествоведения — законы вечности вещества и сохранения энергии. Русский ученый Петров еще в 1802 г. открыл освещающую силу вольтовой дуги. И такими фактами полна история науки. Известна целая масса открытий, которых в свое время не могли понять, усвоить, а тем менее оценить. И все они надолго были забыты. И в наше время какая масса блестящих научных открытий остается совершенно неизвестными, непонятными и не оцененными не только народными массами, но и так называемой культурной публикой. А между тем одни из этих открытий в состоянии были бы удесятерить производительность труда, другие — улучшить общественное устройство, третьи — облегчить воспитание, четвертые — поднять санитарию и т. д. Мы уже не говорим о том, что если бы масса в состоянии была понимать, оценивать всякие открытия, то история не знала бы мучеников науки: ни Сократа, ни Коперника, ни Галилея, ни Дж. Бруно. Но для понимания и оценки открытий широким массам нужно, чтобы они были образованны.
Профессионалистов издавна выписывали из-за границы. Это плохо, это унизительно, но это было возможно. А образованных людей не выпишешь. Их необходимо образовать здесь, на родине.
Да и для специалиста, как бы узка ни была сфера деятельности, если только он хочет создать что-нибудь новое, непременно понадобятся различные аналогии, сравнения, контрасты из других ближайших, а иногда и очень отдаленных областей знания. Деление наук по специальности искусственно. Перегородки между отдельными отраслями знаний то и дело падают. Наука едина. Все части ее тесно связаны друг с другом. Одна не могла бы существовать без другой, смежной с ней. На этой связи и зависимости основаны все классификации знаний, начиная со знаменитой классификации Огюста Конта. Нельзя изучать физику, не зная математики. Нельзя изучать биологию, не зная физики и химии. Нельзя изучать анатомию и физиологию человека, не зная биологии. Без этих последних наук нельзя изучать психологию, а без нее — социологию. Пастер, химик по профессии, сделал открытие, равного которому нет ничего в области медицины. Историк делает исследование, которым пользуются юристы. Биолог вносит самый ценный вклад в философию и своим открытием начинает новую эру в учении о мире и человеке. Географ делает из своей науки свод учений о Земле и человеке. Всякое усовершенствование, какое техника сделает в микроскопе, сейчас же отразится на учении о клетке, о тканях, о микробах и пр. Всякое улучшение в телескопе, в спектральном анализе двинет вперед астрономию. С какими только областями знания не соприкасается агрономия! Агроном черпает свои знания из химии, физики, метеорологии, почвоведения, физиологии растений и животных, энтомологии и пр.
Чтобы специалист увидал и почувствовал это единство науки, эти взаимные связи между различными отраслями знания, лучшим средством является общее образование. Оно выбирает из всех специальностей самое ценное в смысле общего развития. Оно свяжет разрозненные куски в одно целое. Оно создает почву, на которой легко и пышно расцветает любая профессия и любая специальность. В будущем оно даст возможность профессионалу опираться на другие способности, кроме тех, на какие опирается его профессия. Оно поможет составить цельное миросозерцание. Оно научит интересоваться жизнью в широком смысле этого слова. Оно поможет воспитать в человеке не профессионала, а человека, разносторонне упражняя его силы и способности. Оно объединит специалистов и профессионалов. Но при этом не забудет и индивидуальных качеств, способностей, склонностей и предрасположений каждого ученика. Оно поможет ему вернее определить свою будущую профессию, но оно же оградит его от беспомощности в случае, если бы избранная им профессия обманула его надежды. А можно ли сказать наверное, кем со временем станет учащийся и какая из его способностей понадобится ему в жизни? В будущем оно поможет ему взглянуть на свое дело не с точки зрения специалиста, а общечеловеческой. Общее образование было бы очень плохим, если бы готовило дилетантов и всезнаек, самоуверенных людей на все руки. Общее образование должно быть вовремя начато и вовремя кончено, с тем чтобы его питомец имел определенное стремление к определенной профессии, соответствующей его индивидуальным особенностям, сознание, что для этого надо учиться и работать в определенном направлении, и достаточно воли, чтобы взяться за эту работу. Каждый человек, чтобы стать человеком в лучшем смысле этого слова, должен получить надлежащее развитие. Но каждый в то же время должен избрать для себя какую-нибудь профессию. Стало быть, каждому человеку необходимы оба вида образования: общее и профессиональное. И для страны необходимы две сети двух родов школ: общеобразовательных и профессиональных. На этом мы могли бы и покончить с вопросом об общем образовании, если бы не существующее деление на высшее, среднее и низшее образование. Мы думаем, что в будущем это деление исчезнет, что станет возможно предоставить всем одинаковое общее образование, сохранив различие между людьми только в профессиональной подготовке, не поддающейся уравнению. Но в настоящем это деление существует, и игнорировать начальную школу значило бы заботиться только о десятках тысяч учащихся, из избранного, самостоятельного и привилегированного общества и забыть о массе тех, «чьи работают грубые руки». Это было бы слишком аристократическое отношение к вопросу, хотя бы оно и делалось во имя будущей равной и даже обязательной для всех единой общеобразовательной школы.
Мы уже говорили о том, что нельзя навязывать начальной школе профессиональных задач. Но есть еще взгляд, что дело начальной школы дать лишь орудие для образования, и это орудие заключается в умении читать, писать и считать. Мы думаем, что задача начальной школы даже в ее современной постановке значительно1 шире: кроме этих трех орудий она должна дать и развитие, и знания, и методы, как добываются эти знания, и любознательность — все, что необходимо для дальнейшего самообразования.
Начальная школа при ее современной постановке занимает совершенно особое место в ряде других учебных заведений. Если профессиональная школа имеет в виду снабдить учеников знаниями, необходимыми в практической жизни, если общая школа на высших своих ступенях стремится удовлетворить свободное бескорыстное стремление человека к знанию, если профессиональная школа стремится развить до возможно высокой степени известные односторонние способности с тем, чтобы каждый возможно дальше проник в глубь изучаемого им предмета, если общее образование на высших ступенях стремится развить все способности, чтобы каждый возможно шире охватил всю сумму человеческих знаний, стремится соединить в одно гармоническое, неразрывное целое все отдельные профессии, все отдельные роды жизненных занятий, если профессиональное образование делает человека слишком узким, а общее — безличным, то начальное образование избавлено от этих крайностей. Оно служит фундаментом одинаково и для того и для другого. Оно дает ученику доступ и к восприятию профессиональных знаний, какие хранятся в популярной технической литературе, какие сообщаются в профессиональных учебных заведениях, какие могут быть приобретены путем опыта и наблюдений. Но оно в то же время делает доступным для человека общую популярную литературу, которая в наш век шйрокого и все расширяющегося развития книжного производства, конечно, делает для общего развития гораздо больше, чем какие бы то ни было из существующих учебных заведений.
Начальная школа — это общеобразовательное учебное заведение, оно не имеет другой цели, кроме целесообразного, полного, гармонического развития всех способностей, таящихся в зародыше в душе ребенка. Станет он взрослым, выберет себе известную профессию, и тогда сама жизнь постарается нарушить равновесие, в каком воспитывала его способности школа: сама жизнь и сама профессия будут усиленно культивировать те из его способностей, какие нужны для той или другой специальности.
Но еще раз повторяем, что в будущем не должно быть разделения общего образования на высшее, среднее и начальное. Образование справедливо сравнивают с солнечным светом, но солнце одинаково светит и бедным и богатым. Так и общее образование в противоположность профессиональному должно быть одинаковым для всех. Лишь одни природные способности могли бы оправдать неравенство в этом отношении.
ПРЕДМЕТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
Глава IV
Сущность предметного метода обучения и его результаты
Но что такое, по существу, предметное обучение? Из истории занимающего нас вопроса мы можем сделать один очень существенный вывод, состоящий в том, что нельзя смотреть на предметное обучение как на особый предмет преподавания. Мы видели, что все попытки сделать из него особый предмет обучения оканчивались поражением и давали его противникам богатый материал для насмешек над методом. Предметное обучение, проводимое в школе, должно составлять лишь известный метод преподавания. Даже так называемые предметные уроки не должны составлять какого-нибудь особого предмета обучения. Содержание этих уроков может быть весьма различно. Они могут ограничиваться теми отделами знания, какие служат предметом обучения по классной книге, как это бывает в начальной школе. Предметные уроки — это уроки о предметах посредством наглядных предметов и на конкретных предметах, это предметное обучение в тесном смысЛе слова с предметом в руках или перед глазами. «Чувствам детей представляются, — как говорит Дистер-вег, — действительные, реальные предметы; их наблюдают и рассматривают; а что наблюдалось и рассматривалось — о том и рассуждают».
Видеть, слышать и говорить — это все здесь идет одно вслед за другим.
Современная психология доказала, что слух, осязание, вкус, обоняние и мускульное чувство играют не меньшую роль при изучении природы и жизни, чем зрение. В своей книге «На первой ступени обучения» мы говорили о том, что даже слова, даже орфографию слов мы запоминаем не только благодаря зрительной памяти, но также и памяти слуховой и еще больше благодаря памяти движения рта и движения руки, памяти моторной, памяти произношения и памяти графической. Тем больше роль всех других органов чувств при изучении не слов, не орфографии, а предметов. Мы еще не знаем предмета, если мы изучили его только посредством одного зрения. И пословица говорит: «Умный глазам не верит». И дети, руководимые природным инстинктом, никогда не довольствуются одним зрением. Им надо ощупать предмет, надо постучать, чтобы знать, как он звучит, надо поднять его, чтобы узнать, как он тяжел, надо бросить его, чтобы узнать, разобьется ли он, надо лизнуть, чтобы узнать его вкус, надо его понюхать и т. д. Поэтому слова «наглядное обучение» неверно выражают то, что так обыкновенно называют. Вернее будет сказать «предметный метод обучения». Царившие до сих пор приемы обучения пользовались главным образом слухом и отчасти зрением. В течение всего учебного времени почти без умолку, если не считать самостоятельных работ, в классе раздавалась речь либо учителя, либо отвечавших ему учеников. Слушая в классе, ученик, приходя домой, садился за книгу. Таким образом, школа искусственно развивала способности к слуховым представлениям (а из зрительных образов она отбирала только буквенные образы), все равно, к какому типу ни принадлежал ученик; последний мог быть представителем моторного типа с резким преобладанием двигательных образов, у ученика могла почти совершенно отсутствовать способность пользоваться слуховыми представлениями, но школе до этого не было никакого дела, и она знала только один-единственный способ воздействия на ученика — устное слово.
Предметный метод обучения, наоборот, имеет дело не с одним слухом и не ограничивается двумя внешними чувствами (слухом и зрением): он рассчитан на все внешние чувства. Кроме зрения и слуха он пользуется даже вкусом, есть много предметов, которые стоит попробовать на язык; таковы некоторые минералы, продукты растительного и животного мира, слабый гальванический ток и пр. Он может пользоваться обонянием. Но особенно часто он пользуется осязанием, мускульным и термическим чувствами. В наших восприятиях играют роль также двигательные и органические ощущения.
Ученикам приходится часто узнавать, тепел предмет или холоден, тверд или мягок, тяжел или легок, шероховат или гладок. Значение мускульного чувства и двигательных ощущений выступает особенно рельефно в жизни глухих и слепых. Только благодаря мускульному чувству и осязанию слепая и глухая Лаура Бриджмен1 научилась читать и писать, а затем получила дальнейшее развитие, позволившее ей стать учительницей глухонемых.
Тем же органам чувств обязана глухая и слепая Елена Келлер2, умеющая играть на рояли, читать, писать и рисовать, сдавшая экзамен зрелости, занимавшаяся университетскими науками. Но здоровые дети не нуждаются в том, чтобы изучать слова, пользуясь осязательно-двигательными элементами. По отношению к нормальным детям оставим слуходвигательным элементам область слов, которые необходимы для названия предметов и для более быстрого отвлеченного мышления, а для предметных восприятий будем пользоваться и всеми другими органами чувств, и всеми другими типами представлений. И это будет большой экономией сил. Слова, как знаки и символы понятий, ученик будет тогда представлять с помощью одних элементов, а действительные предметы — с помощью других. Различие целей и функций будет соответствовать тогда различию материала. И во всех ощущениях, как зрительных, слуховых, вкусовых, обонятельных, так и осязательных, термических, двигательных и органических, чрезвычайно важна в этом отношении степень интенсивности (яркость красок, сила звука, степень тепла, величина тяжести и пр.). Не менее важно, когда и где данное ощущение получено. Огромную важность имеют те ассоциации и воспоминания, какие вызывают новые впечатления, те образы и переживания, с которыми соединяется, сливаясь, новый образ и новое переживание. И во всех этих процессах играет решающую роль интерес и внимание. Из того, что сказано нами раньше, следует, что предметный метод преподавания может иметь преимущественное место при сообщении сведений из минералогии, ботаники, зоологии, отчасти географии, геологии, физики, химии, метеорологии, он уместен при ознакомлении с предметами сельского хозяйства, фабричного производства и пр., но он почти не имеет применения, например, при изучении катехизиса. Предметное обучение, таким образом, может касаться всех явлений природы и всех предметов, необходимых в жизненном быту. Предметный урок в начальной школе и опыты в лаборатории ученого — это две крайние точки в одной и той же работе. Учитель начальной школы начинает с предметов, хорошо знакомых учащимся, но он указывает при этом на те качества, которые не были замечены самими детьми, и расширяет таким образом их представления о предмете. Потом он переходит к предметам, неизвестным ученику, и знакомит с ними по чучелам, рисункам, чертежам. В конце длинной цепи подобных предметных уроков могут стоять самые сЛожные явления природы. Наука идет вперед и упрощается. То, над чем сегодня работает только ученый и что сегодня проблематично, завтра станет бесспорной истиной и достоянием средней школы. Дайте достаточный срок, и труды ученых и педагогов упростят настолько добытую истину, что она станет доступной и в низшей школе.
Некоторые обвиняли сторонников наглядного обучения чуть ли не в атеизме.
Это обвинение так нелепо, что даже не заслуживает опровержения. Но здесь кстати указать на одну подробность. По мнению психологов известного толка, метод, на котором основано предметное обучение, отличается от других своей интуитивностью. Интуицией — по-русски видением — психологи этого направления называют обыкновенйо непосредственное, самопроизвольное и потому самое легкое естественное познание какой-либо истины, или красоты, или добра. Интуиция обыкновенно противополагается рефлексии, как вера противополагается сомнению, как Дон-Кихот — Гамлету. Интуиция играет огромную роль в поэзии, в живописи, в музыке, в скульптуре. Все то, до чего дошел поэт или художник не путем размышления, обыкновенно долгого и трудного, все то, что создано им свободно, без усилий, сомнений и колебаний, — всем этим он обязан интуиции. Бывали случаи, когда поэты и романисты воспроизводили в своих печатных трудах образы, виденные ими во сне. Не путем размышлений и доводов мы принимаем красоту пейзажа, красоту великодушия, красоту арии, не путем силлогизмов и теоретических соображений мы доходим до понятия о том, что мы чувствуем в данный момент, чего желаем, о чем думаем. Можно было бы продолжать примеры, указав на математические аксиомы, что целое больше своей части и т. д., и на то положение, что все имеет причину. Мы не можем согласиться с мнением, будто интуиция — это что-то если не сверхъестественное, то прирожденное. Мы не сомневаемся, что любому интуитивному образу или идее предшествовала работа в нашей душе, но она не требовала от нас усилий и потому кажется нам самопроизвольной.
Самым лучшим примером интуиции, если понимать ее правильно, будет познание внешних предметов с помощью наших органов чувств: зрения, слуха, осязания и т. д. Предметное обучение экономизирует силы. Не надо логических доказательств, размышлений и усилий ума, чтобы убедиться в том, что кристалл соли имеет форму кубика, что вода от холода превращается в лед, что тела расширяются от теплоты и сжимаются от холода: эти сведения мы получаем самопроизвольно, свободно, естественно и легко через наши внешние чувства. Чтобы узнать предмет наглядным путем, не надо больших усилий: надо только немножко внимания. Мало этого, предметное обучение сокращает время. Никаким другим способом нельзя до такой степени экономизировать время, как путем наглядности. Можно говорить ребенку целые часы о том, как пашут землю, но он узнает об этом процессе гораздо больше, если всего только полминуты посмотрит на пашущих земледельцев. Больше того. Опыт повышает уверенность в факте. Когда ученику рассказывают о том, что если налить соленую воду на сковороду и ?атем испарить, то на дне останутся кристаллы соли, он менее поверит рассказу, чем тогда, когда рассказ сопровождается опытом...
...Наши теории и наши воззрения на природу постоянно меняются. Но достоверные факты науки остаются. И если ученик вынесет из школы знание таких бесспорных фактов, засвидетельствованных его внешними чувствами, это будет большое дело.
Сведения, полученные таким образом, не вызывают в нас ни сомнений в своей достоверности, ни колебаний. Скажем еще больше. Сведения, полученные путем исключительно словесного обучения, кажутся нам бледными, темными, сбивчивыми, а между тем сведения, доставленные нам внешними чувствами, всегда кажутся нам определенными и ясными. Чтобы объяснить себе вышесказанное на одном каком-нибудь примере, представим себе следующий случай. Предположим, что я имею дело с развитыми учениками, но они никогда не видали кристаллов какого-нибудь определенного класса, и что я пожелал бы дать им представление о кристалле этого типа. Я мог бы ограничиться одним словесным изложением. Я мог бы на словах объяснить, что такое центр в кристаллах и где он находится в данном кристалле; я мог бы подробно объяснить, что такое плоскость симметрии, сколько таких плоскостей в данном кристалле и какое они занимают положение; я мог бы определить на словах, что такое ось кристаллов, сколько осей в данном кристалле и пр. Но как бы подробно я ни описывал этот кристалл, мои ученики, если они его не видали, будут иметь о нем очень смутное представление. И однако же, стоит только подержать этот кристалл перед их глазами хотя бы одну минуту времени, и они будут иметь о нем ясное представление. Один руководитель курсов, протестуя против наглядности, говорит, что слово может само представлять совершенно достаточную наглядность, превосходящую наглядность обычных пособий. В доказательство своей мысли он описал ученикам сову так: клюв у нее, как долото, когти, как острые иглы. Несмотря на всю изобразительность такой речи, мы все же думаем, что, если бы дети увидели живую сову, они узнали бы о ней больше. Я уже не говорю о том, что многие дети не видали и долота и аналогия педагога для таких детей пропадает даром.
Учитель, пользующийся лишь одним словесным методом, очень часто впадает в ошибку и думает, что его ученики знают предмет, когда они могут ничего не знать, кроме слов. В самом деле, когда ученик повторяет слова книги или* учителя, то, во-первых, он может с некоторыми из этих слов не соединять ровно никаких понятий, а во-вторых, он может соединять с данными словами определенные понятия, но совсем не те, какие этими словами обыкновенно выражаются. Заставьте нарисовать цветок, клетку, сердце ученика, бойко отвечающего урок, и вы сейчас же узнаете, видел ли он то, о чем говорит. И против этой опасности мы не знаем никакого другого средства, кроме предметного метода.
Лейбниц3 говорит, что работа учителя заключается в том, чтобы «отделять зерно фактов от соломы слов».
Мы, впрочем, не хотим сказать этим, что весь наш умственный багаж состоит или должен состоять только из того, что мы узнаем наглядно, с помощью внешних чувств; мы хотим сказать только, что эти сведения должны лечь в основу всего остального, что с них именно надо начинать обучение ребенка. Выражение Бэкона4, что «физика — мать всех наук», получило теперь значение в деле воспитания. Предметный метод базирует все развитие ребенка на ощущениях. Но ведь ощущения действительно лежат в основе всей нашей психики. Из ощущений образуются представления, образы воображения, мысли, а из представлений — понятие. И когда я говорю себе слово «гора», то в моем уме проходит один или несколько образов, воспоминаний, представлений; я представляю, например, виденные мной Ай-Петри, гору Кошку, Медведь-гору и пр. Очевидно, именно из этих представлений, обработанных в моем уме и, конечно, дополненных слышанным и читанным, составлено мое понятие «гора». И если мы хотим, чтобы ученик знал не одни слова, но соединял с ними и ясные понятия, мы должны снабдить его представлениями, а последние, как сказано, слагаются из ощущений. Чтобы понятия ученика были точны, мы должны сделать так, чтобы в каждом образе он обращал внимание на самое существенное и важное и оставлял в тени несущественные, случайные признаки. Средствами для этого служат: первое — дать не один, а несколько образов, и притом таких, чтобы все они обладали одними и теми же существенными признаками, но резко различались во всех остальных, несущественных, случайных признаках. Чтобы дать понятие, например, о десятке, следует указать десяток крупных и десяток мелких предметов; десяток отдельных каких-нибудь предметов и непрерывную величину в десять мерок (10 аршин какой-нибудь длины, 10 фунтов веса, 10-копеечную монету и пр.) и т. д. Подбирая таким образом примеры не однородные, а из разных областей, мы оставим в тени и величину считаемых предметов, и материал, из которого они сделаны, и пр. и выделим только один существенный признак, образующий понятие «десять», обращая внимание детей не на различия предметов, а на их сходство. Второе средство сводится к тому, чтобы, познакомив с данными предметами или наглядными пособиями, дать потом на рисунке, модели, плане, карте и пр. только схему, в которой оставить самое существенное и опустить все случайное и неважное. Так, например, чтобы дать понятие о какой-нибудь машине, в ее модели избегают всех подробностей, без которых можно обойтись, но старательно выдвигают и демонстрируют наиболее существенное и важное. Третье средство выделить существенные признаки предмета или явления для образования понятия заключается в том, чтобы, предлагая детям для изучения предмет или пособие, учитель путем наводящих вопросов или простым указанием обратил внимание детей только на самое важное, игнорируя детали. Так, например, объясняя детям времена года, мы в темной комнате ставим на столе свечку, которая изображает Солнце, и обносим кругом стола глобус, изображающий Землю, и при этом мы (наводящими вопросами) сосредоточиваем внимание детей на том, что ось глобуса «целится», «смотрит» (направлена) на одну точку неба и наклонена к площади стола; и только поэтому получается разница в освещении полюсов: по одну сторону стола северный полюс освещается лучше (наше лето), а на противоположной стороне — южный полюс (наша зима, а на южном полушарии — лето). Чтобы убедиться в этом, стоит только направить ось глобуса перпендикулярно к площади стола, и тогда никакой разницы в освещении не увидим.
Итак, в основе всех наших образов, понятий, мыслей лежат ощущения, а ощущения всегда вызываются раздражениями нашей нервной системы (то звуковыми, то зрительными, то осязательными, то голодом, жаждой и прочими внутренними раздражителями). Но ощущения носят так называемый чувственный тон и возбуждают то приятные, то неприятные чувства; а из сочетания мыслей и чувств образуются настроения, влечения, стремления, решения, характер. Итак, вся наша психика сводится к ощущениям и, стало быть, к раздражениям нервной системы.
Мы думаем, что превосходство предметного метода можно доказать даже тогда, если бы мы стали на точку зрения тех метафизиков, по мнению которых чувственный мир похож на пещеру, где сидят пленники спиной к свету. Все предметы бросают свою тень на стену, а пленники, никогда ничего, кроме теней, не видавшие, принимают их за действительные предметы. Они различают эти тени, угадывают порядок, в каком одна тень появляется за другой, и гордятся своим знанием теней. Но те, кто выставил бы эту теорию против предметного метода обучения, выиграл бы очень мало. Если то, что мы называем предметом, есть только тень, то ведь кроме предметов у нас есть лишь одни слова, т. е. названия предметов, и тогда слова будут уже тенями теней, а такой вывод едва ли послужит в пользу исключительно словесного обучения.
Нет, без ясного ознакомления с видимыми и осязаемыми свойствами предметов наши понятия и выводы будут ошибочны, наши действия — ложны. Вследствие небрежного воспитания внешних чувств при незначительном запасе опыта и наблюдений, при непривычке и неумении наблюдать и экспериментировать дети отличаются отсутствием самодеятельности и находчивости, вялостью, туманностью, неопределенностью, узкостью, от которых трудно избавиться.
Что предметное обучение и даже обыкновенная стенная картина, изображающая знакомые детям предметы, возбуждают в детях особый интерес, об этом свидетельствуют все, близко наблюдавшие школьную жизнь. Вот что, например, говорит Н. Ф. Бунаков:
«Если бы вы имели дело с крестьянскими ребятами, вы бы увидели, что эта-то самая нарисованная на картинке знакомая хата, крестьянская лошадь с сохой, корова, овца производят на этих ребят, попавших в совершенно новую для них, школьную обстановку, такое возбуждающее и оживляющее впечатление, что они разом из молчаливых, замкнутых в самих себя, вялых и пассивно занимающих свои места школьников обращаются в живых людей, смело и развязно раскрывающих перед учителем весь свой внутренний мир».
То, что изучено предметным методом, надолго сохраняется в памяти, и притом с необыкновенной точностью. И это понятно. Мы знаем только одно средство помочь памяти — это ассоциация. По образному выражению одного психолога, каждая ассоциация — это крючок, на котором держится в нашей памяти данное воспоминание. Но при предметном методе преподавания таких ассоциаций у каждого слова сколько угодно. Тут и цвет наблюдавшегося предмета, и его форма, и его шероховатость, и твердость, и температура, и, может быть, вес, вкус, запах и т. д. Все напоминает одно, другое, все друг за друга цепляется, друг друга поддерживает и хранит от забвения.
В практическом отношении чрезвычайно важно знать, насколько наглядность обеспечивает хорошие успехи классного обучения. Можно было бы заключить о выгодах предметного обучения, между прочим, из опытов экспериментальной психологии. Они показали, что учащиеся всех возрастов лучше запоминают показанные им предметы, чем названия предметов, цифры и слова. Но эти опыты, ценные для психологии, должны быть дополнены еще другими опытами, имеющими более тесную связь с общепринятыми приемами обучения.
Когда-то Н. К. Михайловский5 жестоко нападал на русских педагогов, обвиняя их в необоснованности их приемов и программ преподавания. Если педагогия — наука, то она должна указать на открытые ею законы; если она — искусство, она должна рассказать, какие она ставит себе задачи и почему именно те, а не другие. По мнению знаменитого критика, эти вопросы после Ушинского даже в голову не приходят педагогам. «Педагоги движутся ощупью или по эмпирическим рецептам немецких педагогов». В этом обвинении, к сожалению, много правды.
Смягчающим обстоятельством служит разве то, что не одни русские педагоги повинны в этом грехе. В 1900 г. в Париже на Всемирном конгрессе высшего образования один из учителей, вышедший из Парижской нормальной школы, признавался, что его там нисколько не научили, как надо вести уроки. Впрочем, он добавил, что ему дали два указания: «Если ученики шумят, кричите громче, чтобы перекричать их. Если же они будут кричать громче вас, замолчите вдруг, и вы узнаете, кто из них кричал громче всех». Другое указание: «Никогда не ходите в классы не позавтракавши; иначе получите мигрень». Наша педагогика до последнего времени висела в воздухе. В ее основу было положено немножко опыта и очень много теологии, метафизики, произвола, укоренившихся традиций и ни на чем не основанных рецептов. Все эти беспорядочно собранные элементы, без связи, без объединяющих принципов, заключали в себе много непримиримых противоречий, которых не замечали. Некоторые из педагогических руководств по своей необоснованности напоминают старинные сонники. И это прежде всего те руководства, которые в свое время были положены в основу министерских программ, планов и объяснительных записок, предлагаемых к исполнению как своего рода догматы, не подлежащие критике. Но если педагоги не хотят быть мечтателями, основывающими все свои приемы на фантастических предпосылках, хотя бы на них и была положена министерская марка, то они должны привести педагогику в самую тесную связь с опытом и наблюдениями. Педагогические вопросы могут быть правильно разрешены лишь объективным, беспристрастным исследованием, основанным на собирании фактов и разработке их. Всякое понятие должно быть сведено к фактам, разложено на факты. И наоборот, вереницы собранных фактов, частных случаев, опытов и наблюдений должны быть обобщены; из фактов должны быть сделаны выводы. Посколько педагогика — наука, наша задача исследовать, что бывает в области воспитания и почему бывает именно так, а не иначе. При этом мы должны уметь отличать в собранных фактах существенное и важное от случайного и неважного. Степень нашего умственного развития и педагогической подготовки может быть измерена тем, что именно мы считаем наиболее существенным. Наша задача в настоящее время не в том, чтобы нанизывать рассуждения одно на другое для вывода целого ряда последствий из какого-нибудь отвлеченного положения, а в том, чтобы наша мысль была в постоянном соприкосновении с фактами, с действительной, реальной жизнью детей.
Все науки начинали с того, что изучали, наблюдали, описывали и группировали соответствующие факты, причем руководились стремлением установить общие законы и формы явлений. В такой области, как наша, нами должна руководить еще другая цель: изучать законы явлений, с тем чтобы пользоваться ими в воспитании. История педагогики полна примерами, как гибли теории, которые были выведены дедуктивным путем из общих отвлеченных положений и не проверены на фактах. Для понимания законов воспитания недостаточно одних априорных выводов, хотя бы это были даже выводы из психологии, биологии и физиологии, важность которых для нас, конечно, не подлежит сомнению; необходимо еще точное описание, сравнение, согласование и классификация относящихся к нашей области опытов, наблюдений и вообще проверенных, зарегистрированных фактов с тем, чтобы путем индукции сделать из них общие выводы. Вот труд, полный значения и обещаний. В числе приемов, которыми можно пользоваться п£и разработке фактического материала, имеет наибольшую ценность статистический метод, который предполагает точные цифровые, математические выводы. Он же дает возможность получать особенно важную для обобщений среднюю величину из многочисленных однородных фактов.
К счастью, в последнее время педагогика вступает на путь точных экспериментальных исследований, систематических наблюдений по наперед составленному плану и статистическому методу при разработке полученных путем наблюдений и опыта данных. Начало таких исследований надо отнести к 1879 г., когда русский психиатр и педагог проф. Сикорский обнародовал свои первые экспериментально-педагогические исследования о школьном утомлении. Следующие затем работы Лая появились в печати в 1896 г., и с тех пор труды по экспериментальной педагогике мы встречаем у немцев (Бургерштейн, Мейман6, Фуш, Пфейфер и др.), у французов (Бине и Анри), у американцев (Галлаи др.), у итальянцев (Пиццоли8 и др.) и у нас, в России (Нечаев9 и др.). Американцы эту отрасль знания называют точной педагогикой, итальянцы и французы — новой, а немцы и русские — экспериментальной. Теперь она стремится захватить все отрасли обучения (есть работы о преподавании правописания, арифметики, чтения и пр.) и многие отрасли воспитания. Ее приемы — это метод физики и химии, который дал такие блестящие результаты в медицине, физиологии, биологии, агрономии и пр. Новая, точная педагогика пользуется экспериментом и систематическими наблюдениями, большей частью подвергая полученные таким образом данные статистической обработке. Этими же приемами руководился и я, когда в 1897 г. производил исследования в тверских школах...
При этом к решению вопроса о преимуществах метода предметного обучения над словесным мы применили статистический метод — метод сопутствующих изменений. Метод этот, по учению Милля, как известно, состоит в том, что если вслед за изменением одного явления наблюдается изменение другого, то мы можем заключить о причинной связи между ними. Если с заменой одного приема преподавания другим приемом, при прочих равных условиях, успешность преподавания повышается — это будет очевидным доказательством превосходства второго приема перед первым. Если, наоборот, замене одного приема другим, при прочих равных условиях, сопутствует уменьшение успешности преподавания, то это будет доказательством превосходства первого приема перед вторым. Мы не скрываем затруднений, с какими приходится считаться, производя подобные опыты. Прежде всего возникает вопрос о том, где найти признаки, более или менее точно характеризующие успешность преподавания. Трудность увеличивается и тем еще, что эти признаки должны быть таковы, чтобы оставалось возможно меньше простора для субъективной оценки успехов, и это потому, что субъективная оценка подвергается слишком большим колебаниям и не может внушить к себе достаточного доверия. Когда признаки найдены, когда экспериментатор уверен, что характер признаков обеспечивает объективную оценку успехов, надо обдумать опыт таким образом, чтобы все остальные условия, кроме намеренно изменяемых приемов обучения, оставались по возможности равными. Без этой предосторожности приему преподавания может быть приписан результат, определяемый тем или другим развитием, подготовкой или способностями учащихся, той или другой степенью свежести мозга и т. п. Легко может случиться, что какого-нибудь условия уравнять нельзя, и это чаще всего может относиться к развитию, подготовке или способности учащихся, и тогда необходимо придумать способ исключать влияние этого фактора на общий результат урока.
В данном случае мы рассуждали следующим образом.
Один и тот же предмет может быть преподаваем или наглядно — с опытами перед учениками, с экскурсиями, с наглядными пособиями в руках учеников и перед их глазами; или тот же самый предмет обучения может быть излагаем только посредством живого слова в классе и печатного — в учебнике, без опытов, без наблюдений, без экскурсий, без всяких наглядных пособий. При обучении физике опыты с электричеством можно только описывать, но не производить на машине, как это очень часто и делается. В ботанике можно описывать цветок, не показывая его ученикам; в минералогии можно очень много рассказывать о каменном угле, не справляясь о том, видели ли дети этот минерал. В этом отношении существуют три приема обучения: 1) исключительно словесное, когда учитель обходится без опытов, без наблюдений, без наглядных пособий и даже без картин; 2) при помощи картин, когда учитель иллюстрирует свои объяснения картинами и рисунками; .3) истинно предметное обучение, когда учитель, не пренебрегая живым словом, производит, кроме того, опыты, заставляет учеников самих делать наблюдения, показывает им предметы, о которых идет речь в классе. Сообразно с этим подразделением приемов обучения я расположил свое исследование следующим образом. В школе, где производились эти исследования, в день опытов было налицо 155 учеников, соответствующих четвертому году обучения начальной школы и размещенных в параллельных классах. Все они были разделены при производстве исследования на три группы. В каждой группе мною были описаны три физических опыта с надлежащими объяснениями. В каждой группе я повторял слово в слово то, что говорил в другой. Почему во всех группах было повторено одно и то же — это понятно из вышеизложенного. Необходимо было уравнять условия, необходимо было так поставить исследование, чтобы та или другая разница в результатах не была приписана разнице в рассказе, в изложении. Совсем другое дело с картинками и с физическими опытами. Все физические опыты можно было бы произвести в одной группе; все картинки показать в другой группе, и ничего не показывать в третьей, ограничившись лишь одним рассказом и описанием опытов. Тогда по разнице результатов можно было бы судить о преимуществах того или другого приема. Но такой способ исследования представлял бы то неудобство, что подготовка и развитие учеников одной группы могли оказаться выше развития другой; это условие не могло не отразиться на результатах урока и могло затемнить роль исследуемого фактора. Ответы одного класса могли быть лучше ответов другого не в зависимости от различных приемов, примененных к тому или к другому, а в зависимости от развития учащихся. Вот почему я во всех группах сделал по одному физическому опыту, но по опыту разному: во всех группах показывались картинки, но разные, и во всех группах одна из тем была проведена без всяких иллюстраций; но то, что в одной группе рассказывалось без иллюстраций, иллюстрировалось в другой. Так, например, в первой группе был воспроизведен опыт на тему о волосности, во второй группе — опыт с мухами в рюмке, в третьей — опыт, относящийся к теплопроводности. Та же разница соблюдена была и в иллюстрациях рассказов картинками. Таким образом, например, первый опыт был описан и воспроизведен в первой группе; но тот же опыт был описан и иллюстрирован картинкой во второй группе и просто описан, без всяких иллюстраций, в третьей группе. Но зато другой опыт (с мухами в рюмке) был воспроизведен во второй группе, но не был воспроизведен в первой и третьей; третий опыт был воспроизведен только в третьей группе. При таком распределении опытов между группами условия уравнивались лучше. Если более высокое развитие или подготовка одного какого-либо класса поднимала успешность урока, то это влияние одинаково отражалось и на усвоении того, что сопровождалось опытом, и того, что иллюстрировалось картинками, и, наконец, того, что воспринято было без всяких наглядных пособий.
Чтобы судить о результатах, я на другой день предложил ученикам написать, что они помнят из вчерашних объяснений. Дети не были при этом стеснены временем, перо и бумага оставались в их распоряжении до тех пор, пока не исчерпался весь их запас воспоминаний о вчерашнем уроке. Одни из детей написали только несколько строк, а другие — по четыре страницы мелкого письма. Одни из детей припомнили все существенное, другие — ограничились очень немногим. Просмотр тетрадей делался преподавателями школы и мною. При пересмотре тетрадей перед нами стояли две различные задачи. Одна — это определить, какие части вчерашней беседы вспомнил и записал каждый ученик, без всякого отношения к качеству его работы. Другая задача состояла в том, чтобы, не касаясь ни стиля, ни грамотности, ни чистоты работы, распределить исполнение по каждой отдельной теме на следующие рубрики: 1) не понял беседы, 2) изложил с существенно важными пропусками, 3) изложил без существенных пробелов и 4) изложил обстоятельно. Первая работа имела то преимущество перед второй, что она давала совершенно объективные признаки. Кто бы ни просматривал работы, результаты подсчета всегда будут одинаковы. Зато вторая работа, допускающая в известной мере и субъективную оценку ответов, имеет то преимущество, что она дает более полное представление о результатах урока. Когда все работы были просмотрены, стало возможно сопоставить цифры, отражающие результаты урока, с приемами обучения. Вот общие результаты сделанного нами подсчета: 1) объяснения, которые сопровождались опытами в классе, запомнили и изложили в своих тетрадях 91% учеников; 2) те же самые объяснения, но не сопровождавшиеся опытами, а иллюстрируемые картинками, запомнили и изложили в тетрадях 50% общего числа учеников; 3) те же самые объяснения, но не иллюстрированные ни опытами, ни картинками, запомнили и записали лишь 24% общего числа. Выводы поразительные! Хотите вы, чтобы ваши объяснения поняли, усвоили и запомнили не 24% учеников, а 91%, нам надо сделать только одно — иллюстрировать ваши объяснения опытом. Любопытно распределение ответов по темам. По первой категории наибольшая удача выпала на опыт с мухами в рюмке (этот опыт запомнили и записали решительно все 39 учеников, его видевших) и на опыт, касающийся теплопроводности тел (этот опыт из всех его видевших учеников не записал только один ученик). Наименьшая удача выпала на опыт, касающийся волосности (этот опыт записали только 77% всех учеников, перед которыми он демонстрировался). Но тема о волосности, бесспорно, самая трудная из трех тем, затронутых мною в моих беседах. Что это так, легко видеть из общего подразделения записанных ответов по трем темам, на которые был разбит урок. На тему о волосности приходится во всех группах 40% всех записей, на тему о теплопроводности — 60% и на тему о непроницаемости воздуха — 80%. Большее число ответов на последнюю тему кроме доступности содержания может быть объяснено еще интересом, какой она возбуждала в учениках. По поводу этой беседы ученики сами предложили мне несколько вопросов, а по поводу двух других тем никаких вопросов со стороны учеников не предлагалось. Итак, мы видим, что в тех двух случаях, когда содержание беседы было доступно всем учащимся, приемы предметного обучения были достаточны, чтобы довести почти всех учеников до усвоения содержания, и только в одном случае, когда беседа по своей трудности превышала силы некоторых учеников, 23% общего числа учащихся не могли изложить этой беседы.
Таким образом, колебания в числах, относящихся к первой категории ответов (изложение беседы иллюстрировалось опытами), простираются от 77 до 100%. Совсем другие колебания мы наблюдаем в цифрах, относящихся ко второй категории ответов (изложение бесед, иллюстрированных картинками). Здесь число записей колеблется между 27 и 73% общего числа учащихся. Чем объяснить, что здесь так велика амплитуда колебаний? Нам кажется, что объяснение лежит в самом характере этого дидактического приема. Две картинки (изображающие опыт с мухами в стакане и опыт на тему о волосности) были очень хороши и ясно передавали сущность опытов. И на обе эти темы число удачных ответов было очень высоко. В третьем случае (опыт на тему о теплопроводности тел) картинка была не вполне удовлетворительна и неясно передавала сущность опыта. И именно на эту тему пришлось наименьшее число удачных ответов. Но как бы то ни было, хороши картинки или дурны, ясно изображают они опыт или нет, число удачных ответов в этой категории ни разу не поднялось до цифр, относящихся к первой категории, и вывод отсюда совершенно ясен: иллюстрировать беседы опытами полезнее в смысле успешности обучения, нежели иллюстрировать те же беседы картинками. Наш вывод совершенно понятен. Картинка ведь тот же символ, хотя и далеко не такой искусственный, как слово. Картинка вместе со словесным описанием больше скажет ученику, чем одно словесное обучение, но она не скажет всего того, что скажет сам предмет и само явление. Картинка не даст такого точного и ясного представления, как сам предмет перед глазами. Припоминаю по этому поводу рассказ г-жи Окороковой, как одна ученица в первый раз увидала во время экскурсии якорь на пароходе и так была удивлена его величиной, что воскликнула: «А на картинке он совсем маленький!»*
* Чем моложе ребенок, тем осмотрительнее надо относиться к таким пособиям, как картина. Исследования, произведенные Зейффертом над детьми, поступающими в школу, показывают, что дети этого возраста допускают самые удивительные ошибки в истолковании картин. Оленя дети называли коровой, ланью, зайцем, зверем; белку — зайцем, кошкой и даже птицей. Один ребенок из 60 изображенных предметов узнал только 45. Таким детям надо давать для рассмотрения по преимуществу естественные предметы; только таким” образом можно приучать их наблюдать то, что действительно существует. Между тем картина представляет лишь суррогат действительности и требует от ребенка больших усилий для того, чтобы представить себе, что именно из действительного мира картина изображает. Трудная для понимания картина не помогает ребенку, а спутывает его мысли. То же самое надо иметь в виду и относительно других наглядных пособий, заменяющих в школе естественные предметы. Но конечно, более развитых учеников не затруднит понимание картины, и картина не отвлечет их от наблюдения действительности. Отсюда видно, как важно, чтобы картины и другие наглядные пособия были приспособлены к пониманию учащихся данного возраста, чего, к сожалению, очень часто не наблюдается в наших пособиях.
Третья категория (изложение бесед без опытов и без картин) дает колебания в цифрах удачных ответов от 9 до 47% общего числа учеников. Тема, более трудная (о волосности) для понимания учащихся, дала меньше ответов, нежели темы более легкие. Тема, более интересовавшая учеников (о непроницаемости воздуха), дала и здесь всего больше ответов. Но как далеко даже этой максимальной цифре до средней цифры, выражающей число удачных ответов по первой категории. Минимальная же цифра ответов показывает, что учителя, пренебрегающие наглядностью в обучении, рискуют бесплодно губить и свои и детские время и силы. К тем же самым выводам мы придем, если перейдем к результатам, какие дал качественный анализ ученических ответов. Эти результаты могут быть представлены в следующей таблице.
Всматриваясь в эту таблицу, мы видим, что влияние наглядности на количество обстоятельных ответов чрезвычайно велико. Опыты увеличили почти в 9 раз число обстоятельных ответов (с 3 до 26). Мы видим также, что из всех учеников, написавших на темы, иллюстрировавшие опыт, не нашлось ни одного, который бы не понял опыта или допустил в своем изложении существенно важные пробелы. И эти выводы вполне подтверждают принцип, провозглашенный еще Коменским, популяризованный Руссо и Песталоцци, перенесенный на русскую почву в 60-х гг.,хотя и подвергавшийся затем гонению, преследованию и насмешкам. Эти выводы, вполне согласные с заветами великих педагогов, требуют, чтобы все, что можно передать детям наглядно, путем опыта или наблюдений, и было передано именно так, а не иначе. И это требование обязательно не только на отдельных уроках предметного обучения, а всегда, когда надо познакомить детей с каким-нибудь предметом или явлением, которого они еще не знают. Это надо делать и тогда, когда в статье для чтения мы встречаемся с незнакомым для детей явлением или предметом*.
* Необходимо, чтобы появляющиеся на рынке пособия испытывались экспериментальным путем, причем определялся и возраст, который каждое из них может обслуживать, и дефекты, подлежащие исправлению.
Глава VI
Развитие каких именно способностей преследует наглядное обучение?
Переходя к вопросу о том, развитие каких именно способностей преследует предметное обучение, начнем с умения пользоваться внешними чувствами.
Мы не умеем наблюдать. Летом на даче мы ежедневно гуляем в лесу, в поле, где ботаник или биолог сделал бы массу интереснейших наблюдений, которые не приходят нам в голову. Мы проходим по обрывам берегов рек, где палеонтолог нашел бы массу любопытнейших окаменелостей, но мы и не подозреваем об их существовании. Мы вращаемся среди людей, в обществе, в собраниях, где наблюдательный человек подметил бы характерные особенности разных типов, разных индивидуальностей, но мы ничего этого не видим. Перед нами проходят иногда целые события, немые драмы, и мы не замечаем их.
Надо ли говорить, что самым основным, самым первым и элементарным процессом нашего развития служат восприятия, получаемые нашими чувствами...
...И что особенно важно заметить здесь — это то, что одной остроты внешних чувств еще далеко не достаточно. Конечно, наши органы чувств играют большую роль в познании окружающего нас мира. Только через них мы получаем сведения об окружающем нас мире... Острота чувств имеет значение лишь тогда, когда путем обучения и упражнений мы приобретаем навыки и умение надлежащим образом ими пользоваться. Но для этого есть только один метод — это предметный.
И сами дети, приучаясь самостоятельно к наблюдениям, пользуются тем же методом, хотя и в примитивной форме. Одну и ту же вещь какой-нибудь маленький ребенок сотни раз осматривает и ощупывает со всех сторон, то сует ее в рот, то прячет за рубашку, то бросает на пол, то поднимает, то закрывает бумагой, то открывает. И эту работу он проделывает с сотнями и тысячами вещей ежедневно, ежечасно. Но предоставленный лишь самому себе, своему инстинкту, ребенок нередко впадает в ошибки. Отсюда многие обманы зрения и слуха, иллюзии и другие дефекты. В сущности, сами внешние чувства не обманывают нас. Они делают все, что от них требуется: они с большей или меньшей точностью отмечают смену явлений, их исчезновение и перемены. Ошибки делает наш ум в своих выводах из показаний внешних чувств. И воспитывать внешние чувства — это значит упражнять ум. И маленький ребенок работает умом, когда он учится смотреть, слушать, осязать, различать тепло и холод. Когда дети поступают в школу, их воспитание чувств обыкновенно считается законченным. Но это не так. Укажем на иллюзии. Из них более известны зрительные. Раскрыть перед детьми ошибки зрения в таких случаях — это было бы полезным упражнением...
...Если так часто и легко впадают в заблуждение взрослые, то еще чаще ошибаются дети. Хорошо известно также, что дети слишком поверхностны в деле наблюдательности, сплошь и рядом обращают внимание не на то, что составляет самое существенное и важное в предмете, а на то, что либо звонко, либо вкусно, либо ярко, либо блестит, что поражает величиной, окраской, что резче всего бросается в глаза. И с другой стороны, как часто к тому, что они действительно видят, они прибавляют свои воспоминания, свои силы, свои фантазии...
Надо уметь правильно толковать- показания наших органов чувств. И этому надо учиться. А единственное средство научиться — это упражняться в наблюдениях, в пользовании своими органами чувств. Ничто так не развивает наблюдательного аппарата, как предметный метод обучения. Достаточно обратить внимание на развитие наблюдательности у зоолога, у ботаника, у минералога. Минералог различает тончайшие оттенки красок: более 10 оттенков красного цвета, более 10 оттенков зеленого, 10 желтых цветов, 9 синих, несколько черных и белых цветов. Он отличает перламутровый блеск от воскового, стеклянный от жирного. Он на глаз различает углы в 50° и 70°. Положив на руку минерал, он приблизительно определяет его удельный вес. Он на ощупь отличает теплопроводность минералов. Вы можете как угодно долго и популярно говорить о добывании водорода и его свойствах, но истинное знание обо всем этом ученик получит лишь тогда, когда сам под вашим руководством проделает опыты с водородом и
осмыслит их. Только тогда он ясно представит себе, какие условия необходимы, чтобы произошло изучаемое явление, какие предосторожности надо принять, чтобы не произошло взрыва, и т. п. Предметный метод, употребляемый в течение долгого времени, разовьет в учащихся любовь к исследованию, приучит их не поддаваться чужим внушениям, хотя бы и авторитетным, и стремиться самим посмотреть и исследовать интересующее их явление. Он приучает также не поддаваться в наблюдениях влиянию эмоций, воспоминаний и воображения, а наблюдать тщательно, терпеливо и спокойно, чтобы избежать ошибок, так часто проистекающих от вмешательства сердечных волнений, воображения и предвзятых взглядов. Сообразно с внутренними условиями наблюдений обыкновенно различают три случая (Мейман). Во-первых, наблюдение может быть вынужденным и непроизвольным, когда, например, во время экскурсии дети спугнут зайца, который невольно привлечет на себя их внимание. В таком случае наблюдение происходит без всякой предварительной подготовки. Дети в данном случае не представляют себе какой-либо определенной и сознательной цели, какую они должны преследовать при наблюдении...
...Во-вторых, наблюдение может быть выжидательным. В таком положении находится путешественник по знакомой стране с самым общим и неопределенным намерением наблюдать все, что может оказаться интересным. В данном случае наблюдение точно так же обходится без какой-либо определенной цели. И наконец, в-третьих, наблюдение может быть исследующим или выбирающим, когда дети приступают к наблюдению с совершенно определенной целью, после тщательной внутренней подготовки. Такое наблюдение всегда бывает произвольным. Точка зрения на предмет в данном случае бывает определенно и заранее намечена. Данная заранее цель точно определяет, на что именно в данном предмете ребенок должен обратить особенное внимание и на что совсем не должен обращать внимания. Таким образом фиксированное представление цели определяет выбор того, что подлежит нашему наблюдению. Этот случай исследующих или выбирающих наблюдений является самым важным в деле обучения. Он имеет место при рассмотрении моделей, микроскопических препаратов, при наблюдении над звездами, над растениями и т. п. Решающую роль в данном случае играет внимание. Оно удерживает в сознании наблюдателя представление цели наблюдения, определяя таким образом выбор того, что подлежит и что не подлежит наблюдению. Внимание сообщает сделанным наблюдениям наибольшую точность, отчетливость и ясность. Оно же отвлекает от того, что не подлежит наблюдению. То же самое внимание содействует возникновению таких представлений, которые возникают в нас в связи с наблюдениями и служат для выяснения последних. Оно же, содействуя образованию ассоциаций между наблюдениями данного момента и подходящими воспоминаниями, помогает более прочному запоминанию результатов нашего наблюдения. Центр тяжести в предметном обучении должен сводиться на развитие в детях внимания к явлениям природы. В поле нашего сознания может поступить лишь то, на что, хотя бы мимолетно, было обращено наше внимание. Если же какому-нибудь явлению мы не уделим своего внимания, оно не может стать достоянием нашего сознания.
С другой стороны, наша память удерживает опять-таки лишь то, на чем было сосредоточено наше внимание. Если память — кладовая, как часто ее называют, то она хранит лишь то, что прошло через сознание и на что, стало быть, в свое время было обращено внимание. Без помощи внимания мы не могли бы сгруппировать полученные впечатления во что-нибудь определенное. Если мы были невнимательны, то наши образы и впечатления не имеют цены. Невнимательность ведет к тому, что мысли и представления носят хаотический характер и очень скоро пропадают, так как не связаны друг с другом логическими, соответствующими действительности связями. Если мы дадим волю своим мыслям и своему воображению и будем следить за собой, то нас поразит этот калейдоскоп воспоминаний, идей и образов, поразит этот хаос образов, вихрь разрозненных мыслей, который проносится тогда в нашем сознании. Такая беспорядочная работа и воображения и мысли пагубно действует на умственное развитие. Только внимание умеет делать из этих образов стройное целое, согласованное с задачей, какую мы в данный момент поставили себе. Только внимание вносит порядок и план в наши мысли и образы...
...Старинные педагоги, любя сваливать все свои грехи на детей, любили приписывать им всевозможные пороки. Был один немец, который насчитывал у детей более 900 самых разнообразных пороков. Теперешние педагоги смотрят на детей более снисходительно, но и теперь есть один детский порок, на который не прочь пожаловаться даже лучшие из учителей. В 1903 г. один из новых американских педагогов — Триплетт произвел анкету среди учащих по вопросу о том, какие пороки они считают главнейшим препятствием школьной работы. И вот 333 учителя из 402 ответили, что из всех пороков самый большой — это недостаток внимания к тому, что говорится, что изучается в школе. Мы понимаем учителей, выразивших это мнение. Трудно обучать учеников, невнимательных к предмету урока. Это знают даже дрессировщики животных. По словам Дарвина, «воспитатель обезьян, покупавший их в зоологическом обществе по пятидесяти рублей за экземпляр, предлагал двойную плату за право удерживать обезьян в течение нескольких дней у себя, чтобы сделать из них выбор. Когда его спросили, каким образом он узнает в такой короткий срок, будет ли данная обезьяна хорошим актером, он отвечал, что все зависит от способности ее к вниманию. Если в то время, когда говорят с обезьяной или объясняют ей что-либо, внимание ее легко развлекается мухой, сидящей на стене, или каким-нибудь другим пустяком, то такое животное вполне безнадежно в смысле дрессировки». Но что у обезьяны неисправимый порок, то у наших детей лишь скоропреходящее свойство детского возраста. Мы не можем навязывать ребенку свою психику взрослого человека. Мы уже много видели, слышали, пережили; а для ребенка новы все впечатления бытия. Каждое явление овладевает его вниманием, и все новые предметы борются между собой, чтобы раньше других попасть в поле ясного сознания ребенка. Не удивительно, что ему приходится перепархивать с предмета на предмет, что он не успевает подолгу сосредоточиваться на одном и том же. Надо мириться с этим свойством детской психики и лишь постепенно развивать внимание ребенка. Но лучшим средством для этого служит предметный метод обучения. Ребенок гораздо внимательнее к опытам, к предметам и к действиям, чем к словам. Объяснения учителя не так интересны для учеников младшего возраста, как их собственная работа, когда они под руководством учителя производят какой-нибудь опыт, рассматривают, щупают, пробуют на вкус или нюхают какой-нибудь минерал и пр. Даже на действия учителя они смотрят с большим интересом, чем слушают его слова. Это не значит, конечно; что мы должны избегать объяснений; это значит только, что мы должны связывать их с опытами, наблюдениями, рисованием, лепкой и т. п. Будем же путем предметного метода постепенно развивать в учениках привычку не разбрасываться при наблюдениях, не перепрыгивать в своих мыслях с предмета на предмет, а задерживать мысль на исследуемых явлениях. Чтобы перепилить бревно, совсем нет надобности переставлять пилу с одного места на другое, пробовать пилить то там, то тут, а надо только держать пилу в одной и той же плоскости. Так обстоит дело и с вниманием. Приучать быть внимательным — это одна из главных задач предметного обучения.
Внимание, как известно, бывает двух родов: внутреннее, обращенное на психические процессы внутри себя, и внимание внешнее, обращенное на внешние явления природы и жизни. Оба внимания совершенно различно выражаются и в физиономии и в фигуре человека. В нашей книге «Мир в рассказах для детей», III часть, есть снимки с двух картин, из коих одна («Устный счет» Богданова-Бельского10) хорошо изображает внутреннее внимание, а другая («У поезда» Перова”) — внешнее внимание. Достаточно взглянуть на ту и другую из этих картин, чтобы уловить разницу в выражении лиц и фигур в случае внутреннего и в случае внешнего внимания. То и другое играют видную роль в человеческой жизни, и педагог не должен игнорировать ни того, ни другого...
Нельзя ничего возразить против необходимости внутреннего внимания. Что было бы без него с наукой и искусством? Но в жизни нужно и внешнее внимание. Когда человек живет внутри себя, в сфере своих мыслей, образов, желаний, чувств, ему не приходится встречаться с такими препятствиями, неожиданностями и диссонансами, как в реальной жизни. Можно отгородить себя от жизни в кабинете ученого, студии художника и тогда можно еще прожить с одним внутренним вниманием, хотя и для искусства и для науки нужны наблюдения и опыт, а стало быть, внешнее внимание. Но в действительной жизни человек со слабым развитием внешнего внимания непременно стал бы неудачником. В борьбе с противниками он не узнал бы их позиций, выгодных и слабых сторон их положения, он не мог бы взвесить их сил. Он не заметил бы признаков, предсказывающих то или другое событие. При таких условиях, при ряде постигающих его неудач, при наличности постоянных противоречий между его психическим миром, где все так гармонично и стройно, и между реальным миром, где все причиняет ему поражение и боль, такой человек очень скоро разочаровывается в жизни, в людях, в практической деятельности, становится разочарованным нытиком, пессимистом, погружается в мир грез либо безнадежной скорби.
Чтобы оградить подрастающие поколения от таких разочарований, необходимо развивать в них кроме внутреннего еще и внешнее внимание, а это достигается предметным обучением в широком смысле этого слова...
...В предисловии к своей книге «На первой ступени обучения» я настаивал на необходимости естественных, соответствующих природе и жизни связей между фактами, изучаемыми в школе. Мы хотели бы, чтобы всякое новое сведение, приобретаемое учеником, входило в его сознание как член родной семьи, в логической связи с ранее приобретенными сведениями. Мы хотели бы, чтобы все предметы преподавания, весь умственный багаж ученика представляли одну стройную систему, без кричащих противоречий, мучительных диссонансов. Мы хотели бы, чтобы все в головах учеников было связано логическими, а не случайными связями. Без этого нам грозит умственный хаос, что-то напоминающее обморок или сон. Мы думаем, что развитой человек отличается от неразвитого не столько количеством сведений, сколько верным представлением соотношений, связей, существующих между известными ему фактами. Весь смысл, все значение науки — это привести известные, добытые наблюдением и опытом сведения в стройную логическую систему. То, что основано на механических случайных связях, губит ум; то, что связано логически, как, например, связь причины со следствием, развивает его. Такие связи позволяют нам не только привести наши знания в стройную систему, но они дают нам возможность делать предсказания, как это умеют, например, астрономы. Такие связи позволяют нам иногда предвидеть новые, неизвестные до сих пор отношения между явлениями природы.
Можно ходить по полю и усерднейшим образом считать галок, но едва ли это может быть в каком-нибудь отношении полезным. Но вот Дарвин сосчитал, на скольких цветках одного вида побывала одна пчела в продолжение одной минуты времени, и из подобных наблюдений он сделал очень ценный для науки вывод о роли насекомых при оплодотворении растений. Ученый руководился в данном случае известной, определенной идеей. На основании предыдущих наблюдений он построил предположение, гипотезу об отношении насекомых к оплодотворению растений и эту гипотезу решил проверить новыми наблюдениями. Когда такая проверка дает положительный результат, предположение получает значительную достоверность. Так произошло большинство наиболее ценных открытий в науке. Так поступаем мы и в практической жизни. Жизнь и практика наталкивают нас на известное предположение. Учитель, например, читая книгу, наталкивается на такие идеи, сравнения, факты, какие кажутся ему интересными, доступными и ценными для учеников. На следующем уроке он для пробы делает попытку использовать некоторые из них. И если опыт покажет, что ученики увлечены и легко овладевают предметом, учитель в следующий раз с большей уверенностью делает эти идеи и факты содержанием своих уроков. Так поступает и купец, и издатель, и ремесленник, и все люди в своих практических делах. Но мы часто при этом впадаем в ошибки. Мы не привыкли к строгому мышлению. Мы легкомысленны. Припомните свою жизнь, припомните прочитанные вами биографии выдающихся людей, и вас поразит, какое огромное число часто непоправимых ошибок делаем мы все благодаря своему легкомыслию, тем или другим недостаткам в суждениях. Эти ошибки могут быть роковыми и важными, могут быть и мелкими и неважными, но они, несомненно, отравляют нашу жизнь, мешают нашей работе, нашему благосостоянию, угнетающе действуют на наше настроение. История показывает, что такие ошибки очень часто отражаются на успехах науки, искусства, литературы, политики, техники, промышленности, они тормозят прогресс. Еще никто не подсчитал, да едва ли и подсчитает когда, всю сумму страданий, лишений, болезней, голода, нищеты и пр., проистекающих от таких ошибок. Наверное, получился бы колоссальный итог, перед которым побледнели бы все остальные бичи человечества.
Наши предположения очень часто опираются на недостаточное число наблюдений. Эти предположения очень часто произвольны. Мы нередко начинаем действовать, принимая свое предположение за истину без достаточной проверки его опытом и наблюдениями. Выше мы говорили уже, как часто наши выводы и решения оказываются неверными, потому что они опираются на недостоверные факты, потому что мы или не хотим наблюдать сами и полагаемся на слова других, на слухи, или наблюдаем плохо, неумело, видим не то, что есть, а то, что подсказывает нам наше воображение. Но конечно, ошибки в выводах, решениях и поступках наших могут происходить и от недостатков суждения. Мы ленимся думать. Мы не привыкли к логическому мышлению. Нас мало упражняли в этом отношении. Кроме того, мы очень часто позволяем тому или другому чувству вмешиваться в наши суждения и вносить в них сумбур. Мы говорили выше о том, как сильцое чувство мешает правильному наблюдению. Но сильные слепые чувства еще больше мешают правильному суждению. Самомнение, честолюбие, страх, лень нередко заставляют нас забыть самые элементарные требования логики. На этом основана тактика льстецов, действующих в своих видах на наше честолюбие. Явно благородный поступок своего врага мы склонны объяснить низкими побуждениями... Любовь к своим детям мешает правильно отнестись к их развитию, их здоровью и пр. Вот почему нередко педагог предпочитает передать воспитание своего сына другому, и точно так же и по тем же мотивам поступают и врачи, когда поручают лечение близкого, родного больного своему товарищу по профессии. Еще чаще спутывают наше суждение предвзятые идеи, традиции, предрассудки, суеверия, мистические верования. Удивительно ли, что мы так часто впадаем в ошибки? И школа должна внести свою долю света в наше мышление. И это может сделать до известной степени предметное обучение, если учитель будет обращать должное внимание на этот метод, если он будет предлагать ученикам самим делать предположения насчет связей между наблюдаемыми явлениями и самим же придумывать способы проверки своих предположений. При этом учитель явится их помощником и косвенным руководителем. Он укажет л а неудачные предположения, приведя противоречащие им факты, и заставит придумать новые. Он будет приучать учеников, чтобы всякое их предположение опиралось на достоверные наблюдения и опыт.
На практике эти соображения приводят к следующим приемам. Прежде чем приступить к наблюдению, опыту или к экскурсии, учитель должен провести беседу о том, какую задачу должны решить своим опытом или наблюдением ученики. Эта задача всегда сводится к тому, чтобы определить соотношение между двумя или несколькими фактами, признаками и пр. Лучше всего сводить задачу к отношению только между двумя фактами. Например, перед геологической экскурсией к размывам (оврагу, ручью и реке и пр.) ставится вопрос о роли воды в деле изменения земной поверхности. Одна из ботанических’экскурсий может быть посвящена выяснению роли насекомых в опылении растений. Перед опытом с растением, выращенным в темноте, ставится вопрос о влиянии света на растение и т. д. На той же беседе должен быть выработан и сам план наблюдений и опытов. Должно быть выяснено, как надо поставить опыт и на что надо обратить особое внимание при наблюдении. Без этого ученики не увидят того, что им надо видеть, или увидят то, что совсем несущественно для данного урока. В этой беседе ученики не должны играть пассивную роль. Они сами должны делать предположения, давать проект опытов и наблюдений, критиковать их, заменять их новыми, переживать все то, что ученые называют мысленным опытом — опытом в воображении, в проекте. Они сами должны высказывать предположения, каких результатов они ожидают от данного опыта. И сами же по исполнении опыта должны указать, оправдал ли опыт их ожидания. Учитель является лишь руководителем детей. Только при этом условии ученики становятся сами в положение исследователей, переживают процесс творчества с тем восторгом, какой дает всякое открытие его творцу, с той пользой для развития, какую оказывает эвристический метод преподавания...
...При наблюдениях детей обращайте особенное внимание на то, чтобы приучать детей спрашивать себя:
1) Верно ли наблюдены явления? Не приписано ли им чего-нибудь такого, чего нет на самом деле? Обращено ли внимание на существенное и важное? Не приняты ли данные факты на веру со слов других людей? Все ли наблюдено, что необходимо для правильного вывода?
2) Не примешиваются ли к выводам какие-нибудь предвзятые мнения, внушенные суевериями, сказками, мифами или подсказанные воображением?
3) Не вмешивается ли в суждение какое-нибудь чувство: симпатия, отвращение, страх, лень и т. п. — и не спутывает ли это чувство нашего мышления?
4) Правильно ли само рассуждение, которое привело к данному выводу?
Если мы приучим детей ставить себе такие вопросы, мы окажем им большую услугу...
...Учитель должен думать не только о настоящем, но еще и о будущем. Надо еще дать нашим детям двигатель, который бы и по выходе их из школы наталкивал их на наблюдения. Предметное обучение может не только развить наблюдательность, но и хорошо направить ее, обратить ее в пытливую любознательность. Надо любить, надо привыкнуть к наблюдениям, надо, чтобы сама любознательность будила самопроизвольное внимание наше к явлениям внешнего мира, направляла наш глаз, наше осязание, наш слух к наблюдениям природы и жизни. Надо, чтобы и по выходе из школы наш ученик не проходил мимо обыденных явлений, не останавливаясь на них и не вдумываясь в них. И эту задачу тоже может и должна в известной мере взять на себя школа.
Школа должна дать средства к дальнейшему самообразованию, она должна заинтересовать ученика и природой, которую он должен полюбить, и популярными книгами о природе. Выйдя из школы, ученик будет самостоятельно делать наблюдения, будет сам пользоваться книгами из библиотеки. Если бы этого не случилось, школа не исполнила бы одной из самых главных, самых существенных своих задач, хотя бы ученики выучили наизусть все статьи научного отдела и получили на экзамене по 5+. Правда, что школа, кроме того, должна подготовить ученика к тому, чтобы он мог понимать хотя бы самые популярнейшие, написанные для народа книги о природе, и школа должна ему сообщить эти сведения наилучшим образом, т. е. путем опытов и наблюдений. Все остальное талантливый ученик может затем самостоятельно почерпнуть из книг, дополняя прочитанное собственными наблюдениями и опытами, и это тем более, что подготовку наблюдать он получит уже в самой школе. Но, возразят нам, зачем же учить ребенка наблюдать, если это без всякой науки составляет его естественную, самой природой вложенную в него склонность? Не лучше ли совсем предоставить его самому себе? Нет, умение наблюдать дается не всем. Это дело трудное. Признаки, наиболее существенные и важные, обусловливающие собой очень большое число других признаков, не только не бросаются в глаза с первого раза, но словно нарочно прячутся за другими яркими особенностями...
...Учителя не должны забывать, что психика ребенка не такова, как психика взрослого. Конечно, у ребенка те же способности, как и у взрослых, но, во-первых, большинство его способностей далеко не в такой степени развиты, как у взрослых, а во-вторых, взаимное отношение между способностями ребенка другое, чем у взрослого.
Теперь мы имеем довольно много экспериментальных исследований (особенно заграничных) по вопросу о том, с каким багажом наблюдений поступает ребенок в школу, или, вернее, каков круг его представлений. Результаты всех этих исследований сводятся к тому, что ученики, поступая в школу, обладают очень бедным запасом наблюдений, представлений и вообще познаний, которые требуются для усвоения уроков в школе. Нет таких знаний, насчет которых можно было бы сказать с полной уверенностью: все дети это знают. Напротив, относительно почти каждого предмета можно найти учеников, которые не знают его. По одному исследованию из 1300 опрошенных детей только 5 человек знали страны света, только 564 знали круг, только 1056 знали шар и лишь 128 детей имели понятие о треугольнике...
При такой поразительной бедности представлений естественно ожидать, что дети будут либо придавать многим словам не принадлежащее им значение, либо употреблять слова, им совершенно непонятные. А при этих условиях единственное средство избежать попугайского обучения слову — это предметный метод обучения. Без этого даже наиболее одаренные дети будут доходить до значения слова путем большей частью неудачных догадок. Примеров таких догадок в педагогической литературе много...
...Кроме простого наблюдения современная наука, как известно, широко пользуется еще опытом, экспериментом. Этот прием состоит в том, что искусственно и систематически изменяют условия для наблюдаемого явления с целью проверить сделанные обобщения или выяснить природу явления. Так, например, желая выяснить, что именно необходимо для произрастания того или другого растения, ботаник сажает один из экземпляров этого растения в почву без азота, другой — в почву без калия и т. д.; один экземпляр растит в темноте, другой — на свету, один — в холоде и т. д.
Эксперимент дает нам возможность точно определить причинную зависимость между явлениями. Изменяя каждый раз какое-нибудь одно условие (например, температуру или присутствие калия в почве) и оставляя все другие условия неизменными, мы можем узнать о том, какую роль играет данное условие в изучаемом явлении.
Кроме того, эксперимент всегда находится в нашем распоряжении, чего нельзя сказать о наблюдении. Если бы мы довольствовались только наблюдением, то нам пришлось бы долго ждать и искать благоприятные случаи (например, почва с абсолютным отсутствием калия).
Кроме того, природные явления обыкновенно протекают при чрезвычайно сложных условиях, и потому их очень трудно понять. Искусственный же опыт мы можем упростить до такой степени, что его результат становится понятен даже ребенку. Не удивительно поэтому, что науки, пользующиеся экспериментом, быстро достигли высокой степени развития и необыкновенной точности в своих выводах. Таковы физика, химия, физиология, механика, агрономия и пр.
А в наши дни эксперимент завоевывает право гражданства даже в психологии и в педагогике. И предметный метод преподавания — это прежде всего опыты, производимые самими детьми. Чтобы узнать, каковы кристаллы этих минералов, нужен другой опыт. Удельный вес, твердость, спайность, горючесть, плави-мость — все это требует опытов. Почти все сведения о воздухе, о воде, о почве и подпочве, сведения из физиологии растений, не говоря уже об элементах физики и химии, должны быть основаны на опытах, проделываемых самими детьми под руководством учителя.
И чем проще будут наши опыты, чем доступнее они, тем, за редкими исключениями, они будут лучше в педагогическом отношении.
В нашей книге «Мир в рассказах для детей» мы при производстве опытов в школе имели в виду такие приборы, которые могут смастерить сами ученики либо легко приобрести (стакан, ламповое стекло, воронка, бутылка, гребенка и пр.) повсюду. Опыты с такими приборами дети легко могут повторять и у себя на дому. Сведения,, полученные таким образом, будут связаны с домашними предметами и будут хорошо помниться. Простота и общеизвестность таких приборов будут иметь особое педагогическое значение. Мы. хорошо знаем, как затрудняет понимание сложность приборов, как трудно тогда разобраться ученику, как трудно представить изучаемый процесс, проникнуть в его сущность и принцип...
...Если мы к этим вышеуказанным положительным сторонам метода предметного обучения — знакомству с внешним миром, правильному и всестороннему развитию внешних чувств, развитию наблюдательности, воспитанию и регулированию внимания — прибавим еще знакомство с приемами наблюдения и значение наблюдательности в жизни, то польза предметности обучения выразится еще ярче.
В самом деле, все мы знаем, как много мы теряем, не зная надлежащих приемов наблюдения, порядка, в каком надо изучать предмет, не умея анализировать полученные впечатления, сравнивать, классифицировать, обобщать их и правильно формулировать. А все это необходимо и в школе и еще более в жизни. Но научить правилам наблюдения можно, только упражняя детей в наблюдении же, образуя в них привычку делать наблюдения известным образом, в известном порядке, по известным правилам. Это — новое основание, почему мы выдвигаем предметное обучение на видное место. Предметный метод обучения не только важен потому, что быстро и легко снабжает учеников полезными сведениями, но еще и потому, главным образом, что дает ученику надлежащий метод наблюдения, приучает его, как надо наблюдать. Пройдут годы, и ученик может легко забыть то, что он узнал на предметном уроке о каком-нибудь граните, но у него, наверное, останется умение правильно делать наблюдения, метод, приемы, как надо это делать, если только ему удалось все это приобрести, а приобретенным методом он будет пользоваться во всю свою жизнь столько же в делах практических, сколько и в интересах простой любознательности. Без этого умения хорошо наблюдать невозможна никакая практическая деятельность...
...Больше того. Известно, что вера в свои силы имеет огромное значение в жизни. Если бы мы пересмотрели все свои знания и спросили себя, какие из них заслуживают полного доверия, не вызывают и не могут вызвать ни сомнений, ни колебаний, то мы нашли бы, что лишь немногие из наших знаний выдержали бы сколько-нибудь строгий экзамен. А между тем недостаток уверенности в своих знаниях, сомнения и колебания отражаются на нашем поведении, на нашем настроении, на нашем характере.
Книга — великое дело, но исключительно книжное воспитание, без опытов, наблюдений, без деятельного участия учащихся удаляет их от жизни к мечте, от действительности к фантазии; такое воспитание подрывает доверие к своим силам и умению, кладет меланхолический отпечаток на характер человека, вместе с другими факторами оно может вести, наконец, к нерешительности, к безволию, к обломовщине.
И наоборот, воспитание практическое, обучение предметное, с опытами и наблюдениями, с экскурсиями, как мы видели выше, сообщили бы нам более веры в свои силы, в свои знания и в свои умения. А чем больше в нас этой веры, тем светлее наши взгляды на жизнь, тем больше в нас надежд на лучшее будущее, тем больше в нас силы, охоты, решимости работать. Быть уверенным в своих знаниях и в своем умении сделать какое-нибудь хорошее дело — это значит чувствовать себя обязанным приступить к этому делу...
Но есть один предательский способ соображений. С вами соглашаются, но говорят, что ваше положение не очень важно, что есть вещи поважнее. Нам возражали, что одной наблюдательности мало. Это правда. Нужна еще сообразительность, сметка, способность сравнивать, делать выводы. Но для выводов нужен материал, а его могут дать нам только наблюдения, и далеко не все равно — свои или чужие. Можно обладать огромным и тонким умом, блестящим воображением, можно уметь искусно комбинировать факты и при всем том можно прийти к ложным и вредным выводам, только по той простой причине, что для всякого вывода нужны факты, справки, данные, а их нельзя получить иначе, как путем наблюдений. Да и вся разница между силой одного ума и силой другого сводится к двум вещам: прежде всего к материалам, которыми располагает наш ум, и к обработке этих материалов. Правда, кроме материалов уму нужна еще, как мы только что сказали, способность суждения; но еще Декарт утверждал, что «ни одна человеческая способность не распространена так равномерно между людьми, как способность суждения», и что различие в наших мнениях происходит не от того, что одно лицо одарено большей способностью суждения, чем другое, но лишь от того, что мы касаемся не одних и тех же предметов. Конечно, это мнение сильно грешит преувеличением. Материалы надо обработать и хорошо обработать.
Если из всех способов предметное обучение представляет самый естественный, удобный, легкий и быстрый путь к приобретению знаний, то едва ли может быть сомнение в том, что все то из школьного курса, чему можно научить легко, естественно и просто, пользуясь внешними чувствами ученика, без утомления его излишними словесными описаниями, для которых еще довольно останется простора в целом ряде учебных предметов, — все это должно быть преподано по возможности наглядно, посредством самого предмета в руках и перед глазами или, по крайней мере, посредством его изображения. При таком преподавании в течение краткого школьного курса нам, очевидно, удастся сообщить детям несравненно больше точных, определенных, бесспорных и прочных сведений.
Мы были бы неверно поняты, если бы нам приписали желание совершенно вытеснить предметным обучением словесное. Мы живем в обществе, а для сношений с людьми необходимо слово. И потому к знанию предмета должно быть присоединено и умение назвать его и письменно и устно. Когда я вспоминаю, например, арбуз, то во мне оживают, во-первых, вкусовое представление о нем, во-вторых, зрительное, в-третьих, обонятельное, в-четвер-тых, осязательное и, в-пятых, слуховое, и это будут предметные, наглядные представления о самом арбузе; но кроме того, в то же время и в связи с воспоминанием об арбузе во мне возникает, во-первых, представление о движениях речи (рта, гортани и пр.) при произнесении слова «арбуз», во-вторых, представление звукового образа этого слова (как я слышу его), в-третьих, представление печатного или письменного образа этого слова и, в-четвертых, представление движения пальцев и при письме этого слова. Последние четыре составят уже словесное представление — слово «арбуз».
И когда изучается предмет или явление, надо изучить и его название. Об этом вас спросит и ваш ученик при виде какого-нибудь нового предмета и будет прав: ему нужно слово, чтобы выразить полученное представление.
Скажем больше. В тех случаях, когда мы не имеем возможности дать детям в руки ни самого предмета, ни его модели или изображения, мы можем пользоваться словами, чтобы, опираясь на аналогию и вызывая в памяти учеников хорошо знакомые им предметные представления, сходные с изучаемым неизвестным предметом, сообщить этому последнему некоторую наглядность. И когда учитель, описывая не виданную детьми птицу, говорит: «Ее клюв, как долото, ее когти, как острые иглы», он помогает детям составить образное представление об этой птице. Конечно, это далеко не то, что дает предметный метод обучения; но все же такие аналогии, пользуясь ясными и точными предметными представлениями учеников (в данном случае о долоте и иглах), могут дать довольно яркое, хотя, может быть, недостаточно точное, представление о неизвестной птице. Иная аналогия, как молния, осветит темные для ученика стороны изучаемого предмета. Аналогии можно употреблять тогда, когда ученики изучили и сам предмет. Ими можно пользоваться, чтобы выделить самые существенные стороны предмета. Они особенно полезны, чтобы установить сходство изучаемого предмета с другими однородными предметами. Они необходимы в классификации и пр.
До чего ребенку свойственна эта способность и стремление к аналогиям, показывает сравнение самого маленького ребенка с самыми высшими видами млекопитающих. Собаку можно научить понимать несколько слов, но каждое из этих слов она будет относить только к тому совершенно определенному понятию, какое выражается данным словом. Совсем иначе стоит дело с ребенком, даже в возрасте около одного года. Я знаю девочку, которая в возрасте 7 мес. научилась называть кошку словом «кхе», но очень скоро по аналогии стала называть словом «кхе» и мохнатую шапку, и шубу, и волосы на голове, и бороду, и меховые туфли, и просто туфли и башмаки и т. д.
Как бы ни был решен спор психологов о том, представляют ли ассоциации по смежности и по сходству два элементарных закона, или обе сводятся к одному, для нас несомненно, чо ассоциация по сходству, на которой основана аналогия, является главным источником, откуда творчество, и научное, и художественное, черпает свои материалы. Припомните аналогию Ньютона между падением яблока и движением небесных тел, или аналогию Франклина между электрической искрой и молнией, или аналогию между распространением волн на воде и распространением звука в воздухе. А о роли аналогии в художественных произведениях, в поэзии, музыке, живописи я уже и не говорю: примеры из этой области у всех в памяти. Конечно, аналогии, как и все, что делают люди, бывают глупые и умные, верные и ложные. Когда дикари называют книгу раковиной, потому что обе они раскрываются и закрываются, — это не умная аналогия, потому что и здесь в основу сходства положен несущественный признак. Такие же неудачные аналогии повели к ошибкам и древних зоологов, относивших кита к рыбам, а летучую мышь — к птицам.
Чуть ли не первая по времени возникновения аналогия, положившая начало фетишизму первобытных народов, — это во всем находить сходство с человеком, с самим собой, это стремление одушевлять, олицетворять и гром, и молнию, и солнце, и ветер, и воды, и лес и пр., приписывать им такую же мысль, чувство и волю, какие свойственны человеку. Этим же свойством отличаются и дети. И психология детства полна примерами одухотворения внешней природы: дети представляют себе живыми, чувствующими и мыслящими и камень, и куклу, и мячик, и палку и пр. И с этим свойством детской души надо считаться, его можно использовать и дурно и хорошо. Оно было причиной многих суеверий, но художники, пользуясь им, создали чудные произведения искусства.
И потому, кроме опытов и наблюдений можно предъявлять определенные требования и к статьям, содержащим реальные знания, и к объяснениям учителя.
Чтобы заинтересовать детей статьями, сообщающими естественноисторические и географические знания, чтобы сделать их более простыми, понятными и наглядными, мы горячо рекомендуем сравнения и аналогии между изучаемыми предметами и явлениями и какими-нибудь обыденными, хорошо известными ученику предметами и явлениями. Я исследовал влияние таких аналогий и сравнений путем следующего опыта. В четырех параллельных отделениях ученикам 4-го года обучения я прочел самое краткое (в 70 слов) описание северного края, где говорилось о северном сиянии, льдах на океане, животных, о жилищах самоедов, об их орудиях, об их посуде и об идолах. При этом, читая известный отдел одним ученикам, я вставлял по одному сравнению в каждый отдел, а читая этот отдел другим ученикам, я пропускал сравнение, но зато немного дополнял описание. Так, например, ученикам 1-й и 4-й параллелей прочитано о льдах без всяких сравнений, а когда тот же отдел читался 2-й и 3-й параллелям, то употреблено было сравнение. И наоборот, отдел о животных, например, прочитан был без аналогии во 2-й и 3-й параллелях и с аналогией в 1-й и 4-й параллелях. При этом я намеренно делал самые нехитрые и шаблонные аналогии, как, например, «бело, как снег», и только, вместо фразы, прочитанной в другом отделении, «очень белого цвета». Ничего оригинального я не допускал и в сравнениях. Я говорил, например, так: «Мы далаем свои иглы, ножи и другие орудия из железа, а они — из костей и из камней». И это считалось за сравнение. Вслед затем ученики (числом 148) должны были ответить, как умеют, о том, что было им прочитано. Их ответы были подсчитаны, и если не принимать в расчет качественного анализа этих ответов, а принять в расчет только количественный, показывающий, кто из учеников какие отделы пропустил и какие изложил на бумаге, то получатся следующие цифры: по отделам, в которых ученикам помогало сравнение, они дали 381 ответ, считая за единицу изложение одного отдела одним учеником, и сделали 134 пропуска. А по тем отделам, где ученики не пользовались помощью аналогии, они дали только 305 ответов и сделали 216 пропусков. Выходит, что самые шаблонные и нехитрые сравнения и аналогии уменьшили число пропусков; лишите статью аналогий и сравнений, и вы увеличите число пропусков и забвений на 60%...
Еще более сильные доводы за сравнения и аналогии дали бы результаты качественного анализа ученических ответов, если бы этот анализ не носил субъективного характера. Но и одного вышеизложенного подсчета по 1036 отдельным ответам достаточно, чтобы подтвердить пользу сравнений и аналогий. Значение их было хорошо известно баснописцам, которые путем сравнений умели сделать наглядными и общедоступными часто трудные и отвлеченные истины...
...Всего более аналогий, сравнений и образов учитель найдет в художественных произведениях, посвященных описаниям природы. Поэтому надо сколько возможно чаще пользоваться такими произведениями и такими отрывками как иллюстрациями к урокам по естествоведению («Мороз» Некрасова, «Туча» Пушкина и Лермонтова, «Овсяной кисель» Жуковского, «Метель», «Буря» Пушкина, «Речка» Цыганова12, «Рубка леса» Некрасова, «Смерть дерева» Аксакова13, «Медведи» Пушкина, «На охоте» Тургенева, «Пчелка», «Конь» Пушкина и т. д.).
Эти отрывки учат детей любить природу, интересоваться ее явлениями, наслаждаться ее красотой.
Все вышеизложенное приводит нас к заключению, что не надо приносить в жертву ни предметного обучения словесному, ни словесного — предметному, что оба метода должны помогать один другому и потому между ними должно быть сохранено равновесие. Но все же, когда речь идет о маленьких детях, для нас не может возникать сомнений насчет того, на чьей стороне больше воспитательного значения для ребенка: на стороне ли предметных представлений или словесных? Какие из них имеют больше цены в жизни? Какие из них являются более сильным стимулом в практической деятельности? Какие лучше служат развитию мышления, воспитанию воли и чувства? Какие из них лучше содействуют изучению природы и ее красоты, любви к ней? Какие из них играют большую роль в искусстве, в науке, в технике, в общественной жизни.
Чтобы не попасть в ошибки наших предшественников, чтобы не дать оружия в руки противников предметного обучения, мы должны смотреть на него не как на особый предмет преподавания, а лишь только как на метод обучения, мы не должны искусственно подразделять отрасли знания «на капусту, горох и т. п.», а должны брать из существующих уже областей то, что существенно важно для развития ребенка и что отвечает его природным наклонностям.
Глава VII
Предметный метод на практике в народной школе
На практике в народной школе мы пользовались бы этим методом следующим образом.
В нашей книге для классного чтения помещаются статьи о воздухе, о теплоте, о растениях, о минералах, о человеческом теле. Есть статьи географического характера. Не будем читать о воздухе, не проделав, по крайней мере, тех опытов, какие описаны в нашей книге «Мир в рассказах». Не будем читать о кристаллах, не показав кристаллов соли, квасцов, соды, сахара и пр. хотя бы в 10-копеечный фиш-микроскоп; не будем читать о микроскопе и инфузориях, не показав каплю гнилой воды хотя бы в том же фиш-микроскопе. Не будем читать о самоедах, об оленях, ките, льве и о кокосовом дереве, не показав соответствующих картинок. Какой-нибудь простенький опыт, какое-нибудь простое наблюдение, рисунок или картина за отсутствием самого предмета могут дать ученику гораздо больше, нежели долгая словесная беседа. При наблюдении учитель сумеет обратить внимание учеников на самое существенное. У животного он указывает связь, существующую между устройством его органов и образом жизни, он показывает зубы, клюв и объясняет, как то и другое определяют образ жизни животного и строение других частей его тела. Надо только, чтобы каждый новый такой опыт, такое наблюдение давали что-нибудь новое, еще неизвестное, но в то же время доступное ученику. Некоторые педагоги требуют, чтобы чтение статьи предшествовало опытам и наблюдениям. Я думаю, что это помешало бы самодеятельности детей в наблюдениях и опытах, а кроме того, если статья интересна, она может отвлечь внимание ребенка от наблюдений, когда он к ним приступит.
Все такие опыты, демонстрации наглядных пособий, беседы по их поводу и выводы из них, по нашему мнению, удобнее делать раньше чтения статьи, к которой они относятся, не смешивая вместе эти два дела: чтение и наглядную беседу.
Это потому, что характер урока о вещах и характер урока чтения различны. Они различны по целям. Предметное обучение имеет главной целью сообщить знания и ставит на второе место изучение языка; чтение относящейся к тому же уроку статьи имеет в виду прежде всего слово (пересказ прочитанного), потому что главное содержание статьи уже исчерпано на наглядной беседе. Чтение дает этому уже усвоенному содержанию более гладкую форму, закрепляя его таким образом в детской памяти. Иногда же чтение имеет в виду опоэтизировать то самое явление, какое было изучено в первой половине урока, и тогда цели этих двух частей еще более отличаются одна от другой. Задача первой половины — понять и объяснить, задача второй — возбудить чувство, как, нацример, внушить любовь к природе. Итак, наглядная беседа — это начало урока, это непосредственное сообщение реальных знаний о предмете посредством самого предмета, чтение же относящейся сюда статьи — это будет конец урока, это будет работа над словесной формой, в какой яснее, проще, последовательнее надо выразить полученные сведения.
Сделано наблюдение, что настоящие и бывшие ученики наших начальных школ не любят читать популярных книг по естествоведению. Но, по моим наблюдениям, это можно сказать только про те школы, где природоведение преподается по-книжному, без опытов и наблюдений. Все дело в том, чтобы чтение статей этого рода иллюстрировалось опытами и наблюдениями или, по крайней мере, картинками, чтобы сами статьи были изложены интересно и в доступной для учеников форме, чтобы эвристический метод преподавания был проведен возможно полнее, чтобы ученики действительно сами наблюдали и сами делали выводы из своих наблюдений. Пусть ученики обращаются к статье в классной книге для чтения уже после того, как учитель в предварительной беседе с учениками заставил их извлечь из своих наблюдений и опытов все главное, что рассказывается в статье. Учитель может начать с расспросов о том, что знают ученики. Подводить итоги своим знаниям по данному предмету раньше чтения книги рекомендуется даже взрослому человеку. «Пробежав глазами план и порядок новой книги, — говорит доктор Гиббон, — я не читал ее до тех пор, пока не передумал все, что знал, во что верил, пока не передумал о предмете всей книги или каждой отдельной главы. Я был затем в состоянии узнать, сколько автор прибавил к моему прежнему знанию, и если иногда я был доволен совпадением наших мнений, то подчас меня поражало противоречие в них». Тем более такой способ необходим для детей. Только выспросив у детей, что они знают, можно исправлять, освещать, объединять и связывать отдельные и разрозненные сведения в одно стройное целое, дополнять имеющиеся сведения новыми наблюдениями и опытами в классе, — словом, наглядным обучением. Затем пусть статья дает только более связную формулировку того, что было на уроке, пусть статья рассказывает о тех самых опытах и наблюдениях, которые только что проделали дети в выводах, которые только что сделали.
Переходя к правилам, как надо пользоваться предметным методом обучения, укажем следующие общие принципы, которыми надо руководиться.
Исследования душевнобольных показали, что из объективных факторов три особенно часто влияют на ошибки чувств: 1)
кратковременность впечатления, 2) недостаточность внимания и 3) неотчетливость чувственного впечатления. И об этих факторах должен помнить учитель. При этом необходимо еще соблюдать постепенность.
И на этом последнем требовании надо особенно настаивать, потому что оно очень часто нарушается. В погоне за быстрыми успехами учителя нередко не соображаются ни с силами, ни с познаниями учеников, ни с их развитием и дают им непосильные работы. В таких случаях ученики падают духом, теряют веру в свои способности, теряют интерес к занятиям, получают отвращение к предмету. Ученики тогда работают на удачу, не зная наверное, то ли они делают, что надо, а это скверно... нужно каждый день давать ученику новое, но понемногу зараз. Тогда то, что делает ребенок, будет сделано правильно, без погрешностей, будет усвоено твердо, и ребенок привыкнет работать хорошо, отчетливо и точно. Итак, не давая ребенку больше, чем в его силах, не будем давать ему и меньше того, что он в состоянии сделать без вреда для своего здоровья. Постепенность, последовательность без резких скачков — это общая, самая характерная черта развития...
...Из того, что нами было сказано выше по поводу исследования детских показаний, явствует, что одно из главных требований заключается в методе наблюдений, в том, чтобы ребенок научился производить наблюдения по определенному плану, в определенном порядке, руководясь определенными категориями признаков или известными точками зрения. Иначе ребенок потеряется в массе подробностей, не будет знать, с чего начать и чем кончить наблюдение. Ребенок должен хорошо знать, с чего он должен начать, с формы или окраски, с величины или с условий времени и места. Преподаватели естественной истории выработали известный порядок наблюдений. Например, описание животного они начинают с головы, переходят к шее и т. д. Но мы думаем, что этого одного недостаточно. Ведь и голову, и шею можно рассматривать с разных точек зрения. И очень важно, чтобы эти точки зрения были правильно установлены. У каждого наблюдения должны быть цели, и эти цели должны быть правильно установлены и расположены. Вы можете целые годы жить в какой-нибудь местности и не знать ничего об ее окаменелостях, а геолог в один час укажет вам, на что именно вы должны обратить внимание в этой области. То же самое надо сказать и о ботанике, и о почвоведе и т. п. Надо ли прибавлять, что цели наблюдения должны меняться сообразно с возрастом учащихся. И здесь мы должны будем отступить от общего правила — от конкретного к отвлеченному, от частного к общему. Здесь мы даем ученику сначала общую категорию, например окраску, и предлагаем найти, какие цвета видит он в данном предмете. Но отступление от общего правила здесь только кажущееся. Данная категория, данное понятие (в данном случае понятие цвета) должны быть образованы в уме ученика раньше, чем мы предложим ему следовать этому указанию. И вот почему существенно важно, чтобы дети были хорошо подготовлены к различению того, чего именно от них требует наблюдение. Если они должны наблюдать, говорить о яйцевидной, сердцевидной формах листа, необходимо, чтобы они предварительно ознакомились с этими формами и с их названиями. Если они видят и говорят о фиолетовом цвете, надо, чтобы они заранее научились отличать этот цвет от других и умели назвать его. Если они наблюдают горизонтальные, вертикальные и наклонные положения предметов и должны будут дать отчет в своих наблюдениях, они должны заранее поупражняться в узнавании этих положений. Если им приходится различать яркую окраску от тусклой, кажущуюся величину от действительной, основные формы, их видоизменения друг от друга, они должны предварительно упражняться в различии и назывании всех этих элементов. Уже из определения, какое мы дали выше предметному методу обучения, явствует, что ребенок должен пользоваться в своих наблюдениях и опытах не только зрением, но по возможности и другими внешними чувствами; что он должен не только смотреть, слушать и щупать, но по возможности еще и делать, строить, лепить, рисовать. При таком методе предметное обучение может исправлять односторонние типы образов. Ребенка, например, слухового типа такой способ приучит пользоваться и зрительными и моторными образами и т. д.
Укажем несколько известных, простых, но очень часто нарушаемых правил в пользовании наглядными пособиями.
Исследования Лая выяснили, что числовые восприятия 5 — 8 косточек русских счетов менее утомительны, если косточки лежат, не прикасаясь друг к другу, а на расстоянии от 1 до 3 см, т. е. разделены одна от другой пространством около 1/2 вершка в среднем. Ряды предметов воспринимаются скорее и лучше, если предметы находятся на некотором расстоянии один от другого. Объяснение этого факта заключается в том, что здесь играет роль память движения, моторная память. Чтобы окинуть глазом группу предметов, мы двигаем свой глаз, и эти движения помогают усвоению и запоминанию фигуры.
Опыты показали, что если предметы или фигуры на доске расположены горизонтально, то они воспринимаются несравненно легче, чем расположенные вертикально. Но и расположенные горизонтально предметы воспринимаются хуже, чем расположенные симметрично.
Если дело идет, например, о нескольких кружках зараз, то они лучше воспринимаются, если будут расположены симметрично, например в виде квадратных числовых фигур. Дети, не умеющие схватить более тех кружков в одном ряду, схватывают их в двенадцати, если кружки расположены в виде квадратных числовых фигур. При этом множество сводится к единству.
Еще лучше запоминаются ряды предметов, а также формы и фигуры (будут ли это геометрические тела, рисунки или буквы), если к движениям глаза присоединяется еще движение рукй,
пальцев, а если можно, то и осязание. Ребенок лучше запомнит форму кристалла, если не только осмотрит, но еще и ощупает его со всех сторон. Он лучше запомнит фигуру, вырезанную из картона, если в этом случае играет роль также и фон, на котором изображена фигура, и исследования показали, что всего лучше сочетание белого с черным. Но всего важнее в смысле усвоения и запоминания приучать детей самих составлять схематические рисунки и вообще воспроизведения того, что они видят и осязают; будет ли это фигура, предмет или просто буква и т. п. Быть может, еще лучше рисования была бы лепка из глины, песка или воска.
Как демонстрировать перед детьми наглядные пособия? Если вы желаете познакомить детей с устройством цветка, то далеко не все равно, какие именно живые экземпляры вы принесете в класс. Надо выбрать такие цветы, где бы все части цветка видны были ясно. Очевидно, так же не все равно, будете ли вы держать перед учениками наглядное пособие в течение нескольких секунд или дадите им возможность рассмотреть его как следует. Не все равно, будете ли показывать пособие сразу всему классу или обнесете его по дартам. Нередко ребенку надо подержать вещь в руках, пощупать ее, понюхать, а иногда (если она имеет характерный вкус) попробовать на язык, потому что без этого его представление о предмете не будет достаточно полно. Не все равно, будет ли учитель показывать ученикам какую-нибудь картину всю целиком или сначала по частям, обращая внимание учеников на самое важное и существенное и оставляя в тени признаки второстепенные, а затем уже всю картину в целом. Не все равно, будет ли он показывать эти части в произвольном порядке или в определенной постепенности, обращая внимание на связь частей между собой. Если картина показывается всему классу, то она должна быть достаточно велика (не менее 1 аршина длиной): иначе ее не рассмотреть в задних рядах учеников. Если на картине, какую вы показываете детям, есть части, не имеющие отношения к данному моменту, то будет гораздо лучше закрыть их бумагой. Это нужно сделать для того, чтобы, когда глаза детей будут бегать по картине, так сказать, щупать ее со всех сторон, внимание их не отвлекалось в сторону, а сосредоточивалось исключительно на теме урока. Не все равно, будем ли мы, сравнивая два предмета между собой, показывать их детям одновременно или последовательно. Вкус двух блюд мы можем сравнивать только последовательно. Запах двух цветов мы различаем лучше, если понюхаем один цветок вслед за другим, а не в одно время. Вы легче найдете разницу между теплотой двух жидкостей, если последовательно будете погружать в них одну и ту же руку, а не одновременно держать одну руку в одной жидкости и другую — в другой. Точно так же вы легче определите разницу в весе, если одной и той же рукой последовательно будете пробовать одну за другой обе тяжести. Вы легче различите звуки, если слышите их не в одно время, а один звук сейчас же вслед за другим. Не все равно, будем ли мы, сравнивая два предмета, показывать их один за другим, через минуту или через секунду времени. Точное сравнение происходит тогда, когда мы переносим взгляд с одцого предмета на другой сейчас же, без всякого замедления, когда один звук быстро следует за сравниваемым другим звуком и т. д. Без этого условия образ первого впечатления может не удержаться в памяти во всем его объеме, и нам будет нелегко произвести требуемое сравнение.
Шуйтен, Циглер и Энгельшпергер экспериментальными опытами доказали, что детям больше всего нравятся красный, фиолетовый и синий цвета, причем для младшего возраста они идут в только что указанном порядке, а в старшем возрасте больше всего нравится не красный, занимающий второе место, а синий, причем фиолетовый занимает не второе, а третье место. Вообще говоря, детям нравятся химические и тепловые лучи. Менее всего нравятся им цвета: белый, черный и оранжевый. Быть может, эти вкусы детей объясняются действием лучей на кроветворение. Во всяком случае, учреждения и лица, изготовляющие учебные пособия, должны считаться с только что изложенными результатами экспериментальных исследований и, где возможно, предпочитать синюю, красную и фиолетовую окраски и избегать белого, черного и оранжевого цветов.
Впрочем, замечено, что большую роль в деле запоминания играет контраст между белым и черным цветом. Вот почему там, где нельзя пользоваться цветными красками, можно пользоваться белым цветом на черном фоне, т. е. обратно тому, что мы обыкновенно встречаем в употребительных классных таблицах.
Исследования Лобзина14 и Лая доказали, что при обучении письму надо начинать прямо с письменного шрифта, причем прописи и статьи для списывания должны быть напечатаны также письменным шрифтом. Недаром у нас таким широким распространением пользуется курсив, т. е. приблизительно тот же письменный шрифт. Основные элементы письменного шрифта изучаются при рисовании таких предметов, как лесенка, крючок и т. п.
Когда мы показываем детям какое-нибудь наглядное пособие, например картину, то далеко не все равно, висела ли эта картина в классной комнате и, так сказать, намозолила детям глаза, или же она является перед учениками впервые. В первом случае ученики могут совсем не обратить внимания на картину, которая им надоела. Во втором случае прелесть новизны возбудит любопытство детей и новый предмет прикует их внимание на все время, пока они не узнают достаточно об этом предмете. Когда пособие использовано, его можно оставить в классе, тогда оно будет своим видом напоминать детям об уроке. Совершенно ясно, что здесь речь не идет о картинах для украшения класса, для развития эстетического чувства. Такие картины нет никакой необходимости прятать.
Если наглядное изучение явления предполагает предварительную или последующую разработку материалов, полученных наглядным путем, то одна работа должна целесообразно чередоваться с другой, и это, между прочим, по следующим соображениям.
Существует разница между вниманием, обращенным на внешние предметы, и внутренним вниманием, обращенным на умственные процессы. Когда ребенок устает думать, он еще может смотреть и слушать. Смена занятий, требующих внешнего внимания, на занятия умственные: сравнения, выводы, решения задач — и наоборот может служить отдыхом своего рода.
Если учителю придется показать во время урока не одно пособие, а несколько или сделать не один опыт, а несколько, то далеко не все равно, как он расположит свой урок: отнесет ли к одной половине урока все опыты, а к другой — все объяснения и беседу по поводу этих опытов или свяжет беседу со своими опытами и пособиями так тесно, что опыт будет прерывать беседу, а беседа будет приостанавливать и сопровождать опыт и демонстрацию наглядных пособий. В первом случае беседа, не прерываемая ни опытами, ни демонстрацией картин и других наглядных пособий, может продолжаться так долго, что никакое детское внимание не в силах будет следить за учителем. Средний ребенок младшего отделения начальной школы не может без перерыва слушать рассказ учителя более 10 мин. Во втором случае вы легко можете поддержать внимание детей, обновляя впечатления все новыми и новыми опытами, картинами или другими наглядными пособиями. Это хорошо знают лекторы народных чтений, когда сопровождают свое чтение демонстрацией картин с таким расчетом, чтобы каждая картина относилась к определенному месту брошюры и чтение чередовалось с рассматриванием картин.
Из тех же аудиторий мы могли бы заимствовать и употребление волшебного фонаря и движущихся картин (когда, например, идет речь о движении небесных светил), потому что ничто так не усиливает в детях интереса к наглядному пособию, как яркость, блеск и движение.
Далеко не все равно, приступит ли учитель к опыту или к демонстрации какого-либо наглядного пособия молча или же укажет детям главную цель, какую он себе поставил, задачу, какую дети должны разрешить, глядя на картину или участвуя в производстве опыта.
Когда мы показываем детям цветок, камень или опыт, мы должны сначала поставить вопрос, на который позже они дадут ответ на основании своих наблюдений. Это лучшее средство обратить внимание детей на существенно важные признаки наблюдаемого предмета или явления. Без этого дети могут увидеть в опыте или в пособии что-нибудь совсем не относящееся к уроку, какие-нибудь пустяки, что-нибудь второстепенное.
Обыкновенно между внешними раздражителями идет борьба за место в нашем сознании: они или заключают между собой союзы и сливаются, помогая друг другу, или же ограничивают друг друга; какое из раздражителей, одно или в союзе с другими, пересилит своих конкурентов, только то и войдет в наше сознание. Ставя вопрос, заставляя детей ожидать определенных раздражителей, заранее обращая на них внимание ребенка, мы расчищаем для них дорогу в детское сознание.
Откровенно говоря, даже мы, взрослые в огромном большинстве случаев видим в окружающем нас мире только те черты, на которые кто-нибудь и когда-нибудь обратил наше внимание. Красоты природы доступны, казалось бы, всем, а между тем как часто мы не замечаем какой-нибудь особенности ландшафта, пока художник или поэт не обратит на него внимания.
Итак, сначала вопрос или задача, какую дети должны разрешить во время урока, а потом демонстрация наглядного пособия или опыта, на основании которого должна быть разрешена поставленная задача.
Эббингауз15 доказал, что забвение изученного идет сначала чрезвычайно быстро, а затем все медленнее и медленнее. Он заучивал бессмысленные слоги, а затем повторял заученное через 1 ч, через 8 ч, через 1 сутки, через 6 дней и через месяц.
Результаты этого исследования можно выразить следующим образом:
Время, затраченное на заучивание вновь
Время, затраченное на повторение через 1 ч
Время, затраченное на повторение через 24 ч.
Время, затраченное на повторение через 6 дней
Время, затраченное на повторение через 30 дней
1/2 первоначального времени 1/3 первоначального времени 1/4 первоначального времени 1/5 первоначального времени
И вот ввиду этого закона очень важно, чтобы опыт или наблюдение, сделанное сегодня, было (конечно, в связи с новым уроком и новыми сведениями) воспроизведено в памяти на другой или на третий день.
Особенно необходимо повторение старого для детей младшего возраста.
Экспериментальная педагогика доказала, что способность детей к запоминанию очень мала сравнительно со взрослыми. Опытные начальные учителя хорошо знают, как много терпения нужно, чтобы путем постоянных повторений добиться от маленького ребенка прочного усвоения пройденного. Но еще раз настаиваем: повторение должно вести только в сочетании с новым, сравнивая новое со старым, связывая то и другое то по сходству, то по противоположности, то хронологически, то по месту, то по цели, то как причину и следствие и т. д. Без этого повторение превращается в самое скучное из всех возможных упражнений.
Связывать старое с новым, повторять старое, изучать новое важно не только в видах упрочения старого, а еще важнее в видах усвоения нового урока. В этом убеждают нас, между прочим, экспериментальные исследования Стэнли Голла, Циглера, Энгель-шпергера, Зейфферта и других.
Недаром лекторы, приступая к новой лекции, обыкновенно начинают ее словами: «Прошлый раз мы говорили о том-то, а теперь будем говорить...» (провозглашается тема лекции). Даже такая примитивная форма связи и та помогает, во-первых, установлению ассоциации (хотя бы по смежности) между обеими лекциями, а . во-вторых, сосредоточивает внимание учеников на определенном и нужном круге идей и образов. Но конечно, можно ставить связующий обе лекции вопрос (он же и тема урока) и таким образом, чтобы вызвать более ценные ассоциации (по сходству, по причинности, цели и пр.).
Очевидно, что учитель может поставить детям такой вопрос, дать такую задачу только в том случае, если сам разработал предстоящий урок, определил его цель и задачу. А это он мог сделать только тогда, когда выяснил, что из данной области важно для развития детей и что доступно для их понимания, что они уже знают и чего не знают, что они наблюдали сами и что не наблюдали. Поэтому вопросы учителя на уроках предметного обучения не ограничиваются только одной ролью — обратить внимание детей на то, на чем они должны сосредоточить свой взгляд, рассматривая данное наглядное пособие.
Учитель с целью воспользоваться уже сделанными наблюдениями детей, с целью приучить их к большей внимательности в наблюдениях и с целью ознакомиться с тем, что именно они уже знают о предмете и чего не знают, и, наконец, в видах обучения детей устному изложению того, что они знают, поступит вполне правильно, если в начале урока, посвященного рассмотрению какого-нибудь предмета, выспросит учеников обо всем существенном, что они уже знают об этом предмете. Если дети на дальнейшие вопросы учителя не сумеют ответить, это укажет пробелы в их наблюдениях, побудит их вперед с большим вниманием относиться к рассматриваемым предметам и даст возможность учителю указать детям действительно на новое, неизвестное им раньше, но важное свойство или особенность рассматриваемого предмета...
...В другом месте мы подробно развиваем мысль о том, как важно заинтересовать детей предметом наблюдения, направить на него внимание, показать им важное значение того, что они должны сделать, подействовать на их добросовестность. Благоприятные результаты такого приема доказаны даже экспериментальным путем, как мы об этом упоминали выше. Все дело в том, хочет ли сам ребенок произвести тот или другой опыт, сделать то или другое наблюдение, заинтересован ли он сам в этом процессе, совпадает ли это с его преобладающими стремлениями. В сущности, мы хорошо видим лишь то, что хотим видеть; хорошо слышим, обоняем и осязаем лишь тогда и лишь то, когда и что хотим слышать, осязать и обонять. Наши стремления, наша воля — вот что в сущности определяет направление и успешность наших наблюдений. И очень важно перед опытом или наблюдением воздействовать на желания ребенка. Как? — это вопрос учительского такта. Иногда это будет объяснение, для чего нужен предстоящий опыт или наблюдение, иногда это будет соревнование, иногда ободрение, иногда воздействие на чувства и инстинкт — все зависит от личности ученика, цели и условий самого наблюдения и пр.
Предметный урок может преследовать одну из двух различных целей: либо мы имеем в виду ознакомить учеников со всем содержанием, какое дает наглядное пособие, хотя бы, например, картина из быта обитателей Крайнего Севера, представляющая много материала; либо мы хотим обратить их внимание лишь на какую-нибудь частность явления или картины. В первом случае мы должны начать с частностей, но последовательно и по возможности в логической связи познакомить со всеми частями картины. Мы начнем с климата и обусловливающих его причин — положения страны по отношению к Солнцу (пособия: теллурий, глобус, картины полярных льдов и т. п.), перейдем к скудной растительности (картина, изображающая тундру), отсюда — к животному миру (зоологический атлас, чучела и пр.), затем — к пище, одежде, занятиям, жилищу жителей холодных стран. После такой подготовки станет ясна и понятна и картина, изображающая северного обывателя во всей его обстановке. Но конечно, за недостатком других пособий можно и на одной данной картине провести весь урок, переходя от одной частности к другой в указанном нами порядке. Берем другой пример: устройство термометра. Чтобы подготовить учеников к этому уроку, надо путем опытов убедить их в том, что тела расширяются от теплоты: путем опытов доказать постоянство точек таяния льда и кипения и только тогда уже перейти к устройству термометра. Психологи в подтверждение такого приема изучения сложных явлений указывают целый ряд явлений вроде следующего. Если сложный рисунок несколько раз с большими промежутками осветить электрической искрой, то сначала зрители не видят ничего определенного. Тем не менее у пих остается какое-то смутное впечатление, и оно даром не пропадает, а сохраняется в памяти. При каждой новой искре впечатление становится все яснее, и, наконец, зрители получат совершенно определенный и ясный образ.
Совсем другую аналогию дают психологи, если речь идет о том, чтобы на уроке выяснить только части какого-нибудь явления или картины. Психологи указывают при этом на способ, каким ученик-новичок различает обертоны. Каждой ноте соответствует свой особый обертон. Чтобы научить различать какой-нибудь из обертонов, сначала усиливают его посредством резонатора, помещенного у самого уха ученика, и ученик легко различает его. Но что особенно важно, так это то, что, раз различив обертон с помощью резонатора, ученик различает его затем и без всякой посторонней помощи. Вот прием, с помощью которого учитель может выделить ту или другую частность в данном явлении. В большой картине он закроет на время остальные части. При осмотре машины он выделит интересующую его часть на каком-нибудь схематическом, упрощенном рисунке и т. п.
Очень полезно привлекать детей к схематическим изображениям на доске или в тетрадях всего того, что из урока может быть изображено таким образом. Дети сами любят схемы. В настоящее время хорошо изучены рисунки детей. Один Кершенштей-нер16 исследовал более 300 тыс. детских рисунков. Над этим вопросом работали Шрейдер, Левинштейн. Изучены рисунки не только европейских, но и японских детей. И оказалось, что человеческую наружность дети, если их не учили рисованию, везде изображают схематическим образом, нанося на рисунок лишь то, что они считают наиболее важным: голову, два глаза (хотя бы человек был изображен в профиль), два уха, нос и рот. Туловища, шеи может и не быть; но руки и ноги почти всегда обозначены. Сигизмунд подметил, что даже очень маленькие дети прекрасно понимают схематические рисунки. Очевидно, что схема гораздо более соответствует представлениям ребенка, чем рисунок с мельчайшими подробностями. Помимо этого соображения за схему говорит и то, что в изучаемом предмете ребенок (да и мы тоже) видит далеко не все, и очень важно, чтобы он видел самое существенное в предмете. И он увидит все важное, если мы вынесем это (только одно существенное и никаких деталей) в особую схему. А когда он схватит существенное в схеме, он выделит его и в самом предмете.
На уроке о сердце и кровообращении дайте схему сердца и кровообращения. На уроке о цветке дайте схематический рисунок его главных частей. На уроке о паре дайте схему приборов, с которыми делались опыты, а также схему паровой машины и т. п.
Но, усиленно рекомендуя схему как средство к лучшему усвоению урока, мы совсем не рекомендуем ограничиваться одной только схемой. Схема нужна, чтобы обратить внимание ребенка на самое существенное в изучаемом предмете, но лишь затем, чтобы сейчас же обратиться к самому предмету, и это вот почему. Нам нужно быть постоянно на одну ступень впереди ребенка, нужно возбуждать его усилия к движению вперед, иначе он будет топтаться на одном месте и не двинется вперед. Если ребенок любит схему, то, удовлетворив эту потребность, изобразив схематически суть урока, мы должны вслед за тем попытаться обратить его внимание и на некоторые важные детали.
Особенную важность имеет схема там, где дело идет об отношениях между различными предметами и понятиями. Экспериментальная психология доказала, что восприятие отношений является делом наиболее трудным для детского возраста, но что пространственные отношения усваиваются детьми гораздо легче и помнятся гораздо дольше, чем отношения по времени, по причинной связи, по контрасту и пр. Поэтому всякие отношения, когда это возможно, полезно выразить схематически на рисунке, т. е. свести их к пространственным отношениям. Это будет служить чем-то вроде рамки, куда можно вставить и закрепить изучаемый материал. Так можно выразить даже грамматические связи между частями предложения...
Хорошо известно, как пользуются пространственными отношениями при изображении хронологии событий, при изображении образования земной коры (группы и системы с наиболее характерными животными, изображенными в виде горизонтальных пластов, в надлежащей последовательности). Как легко с помощью графиков изобразить, что в Англии во 2-й половине XIX в. с возрастанием числа учащихся втрое число преступлений уменьшилось впятеро. Как легко тем же способом изобразить зависимость между плодородием почвы и густотой населения или же между той же густотой и развитием фабрично-заводской промышленности. Как легко иллюстрировать графическим методом зависимость между развитием торговли и густотой железнодорожной сети, между смертностью и материальным благосостоянием населения и т. д. Между тем для всякого понятно, что сообщение величин имеет значение для развития лишь в том случае, если путем сопоставлений дети сделают из них какие-нибудь определенные выводы. Сообщение же сырых материалов, не пригодных для сопоставления, никакой пользы детям не принесет и, стало быть, будет только вредить их развитию.
Во временных детских школах, устраиваемых при некоторых руководимых мной учительских курсах, я давал, между прочим, и уроки о пользовании графиками. И я начинал обыкновенно с посещаемости какой-нибудь деревенской школы, пользуясь ее классным журналом. Детям раздавалась бумага, разлинованная на квадратные клетки (такие тетради легко найти в писчебумажных магазинах). На нижнем перпендикуляре (координате) обозначались числа и месяц, а на боковом — цифры учеников. Один из учеников читал в журнале, например, цифру учащихся на 15 сентября, а все ученики затушевывали в виде столбика над этим числом сентября столько клеток, сколько учеников присутствовало на уроке. Таким же способом рядом с первым начерчен был второй столбик, изображающий число учившихся 16 сентября.
Когда таким образом получалось изображение посещаемости во все учебные дни первого месяца учебного года, легко было видеть, как прибывало число учеников, и нетрудно было связать этот постепенный наплыв учащихся с постепенным окончанием сельскохозяйственных работ, к исполнению которых обыкновенно привлекаются в деревнях дети (пастьба скота и т. п.). Опыт показал, что такой график дети исполняют без затруднений и понимают его. Затем я показывал им заранее заготовленные графики, изображающие интересные и понятные для них соотношения между различными величинами, и старался довести их до понимания связей между зависимыми друг от друга величинами. Мне кажется, что несколько таких уроков могли бы подготовить детей к пониманию незамысловатых графиков, изображающих различные стороны культурной и экономической жизни народа и соотношения между этими сторонами. Такие графики ученики потом встретят и в книгах, и на выставках, и на публичных лекциях и т. д.
Всякая величина, будет ли это число предметов, вес, сила, время и т. п., может быть изображена графически посредством линий. И нет безусловной необходимости знать аналитическую геометрию с ее координатами — абсциссой и ординатой, — чтобы понимать значение общеупотребительных графиков. В географии эти координаты называются долготой и широтой, и дети понимают их, не зная аналитической геометрии. В астрономии они называются прямым восхождением и склонением. Причем ими можно пользоваться также, не зная аналитической геометрии. Могут возразить, зачем понадобился этот графический метод, если всякую величину с такой же, если не большей точностью, можно выразить цифрами и формулами. Но цифры и формулы никогда не дадут той ясности, простоты и наглядности, какую дают графики. В настоящей книге читатель найдет несколько графиков рядом с цифрами, и стоит только взглянуть на те и другие, чтобы понять, что даже для взрослого и образованного человека в графиках гораздо больше образности и наглядности, чем в цифрах, и что графики дают возможность гораздо легче и проще улавливать и яснее представлять соотношения между изображаемыми величинами, чем это можно было сделать при помощи цифр и формул.
При этом на уроках арифметики следует дать детям самое элементарное понятие о проценте и о выражениях «из сотни», «на каждую сотню»; например, показав, что 1 процент — это 1 сотая часть целого, а 7 процентов — 7 сотых целого. Надо дать также самое элементарное понятие и о средней величине и показать, как она находится посредством сложения всех наблюдений и деления полученной суммы на число наблюдений. Вот и все трудности, с которыми придется считаться при чтении графиков.
Этот метод мог бы быть применим к истории, к географии и пр. В частности, очень полезно было бы пользоваться статистическими графиками. Можно изобразить графически рост по годам или десятилетиям территории и народонаселения страны за известный период времени, рост народного богатства (площади обработанных земель, количества сельскохозяйственных продуктов, рост промышленности фабричной, кустарной, добывающей и обрабатывающей, рост ввоза и вывоза, рост городского населе: ния, рост школьного, книжного, почтового дела и пр.). Как интересно, например, было бы сопоставить цифры урожая во Франции в конце XVIII в., когда там десятина давала 43 пуда ржи, с современным урожаем, когда десятина дает в этой стране уже 170 пудов пшеницы. А если сравнить эти цифры с теми 43 пудами ржи, какие и теперь дает десятина у нас в России, то это сопоставление невольно вызовет размышления.
В географии нет ни одного отдела, где бы нельзя было с пользой применять этот метод*.
* Прекрасными пособиями для учителя могли бы служить в этом отношении: 1) «Россия». Полное географическое описание нашего отечества, под руков. П. П. Семенова. Изд. Девриена. 2) «Россия». Изд. Брокгауза и Эфрона. Отдельное издание статей Энцикл. словаря. 3) Народная энциклопедия. География.
Здесь могут быть графически выражены средние величины температуры, количества осадков и пр. в разных частях страны для сравнения между собой и для характеристики климата; таким же образом может быть выражен средний урожай пшеницы, ржи и пр. в зависимости от местности. Изображают распределение земли по угодьям (пашня, луга, леса, неудобные земли), распределение населения по национальностям, языку, религии, сословиям, занятиям, доходам, полам, возрастам, образованию. Часто встречаются изображения промышленности, торговли, сельского хозяйства, судоходства, железнодорожной сети, образования, книжного и почтового дела и т. д. в разных культурных государствах, причем получаются очень любопытные сопоставления. Графический метод широко применяется и в естествознании. Можно, например, представить графически, сколько кислорода и азота находится в воздухе; сколько песку, глины и перегноя находится в той или другой почве.
Можно изобразить в виде графика состав человеческого тела из элементов, состав пищевых продуктов, количество питательных веществ, необходимых на одного человека, и т. д.
Крайне важно соблюдать меру в объеме урока. Если опытов и картин будет слишком много, то в голове ученика останется лишь смутное впечатление и он не сохранит ясного представления ни об одном из опытов, ни об одной из картин. Лучше показать немного пособий, поставить один-два опыта, но лишь бы урок остался в памяти ученика надолго и со всеми своими подробностями.
Существенно важно осмыслить все наблюдения, объясняя явления. Предметное обучение должно дать ребенку не только сведения о том, что делается, но по мере возможности — и это гораздо важнее — как делается и почему или для его делается так, а не иначе...
...В отраслях знаний, основанных на наблюдении и опыте, в основе всего лежат вопросы: для чего и почему? С теми же самыми вопросами мы ежедневно встречаемся и в своих практических делах, и в обыденной жизни. Эти вопросы помогают нам связать логическими связями наши сведения о природе и жизни. Они помогают нам поставить каждый предмет на своем месте в связи со всеми другими явлениями, а не отрывать его из связного целого. Но эти же самые вопросы любят ставить и дети при всяком наблюдении, при всяком опыте.
К сожалению, в обучении естествознанию во многих школах и до сих пор царит рутина, имевшая место почти во всех средних школах катковского17 типа. Вместо того чтобы объяснять явления природы, отвечать на вопросы: почему и для чего? — Почему шмели необходимы для опыления клевера? Для чего служит такой-то орган у животного или растения? и т. д., — вместо того в наших школах только описывали растения и животных, и нередко даже таких, которых дети и не видали. Вместо того чтобы наблюдать и объяснять, детям давали только названия. Вместо того чтобы показать связь между явлениями (свет солнца и зелень листа, сила тяжести и направление стебля и т. д.), в школах только заучивали классификацию: виды, роды, семейства, и притом часто по внешним, не имеющим существенного значения признакам. Классификация в наших школах занимала такое место, точно мы хотели приготовить десятки тысяч профессоров классификации.
Сообщалась масса отрывочных, несвязанных логически фактов, вместо того чтобы каждый даже мелкий факт подвести под общий, широкий и интересный закон или вывод.
Вместо того чтобы показать детям, зачем мы едим, зачем дышим, зачем кровяные шарики бегут по кровеносным сосудам ко всем клеткам нашего тела, дети заучивали названия костей скелета, названия мышц и пр.
Вместо того чтобы показать, что в кольцах свежеспиленного пня, в «чертовом пальце», найденном в размыве, и в каждом другом явлении есть смысл, есть законы, доступные пониманию ребенка, детям давали номенклатуру, число лепестков, формулу зубов и прочие скучные вещи. Учителя, давно занимающиеся преподаванием естествоведения, сделали наблюдение, что в былое время, когда преобладала в школах описательная ботаника, такие сведения, что у данного растения черешки листьев имеют желобки и обхватывают стебель, вызывали в детях невообразимую скуку. Теперь же, когда учителя сообщают, что по желобкам черешков стекает к стеблю дождевая вода, которая всасывается растением, тот же самый факт, но объясненный, вызывает большой интерес...
Я мог бы привести много других вопросов, и они показали бы, что детей интересует не только самый факт, но, главным образом, его объяснение. Почему и для чего? — эти вопросы стоят на первом месте.
А эти вопросы, как бы мы ни относились к ним, несомненно, указывают на стремление детей найти причины известных им явлений. Стремление это появляется, по-видимому, довольно рано и, если ребенок не будет забит уродливым воспитанием, не покидает человека в течение всей жизни. По словам Прейера, его мальчик в первый раз задал вопрос: «Почему?», когда ему было около трех лет. Эти вопросы о причине и цели явлений могут появиться и значительно позже, но, если бы они не появились совсем, это свидетельствовало бы о ненормальности ребенка. Если бы эти вечные вопросы: для чего? почему? кто это сделал? как это сделали? какая от этого польза? и пр., появившись, исчезли и ребенок уже никого не беспокоил бы ими — это значило бы, что ребенок потерял надежду добиться удовлетворительного ответа на свои вопросы и, может быть, «навеки духовно почил».
До такого результата очень часто доводила детей схоластическая школа. Рассказывают про одного учителя схоластической школы, что, когда ученики надоедали ему вопросами: почему да отчего, он напоминал им о жене Лота18, превращенной в соляной столб за ее излишнее любопытство, самих детей «ставил столбом» за их неуместную любознательность и очень скоро отучил самых любознательных из них от «глупой» привычки обо всем спрашивать. В наше время уже не делается таких глупых сравнений и едва ли наказывают за излишнее любопытство, но многие и теперь также быстро достигают того же печального результата другими мерами. Однако это не доказывает, что есть дети, совершенно лишенные любознательности от природы.
Нет, «если философия заключается, как говорили древние, в знании причин, то дети, скажем словами Селли, являются в полном смысле маленькими философами». Устанавливать на уроках в школе причинные связи между отдельными явлениями — это значит идти навстречу естественным стремлениям детей, значит действовать сообразно с их природой, значит возбуждать в них особый интерес к предмету обучения.
Нечего и говорить о том, как важно это в смысле формального развития учащихся. Им придется сравнивать факты, находить и сходства, и различия, придется сопоставлять, обобщать, делать выводы, а это не может не развивать ума, сметливости, способности суждения.
Конечно, каждый наш урок предметного обучения должен быть в то же время и уроком практической логики, т. е. мы должны приучать детей связно и последовательно мыслить, а для этого нужно только одно: чтобы мы сами вели наш урок связно и последовательно — так, чтобы последующее само собой вытекало из предыдущего.
Чтобы ученики путем отвлечения составили себе общее представление или понятие о каком-нибудь объекте, они должны выделить из него все случайные признаки, а существенные и важные привести между собой в связь; и для этого лучше дать им не один пример, а несколько. Подбирать примеры надо так, чтобы общие черты выяснились ярче, а для этого примеры надо брать различные, но чтобы в них, несмотря на разницу, было то общее содержание, на что вы хотите обратить внимание учащихся.
Когда вы хотите дать понятие о числе 5, вы берете 5 маленьких предметов (например, спичек), пять больших (например, парт), пять живых (например, учеников) и 5 звуков (например, ударов часов). Тогда понятие о числе 5 получится точное, независимое от качества составляющих его единиц.
Опыты в школе могут иногда демонстрироваться самим учителем, но лучше, если бы каждый ученик производил эти опыты сам за своим столом, если это возможно. Опыт может служить материалом для вывода известного закона, иногда иллюстрацией уже ранее полученного вывода и, наконец, проверкой того или другого положения или гипотезы. Во всех случаях надо стремиться к тому, чтобы опыты производились на самых простых приборах, потому что сложные приборы своими второстепенными частями только отвлекают внимание учащихся от сущности производимого эксперимента и таким образом затемняют сам смысл явления. Наиболее знаменитые физики делали свои открытия с самыми простыми приборами. Таковы Вольта, Гей-Люссак, Араго, Эрстед, Фарадей15* и многие другие. Эти замечательные экспериментаторы большей частью пользовались самодельными приборами, что не мешало им открывать новые факты в науке. Даже телефон был открыт его изобретателем на самых простых, примитивных приборах. Чем проще прибор, тем он полезнее для учащихся. Я не говорю уже о том, что такой прибор дешев. Можно устроить модель подзорной трубы при помощи двух луп, стоящих дешевле 40 коп. А самодельные приборы из самых обыденных вещей не стоят почти ничего. Химическая посуда дешева. Есть много дешевых приборов и по физике. Но чем дешевле прибор, тем легче устроить так, чтобы каждый ученик сам проделывал те или другие опыты. Сложные, дорогие приборы годятся разве только на показ, но в учебном отношении они большей частью неудовлетворительны.
Конечно, каждый опыт должен быть тесно связан с темой урока и вести логически к выводу. Эта связь должна быть ясна для учеников, а иначе опыт становится уже фокусом. И в данном случае дело не в количестве, а в качестве. Опытов может быть немного; иногда для данного вывода достаточно одного; но он должен быть ярким, демонстративным, рельефным и убедительным. Нужно ли говорить, что к каждому опыту надо готовиться, а иначе опыт может не удасться и ввести детей в большое смущение.
Есть педагоги, считающие необходимым при изложении какого-нибудь закона и производстве опытов восстанавливать перед детьми то, что происходит в историческом процессе создания науки, — затруднения ученых, их размышления, догадки, наконец, принятую гипотезу, требующую проверки опытами, постановки этих последних и окончательных утверждений. Принять целиком без всяких поправок этот исторический метод обучения было бы большой ошибкой. Движение науки никогда не было прямолинейно прогрессивным. И в науке, равно как и во всех других
поприщах деятельности, человечество знало много ошибок и заблуждений, колебаний и попятных движений. Воспроизводить все эти зигзаги научного движения — значило бы вести учеников по такому длинному пути, для прохождения которого не хватило бы целой человеческой жизни. Нет, наши дети должны идти к знанию самым прямым, кратчайшим путем, а не окольной дорогой. Но несомненно, что в историческом методе есть большие достоинства, которые необходимо использовать, избегая его недостатков. Эти достоинства заключаются, прежде всего, в том, что в истории науки много движения, драматизма, даже трагизма, даже геройства и захватывающего, самого живого интереса. Интерес к деятелям науки ярко проявляется уже на четвертом году обучения в начальных училищах.
В тверских школах я собрал большое число детских ответов на вопрос: кого они считают для себя образцом для подражания? Оказалось, что дети 4-го года обучения, каждый в меру своего развития, опыта, наблюдения и знаний, выбирает за образец для подражания то исторических героев, то ученых, то писателей, то святых, то общественных деятелей. Первое место занимает Александр И, второе место — Петр I, третье место — Джордано Бруно, четвертое — Пушкин. А далее идут святые, еще далее — Ньютон, Ломоносов.
Есть один выпуск (4-й год обучения), где самое первое место занимает Джордано Бруно. И вот как дети объясняют, почему Бруно нравится им больше всех остальных: «Бруно нравится мне своим мужеством и стойкостью. Он крепко стоял за свое учение. Он ни перед кем не боялся говорить правду. Он говорил смело перед королями, перед богатыми людьми и перед толпой. У него был твердый характер. Он пошел на смерть за правду, за то, что учил народ и служил народу».
Дать детям почувствовать хотя бы немногие, наиболее яркие и понятные для них переживания — это значит заставить их заинтересоваться наукой и полюбить ее творцов. И потому я считаю крайне полезным при изложении того или другого очередного опыта сопроводить его в подходящих случаях относящимися к определенному случаю биографическими данными изобретателей или ученых. Еще более это необходимо в юношеском возрасте. Таким образом можно развить в юношах так называемый научный дух. Юноша при этом переживает те чувства, какие переживали творцы науки и изобретатели. Юноша узнает те трудности, с какими приходилось считаться талантливым ученым, трт гнет, каким служили для них ранее воспринятые традиционные идеи.
Больше того. Следя за ходом их мыслей, молодой человек практически приучается к правильному логическому мышлению гораздо успешнее, нежели путем теоретического изучения логики. В этих видах мы помещаем в приложении к настоящей книге список сочинений, знакомящих с историей науки.
Глава XI
Предметный метод и эстетическое воспитание
На людей моего поколения производили очень большое впечатление статьи Писарева против искусства. Под его влиянием и я и мои товарищи старались особенно подчеркнуть свой индифферентизм к стилю, к красоте стиха, песни, картины. Писареву я обязан первым толчком к своему умственному развитию — он первый заставил меня критически относиться к окружающей жизни. Но, признавая огромное и благотворное значение за Писаревым для людей моего поколения, я в то же время сожалею о нашем почти враждебном отношении к искусству в то время, когда в нас могли бы пробудиться те или другие художественные способности. Я и теперь понимаю Писарева, я и теперь думаю, что бывают моменты в жизни народа, когда ему не до песен, не до красоты форм, цветов и линий. Когда шла борьба с крепостниками, с повальным казнокрадством и произволом и со слугами самодержавия, именуются ли они опричниками и мал ютами50 или полицейской бюрократией с аракчеевыми и Муравьевыми21, то не время было восхищаться стихами о шепоте, робком дыхании и трелях соловья22.
Но можно даже дедуктивным путем доказать пользу эстетических наслаждений.
Наши чувства приятного и отвратительного служат своего рода сигналами. То, что идет на пользу организму, сопровождается чувством удовольствия, то, что ему вредит, вызывает страдания. Когда мы голодны, утомлены, мы чувствуем страдания. Когда мы удовлетворяем» голод, жажду, отдыхаем от усталости, мы чувствуем удовольствие. Есть исключения из этого правила, но они доказывают только то, что мы можем иногда обмануть природу. Эстетические впечатления сопровождаются удовольствием. Стало быть, они полезны. Если бы было наоборот, естественный подбор едва ли сохранил бы эти чувства.
Все вышеизложенные соображения против искусства имеют место только при нынешних условиях, когда искусство служит лишь забавой для одних богатых. Искусство и до сих пор еще слишком аристократично. Если и сделали что-нибудь для народа (впрочем, до отчаяния мало), так это только в отношении литературных художественных произведений. Что же касается до скульптуры, живописи и музыки, то о народе еще и не думали. Если бы искусство служило не для одних феодалов и буржуазии, а было достоянием всех, если бы весь народ был воспитан для понимания и наслаждения искусством, то в самом искусстве движение за освобождение народа нашло бы одно из лучших орудий борьбы. Хорошая песня, стихотворение, картина, статуя могли бы вдохновлять интеллигенцию «на подвиг благородный»; и ни Писареву, ни его единомышленникам незачем было бы
ратовать против него. Известно, например, какую роль в освобождении крестьян сыграли такие художественные произведения, как «Записки охотника» Тургенева. Искусство должно существовать для народа и осуществляться посредством народа — таков идеал, если не ошибаюсь, формулированный Вильямом Моррисом23. Против этого делаются возражения, которые мне приходилось слышать даже от людей, во всех остальных отношениях рассуждающих, как демократы. Говорят, что будто искусство, рассчитанное на весь народ, станет ниже сортом. В доказательство приводят даже аналогию, впрочем совершенно неудачную: одно и то же количество света не может осветить большую площадь так же хорошо, как маленькую. Нельзя придумать ничего нелепее этой аналогии, взятой из мертвой природы и перенесенной в жизнь.
Искусство, равно как и наука, как ремесло и пр., отличается от свойств мертвой природы прежде всего тем, что когда знание или умение переходит от одного человека (учителя) к другому (ученику), то первый от этого ничего из своих знаний не теряет, а другой не только приобретает новое знание, но и сам может стать учителем и передать свои знания третьему лицу. Такую аналогию могли придумать только люди, все измеряющие деньгами. Но умение и знания — это не деньги.
Когда делят деньги, то каждому достается тем меньше, чем больше получателей. Когда распространяются знания и умения, то их не убывает, а только прибывает. Ни одна книга не стала глупее оттого, что ее стали раскупать не в тысячах, а в миллионах экземпляров. Я не хочу, конечно, сказать, что искусство, ставши достоянием всего народа, останется по существу таким же, каким оно было до сих пор. Оно, конечно, изменится, но к худшему ли? — вот вопрос. Прежде всего искусство перестанет облагораживать формы только золота, серебра, слоновой кости и других драгоценных и редких материалов, доступных лишь богачам. Искусство общенародное облагородит изделия и из других, самых дешевых и общедоступных материалов. Оно не будет заниматься подделками под золото и брильянты; оно украсит обыденные предметы; оно сделает изящной самую обыкновенную жизнь всех, о чем так страстно мечтал покойный Чехов; оно внесет красоту форм, линий и цветов в повседневный обиход нашей жизни, в наши ремесла, в нашу домашнюю обстановку, в наши привычки. Оно приготовит изящные предметы из простой березы и бересты, из горшечной глины и каолина, из жести, олова и бронзы, из самого обыкновенного валуна, из самого обыкновенного стекла, из дешевого холста, из дешевой кожи, из бумаги и т. п.
Оно сделает, таким образом, произведения искусства доступными всем и каждому, не говоря уже о музеях, картинных галереях и т. п. И каждое такое художественное произведение, ставши общедоступным, будет с детства ласкать глаз самых бедных слоев населения, будет воспитывать любовь к прекрасному в природе и в искусстве, будет облагораживать вкусы. Все выдающееся в живописи, скульптуре, музыке, поэзии станет общим достоянием. То, что раньше было только достоянием пап и королей, а теперь достоянием богатых, станет достоянием всех, но в более облагороженном стиле.
Об этом мечтают сами рабочие. «Красота не богатство, — писал один рабочий во французской газете «Siecle», — стоимость материала не увеличивает красоты предмета, вышедшего из рук мастера. Для красоты не существует никакого тарифа. Она как полевые цветы, растущие на краю дороги. Дети срывают и делают из них венки, радующие взгляд не менее, чем дорогие венки из оранжереи. Чтобы найти эту красоту, нам стоит лишь стать самими собой, самим выбрать формы по указаниям нашего воображения. И воображение раскроет перед нами совсем новый, обширный мир красоты. Обширный потому, что та небольшая кучка людей, богачей, которая до сих пор была судьей прекрасного, сузила границы красоты. Перед идеалом красоты, создаваемой целым народом, что значит стиль, созданный каким-нибудь Людовиком XIV или Людовиком XV? Пусть нам только дадут возможность узнать самих себя, узнать наши взгляды, наше искусство».
И эта проповедь красоты, эта мечта об изяществе жизни для всех не есть мечта об одной забаве. Пусть искусство будет только забавой, но в этой забаве упражняются не одни только физические силы, но и высшие силы ума и сердца. В нашем мозгу все так тесно и неразрывно связано, что ни одно эстетическое впечатление не останется без влияния на нашу жизнь. Всякая красота действует на наше чувство, волнуя его, на наш ум, просвещая и возвышая его, на нашу волю, заставляя нас в своей работе и действиях сообразоваться с нашими эстетическими вкусами и идеалами. Недаром говорят, что красота спасет мир.
Искусство стремится истолковать природу и человека, правда, с другой стороны и с других точек зрения, чем наука. Художник стремится открыть и в природе, и в человеке прекрасное, и мы, простые люди, очень часто замечаем красоту лишь тогда, когда на нее обратит наше внимание художник. Насколько занимательнее и интереснее станет жизнь, когда все люди разовьют в себе чутье красоты форм, линий, звуков, когда глаза и уши всего народа будут видеть красоту там, где теперь ее видят лишь гениальные художники. И когда повседневная жизнь с ее заботами потребует отдыха для ума и для нервов — как легко тогда каждому будет уйти из обыденной, надоевшей сутолоки в мир красоты реальной и, если угодно, в мир изящной фантазии и мечты.
Когда видишь, как водка подтачивает здоровье народа и самой расы, как самодержавие в интересах бюджета спаивает народ в своих кабаках и в жертву своим доходам приносит здоровье расы, то невольно думаешь о том времени, когда ничто не заставит народ с развитым художественным вкусом идти в кабак, в трактир и вообще в увеселительные заведения, рассчитанные на низменные вкусы, когда он предпочтет картинную галерею, музеи, концерты, серьезную оперу и драму, когда он сам поставит здоровые художественные наслаждения на место развлечений, ведущих его к быстрому вырождению. Искусство делает больше. Оно умеет дать конкретные, видимые и осязаемые красивые формы отвлеченным- идеям и идеалам. Благодаря такому воплощению мысли, доступные лишь немногим мощным философским умам, становятся доступными всем, потому что конкретное и наглядное понятно всякому человеку. Картину поймут и дети. Недаром они так любят и картины и скульптуру.
Но искусство говорит гораздо больше чувству, нежели уму. Л. Н. Толстой, компетентность которого в данном вопросе вне сомнения, художественным произведением признает только то, что волнует чувство. Прочтите «Выпрямила» Гл. И. Успенского, и вы поймете, как может выпрямить, возвысить и облагородить душу произведение истинного искусства. Еще Гете в своих мемуарах показал, как безобразие угнетает душу и тело и как, наоборот, красота дает здоровое и бодрое настроение.
Если изящное влияет и на чувства и на ум, то, несомненно, оно влияет и на наши дела. Не может быть никакого сомнения в том, что когда поднимется художественное воспитание народа, то все ремесленные произведения наши станут более изящными, потому что и каменщик, и плотник, и слесарь, и столяр — все повинуются своему чувству красоты и их изделия ровно настолько изящны, насколько в них самих развит вкус и красота...
Мы слишком ограничили бы роль художественного вкуса, если бы решились утверждать, что он выразится только в улучшении произведений ремесла, техники и пр. Нет. Если есть в психологии бесспорные факты, то это прежде всего тот закон, что всякий образ, живущий в нашем мозгу, стремится получить внешнее выражение. Но в произведениях искусства выражены наши лучшие идеалы, самые высокие из наших стремлений. И невозможно допустить, чтобы эти идеалы и эти устремления, проникнув в нашу душу посредством произведений искусства, не отразились так или иначе на наших поступках, на нашем поведении, образе жизни.
Мы уже говорили, как важно связать все наши идеи в одно стройное целое, без противоречий, без диссонансов. В сущности, вся роль учителя и воспитателя сводится к тому, чтобы связывать все факты, все мысли в головах учеников и строить из них одно гармоничное целое, соответствующее действительности. Мы знаем, что в науке это достигается путем широких обобщений, законов и выводов. Но этой же цели служит и искусство. В каждом произведении искусства есть гармоническое целое. Будет ли это музыка — от нее требуется известная гармония, цельность впечатления. Будет ли это архитектура — от нее требуется выдержанный стиль. Будет ли это поэма — мы потребуем от нее известной архитектуры, гармонического соотношения частей. Будут ли это типы беллетриста — мы требуем, чтобы в них были выражены общие черты, принадлежащие той или иной группе лиц, которую изображает автор. Будет ли это пейзаж — мы требуем, чтобы он давал определенное настроение в своем целом, и т. д. Искусство, стало быть, служит той же цели, что и наука. Единство, гармония, стиль, архитектура, стройность — вот его идеал. И в этом его высокая педагогическая ценность.
Наука играет огромную роль в культурном отношении, но какова она теперь — ее влияние не может быть настолько универсальным, как искусство... Не всякая научная теория может быть усвоена всеми, не всякая хорошая книга будет прочитана, не всякий опыт будет повторен всеми. Но Миланский собор видели все, посещавшие Милан; кто был в Риме, тот, наверное, видел и Форум, и Капитолий, и колонну Тита, и собор св. Петра, и памятник Гарибальди24. Поэтому искусство может захватить более широкие слои, нежели наука; и кто хочет приобщить к культуре все слои населения, тот должен наряду с демократизацией науки заботиться и о демократизации искусства. Быть может, мы ни в чем не нуждаемся в такой мере в настоящее время, как в наиболее интенсивной популяризации знаний и искусства. Быть- может, новые изобретения, новые научные открытия, новые завоевания в области искусства не столь важны в настоящий момент (их накопилось для данного момента достаточно), как важно самое энергичное, усиленное распространение накопленного знания и красоты среди самых широких кругов населения, среди народных масс. Нужно, чтобы никто не был обделен этими самыми высшими благами культуры. Не о том надо хлопотать, чтобы во всяком селении была «казенка»25 и «стражник», а о том, чтобы во всяком селении была предоставлена возможность заниматься наукой и наслаждаться красотой.
Есть возражения протйв внесения искусства в народную среду. Говорят, что не до красоты тому, кто не доедает и не допивает. Но дело в том, что красота может быть придана самым обыденным предметам из самых дешевых материалов — из самой обыкновенной глины, обыкновенного дерева, бересты, железа и т.п. А при этом условии красивые изделия будут обходиться не дороже, чем теперешние неуклюжие, безобразные вещи. Конечно, мы не скрываем от себя, что в жизни все связано и замена «казенки» музеями, лабораториями, библиотеками и передвижными выставками искусства, а «стражников» странствующими лекторами и художниками немыслима без изменений в экономическом и иных отношениях; но эта тема выходит за пределы настоящей книги, и мы ее здесь не трогаем...
Если, несмотря на все препятствия, из народа вышли и Репин, и Богданов-Бельский, и много других художников, которыми вправе гордится Россия, то что же было бы, если бы, наконец, с народа были сняты оковы, которыми опутаны его ум, его воображение и его воля?
Работа, предстоящая на этом пути, сложна и огромна. Разумеется, необходимо самое широкое распространение в школах рисования с натуры, лепки, черчения; но, кроме того, чрезвычайно важно использовать способность и страсть детей воспринимать впечатления от окружающей их среды и окружить их изящными произведениями искусства и природы... Было бы желательно иллюстрировать художественными произведениями всякое значительное событие из истории, если найдется для этого хорошая книга, картина, всякий художественный момент в географии, геологии, в биологии, в астрономии и пр. И это особенно важно вот в каком отношении. Смотреть — это еще не значит видеть. Можно держать перед глазами прекрасную картину и не заметить или не понять ее красоты. Показывая же художественно исполненные картины во время урока как учебные пособия, учитель сумеет приучить детей не только смотреть, но и видеть.
Но этого мало. Душа ребенка — это пашня, а предметы, его окружающие, — это семена. И как пашню надо засеивать не чертополохом и крапивой, а пшеницей, так и ребенка надо окружить не лубочной мазней, а изящными произведениями. Конечно, в этом случае важно даже место, где устроена школа. Не все равно, устроена ли она на грязной улице или за селением, среди луга, близ лесов, вся в зелени; есть ли при ней сад, цветник или безобразные кучи сора... Не все равно, имеет ли она вид казармы, или ее архитектура радует глаз своим изяществом или простотой стиля. В самой школе должна быть создана красивая, художественная обстановка: картины, копии с произведений известных художников, художественные фотографии или фотокопии на стенах; цветы на окнах, букеты из полевых цветов на столе. Произведения живописи гораздо понятнее и больше говорят чувству детей, чем литературные произведения. Правда, и в этом отношении рациональная постановка школы — вся в будущем.
Нет сомнения, что гениальные русские художники, вышедшие сами из народа, с радостью возьмутся за работу для школ, если бы был спрос на их произведения.
Но пока еще новые общественные силы создадут новую школьную организацию, школам приходится пользоваться тем, что есть. И нельзя не отметить, что, например, Владимирское губернское земство включило в нормальную коллекцию наглядных пособий для начальных классов снимки с картин лучших художников, находящихся в Третьяковской галерее и музее Александра III, в издании Граната и других.
Такие картины могут служить не только для украшения класса, они служат и для бесед с детьми, и для письменных упражнений и сочинений. В этом отношении хорошим пособием могут служить даже вырезки из иллюстраций журналов. Вот что, например, мы читаем в отчете Можайского передвижного музея по поводу отдела «Бытовые картины», давшего в 1902 — 1903 гг. 8% спроса, а в 1903 — 1904 гг. 27% (выдано 611 картин) и составленного из иллюстраций, вырезанных из различных журналов и раскрашенных членами кружка: «Эти бытовые картины служили прекрасным пособием для наглядных бесед, а также и для изложений и сочинений детей. Последние две работы велись так: бралась какая-нибудь бытовая картина, положим «Пожар в деревне», и содержание ее рассматривалось всем классом. Затем дети передавали сюжет картины письменно, дополняя его собственным вымыслом. Такой род «сочинений» чрезвычайно нравился детям, так как возбуждал в них фантазию и творчество, и его нужно решительно предпочесть обычному изложению, господствующему в наших школах, при котором роль учащегося чисто пассивная, сводящаяся к точной передаче прочитанного».
Бедность наших школ, скупость казны, городов и земств по отношению к делу народного образования вообще и к наглядным пособиям в частности выдвинули вопрос о передвижных музеях учебных пособий. Такие музеи будут существовать и тогда, когда русские школы станут богаче, но тогда передвижные музеи будут заключать в себе лишь очень дорогие пособия. Все же более доступное будет находиться под руками каждого учителя.
ОСНОВЫ НОВОЙ ПЕДАГОГИКИ
Том I
Введение
Время ли теперь выпускать книгу по общим вопросам воспитания и образования? Когда я пишу эти строки, лидер правых в Государственном совете (в 1912 г), возражая против увеличения кредита на школы, нарисовал довольно мрачную картину международного положения России. Его мысль сводилась к тому, что теперь не время усиленно заботиться о школах, когда на очереди более важные государственные вопросы. Другие указывают на невзгоды внутренней жизни нашей родины и тоже находят, что с вопросами воспитания и образования можно подождать.
Но что же, если не просвещение нужно в стране, где то, что у других народов считается ужасом и позором, — голод стал хроническим явлением еще с 90-х гг. прошлого века, где смертность детей вдвое выше, чем у наших соседей на Скандинавском полуострове, но что же, если не просвещение, нужно там, где местности, некогда бывшие житницею страны, переживают судьбу Ирана, славившегося раньше изумительным плодородием, а теперь представляющего бесплодную пустыню. Беспощадно истребляются леса, уменьшается количество скота, увеличивается число безлошадных земледельцев; возрастает разврат, едва ли не вырождается раса. Наступила какая-то оргия хищения и казнокрадства, причем большие и малые хищники и казнокрады чувствуют себя хозяевами момента. Вспыхивают погромы, появляются моральные чудовища, как Азеф1. Сама жизнь человеческая ценится ни во что, ужас перестает быть ужасом, и то, что в нормальное время вызвало бы взрыв негодования, теперь печатается в газетах петитом. Что касается самого многочисленного у нас сословия — крестьян, то их жизнь, как она изображена, например, такими замечательными наблюдателями, как покойный Чехов и ныне здравствующий Бунин, ужасна. Безысходная нужда, непосильный труд, беспросветность. В деревне страшно жить. «Они живут хуже скотов», по словам знаменитого писателя. Указывают на предстоящий кризис промышленности. Предсказывают неизбежное банкротство, новую Цусиму2 в сельском хозяйстве, промышленности, внешней политике, финансах.
Мы зашли в какой-то тупик, из которого не видно выхода.
Среди людей, от которых несколько лет тому назад можно было слышать восторженные речи, полные веры и надежды на лучшее будущее, теперь встречаем угнетенное настроение, разочарование, уныние, близкое к отчаянию. Обманутые в своих лучших надеждах, наиболее впечатлительные люди заболевают психически, думают о самоубийстве.
В такие времена мысль усиленно ищет выхода. Естественно, что разные люди указывают и разные пути. Религиозные люди укажут на молитву как на самый лучший исход. Другие будут ждать спасения от естественной эволюции производственных отношений. Каждая из политических партий будет указывать на свою программу, не отрицая и некоторых других путей, более всего веря в силу воспитания и образования широких народных масс. Мы знаем людей, бывших близко к отчаянию, которые нашли выход из этого безысходного мрака в упорной работе над просвещением народных масс. И мы думаем, что они выбрали верный путь.
Мы говорили о хроническом голоде; но есть еще другой голод — духовный, и он является причиной первого. Было время, когда во Франции десятина земли так же, как у нас теперь, давала 45 пудов ржи; теперь она дает 170 пудов пшеницы. И это результат общего и специального агрономического образования французского сельского населения. Почти то же надо сказать о Германии и Швейцарии; но в последних странах нет того чернозема, какой есть у нас. Нет там и таких богатств, какими изобилуют наши леса, недра наших гор, наши моря и реки. И однако же, там не знают, что такое голод. Знание и планомерный труд — вот тот ключ, посредством которого открываются сокровища, спрятанные природой. А знание и трудоспособность — результат хорошего воспитания и образований}. И так во всем. Голод, таким образом, является самым тяжким обвинением по адресу тех, кто задерживал умственное и нравственное развитие народа. Нельзя презирать образование и в то же время рассчитывать на производительность страны. А мы презираем и образование и книги. Лет 12 тому назад у нас на одну книжную лавку приходилось более 45 винных лавок. Между этой статистикой и статистикой неурожаев существует самая тесная связь. Сила страны не в пространстве, даже не в числе людей, а тем менее в количестве войск; сила страны в числе просвещенных, энергичных, трудоспособных, стойких деятелей, а это дело воспитания и образования.
Последнее десятилетие поставило пред нами несколько крупнейших исторических задач, и мы не выдержали экзамена. У нас не оказалось людей, стоящих на высоте предъявленных к ним требований. Мы оказались умственными и нравственными банкротами. У нас оказалось очень мало людей, соответствовавших историческому моменту. Это не должно удивлять нас, потому что при нашем воспитании и условиях жизни и не могло вырасти ничего лучшего. Но это побуждает нас с наибольшей серьезностью отнестись к вопросам образования и воспитания поколений,
идущих нам на смену. Если мы сами не выдержали экзамена и оказались плохими и несчастливыми, то пусть же будут хорошими и счастливыми наши дети. Никто не придет на помощь народу, если он сам не в силах помочь себе, если он сам не в состоянии взять свою судьбу в собственные руки. Но чтобы стать хорошим хозяином своей участи, недостаточно ходить на помочах званых и незваных вождей, надо самому иметь просвещенный ум, реальные знания, обладать творческими силами и общественными стремлениями и действовать самостоятельно. А для этого необходимо хорошее образование и воспитание.
Представьте себе, что наша страна в настоящее время располагала бы миллионами просвещенных крестьян и рабочих, ясно представляющих себе современное положение, знакомых с аналогичными событиями всемирной истории, и тогда исчез бы всякий страх за наше ближайшее будущее.
Правда, путь воспитания и образования очень медленный, и кто бы из нас не предпочел более быстрого. Но работа на поприще просвещения никакой другой прогрессивной работе помешать не может. Напротив, если люди, предпочитающие более быстрые пути, встретятся с непреодолимыми препятствиями, у них останется надежда на будущее, на молодежь, воспитанную нами и лучше нас приспособленную к жизненной борьбе...
Наша вера в то, что воспитание и образование в состоянии вывести нас на светлую и прямую дорогу, подкрепляется еще талантливостью нашего народа. Несмотря на то что условия для развития таланта у нас беспримерно тяжелые, мы имели такого ученого, как Ломоносов, на целый век опередивший тогдашнюю науку, а позже — Менделеева; мы имели такого государственного деятеля, как Сперанский, таких публицистов, как Белинский, Чернышевский, Добролюбов, таких поэтов, как Пушкин, Лермонтов, Шевченко, таких писателей, как Толстой, Тургенев, Чехов, Горький и т. д., таких художников, как Репин и Богданов-Бельский, таких композиторов, как Глинка, Чайковский, Мусоргский, таких изобретателей, как Яблочков, и пр.
Но ведь при наших условиях мог пробиться наружу, быть может, только один промилль3 из всей народной массы. У нас мало школ, мало библиотек, мало музеев, аудиторий и вообще просветительных учреждений. Наши школы и бедны и неудовлетворительны. А педагогическая часть их переживает кризис. Даже дети, имеющие возможность окончить полный курс в средней школе, получают до отчаяния мало в смысле развития и знаний, не говоря уже о воспитании. И на приобретение этих, иногда очень сомнительных знаний затрачивается огромное количество времени и труда. Наши.'дети учатся 11 лет до поступления в высшую школу (3 года в подготовительных школах и 8 лет в гимназии), работают очень часто более 8 ч в сутки, если считать и время, употребляемое на подготовку к урокам, лишены возможности тратить достаточное количество времени на свойственные детскому возрасту игры, прогулки, нередко страдают от переутомления и к ужасу и отчаянию родителей и во вред расе расстраивают свое здоровье. Школа очень часто портит характер детей. И эта страшно высокая цена платится за приобретение навыков и знаний, с которыми молодой человек в большинстве случаев годен лишь только для казенной службы, не требующей ничего, кроме исполнения чужих приказаний. Полученная подготовка, по отзыву профессоров, оказывается очень часто недостаточной даже для того, чтобы с успехом слушать очень элементарный в сущности курс наших университетов. Наши методы и приемы преподавания нуждаются в серьезных улучшениях. Трещат под напором критики школьные планы, программы, состав учебного курса, экзамены и весь строй учебного дела. Сама теория воспитания нуждается в коренном пересмотре.
Главный недостаток современной педагогики — это отсутствие руководящей общей точки зрения. Так много предлагают материалов, какие надо использовать в видах воспитания, методов, которые надо употреблять, частных целей, какие надо ставить и преследовать; все это так разнообразно и разбросано то в истории педагогики, то в различных современных течениях педагогической мысли. Это бесконечное разнообразие и хаотическая разбросанность ошеломляют. Современная педагогика представляет собою поле брани, где ведут борьбу самые разнообразные цели воспитания и обучения, различные методы и системы, разные программы. В современной педагогике нет основы, которая выражала бы общую идею и дух нашего времени. В ней все бессистемно, бессвязно, разбросано, противоречиво. Все наши методы и приемы обучения и воспитания носят характер случайности. Это какие-то клочки и отрывки, которые еще предстоит связать во что-то единое и целое. Словно кто разорвал педагогику на отдельные мелкие части.» И чтобы внести какой-нибудь порядок в эту . область, все отдельные части, из которых слагается теория педагогики, должны быть объединены в одном общем синтезе. Необходим широкий принцип, всеобъемлющий и связующий все частные цели, методы и материалы; нужно начало, которое объединяло бы и организовало бы и в мыслях, и в действительности, и в теории, и в практике всю совокупность разнообразных элементов педагогики. Конечно, в этой области необходимо и расчленение, нужен и анализ, и притом самый кропотливый и тщательный; но столько же необходим и обобщающий синтез. Самое подробное изложение каждой из этих частей не будет иметь полной дены до тех пор, пока все эти элементы не будут приведены в связь, которая одна в состоянии дать надлежащее освещение целому и поставить каждый элемент на принадлежащее ему место. Только тогда педагогика перестанет быть хаотической грудой, беспорядочным смешением рецептов, отдельных целей и заданий и получит характер стройного, организованного целого. Только тогда мы будем знать, что к чему. Только тогда все элементы улягутся в голове педагога в одну организованную систему, в стройном порядке, по определенному плану — каждая часть на своем месте и в зависимости от других частей и от всего целого. Только тогда мы будем ограждены от вредного влияния односторонних и узких воззрений на наши задачи и нашу деятельность. Только тогда мы в состоянии будем отличать важное от неважного, существенное и основное от случайного, главное и коренное от мелкого и частного...
У нас очень большой запас фактов, наблюдений, рецептов, но нет общей, объединяющей точки зрения. Никогда еще педагогика не располагала такими богатейшими материалами, как теперь; но зато никогда она так не нуждалась в одном общем синтезе всех этих материалов. Старые принципы потеряли свою силу и господствующее положение, а новые принципы еще не завоевали широкого признания.
Первобытный человек и современный дикарь ограничивают роль воспитания только заботами о том, чтобы дети были сыты, целы и невредимы да переняли от родителей приемы добывания средств к жизни и те несложные искусства (пение и танцы), которые диктовались обычаями народа. Отличительная черта этого воспитания — консерватизм и застой. Жить так, как жили отцы и деды; воспитывать так, как воспитывались деды и прадеды, — вот главная основа такого воспитания. Этой системе воспитания нельзя отказать в цельности; но мы уже не можем ограничиться такой примитивной точкой зрения. Мы считаем необходимым передать будущим поколениям и нашу цивилизацию, и нашу довольно сложную культуру, сделать их наследниками всего нашего культурного богатства. Темп развития стал бесконечно быстрее... Мы очень далеко ушли от первоначальной простоты и дикости. Для того чтобы удержаться на той высоте материальной и духовной культуры, на какой мы теперь находимся, а еще более для того, чтобы идущие нам навстречу поколения могли подняться на еще более высокую ступень, мы должны передать в целости нашим детям все лучшее из полученного нами культурного наследства, присоединив сюда и приобретения самого последнего времени, мы должны путем образования и воспитания сделать внутренним достоянием, претворить в плоть и кровь: в убеждения и верования, в чувства и стремления наших детей все наиболее ценное из того, что приобретено до настоящего момента в области искусства, науки, творчества, идеал умственного и нравственного развития.
Только подняв воспитанника на эту высоту, мы приспособим его к современной жизни и дадим ему возможность деятельно участвовать в современном ему обществе, вложить в общую сокровищницу цивилизации и культуры свою каплю меду...
Что в этом отношении современная школа грешит, доказательством служат латинский, греческий и славянский языки в средней школе, хотя ни тот, ни другой, ни третий не имеют прямого отношения к современности; другое доказательство — отсутствие серьезной постановки естествоведения, хотя быстрое развитие последней отрасли знаний представляет одно из самых характерных явлений нашего века. К числу недостатков того же рода
относится слишком подробное изучение древней и средней истории в ущерб новой, а также старой литературы в ущерб новейшей. Даже в области физики, географии и других предметов ученикам чаще всего сообщают теории, уже отвергнутые современной наукой, и замалчиваются те, какие особенно характерны для современного состояния знания. И если бы не стремление юношества к самообразованию, то с нашей общеобразовательной школой даже так называемые образованные люди вне своей специальности были бы значительно позади века, в котором нам приходится жить и действовать...
...Были системы воспитания, основанные на совершенно противоположных началах. Так, Тюрго4 и Руссо пробовали основать воспитание на безусловном доверии к природе человека. И такая система точно так же была бы не лишена цельности, стройности и стиля. Но к сожалению, современная наука не позволяет принять такую систему в целом. По стопам Руссо шел и наш Толстой, отрицавший в 60-е гг. право учителей, родителей и старших воспитывать младших.
«Природа вложила в сердце человека семя всех добродетелей, стоит только» дать им распуститься». Так говорит Тюрго; но мы знаем, что природа влагает также в сердце человека и семена пороков, что есть пережитки, бесполезные и даже вредные инстинкты, обыкновенно присущие ребенку...
Важно, чтобы у воспитанника развивались не те инстинкты и наклонности, которые были приналажены к древним условиям, в каких жили его предки, а те, какие соответствуют современным условиям жизни. А современная среда изменяется быстро. Нетрудна была задача воспитателей в старину, когда формы жизни были прочны, затверделы. Домострой оставался единственным регулятором жизни в йродолжение нескольких поколений. Не надо было приспособлять свои мозги, свои мысли, свое поведение к новым условиям. Не то теперь. Жизнь движется быстро, и те привычки, которые еще поколение тому назад соответствовали духу времени, теперь устарели. И некоторые из тех инстинктов и наклонностей, которые приветствовали бы в детях наши отцы, мы будем рассматривать как дефекты...
Очевидно, что современное воспитание не может быть основано на безусловном доверии к наследственности каждого ребенка. Преклоняясь перед общими законами природы и ставя их во главу угла, современное воспитание не может забывать и о дефектах природы ребенка.
Исходя из того положения, что врожденные свойства человека не имеют никаких дефектов, основывали воспитание на началах индивидуализма. Педагоги этого направления требовали, чтобы естественным природным наклонностям ребенка была предоставлена полная свобода, утверждая, что не следует стеснять воли ребенка, что ребенок должен быть изолирован от общества, которое дает ложное направление, и, руководимый идеальным педагогом, он должен воспитываться лишь под влиянием природы, что надо воспитывать человека, а не гражданина, так как «одновременно воспитать того и другого невозможно». Если все природные инстинкты и наклонности ребенка безусловно хороши, то дело воспитателя сводится лишь к тому, чтобы следить за вкусами, природными наклонностями и страстями ребенка и затем удовлетворять и развивать их все без всякой критики, без всякого сомнения в их законности; а чтобы люди и общество, назначение которых сводится будто бы к тому, чтобы искажать природу, не портили детей, надо удалить их от людей, обречь их на затворничество. Ведь общежития и города, по мнению Руссо, это могилы для человеческого рода, а дыхание человека фатально для его ближних.
Но, несмотря на стройность такой системы, она не могла бы иметь теперь успеха, потому что человек живет в обществе и роль личности в жизни, по современным понятиям, не настолько громадна, чтобы можно было не сообразоваться с интересами и требованиями общества. Человек — общественное животное, и, как только он входит в общество себе подобных (а иначе в наше время жить нельзя), он должен подчиняться известным правилам общежития, определенному кодексу законов и морали, войти в известные закономерные отношения с другими людьми.
Нет, современный педагог не удалит ребенка от людей, хотя и будет всемерно заботиться о том, чтобы не была подавлена личность воспитанника. И сейчас прогрессивная педагогика признает, что ни в природе, ни в обществе нет и не должно быть такой цели, по отношению к которой ребенок был бы только средством. Он сам для себя служит целью. Все его нормальные стремления должны быть удовлетворены и развиваемы, но мы хорошо знаем, что человек будет не полным существом, если он, воспитанный вне общества, будет лишен тех качеств, которые делают его общественным человеком. Современный педагог думает совершенно обратно тому, как думал Руссо. Последний полагал, что только первобытный человек был полной единицей, а человек, живущий в обществе, есть дробь. А теперь думают, что человек, воспитанный в лесу,, без людей (такие случаи бывали и занесены в историю педагогики), есть действительно дробь, нуждающаяся в развитии общественности, чтобы стать полной единицей.
Психология доказала, что внутри нас есть инстинкты и стремления, толкающие нас навстречу себе подобным. Сама нравственность сводится к общественным стремлениям и поступкам. Если бы люди были одиночками и не встречались друг с другом, не было бы самого понятия о морали. При мощном содействии этих стремлений мы объединяемся в союзы и другие организации. Эти общественные инстинкты и стремления и есть тот цемент, который связывает людей в целые общества. Еще на заре человеческой жизни социальные чувства объединяли первобытных людей в общества, и только благодаря общественным союзам эти люди вышли победителями в борьбе со зверями и природой, только благодаря им создан язык. Все значение
человеческого слова сводится лишь к тому, что это лучшее средство для сношений членов общества между собой. Общество — вот основа, на которой построено слово, а следовательно, и вся литература, вся техника, все искусство, вся наука, вся культура.
Можно считать за факт, что у порабощенных народов деспотические правительства ни о чем так не заботились, как о том, чтобы превратить население в рассеянную человеческую пыль. Каждая попытка самой невинной организации среди или обывателей, или учащихся, или какой-нибудь профессии предусмотрительно рассматривалась как акт, враждебный существовавшему строю. Века такой практики могли извратить здоровые общественные инстинкты; но у демократии в наше время, кажется, нет более важной задачи, как с детства воспитывать в людях общественные стремления, с малого возраста приучать подрастающее поколение жить и действовать в сотрудничестве с другими и развивать таким образом общественность, способности к общественной организации, единению, солидарности.
Еще чаще делались попытки построить воспитание на совершенно противоположных началах, когда интересы личности всецело приносились в жертву целого, когда общество и его интересы были единственной целью, а личность рассматривалась как средство к осуществлению общественного блага. Но... эти попытки имели слишком хорошо известные печальные последствия.
История педагогики полна примерами, как во имя то кастовых, то партийных интересов, то во имя процветания каких-либо признанных священными учреждений порабощалась человеческая личность и воспитание имело целью полнейшее угнетение личности ребенка. Наиболее яркий пример представляет Спарта, где детей, не обещавших быть угодными для службы государству, бросали со скалы. Другими примерами служат Египет, Индия, дореформенный Китай, дореформенный мусульманский мир и средние века в Европе. Здесь общим правилом было приготовить посредством воспитания стадо послушных слуг для той касты или класса, чьи интересы отождествлялись с интересами целого. На ребенка смотрели, как теперь смотрят только на бездушный материал, из которого, по данному свыше заданию, полагалось вылепить строго определенные формы. Обучение было дрессировкой, направленной не к развитию ребенка, а к изготовлению из него нужного или для трона, или для алтаря, или для армии — слепого орудия. Вредные результаты такого воспитания давно уже обратили внимание прогрессивных педагогов, и история педагогики в сущности представляет собою все усиливающийся из века в век протест против такого насилия над личностью ребенка. И в наше время, напротив, думают, что само общество несовершенно, если оно мешает нормальному развитию хотя бы одного из его членов. Само общество является, по этой версии, не целью, а средством для развитая личности. И воспитывать в детях общественные стремления немыслимо без изучения личных
детских наклонностей; а изучив их, следует идти навстречу постепенно просыпающимся нормальным детским интересам и стремлениям, удовлетворить и содействовать их правильному развитию. С тех пор, как педагоги начали изучать детей, стало невозможно отрицать необходимость индивидуализировать воспитание.
Прошли те. времена, когда люди вместе с Гельвецием5 думали, что «все люди родятся одинаковыми, с равными способностями и что единственно воспитание есть причина различий».
В конце 70-х гг. прошлого века некто Гаусс6, считая всех детей одинаково одаренными, чем-то вроде чистого листа бумаги, на котором можно написать что угодно, предлагал собранию педагогов поручить ему несколько детей, из которых он может приготовить, кого укажет собрание: философов, или математиков, или живописцев, или музыкантов. Разумеется, из этой затеи ничего не вышло, хотя этому господину й отдали трех детей с поручением приготовить из них музыкантов. Из ребенка, лишенного музыкального слуха, не приготовить музыканта, из ребенка, не различающего цветов, не приготовить живописца. И так во всем прочем. И теперь едва ли найдутся смельчаки, способные отрицать прирожденные способности. Вспомним математика Гаусса, который трех лет от роду удивил отца, указав ему на сделанную им ошибку в вычислении платы рабочим. Вспомним 6-летнего феномена-мальчика, который, не умея ни читать, ни писать, поражал всех окружающих быстротой своих вычислений. Ему, например, ничего не стоило сосчитать, сколько секунд прожил 45-летний человек. Вспомним Моцарта, чей музыкальный гений проявился уже с 3-летнего возраста. Ничто не повторяется. Две капли воды и то при внимательном рассмотрении окажутся различными и по форме, и по весу, и по растворенным в них веществам, и по температуре и пр. Не повторяются и дети. И они отличаются друг от друга и в мышлении, и в чувствовании, и в желаниях, и в действиях.
Одни из детей обладают повышенной чувствительностью, а другие — пониженной; и очевидно, воспитательные воздействия учителя на тех и других не могут быть одинаковыми. Вот почему учителю необходимо определить, кто из детей принадлежит к одному типу и кто — к другому.
У одних из детей преобладает зрительная память (они хорошо помнят лишь то, что видят), у других — слуховая память (помнят особенно хорошо то, что слышат), у третьих — моторная память речи (помнят то, что говорят сами), моторная память письма (помнят то, что сами напишут) и т. д. Одни из учеников обладают прочной (твердой) памятью (хорошо и долго помнят), а другие — слабой (легко забывают). Одни из учеников обладают обширной памятью (могут сразу много схватить и запомнить), а другие — ограниченной. Одни из детей хорошо запоминают числа, другие — стихи, у одних преобладает предметная память, а у других — словесная. Одни обладают обширным лексиконом слов, а другие — более ограниченным. Понятно, что учитель не может успешно бороться с недостатками того или другого ученика, если не знает свойств его памяти.
Не меньшую разницу представляют дети и в деле сообразительности. Одни из детей соображают быстро, а другие — медленно; у одних при данном слове или фразе возникает много ассоциаций, а у других — мало; у одних преобладают ассоциации по сходству, у других — по смежности, у третьих — связи по причине и следствию; у одних преобладают ассоциации из области сказок, либо путешествий, либо рассказов о животных, у других — ассоциации из мира игр и удовольствий, у третьих — религиозные представления и т. д.
Когда детям дают какое-нибудь описание, то получается несколько основных типов описаний. Бине, предлагавший детям описать картину на тему басни «Садовник и его дети», насчитывает 4 типа.
Тип описательный, когда дети ограничиваются простой передачей того, что они видят, без всяких объяснений.
Тип наблюдательный, когда дети старались дать свое толкование виденному, осмыслить и объяснить описываемые образы.
Тип эмоциональный, когда ученики останавливаются на своих настроениях и чувствах, вызванных описываемыми явлениями.
Тип эрудитов, когда ученики описывают не то, что видят, а то, что помнят из прочитанного.
Это деление на типы до известной степени облегчает задачу воспитания. Без него каждый ребенок представлял бы своего рода unicum и получилась бы необыкновенная раздробленность и бесчисленное множество воспитательных систем. Когда получается столько систем, сколько людей на свете, то пришлось бы отказаться от возможности воспитывать. В действительности, однако, дети могут быть разделены на известное число типов. А потому и самая индивидуализация воспитания может быть приурочена к немногим типам детей...
Этот беглый обзор наиболее характерных течений в области педагогики показывает, что в прошлом не было ни одной системы, которую мы, располагая более солидными знаниями человеческой природы и жизни, руководясь идеалами, неизвестными прежним векам, в наше время могли бы принять без всяких оговорок. Не то теперь состояние умов, не такова современная поразительно сложная жизнь; много новых удивительных завоеваний сделал человеческий разум... Но из того же обзора мы видим, что в прошлом педагогики при всех его недостатках было одно достоинство, которого нам недостает. Это — единство. Каждая из рассмотренных нами систем представляла нечто цельное, гармоническое, единое, стильное, согласованное во всех своих частях и в связи с целым. Мы считаем это качество необыкновенно ценным. Если спартанцы, поставившие перед собою идеал, не согласованный с природой человека и потому, казалось бы, недостижимый, все же достигли этого
идеала, то лишь потому, что их система воспитания отличалась цельностью и единством. Еще более поразительный пример представляют иезуиты. Они задались еще более противоестественной целью: они сделали воспитание средством для религиозной пропаганды и политического влияния, они объявили войну разуму и природным стремлениям; но такова силa единства и стильности воспитательной системы — иезуиты достигали, за не очень частыми исключениями, даже этой противной законам человеческой природы, искусственной, цели. Они успешно подавляли свободное сознание воспитанников, подчиняли их волю начальнику ордена и папе, они уничтожали все естественные и самые близкие родственные привязанности и превращали своих питомцев в слепое орудие ордена, существующее исключительно только для осуществления орденских целей. И если про иезуитов Климент VHP мог сказать, что они «знают и смеют все, все», то этим могуществом они обязаны своей воспитательной системе, ее единству и выдержанности. Но если единая, последовательная, выдержанная и стильная система могла сделать такие чудеса при противоестественных целях, поставленных ей, то чего не может достигнуть единство и гармония воспитания, действующего согласно с законами человеческой природы?
Занимаясь много лет практически и теоретически образованием и воспитанием, я сначала интересовался отдельными, частными вопросами по народному образованию — главным образом теми, какие выдвигала на очередь текущая жизнь. Но мне всегда представлялось существенно важным все отдельные вопросы, все части педагогики связать в одно целое. Попытки, предпринятые в этом направлении, не удовлетворяли меня, пока я не пришел к убеждению, что все отдельные элементы педагогики удобнее всего объединяются идеей развития, понимания этой теории в самом широком смысле этого слова — и как развитие индивидуума, и как биологическое развитие рода, и как исторический процесс, и причем главное значение для педагога имеет развитие личности воспитанника. Я с успехом пользовался этой связью для собственного обихода. Но мне кажется, то, что было полезно для меня, может оказаться небесполезным и для других людей. И вот почему я позволяю себе выпустить эту книгу. Эволюция в мире животных и растений, прогресс в жизни человечества, рост и развитие человеческой особи — все это явления одного порядка; между ними большая аналогия и тесная связь. Прогресс человечества является продолжением эволюции животного мира, а человеческая особь в своем развитии повторяет вкратце развитие рода, и все вместе может быть объединено в одной идее развития.
О параллелизме между развитием расы и развитием ребенка писали Спенсер, Геккель, Романее и, наконец, Болдуин, пользующийся биогенетическим законом Геккеля. Намеки на эту идею мы встречаем еще у Руссо, Гердера9, Гете и Конта. На этом параллелизме, или на учении о культурных эпохах, основана педагогика последователей Гербарта10.
Строить на этом параллелизме педагогику так, как, например, предлагал проф. Гетчинсон, было бы очень смело. Современный ребенок в том возрасте, когда он, по этой теории, повторяет, например, охотничью стадию развития человечества, едва ли ограничится только луком, стрелами, палкой и т. п. и откажется от игр в трамвай, железную дорогу, электрическое освещение, от кинематографа и т. п., хотя все эти предметы относятся не к охотничьему периоду, а к нашему веку.
Но то, что есть здорового в этом течении, — это идея развития в широком смысле слова, а такая идея может служить связующим началом для самых разнообразных с первого взгляда педагогических требований, дидактических приемов, способов и т. п.
Лично я убедился, что эта идея достаточно широка, чтобы охватить собою и цели, и средства, и приемы воспитания и образования.
Эволюционная теория бросила во все отрасли знания ослепительный поток светлых идей, поколебавших все прежние устои, открывших совершенно новые перспективы. Но более всего дала эта теория для понимания жизни: она показала, что во всей живой природе существует один всеобъемлющий закон, вечный и непрерывный, которому подчинено все в мире, без единого исключения, — это закон последовательного развития. Все в этом мире является разультатом постепенного развития. Не было и теперь нет такого учения, которое бы так всколыхнуло умственную жизнь века, так радикально перестроило мировоззрение, оказало такое огромное влияние на такой широкий круг идей, возбудило так много светлых надежд, дало такой мощный толчок во все стороны, как эволюционная теория. И если можно чему удивляться, так это лишь тому, почему эта идея и до сих пор все еще не заняла принадлежащего ‘ей по праву главного места в педагогике.
Как известно, были попытки построить педагогику на отдельных элементах учения о развитии. Такова, например, педагогика, построенная на теории эпох. Но критика легко открыла ошибки в таких педагогических теориях. Нам кажется, однако, что этих ошибок легко было бы избежать, если бы педагогика пользовалась идеей развития в ее целом, не пренебрегая ни учением об эволюции животного мира, ни историей прогрессивного развития человечества и особенно учением о развитии отдельной человеческой особи и дополняя все это указаниями практики, экспериментами и историей развития самой педагогики.
Мы говорим здесь о научном изучении развития ребенка. Для этого ребенок должен быть изучен и в биологическом и в психологическом отношении, и притом в самом процессе его развития. Это должно быть изучение динамическое, а не только статистическое. К счастью, мы живем в такие времена, когда изучение ребенка является делом не только педагогов, но и врачей, и биологов, и антропологов, и филологов, и даже археологов. Психолог изучает ребенка, Чтобы на простейших проявлениях детской психики легче понять и психику вообще;
антрополог — чтобы найти в развитии ребенка указания и намеки на развитие всего человечества; археолог — чтобы в изделиях и рисунках ребенка найти аналогии с археологическими находками; филолог — чтобы в развитии детской души уловить законы развития языка и пр. А педагог, пользуясь своими наблюдениями, может присоединить к ним результаты работ и психологов, и антропологов, и биологов и т. п., с тем чтобы сообразовать с законами развития ребенка его воспитание, смену методов и материалов для его образования, по мере возрастания своего воспитанника.
Но новая педагогика, по нашему мнению, должна дополнить идею развития еще субъективным элементом, которого эволюционной теории недостает. 1
Современное учение о развитии создано, главным образом, биологами. Биолог же изучает процесс развития как внешний объект для наблюдений и опытов, совершенно независимый от тех внутренних, душевных переживаний, какие испытывает сам развивающийся субъект. Иначе не может и не должен поступать биолог, как и все, имеющие дело с природой и ее законами. Ему нет дела до того, как процесс развития какого-нибудь индивидуума отражается в психике самого субъекта. Биолог имеет дело только с объективными признаками развития, только с теми, какие могут быть наблюдаемы посторонним лицом. Ему нет дела до субъективных признаков развития — тех, какие чувствуются самой развивающейся личностью. Биолог рассматривает развитие независимо от сознания, чувства и воли развивающегося субъекта.
Совсем в другом положении находится педагог. Педагог имеет дело с развитием человека не только в физическом, но и в умственном и в нравственном отношении, а в этой области кроме физико-химических методов необходимо пользоваться еще психологическими наблюдениями и самонаблюдениями. Для педагога важно не только то, как идет развитие ребенка с точки зрения постороннего наблюдателя, но для педагога важно еще и то, что именно соответствует этому процессу в душе ребенка, какими чувствами, усилиями воли, желаниями проявляется, а быть может, и вызывается процесс развития внутри самого ребенка, в области его сознания и чувства, равно как и в смутной области, стоящей на границе безотчетного, где только чуть-чуть брезжит сознание. Педагог регистрирует не только рост и развитие детей, но еще и смену их интересов, чувств и т. д. Для педагога ребенок не только предмет познания, но еще и личность, чувствующая и переживающая процессы своего развития. Педагогу нельзя ограничиться изучением воспитанника только с одной объективной, внешней стороны, только путем констатирования внешних фактов, как сделал бы это биолог; ему очень важно изучить воспитанника еще с субъективной, внутренней стороны, ибо его прежде всего интересует личность ребенка, его ум и сердце. Педагог, ограничивающийся только одной биологической теорией развития, был бы похож на фотографа, снимающего ежедневно одних и тех же детей для того, чтобы изобразить в кинематографе, как растет ребенок. Фотографу нет никакого дела до психики ребенка. Педагога же интересует не только развитие организма, но еще и душевные силы ребенка.
Вот почему, когда мы пришли к выводу, что идея развития может служить лучшим объединяющим началом для современной педагогики, перед нами сейчас же предстала задача найти в субъективной, внутренней, душевной жизни ребенка то, что именно соответствует процессу развития, который объективно, как внешнее явление природы, трактуется биологией. Только при этом условии идея развития могла бы стать объединяющим и руководящим принципом в педагогике. Быть может, именно отсутствием такого параллелизма объясняется то, что, несмотря на массу работ, посвященных изучению ребенка с точки зрения эволюционной теории, у.нас и до сих пор нет выдержанной и законченной эволюционной педагогики.
Мы думаем, что эта искомая параллель есть стремление самого ребенка к развитию. То, что для биолога есть объективно наблюдаемый со стороны факт роста и развития, то с субъективной точки зрения есть стремление к развитию самого ребенка как думающей, чувствующей и хотящей личности.
Много теорий было предложено для объяснения того, что такое интерес ребенка. С нашей точки зрения, интерес — это прямое выражение стремления к развитию тех функций, до которых дошла очередь. Ребенка более интересует музыка, — значит, проснулись его музыкальные способности и властно требуют своего развития. Ребенок приходит в восторг, изображая в лицах прослушанную им пьесу, — значит, наступила очередь для развития сценических способностей. То же надо сказать об увлечении рисованием, сочинениями сказок, рассказов, стихов, об увлечении всеми видами спорта.
Существует целая литература для объяснения того, что такое чувства удовольствия и страдания. С нашей точки зрения, это будут простые показатели, отвечает ли данное переживание стремлению ребенка к развитию или не отвечает и даже вредит ему. Если ребенку доставляет большое наслаждение слушать рассказ или самому сочинять сказочку, то это приятное чувство служит сигналом, что данное занятие вполне удовлетворяет стремлению к развитию пробудившегося воображения ребенка. Если ребенок испытывает скуку и страдание, когда его заставляют учить спряжения латинских глаголов, это значит, что такой урок совсем неблагоприятен для упражнения тех функций, к развитию которых ребенок стремится сейчас.
Можно различно трактовать так называемые господствующие стремления. С защищаемой же нами точки зрения господствующие стремления — это те этапы, через которые на протяжении человеческой жизни проходит стремление к развитию. «Всякому овощу свое время» — эта пословица применяется как нельзя лучше к данным случаям. Господствующим стремлением ребенка может быть спорт, затем быть может музыка, далее быть может живопись, быть может сцена, стихи, ораторское искусство и, наконец, быть может наука или общественная деятельность — все это отдельные вехи на том пути, по которому ведет человека его стремление к развитию.
Много объяснения предложено было тому явлению, которое называют подражанием. Но ведь ребенок подражает не всему, что он видит. Чем руководствуется он, выбирая для подражания одно и игнорируя другое? По нашему мнению, и в данном случае играет руководящую роль то же самое стремление к развитию. Ребенок выбирает для подражания лишь то, что находится в благоприятном отношении к упражнению тех функций, развитие которых стоит на очереди в данный момент.
Без этого стремления ни один инстинкт, ни одна наклонность не упражнялись бы и не развивались, не приспособлялись бы к современной среде. Без него все врожденные инстинкты и наклонности не пошли бы дальше автоматических механизмов и остались бы в том самом виде, в каком они явились на свет божий вместе с ребенком. Благодаря же стремлению к развитию они путем упражнений развиваются в том направлении, в каком подсказывает окружающая их среда. И благо человеку, у которого это стремление остается в полной силе до самой глубокой старости.
Что в самой основе человеческой природы лежит стремление к развитию, и притом в нормальных случаях к прогрессивному развитию, — обоснованию этого положения посвящена большая часть нашей книги, и потому мы не останавливаемся здесь на этом пункте. Скажем только, что мы видим проявление этого стремления и в сознательных усилиях юноши обогатить себя знаниями, увеличить свои умственные силы, стать нравственнее, и в стремлении детей к дружбе и к обществу себе подобных, в их желаниях делать самим, без посторонней помощи, что они могут, в их любви к подражанию, к выражению образов либо рисунком, либо словом, либо действием. То же стремление к развитию проявляется в болтовне детей, в их играх и забавах, служащих для развития самых разнообразных физических и душевных способностей. Оно проявляется в смутно осознаваемых, но энергичных порывах маленького ребенка к физической деятельности: в ползании, беготне, прыганье, лазанье, в его склонности бросать, бить, ломать что попадается под руку, в его стремлении все видеть, слышать, ощупать, понюхать, взять что можно в рот и вообще наблюдать и экспериментировать. То же стремление к развитию мы видим в тех нередко темных и смутных импульсах, которые проявляются в действии мускулов: желёз, тканей и клеток нашего тела. Как мы стараемся доказать в своей книге, то, что обыкновенно называется чувствами и инстинктами самосохранения, в сущности есть то же самое стремление к развитию индивидуума, а то, что обыкновенно именуется инстинктом сохранения вида, есть в сущности инстинкт родового развития. Так называемая борьба за существование есть борьба за развитие и с субъективной точки зрения есть только частный случай того же самого стремления к развитию. Эта замена чувства самосохранения и борьбы за существование стремлением к развитию, по отношению к которому первые два процесса являются лишь средством, имеет не только теоретический, но и практический интерес. На чувстве самосохранения и на борьбе за существование можно с удобством построить консервативную систему воспитания вроде домостроевской; прогрессивную же систему можно построить только на стремлении к развитию.
Теория развития объединяет и связывает все органические существа, когда-либо существовавшие, теперь существующие и в будущем имеющие существовать, начиная с самых низших, одноклеточных и до самых высших, в одну непрерывную цепь последовательного, постепенного и медленного развития путем накопления мелких изменений в их организации; и та же теория объединяет все фазы развития отдельной особи, начиная с зародышевой клетки и оканчивая взрослой формой. Так стоит дело с объективной точки зрения. Что же касается до субъективной стороны, то здесь объединяющим началом служит то же стремление к развитию.
Таким образом, наша точка зрения объединяет посредством одной идеи все вопросы, связанные с воспитанием физическим, умственным и нравственным. Здесь найдет место развитие каждого органа, каждой функции, идет ли речь о движении мускулов, о деятельности органов внешних чувств, об усилиях внимания и воли, о деятельности воображения, о развитии ума и чувства, говорим ли мы о подражании, об интересе, о любознательности, о господствующих стремлениях и т. д.
Я думаю даже, что это стремление играет главную роль в том, что принято называть единством личности, единством нашего «Я».
Именно благодаря этому стремлению наша жизнь и, в частности, наше сознание развиваются без перерывов, причем последующее непосредственно и преемственно развивается из предыдущего и в связи с ним, без всяких скачков, постепенно и последовательно. Именно благодаря этому всеобъединяющему стремлению к развитию все наши переживания в течение всей нашей жизни чувствуются нами как одно объединенное и непрерывающееся целое, несмотря на то что в течение нашей жизни это целое постоянно видоизменяется, растет, развивается, то усложняясь и прогрессируя, то падая и снова поднимаясь, но не теряя в то же время своей связности и преемственности. Все изменяется — тело и его органы, чувства, настроения, желания, разум, привычки и пр., но одно остается неизменным — это стремление к развитию. И вот почему мы в нормальном состоянии не перестаем чувствовать себя самими собою, начиная с первых лет нашей сознательной жизни и до конца дней.
Естественно, что при таком взгляде на стремление к развитию мы считаем его основой, на которой вместе с эволюционным учением должна быть построена вся педагогика и методика. Вот почему наиболее важной частью настоящей работы я считаю ту, которая посвящена стремлению воспитанника к развитию. Именно этому вопросу посвящена большая часть настоящей книги. Именно эта часть потребовала от меня большего времени. О стремлении к развитию в том смысле, в каком я понимаю это слово, я в литературе нашел, можно сказать, лишь разбросанные крохи, лишь отдельные клочки, не связанные в одно целое. Мне казалось, что людям, интересующимся воспитанием, нелишне выслушать мнение педагога, старавшегося обосновать свои практические приемы обучения и воспитания на данных психологии и биологии. Быть может, естественные недостатки этой работы в теоретическом отношении выкупаются тем, что в своих теоретических построениях автор постоянно помнил о своей и чужой практике, о своих личных наблюдениях над детьми и о наблюдениях тех учителей, с которыми ему приходилось беседовать.
Практическое значение идеи развития и стремления к развитию самого ребенка понятно, если даже не говорить о тех крупных преобразованиях, какие благодаря этой идее вносятся в теоретическую разработку педагогики.
Что же касается до учения о самом развитии, то, как известно, по этому вопросу существует богатейшая литература. И если я, не будучи специалистом, все-таки позволил себе изложить в самых кратких чертах это учение, то сделал это затем, чтобы выделить из этого учения лишь то, что, по моему мнению, имеет близкое отношение к педагогике. Материал, касающийся эволюционной теории, колоссален; но то, что отсюда необходимо знать педагогу, не представляет слишком большого багажа. Затруднение заключается лишь в том, что этот багаж разбросан в очень большом количестве разных книг. И я думал, что, собрав относящийся к данной теме материал воедино, я окажу некоторую услугу учителям, воспитателям и родителям.
Если в ребенке существует стремление к развитию, то, следя за его проявлениями, мы можем пользоваться ими как указаниями, в каком направлении нам действовать, какая функция стоит в данный момент на очереди и нуждается в упражнении, какая еще не обнаружилась — и приступать к ее развитию рано. Признавая, однако, стремление к развитию самым основным фактом в субъективной сфере, мы, конечно, не приписываем ему безусловной непогрешимости. Если в юности и в зрелом возрасте еще можно говорить о разумном выборе в области стремлений, то в раннем детстве эти стремления носят полусознательный и смутный характер. Стремление к развитию здесь совсем не ограничивается только инстинктами и наклонностями, полезными и нужными в современной жизни. Каждый врожденный инстинкт и каждая наследственно переданная наклонность одинаково требуют своего развития и, когда настала их очередь, ждут только благоприятного момента для своего упражнения. Это касается одинаково и тех
благодетельных наклонностей, которые играют главную роль в современной жизни, и тех бесполезных и даже вредных инстинктов, которые пришли из далекой старины, когда они были, может быть, нужны и полезны, а теперь потеряли всякий смысл и всякое значение.
Так как поэтому врожденное стремление к развитию не всегда нормально, так как оно не лишено дефектов, то нужен еще критерий, с помощью которого можно было бы отличать, что й стремлениях ребенка нормально и что нет. И этот критерий нам может дать та же идея развития, рассматриваемая с объективной точки зрения...
Связывая в одно стройное целое все, что есть ценного и рационального в современной педагогике, идея о развитии вместе с учением о стремлении ребенка к развитию служит в то же время и хорошей рабочей гипотезой. Касающиеся педагогии дедуктивные выводы из этой теории отличаются такой большой достоверностью, что проверка их путем эксперимента или наблюдения почти всегда обещает плодотворные результаты. Она, таким образом, поощряет интерес к разработке путем эксперимента и наблюдений вопросов воспитания, преподавания и детской психологии, а такой разработке предстоит блестящее будущее. Настоящая работа навела меня на открытие нескольких ошибок, сделанных мною в более ранних моих работах, и заставила воздержаться от их опубликования. Эта теория с большой пользой может служить критерием, когда рассматриваются два противоположных мнения. Возьмем например, самый старый вопрос об отношении воспитания к природе ребенка. Об этом писали почти все мыслители, занимавшиеся педагогическими вопросами, начиная с Пифагора, продолжая средневековыми педагогами, а затем Монтенем11, Тюрго, Рабле12, Руссо, Песталоцци, Фребелем, Толстым и его последователями. С точки зрения эволюционной теории мы, конечно, относимся безусловно отрицательно к средневековому аскетическому взгляду на воспитание; но в то же время мы не можем признать безусловно совершенными все врожденные задатки, инстинкты и наклонности ребенка. По эволюционной теории, природа человека совершенствуется и, стало быть, еще не вполне совершенна и не лишена некоторых дефектов. С этой точки зрения и гармонию Пифагора надо понимать как процесс постепенного приспособления частей друг к другу и к целому и к эволюционирующей среде.
Согласно этому учению, педагог, содействуя развитию природных сил ребенка, в то же время приготовляет его к деятельному участию в современной общественной среде. И педагог должен знать эту среду, как в политическом, так и в экономическом и социальном отношении, и знать, в каком направлении она развивается, потому что от характера этой среды будет зависеть очень многое, и прежде всего программы обучения. Объясним это примером, В те времена и в тех странах, где война была главным делом народа, естественно, что и воспитание должно носить военный характер. И этого одинаково требовали как личные мотивы, потому что военная карьера считалась тогда и самой выгодной в материальном отношении, и самой почетной, так равно и государственные соображения, потому что целость и мощь государства, по общему тогдашнему мнению, обусловливались состоянием войска. Сейчас в передовых странах дело стоит совершенно иначе. Мощь государства теперь обусловливается прежде всего экономическими условиями. Сами войны ведутся теперь из-за новых рынков для сбыта товаров, из-за таможенных пошлин и тому подобных причин чисто экономического характера. По той же причине личные мотивы большей частью действуют в том же направлении. Талантливые люди передовых стран теперь не идут добровольно на военную службу, а чаще всего ищут применения своих сил на промышленном поприще. Недаром величайшим человеком наших дней большинство признают изобретателя Эдисона13. На службу промышленности идут и хорошо оплачиваются техники, химики, биологи, художники и т. п.; интересы промышленных классов защищают в судах юристы, в руках промышленного класса находятся большей частью парламенты и правительства с их армиями. Многие верят, что на смену капиталиста в будущем придет пролетариат; но и он будет стоять также на почве промышленности. Переменится, говорят, хозяин, но промышленность останется. Во всяком случае педагог не может отрицать, что в ближайшем будущем во главе угла будет стоять не военное дело, а промышленность. И этого он не может упускать из виду при выборе предметов обучения. Недаром древние языки, несмотря на твердые традиции, на мощную поддержку консерваторов и реакционеров, мало-помалу уже уступают свои позиции реальным знаниям: физике, химии, естественной истории, математике и т. п. Недаром в последнее время во всех цивилизованных странах получили такое широкое распространение сельскохозяйственные, технические, коммерческие и тому подобные специальные и высшие и средние школы, а также курсы для крестьян и рабочих.
Но конечно, отсюда никак не следует, что новая педагогика может дать перевес профессиональному характеру обучения над общеобразовательным. Совершенно напротив. Мы увидим, что никакая другая теория не дает таких убедительных доводов за общеобразовательную школу, как идея развития. Все дело в том, чтобы, с одной стороны, установить равновесие между гуманитарными знаниями и наукой о природе; а с другой — создать всеобщее профессиональное образование, согласованное с потребностями настоящего и ближайшего будущего, но, однако, на прочном базисе общеобразовательной школы.
Если развитие должно идти в смысле приспособления к современной жизни, то, очевидно, лучшим средством для этого была бы сама современная жизнь, если бы она при своей громадной сложности не заключала в себе дефектов. И вот почему одна из самых трудных проблем педагогики заключается в том, чтобы сообщить воспитанию жизненный характер, удалив из него все искусственное и условное, но в то же время оградить ребенка от деморализующего влияния современной среды. И если мы рассмотрим эволюцию методов и приемы воспитания, то увидим, что именно в этом направлении движется развитие самой педагогики...
Руководясь учением о развитии, педагогика не может остановиться на какой-нибудь догме, как это было раньше. Зная, что все развивается — и сам человек, и общество, в котором он живет, и человечество, и сама природа, педагог не может быть сторонником застоя или реакции. Его лозунгом может быть только одно: вперед, все вперед по пути бесконечного прогрессивного развития. И с нашей точки зрения, надо учить ученика не только тому, что ныне признается истиной, но, главным образом, тому, как открывают истину. Ученик по этой теории не пассивно и не механически воспринимает материал обучения, а активно делает переоткрытия. Учитель ставит задачи, дает материалы, а ученик сам, собственными усилиями снова отыскивает, открывает или изобретает то, что было открыто и изобретено до него. Он учится при этом не только знаниям, а как их приобрести, как самому наблюдать, самому экспериментировать, самому открывать, изобретать, обобщать, сравнивать, классифицировать, отыскивать и выражать найденное в устном и письменном слоге, в рисунке. Он учится методу. В то время как догматическая педагогика, дрессируя детей, заставляя их заучивать готовое, задерживала развитие, новая школа будет развивать, приучая к самодеятельности и творчеству.
Того же самого метода держится новая педагогика не только в деле обучения, но и в деле воспитания. Воспитатель не навязывает детям этических цорм, а старается создать подходящую социальную среду, кружок товарищей с тем, чтобы дети сами в своих общих играх, затеях, работах, увлечениях, в обсуждении общих дел, в столкновениях интересов, самолюбий учились жить в обществе себе подобных, устанавливать элементарные правила общежития. При таких условиях дети сами вынуждены будут подчинять свои личные капризы и интересы общим интересам товарищества. На этой почве сношений с товарищеской средой зарождаются чувства дружбы, солидарности и справедливости. Дети сами приходят к мысли создать определенные правила (письменные или нет — все равно) для игр, для занятий. Роль воспитателя сводится к тому, чтобы создать подходящую атмосферу и настроение, дать необходимые игрушки, инструменты, познакомить с подходящими играми и занятиями, предоставляя детям самим выбирать из допустимых игр, что им нравится, предоставляя им критиковать, принимать или отвергать предложения воспитателя.
Догматическая школа смотрит назад, в прошлое; эволюционная стремится вперед, к будущему. Догматическая школа приглашает ученика принимать на веру догмы, воспитывает безусловное подчинение безусловному авторитету; эволюционная приучает ученика к критическому мышлению.
Новая педагогика, как увидим ниже, берет все, что есть ценного и в греческом воспитании, и в гуманизме, и в реализме, и в свободном воспитании, и в практическом, и в утилитарном, но отбрасывает из каждой системы то, что в ней есть фантастического и ложного...
Новая педагогика, признавая в основе человеческой природы стремление к прогрессивному развитию, требует самого бережного отношения к природным наклонностям и стремлениям ребенка. Как бы мал ни был ребенок, но это будет драгоценная человеческая жизнь с определенными стремлениями к прогрессивному развитию, и наша обязанность удовлетворить и содействовать развитию всего, что есть в этих стремлениях человеческого и нормального. Мы должны полагаться на это естественное стремление ребенка и следовать за ним, если нет твердых показаний о дефектах его стремлений. Каковы бы ни были запросы общества, воспитатель будет считаться с силами ребенка в меру его способностей. Кроме того, мы должны сообразоваться с индивидуальными стремлениями детей, идти навстречу их просыпающимся интересам, способностям и наклонностям и развивать их в момент их проявления. Не раньше, но и не позже этого момента давать материалы для развития данной способности: не позже, потому что всякая способность без упражнений атрофируется и в случае слишком большого запоздания ее часто невозможно бывает восстановать; не раньше, потому что упражнение, если оно начато раньше, нежели проснулась способность и потребность, может вызвать отвращение человека. Что хорошо для взрослого, то очень часто бывает плохо для ребенка.
Идея развития требует примирения между интересами личности и общества. Не выбирать между подготовкой к современной социальной среде и удовлетворением личного стремления к развитию будет воспитатель, а согласовывать оба эти требования. Общество не должно поглощать личность, а должно помочь ее развитию. Перефразируя Гюйо, мы с полным основанием можем сказать, что и в природе целое не поглощает своих частей. Так, например, все планеты движутся вокруг Солнца, но это не мешает каждой из них вращаться вокруг собственной оси и не мешает вращаться вокруг планет их спутникам.
Что между обществом и личностью может быть установлена гармония без нарушения интересов того и другого — это для нас вне сомнения. Из рабов, воспитанных в рабских чувствах, нельзя составить совершенного общества. Но в то же время и общество, основанное на деспотизме, т. е. на рабстве, воспитывает рабов. Выходом из этой мертвой петли, из этого порочного круга служит одновременное освобождение и раскрепощение и общества, и личности: общественная реформа, с одной стороны, и реформа воспитательная, с другой. Одностороннее решение этого вопроса было бы обречено на неизбежный провал. Одна общественная реформа не имела бы успеха, потому что из рабских чувств и привычек народа вслед за реформой снова, как бы из пепла, возродится деспотизм, отличающийся от прежнего по форме, но тождественный с ним по существу, как это и подтверждает история. Одна реформа в воспитании не имела бы успеха, потому что ее осуществления, если только она была рациональная, не допустил бы деспотизм. С другой стороны, чем развитее, разнообразнее по своим талантам, самобытнее и сильнее личности, тем выше и общество, из них составленное. И чем выше общественный строй, чем больше общественных связей между отдельными личностями, чем разнообразнее и гуманнее эти связи, тем лучше обеспечено развитие каждой личности в отдельности. Условия, в какие был поставлен Робинзон, совсем не благоприятны ни для умственного, ни для нравственного развития личности.
Психика детей изменяется из поколения в поколение вместе с окружающей средой и в зависимости от влияний, одновременно воздействующих и на саму общественную среду. Это одно из оснований, почему не надо бояться слишком крупных конфликтов между социальной средой и индивидуальными качествами нормального человека.
Развитие личности и развитие общества идут совместно и параллельно друг с другом, потому что они связаны между собой бесчисленным множеством нитей. Конечно, эти связи бывают разные. Общество может существовать лишь в интересах привилегированных, правящих классов, а не в интересах всех. Для остальной массы оно может быть не матерью, а мачехой. Обеспечивая благосостояние немногих, оно может требовать от всех других лишь одних жертв на алтарь своего отечества, которое для большинства было либо тюрьмой, либо завоеванной страной, либо государством голодающих рабов. Очевидно, что при таких условиях согласование и примирение интересов личности с интересами общества не легко и педагогика в данном случае бессильна. Но в нормальных условиях оно вполне естественно.
Страдания, какие испытывают люди, когда в них происходят непримиримые коллизии между интересами личными и общественными, быть может, представляют собой последствия ошибок в воспитании. Согласить личные и общественные стремления — вот благороднейшая задача воспитания. Воспитатель в заботах о всестороннем развитии личности не должен забывать, что человек всегда был и теперь есть социальное существо, что одна из самых драгоценных способностей личности — это общественные инстинкты и они наравне с другими требуют своего развития.
Но если под* общественным воспитанием разумеется подготовка агентов для определенного государственного строя, то, исходя из природного стремления ребенка к развитию, мы должны протестовать против такого воспитания. Никакой строй, даже самый наилучший, не имеет права делать из школы орудие для достижения политических целей. Для таких воздействий служат особые учреждения:' митинги, клубы, кружки, газеты и пр., а не
школы, у которых есть свое дело, не менее важное, чем политика.
Всякое постороннее вмешательство в педагогическое дело извращает его даже тогда, когда оно исходит хотя бы из самых лучших, но чуждых общеобразовательным задачам стремлений.
И если до сих пор школьное дело не только у нас, но и в более культурных странах далеко не достигло своего развития, как, например, медицина, психиатрия и пр., то это прежде всего потому, что школе мешали посторонние, чуждые ей цели, навязываемые ей то государством, то церковью, то сословными и классовыми интересами, то практическими стремлениями отцов и матерей, выбирающих для своих детей определенную профессию чуть ли не с младенчества. В сущности школа никогда не была общеобразовательной; она была или казенной бюрократической, либо церковной, либо сословной, либо профессиональной. И разумеется, всякие воспитательные попытки такой школы, кроме вреда нормальному развитию ребенка, ничего принести не могли.
Не трудно видеть, как именно влияли такие попытки на воспитание. Под сильными давлениями то государства, то церкви, то сословий, то профессиональных требований школа переставала быть сама собой, ставила себе совсем не педагогические задачи и забывала об ученике. Воспитательные воздействия, выбор и расположение учебного материала, приемы преподавания — все это должно было выводиться не из анализа естественного стремления ученика к развитию и не из анализа педагогических идеалов, а из анализа тех требований, которые навязывались школе чуждыми всякой педагогике учреждениями и лицами. И если школе удастся сбросить с себя иго посторонних влияний, откуда бы они ни исходили, если она сама будет ставить себе свои задачи, то она положит в основу работы идею развития личности и общества и естественное стремление к развитию самого ребенка. И от этого выиграет не только личность, но и общество и государство, так как ничто так не портит нравственность, не ослабляет ум, как государственный, или клерикальный, или партийный гнет; а от этого, конечно, терпит и государство.
Я считаю возможным этим закончить свое предисловие, потому что все главные практические применения системы будут изложены попутно в самой книге и в следующих за нею выпусках14.
Укажем только, что предлагаемое объединение современных педагогических идей с точки зрения эволюционной теории и на почве природного стремления ребенка к развитию, несомненно, носит высокопрогрессивный характер.
Эта теория, поддерживая веру в прогрессивное развитие, которое является естественной необходимостью и законом самой человеческой природы, сообщает нам оптимистическое, бодрое настроение, веру в лучшее будущее человеческого рода, несмотря на дефекты настоящего. Идея развития не даст нам остановиться и застыть на какой-нибудь догме, а будет толкать и двигать вперед по пути бесконечного развития. И для веры в способность человеческой расы к безграничному совершенству с этой точки зрения нет никакой надобности в сверхъестественных и потусторонних силах. Для этого вполне достаточно тех сил, которыми располагает сама природа. Никакой другой теории не удавалось заглянуть так далеко в прошлое наших самых отдаленных предков и связать так естественно и ясно простыми логическими связями прошлое с настоящим, давая нам тем самым возможность предвидеть будущее.
Мы понимаем, что от каждого педагога нельзя требовать, чтобы он имел обширные сведения из этой области. Но в данном случае совсем не надо быть специалистом, обладать огромной эрудицией. Здесь речь идет об ознакомлении с общими принципами, установленными эволюционной теорией, и с их применением к педагогике, а такую работу нельзя считать непосильной для педагога. А о развитии индивида и особенно о психологии детского возраста нечего и говорить. Последний предмет безусловно обязателен для каждого педагога.
Не претендуя на сколько-нибудь полное и систематическое изложение теории эволюции и отсылая читателей, желающих познакомиться с нею, к работам специалистов-биологов, я хотел бы только наметить те пункты в этом учении, которые представляются мне особенно важными в отношении воспитания.
Конечно, теория эволюции и прогресса, равно как и этика, должна быть рассмотрена с чисто педагогической точки зрения. Не все, что есть в этих отраслях знания и мысли, одинаково важно для педагога. Далеко не все отсюда войдет как необходимая часть в общую педагогику. И это дает мне смелость начать мою книгу самым кратким обзором теории эволюции и прогресса со специально педагогической точки зрения, потому что именно такая точка зрения долэкна более всего интересовать педагогов.
Элементы, которые мы заимствовали из отраслей знания, касающихся развития и прогресса, и перенесли в границы педагогики, мы должны были переработать со специально педагогической точки зрения.
Здесь важен не столько сам материал (он общеизвестен), сколько тот угол зрения на эту теорию, под каким может смотреть на нее педагог.
Но одного связующего принципа, конечно, недостаточно. Нужно, чтобы было что связывать; нужна разработка каждого отдела педагогики и каждого частного вопроса особо. Эволюционная теория поможет дать подробные указания, как пользоваться в том или ином частном случае предметным или эвристическим методом преподавания, как овладеть вниманием класса, какими мерами исправить те или другие дефекты ребенка в области воли, как поступать в тех или других затруднениях, то и дело встречающихся в педагогической практике. На этом пути мы встречаемся со следующим затруднением. Источники, которыми приходится пользоваться, очень разнообразны и далеко не равноценны. Когда мы обращаемся, например, к педагогике XIX и предшествующих веков, то находим, что некоторые отрасли знаний, соприкасающиеся с педагогикой, полны неопределенными переносными выражениями вроде «дух», «воля к жизни», «мое «Я»... Педагогика и дидактика представляли из себя то ряд нередко противоречивых рецептов, диктуемых догматически, без всяких доказательств, то ряд выводов из общих, малоопределенных положений, тоже не вполне доказанных и нередко спорных.
Это не значит, что нам надо игнорировать все указания старой педагогики. Она все же вела нас вперед и представляла необходимый этап на пути к развитию здравых теорий воспитания. Из нее и теперь еще можно черпать драгоценные указания. Ее догмы позволяют нам лучше разобраться в тех новых материалах, которые принес нам конец XIX и начало XX в. И теперь еще нам, как до звезды небесной, далеко до осуществления на практике всех ее идеалов. Для нас поучительны даже ее ошибки. Зная их, нам будет легче избежать их в будущем.
Но нельзя не признать, что у этой почтенной старушки — старинной педагогики было мало фактической обоснованности. Было много теорий, абстракций, широких лозунгов, высоких заветов и идеалов, педагогических заповедей, всеобъемлющих предписаний; но у всего этого не было прочного фундамента, не было достаточно конкретного материала, не собирались и не регистрировались наблюдения, опыты и не обрабатывались научно факты. Мы не сомневаемся, что значительное число положений старой педагогики было выведено ее творцами либо из личного опыта и личных наблюдений и переживаний, либо из общих философских положений, в основе которых большей частью лежат тоже личные переживания их творцов. Но этот опыт, эти наблюдения очень часто, почти всегда оставались для всех секретом. Обнародывались только выводы, и притом нередко в такой форме, словно они были божественными откровениями, не допускавшими ни сомнений, ни критики. Теория педагогики давно уже взяла от этого интуитивного метода почти все, что можно было взять от него. Пользуясь им одним, она уже не может двигаться дальше. Для дальнейших шагов ее нужен более соответствующий метод. И новая педагогика, и дидактика держатся теперь обратного метода. Они начинают с опыта, экспериментов, наблюдений и вообще фактов и стараются как можно искуснее и осторожнее систематизировать этот материал, чтобы сделать из него необходимые выводы и обобщения, открыть законы и общие принципы. Это тот путь, которым в древности шел Аристотель. Знаменитый Бэкон прославился в новой истории тем, что вновь открыл этот забытый тогда метод. Это метод, благодаря которому Дарвин сделал величайшие открытия в биологии. В области физики, химии, естествоведения каждый ученый с крупным именем является сторонником этого метода. Это метод, которому следовал Бокль15 в истории, Тэн в психологии, истории и литературе. Это метод, блестящую* защиту которого мы находим у Милля. Правда, люди, склонные к
мистицизму и увлекающиеся теперь либо мистическим анархизмом, либо символизмом, либо неохристианством, либо декадентством и пр., находят, что этот метод дает немного и не объясняет всего. Но на аналогичные обвинения со стороны мистиков еще сто лет назад остроумно ответил Дидро16. «Я заблудился темной ночью в громадном дремучем лесу, — говорил он. — В руках у меня был только маленький фонарь, с помощью которого я надеялся когда-нибудь выбраться. Но вот предстал предо мной незнакомец и сказал: «Чтобы выбраться на дорогу, потуши свой фонарь». Маленький фонарь для нашего времени — это путь опыта и наблюдений; незнакомец — это мистик. Свести к фактам и к их системе всю жизнь и развитие ребенка — вот задача защищаемого нами метода новой педагогики. Изучать одно явление вслед за другим, собирать и изучать факты, связывать и сопоставлять их друг с другом, классифицировать их логическими связями, увеличивать список этих изученных и связанных друг с другом явлений, стараться понять их зависимость, отыскать общие черты в самых различных фактах — вот характеристическая черта этого метода. Каждое общее понятие, каждый закон, каждый принцип должен быть разложен на конкретные явления, на факты и на связи между этими фактами. Без этого все понятия, все принципы, все законы явлений будут висеть в воздухе, будут беспочвенными, хотя, быть может, и очень стройными и красивыми созданиями человеческого ума. История показывает, что гибли самые знаменитые теории, системы, религии, но как при этом оставались хорошо изученные факты. При недостатке точных фактов в нашей голове преобладают иллюзии, фантазии и ложные гипотезы. Педагогика полна традиционных предрассудков, иллюзий, беспочвенных фантазий, и у нас нет других средств очистить ее от всего этого хлама, накопленного тысячелетиями, как изучение и подбор достоверных фактов. И мы должны раз навсегда отказаться в своих выводах вступать в противоречие с фактами. Вывод из достоверных фактов, касающихся жизни и развития ребенка, должен быть священным для нас, и никакие теории и никакие традиции не могут, не должны колебать такого вывода. Пусть сама теория видоизменяется, приспособляясь к фактам, а не наоборот.
Мы хотели бы видеть в педагогике хранилище обобщенных и достоверных фактов, касающихся детской природы и развития. Когда достоверность фактов установлена твердо, когда никакие неблагоприятные случайности не мешали постановке эксперимента, когда выводы из этих фактов и экспериментов подтверждены всеми повторными наблюдениями и опытами, тогда никакой авторитет, никакие привычки и никакие теории не должны колебать таких выводов.
Какими же способами мы станем добывать фактьг, необходимые для наших педагогических выводов? Мы не будем пренебрегать и самым древним способом, методом Сократа — самонаблюдением. Прежде чем узнать других людей, надо познать самого себя. Что бы ни говорили об этом способе, мы все же обязаны ему очень многим. Личные переживания играют господствующую роль во всех исповедуемых нами верованиях, теориях, системах, в наших чувствах, в нашем образе жизни и в нашей деятельности. От них нам во всяком случае не уйти, если бы мы даже этого хотели.
Но конечно, одного этого метода мало. Наблюдая только одного себя, я не буду знать, какие из моих качеств принадлежат и всем другим людям, а какие принадлежат лично мне, какие свойства общи всему человеческому роду, данной расе, данному сословию или классу и какие составляют мои личные, отличительные, особенные черты, свойственные только мне. Стало быть, кроме самонаблюдения нужны еще наблюдения других людей. Только эти наблюдения выясняют нам, какие явления, подлежащие изучению педагога, надо считать типичными и какие — нет, какие — общими и какие — индивидуальными.
Необходимо изучать жизнь детей во всех ее разнообразных проявлениях. В этих видах я воспользовался биографиями и автобиографиями, представляющими богатейший материал для педагогических выводов, и обобщений. Они представляют еще ту выгоду, что я мог сопоставлять факты детства и юношества с фактами зрелого возраста и таким образом точнее определять влияние детских и юношеских впечатлений на умственное и нравственное развитие человека.
В биографиях мы находим не только действия, но очень часто и мотивы этих действий и внешние условия, вызвавшие те или иные стремления, чувства и представления, определяющие данное действие или направление деятельности.
Мы берем биографии знаменитых людей не потому, что они прославились и в большинстве случаев представляют собой лучшие типы людей, но еще и потому, что их жизнь хорошо изучена.
Мы думаем, что психика выдающихся людей состоит из тех же самых элементов, как и психика среднего человека, — вся разница в том, что у талантливых и гениальных людей некоторые свойства, общие всем людям, выражены ярче.
Но все же мы считали полезным дополнить эти данные еще сведениями, добытыми посредством анкеты относительно жизни самых обыкновенных людей.
Кроме того, я ставил массовые опыты в школах и подвергал их обработке статистическими методами. Я обращался к разным лицам, чтобы они сообщили мне воспоминания о своем детстве по определенной данной мною программе.
Первое, что бросилось мне при этой работе в глаза и что всегда получается при таких опытах, — это крайнее разнообразие индивидуальностей. При массовых опытах с учениками (я имел дело с несколькими стами детьми) нельзя найти даже двух учеников с совершенно одинаковой индивидуальностью. Каждый из них представляет свое, ему одному свойственное сочетание особенностей. Каждый из них вполне самобытен. Они могут повторять друг друга в отдельных случаях, но они никогда не совпадают в целом. Работоспособность, внимание, память, воображение, наклонность к подражению и внушению, чувства, интересы, наклонности, привычки, способ восприятия и пр. — каждая из способностей в разных индивидуумах дает целую, непрерывную гамму почти всех возможных степеней развития и направления...
Настоящий выпуск является введением к другим нашим выпускам, посвященным более частным вопросам педагогики и дидактики; но методы нашей работы остаются одними и теми же для всех выпусков. В числе литературных источников я пользуюсь и своими уже опубликованными работами, и особенно теми, которые разбросаны в разных периодических изданиях или в книгах, давно уже разошедшихся. Чтобы не увеличивать объема книги, мы не делаем подробных ссылок на страницы и названия изданий, равно как и на наши личные исследования и анкеты, к подробному изложению которых все равно нам придется вернуться позже в других наших изданиях. В стремлении сделать возможно популярнее наше изложение, мы очень часто отступаем от принятой в специальной литературе терминологии.
Приступая к изданию первого выпуска нашей работы, мы хорошо понимаем, что исчерпывающее изложение темы такой огромной важности не может быть посильным для одного человека.
Все, что мы надеемся дать, — это сообщить несколько новых данных для решения занимающих нас вопросов, а факты, известные педагогам и приводимые нами, осветить с точки зрения эволюционного учения и стремления к развитию самого ребенка.
Всего более мы боялись, что точка зрения автора, специализировавшегося на педагогических вопросах, не дает ручательства за беспристрастное отношение к своему делу. Мы опасаемся, что, несмотря на наше отвращение к цеховой замкнутости всякого рода, мы иной раз невольно можем впасть в преувеличения и взглянуть на воспитание как на дело, само по себе довлеющее, ни от чего другого независимое, но само все определяющее; и потому мы, оставаясь вполне искренними, употребим все усилия к тому, чтобы смотреть на свое дело не через призму узкого специалиста, а с общечеловеческой точки зрения. Но мы убеждены, что значение воспитания кажется тем важнее, чем шире мы смотрим на него.
Нам кажется, именно с такой, широкой точки зрения смотрел на дело знаменитый сатирик, когда он, доведенный до отчаяния ужасами русской жизйи, нашел выход в том, чтобы вложить в сердце маленького русского ребенка всеми отвергнутую на земле совесть и правильно воспитать его. «И будет, — писал Щедрин, — маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама».
Глава II
Стремление к развитию
Мы отметили два противоположных воззрения на природу человека. Одно из них, консервативное, все сводит к самосохранению личному и поддержанию расы; другое, прогрессивное, кладет во главу угла стремление к развитию. Одно из них знаменует неподвижность и косность; другое ведет к прогрессу. Одно из них смотрит назад, в прошлое; другое стремится вперед, к лучезарному будущему.
В наше время трудно было бы защищать положение, что эти два противоположных взгляда на природу человека образовались случайно, без всякого отношения к жизни и практической деятельности. Нет сомнения, что на каждом из этих воззрений отразилась позиция, какую занимают их защитники в жизни. Если еще можно говорить о беспристрастии и объективности людей науки (многие из них стоят в этом отношении вне сомнения), то очень трудно было бы утверждать то же самое относительно тех лиц, которые пользуются выводами науки для практических целей в политической или социальной борьбе и т. п. Социальное положение, экономические интересы, жизненный опыт, сословные и классовые предрассудки, то или другое понимание ценностей жизни и т. п. — все это находится в известном соответствии с тем, на какую из двух названных нами противоположных точек зрения становятся люди.
Как в мире животных мы найдем представителей всех степеней эволюции животного мира, так и среди людей найдутся представители самых разнообразных ступеней развития человечества. Среди животных найдутся и теперь формы, аналогичные с теми, какие господствовали во времена силурийского периода, так и среди людей найдутся субъекты, напоминающие по своим умственным и нравственным качествам жителей древнего, каменного периода. А так как мировоззрения людей зависит от исторического места, занимаемого последними, то естественно, что воззрения на человеческую природу у людей, опоздавших родиться на целую геологическую эпоху, не могут совпадать со взглядами, соответствующими XX в., как не совпадает и их позиция в жизни с позицией, занимаемой прогрессивными людьми.
Но эти воззрения, обусловливаемые позицией, занимаемой их защитниками в жизни, в то же время сами оказывают глубокое влияние на жизнь и до известной степени властвуют над ней.
Каждое, из этих воззрений отражается и на педагогической практике своих последователей. Старая, консервативная педагогика видит в первой из названных теорий оправдание неподвижности и незыблемости существующей школьной системы. Когда я пишу эти строки, самый талантливый и умный из наших бюрократов — граф Витте отстаивал в Государственном совете существующие у нас церковноприходские школы, не нашел другого аргумента в их защиту, как устойчивость их программ и системы. Если даже Витте, которого считают наиболее передовым и просвещенным из современных русских бюрократов, признает неподвижность школы главным ее достоинством, то что же говорить об остальных членах представляемой им группы?
В каждом обществе наряду с прогрессивными людьми есть и защитники застоя. Таковы многие из тех, кто хорошо приспособился к старым, затверделым традициям, привык к рутинным, однажды установленным путям, как бы плохи они ни были. Косность и рутина усыпили его критическую мысль; боязнь потерять привычный покой, насиженное место, приобретенные права и выгоды, сознание, что его свойства, хорошо прилаженные к прежнему, косному существованию, не годятся для нового, прогрессивного, вооружают его против будущего во имя прошлого.
Не удивительно поэтому, что до сих пор педагогика строилась исключительно на стремлении человека к сохранению личности, т. е. на чувстве самосохранения и на стремлении к сохранению, а не развитию расы. Не удивительно поэтому, что из всех отраслей общественной деятельности педагогика и до сих пор отличается едва ли не наибольшим консерватизмом.
Казенная педагогика громко зовет нас назад. Вопросы астрономии и геологии и до сих пор в начале школьного курса трактуются, как они трактовались еще во времена Древнего Вавилона, Египта, Моисея и Аарона. Из русской литературы гимназистам не полагается знать современных писателей, но зато очень много времени отводится на изучение старой литературы и церковнославянского языка. Гимназист не должен знать ни Короленко, ни Чехова; но зато должен хорошо знать «Голубиную книгу», Карамзина и церковнославянские аористы, как будто бы нашим детям придется йсить не в XX в., а в давно прошедшие времена. Преклонение перед прошлым и полное пренебрежение к настоящему — вот характерные черты современной официальной педагогики. Об этом нам еще придется говорить, и мы ограничиваемся здесь лишь одной иллюстрацией. Хорошо известно, что в старое гвремя образование было уделом только высших классов, существовавщих за счет рабов, передавших последним всю практическую работу, презиравших такой труд и оставивших себе лишь чистую науку, чистое искусство и знания, требуемые модой и высоким общественным положением. При таких условиях и можно и должно было знать бывшие тогда в моде древние мифы, уметь кстати вспомнить Юпитера, Юнону, Фелицу, Венеру и т. п., уметь при случае упомянуть о законах Солона и Ликурга, о Кире, царе персидском, и пр. Можно было тогда годами изучать образцы ораторского красноречия на латинском языке — всемирном языке науки и католической церкви, можно было подолгу вырабатывать стиль и гордиться тем, что ничего не понимаешь ни в технике, ни в механике, ни в промышленности, ни в торговле — этих низких и презренных рабских занятиях.
И старинная школа была приведена в полное соответствие с запросами тех классов, которым она служила. Но с тех пор все изменилось. Теперь нет уже рабства, теперь, казалось бы, ни для кого не возможно презрительное отношение к труду, который всем дает и хлеб, и жилище, и комфорт... Сама школа теперь обслуживает уже не одни высшие классы; образование делается всеобщим, всенародным и обязательным. Там, где прежде учились привилегированные единицы, теперь учатся миллионы народа из всех сословий, классов, состояний. А произошло ли в соответствии с этими великими переменами в жизни изменение системы и программ преподавания в нашей средней школе? Конечно, нет. Та же латынь, та же древняя история и всеобщая, и русская, и священная, те же образцы ораторского искусства, как будто бы нам и теперь нужно столько ораторов и писателей, сколько учеников учится в современных школах. И тот же презрительный взгляд на предметы, имеющие отношение к производительному труду, хотя именно этим трудом придется заниматься огромному большинству учащихся, если они не захотят поступать в ряды интеллигентных безработных.
И несмотря на то, что мы, русские, плетемся позади всех народов в технике, промышленности и торговле, что нас страшно эксплуатируют другие народы.
И сейчас в нашей всесословной школе миллионы учеников должны заучивать те же самые догмы, какие заучивались в старое время немногими детьми привилегированных сословий. Эти устарелые, застывшие догмы служат символом застоя и косности. Древние абстрактные схемы воспитания и обучения, сотни раз воспроизведенные в канцеляриях учебного ведомства, связывают педагогический персонал, делают его своими рабами, давят на него хуже всякой другой тирании и путем долгого и непрерывного воздействия нередко достигают такого результата, что эти рабы начинают благославлять сковывающие их цепи и лобызать связывающие их руки и сами превращаются в горячих сторонников и защитников застоя и неподвижности в школьном деле. Предположите, что во всех школах введен санскритский язык. И если он долго удержится в программах, если создан будет большой штат преподавателей этого предмета, ревизоров и контролеров за ними, педагоги-специалисты станут защищать его всеми зависящими от них средствами как ради сохранения своего положения из страха перед безработицей, так равно и по убеждению в его пользе. Среди правительства найдутся люди, которые в нападениях на санскритскую программу усмотрят покушение на одну из сторон существующего строя. И быть может, понадобится широкое всенародное умственное движение для того, чтобы упразднить этот совершенно излишний в общеобразовательной школе предмет преподавания, как, вероятно, потребуется оно и для того, чтобы устранить все традиционные, веками накопленные дефекты современной школы.
Если незыблемые, затверделые догмы и формы так калечат учителей, то зло, приносимое ими детям, неисчислимо. Эти традиционные, безжизненные требования сковывают и ставят целый ряд препятствий свободному развитию ребенка, предписывают ему определенный до мелочей образ жизни, строго очерченное поведение, направление мышления, известные давным-давно устарелые верования, детальнейший перечень большей частью вышедших из употребления в современной жизни знаний, какие он должен иметь, и перечень других знаний (более нового происхождения), каких он не должен приобретать под страхом наказания.
И мы понимаем клич философа и поэта, который писал: «Не позволяйте бремени прошлого слишком сильно давить на вас, чтобы под тяжестью его не пострадали инстинкт, личность, искусство и мышление».
Официальная педагогика все свои программы, методы преподавания и приемы воспитания выводит из тех или других традиционных иногда возвышенных и широких, а еще чаще узких, религиозных или философских положений, и ее требования должны служить обязательными нормами для всех детей, к какому бы типу по своему темпераменту и наклонностям последние ни принадлежали. Большей частью предметы и программы преподавания с объяснительными к ним записками, с распределением занятий по годам обучения и с указанием числа уроков на каждый предмет даются Министерством просвещения, а педагоги должны, не мудрствуя лукаво, исполнять требования начальства под страхом контроля и наказаний за уклонения. Говорят, что один министр, сидя в своем кабинете с часами в руках, мог сказать, какой отдел того или другого предмета проходится в данный час в любом учебном заведении, по каким руководствам и пособиям. В этом факте ярко выражается презрение к действительной жизни, к детской природе, к реальным интересам детей и их семей, к детским силам, к их горю и радости.
Большое зло здесь уже в этом однообразии заранее данных требований по отношению ко всем без исключения детям. Это какое-то прокрустово ложе, где убивается почти всякая оригинальность, почти всякий талант, почти всякая своеобразная индивидуальность.
У детей, как известно, далеко не одинаковы способности и наклонности. К тому же даже одни и те же наклонности у разных детей появляются в различные возрасты и в различном порядке. Если бы следовать этому естественному порядку и в каждом отдельном случае ставить подходящие требования, мы могли бы рассчитывать на то, что дети с интересом учились бы всему, что им дают в соответствии с их наклонностями. Но какое дело до этого тем, кто знает только одни застывшие, неподвижные догмы и формы, однажды навсегда установленные для всех детей данного возраста. Для каждого ясно, что нельзя шить сапоги, шапки на одну мерку для всех людей без исключения; но для многих, по-видимому, совсем не ясно, что нельзя предъявлять одинаковые требования при обучении всем детям. И это прежде всего относится к официальной педагогии. Удивительно ли, что при таких условиях дети очень часто не хотят учиться тому, чему их учат; нередко выражают непреодолимое отвращение к знаниям, которыми их начиняют. Удивительно ли, что любознательные, полные жизни дети становятся тупыми, скучающими, апатичными, вялыми, когда им преподносят то, что согласуется с неподвижными педагогическими формами, но совершенно не соответствует в данный момент интересам самих детей.
Давно замечено, что люди, пролагавшие новые пути в литературе, искусстве, технике, промышленности и т. п., не ладили с требованиями официальной педагогии в школе, и в наше время Ломоносов не мог бы даже поступить в гимназию, не говоря уже об университете. Либих, не поладивший с гимназической латынью и вынужденный оставить гимназию, в наше время не мог бы уже поступить в университет как не окончивший гимназического курса. Выигрывает ли что-нибудь страна от трких школьных порядков, это очень сомнительно; но как много она проигрывает, бросая на произвол судьбы самые лучшие дарования народа, — это ясно для каждого.
Только одни будущие бюрократы, да и то не все, обыкновенно лучше других прилаживаются к школьным требованиям, потому что обыкновенно обладают хорошей памятью и умением приспособляться ко всем требованиям свыше. Удивительно ли, что так много людей, окончивших не только среднюю, но и высшую школу, не обнаруживают почти никакого интереса к науке и литературе и не занимаются самообразованием. Удивительно ли, что через несколько недель после выпускных экзаменов многие молодые люди забывают почти все, чему они учились, кроме таких навыков, как чтение и письмо, чего не позволяют забыть требования жизни.
Но если школьное обучение не считается, а при современных учебных порядках и не может считаться, с естественными стремлениями самих учащихся к развитию, с их интересами и наклонностями, то остается только базировать все обучение на одном послушании. И послушание, и неразлучное с ним терпение, действительно, возведены в современной школе в какой-то культ, словно школа готовит рабов, а не свободных граждан. Все основано на приказаниях и повиновении. От ученика требуется беспрекословная покорность — все равно, считает ли он предъявленное ему требование умным или глупым, справедливым или нет, соответствующим его силам или превышающим их. Всякий протест с его стороны, всякое возражение считается преступлением.
Такая система атрофирует и извращает способности детей. Они отвыкают действовать самостоятельно, без чужого руководства. Их критическая способность и их активная сила засыпают: войдя в жизнь по окончании школьной муштры, они естественно будут искать наставника или начальника, который бы мог руководить ими в жизни и без которого они чувствуют себя беспомощными. Из них могут выйти люди 20-го числа, исполнительные чиновники, офицеры, монахи, готовые беспрекословно исполнять распоряжения своего начальства, но совершенно не годные для самостоятельной жизни.
Это воспитание, может быть, годилось бы для рабов, но современная жизнь требует не послушания и терпеливой покорности, а самодеятельности и способности к инициативе.
Удивительно ли, что почти везде, где не требуется диплом, но требуется талант, энергия, умение самостоятельно мыслить, наблюдать и действовать, идут впереди те, кто меньше испытал на себе школьной муштры, кто более обязан своим развитием самообразованию.
Сколько таких примеров мы знаем среди выдающихся художников, артистов, журналистов, писателей, изобретателей, путешественников, издателей, заведующих типографиями, фабриками, заводами, пароходствами и другими промышленными и торговыми предприятиями.
И подумать только, что такие жалкие и наполовину отрицательные результаты школьной учебы покупаются такой дорогой ценой: ведь всем известно, сколько физически слабых, близоруких, малокровных, узкогрудых, с искривлением позвоночника юношей и девиц выпускают наши современные средние школы. У нас существуют общества покровительства животных, и любой извозчик, истязующий свою лошадь, любой пастух, жестоко бьющий скотину, рискуют быть, по инициативе члена такого общества, привлечены к судебной ответственности. Казалось бы, что гораздо более необходимы сотни и тысячи обществ защиты детей от умственных, нравственных, иногда физических качеств, причиняемых им то родителями, то педагогами, а чаще всего теми официальными требованйями, которые исходят от разных канцелярий, в своем безумном самомнении решающихся руководить таким сложным и необъятным делом, как дело народного воспитания и образования. Мне справедливо возразят, что у таких обществ должны быть права. И я не стану спорить, если кто скажет, что в данном случае необходимы не паллиативы, а целый переворот, и притом настолько радикальный, какого еще никогда не знала история дед агогики.
Все так называемые нынешние «новые школы», попытки «свободного», «творческого» обучения представляют собою только паллиативы. Устроенные среди природы, вдали от душного города, они, конечно, представляют лучшие условия для здоровья детей... Но они все же бессильны выбросить из своих программ тот ненужный балласт, который требуется аттестатом зрелости, а последний необходим, чтобы можно было поступить в университет. Но этот балласт представляет непреодолимое препятствие для того, чтобы внести сколько-нибудь существенные улучшения в школу. Таким образом, нового в этих школах лишь одно название, по существу же они такие же старые школы, как и все прочие.
Чтобы внести в школьное дело не частичные, а коренные улучшения, не паллиативы, годные лишь для самообмана, необходимо целое всенародное умственное движение против затверделых, отсталых догм и форм, которые официальная педагогика хотела бы сделать навеки нерушимыми. Это движение умов должно быть направлено против застоя во имя прогресса, против власти прошлых пережитков во имя лучшего будущего.
Одной из главных причин, почему так трудно сдвинуть современную школу с мертвой точки, служит то, что сюда примешалась политика. На школу смотрят как на средство упрочения существующего строя. Если бы этого не было, главное затруднение исчезло бы совершенно. Некоторые из высказанных выше требований выражены были еще давно. Еще Гете писал: «Если б старики понимали педагогику как надо, то им бы следовало не только не препятствовать молодым людям заниматься в учении тем, к чему они чувствуют склонность, но, напротив, ободрять их в этом и наставить...»
Еще наш Лобачевский ставил вопросы: «Чему должны мы учиться, чтобы достигнуть своего назначения? Какие способности должны быть раскрыты и усовершенствованы? Какие должны произвесть в них перемены, что надобно придать, что отсечь как излишнее, вредное?» И отвечал совсем не в том смысле, в каком ответила бы теперь официальная педагогика. Он сказал: «Все должно остаться при воспитаннике: иначе исказим его природу, будем ее насиловать и повредим его благополучию».
Но он сказал это уже после Магницкого, помощником которого состоял в Казанском учебном округе. Его знаменитый своим мракобесием начальник думал как раз наоборот. Магницкий был прототипом нынешних реакционеров, считающих школу орудием консервативной политики.
Он требовал, чтобы студентам университета читали политическую экономию только по ветхозаветному Сираху, чтобы, изучая треугольник, говорили о триединстве божием, объясняя круг, говорили о бесконечности божией и т. д. С помощью школы он хотел повернуть назад колесо истории.
Как Магницкий, его нынешние духовные дети хотят с помощью школы задержать бег развития, приостановить движение мысли, закупорить мозги, замедлить распространение идей в народных массах. К счастью, будущее принадлежит не им. Прогрессивная педагогика будет построена не только на чувстве самосохранения, а прежде всего на стремлении к развитию. Это стремление будет положено в основу всего воспитания и обучения, станет краеугольным камнем всей педагогики, ее главным и, основным принципом. Этот принцип станет руководить каждым нашим шагом в практической педагогической деятельности, он объединит все отдельные воспитательные меры и станет воодушевлять всех работников на поприще воспитания и обучения. Педагоги будут смотреть на стремление к развитию как на одну из характернейших основных особенностей, как на самую выс-
шую ценность жизни, быть может, даже как на самую сущность жизни.
Истинное воспитание человека должно быть направлено на его стремление к развитию. Тот, кто нахватал тьму сведений, перечитал массу книг, выучил весь энциклопедический словарь, совершенно необразован, если он исказил стремление к развитию и потерял интерес к научному знанию. И наоборот, тот, кто не может похвалиться особенно большими знаниями, но зато страстно и вполне сознательно стремится развить свой ум и свою волю, должен быть признан образованным человеком. Всякое знание, всякое новое впечатление получает цену лишь тогда, когда оно содействует правильному развитию.
Будущее, несомненно, принадлежит людям, которые вполне сознательно поставят во главу угла не всеми осознанное теперь, хотя и присущее всем в бессознательной форме, стремление к развитию, как своей личности, так и всего человеческого рода.
Педагоги будут смотреть на ребенка как на носителя драгоценного стремления к развитию, которому они должны помогать. Цель педагога будет состоять не в том, чтобы преобразовать ребенка во взрослого человека, сообразно с заранее данными нормами, а в том, чтобы изучить ребенка, определить направление его стремления к развитию, узнать его наследственные и приобретенные свойства и силы и помочь их развитию, удаляя от ребенка все то, что мешает его правильному развитию, и создать благоприятную обстановку для развития всех его здоровых стремлений.
У Диккенса маленький Павел Домби на вопрос: не сделать ли из него человека? — ответил: «Нет, я предпочитаю быть ребенком». И нельзя яснее и конкретнее выразить требования новой педагогики, как это бессознательно сделал маленький Домби. Ребенок должен быть ребенком. Мы должны признать за ним такое право на нормальные интересы своего возраста, какое мы признаем за взрослыми на их законные интересы*.
* Это требование находит свое оправдание даже в биологии. Взрослой лягушке совсем не нужен хвост, которым обладает головастик; но если отрезать у головастика хвост, то это вредно отразится не только на здоровье самого головастика, но и на развитии его взрослой формы.
Новая педагогика требует, чтобы просвещенный педагог руководился не программами и объяснительными записками, составленными в министерских кабинетах, а наблюдал жизнь детей, их развитие, их интересы, наклонности и стремления и со своими наблюдениями соображал и материал, и приемы преподавания и воспитания, не отрешаясь, конечно, от современных общественных идеалов и от выводов из тех отраслей знаний, какие имеют прямое отношение к педагогике.
В видах наилучшего наблюдения над детьми новый учитель не будет свысока смотреть на игры и развлечения детей, на их детские интересы; напротив, он войдет в самую гущу их жизни и не как повелитель или распорядитель, а как участник и советник, способный внести живую струю в детскую жизнь.
Не субстанции, не абсолют, не вещь в себе, не потусторонний мир, не трансцендентная метафизика и не как другие неподвижные догмы должны лежать в основе педагогики; она должна быть основана на реальной действительности, на наблюдениях и опыте, и прежде всего на наблюдениях над детьми, над тем, как проявляется их естественное стремление к развитию: как оно изменяется под влиянием возраста, пола, тех или других явлений во внешней среде и т. п.
Новая педагогика не станет требовать одного шаблона и одной программы для всех детей. Она будет исходить из того положения, что способности детей различны и что стремления их к развитию так же нетождественны. Теперь нельзя уже утверждать, как это делал Локк, будто все люди родятся с одинаковыми способностями и все зависит только от одного воспитания. Ни один ребенок не тождествен с другим. Каждый из них уникум в своем роде. Каждый из них не копия, а оригинал. Каждый одарен различными способностями, в различных сочетаниях и в различных степенях. Притом даже одна и та же способность у одного проявляется в одном возрасте, а у другого — в другом. Неодинаково действует на них даже совершенно одинаковая обстановка. На одного ребенка производят впечатления одни явления, а на другого — другие. Одного более интересуют зрелища, а другого — звуки. Даже родные братья, даже близнецы иногда очень резко отличаются один от другого во всех отношениях. Нельзя найти хотя бы двух детей, у которых была бы совершенно одинаковая история их души: всегда найдется разница в наследственности, разница в условиях развития и в личных переживаниях. У каждого свое стремление к развитию, на котором отразились и история его предков, и его личные переживания.
Стремление к развитию не есть нечто, однажды навсегда данное ребенку. Оно определяется не только наследственностью, оно направлено не только к повторению некоего стереотипа расовых признаков, не только фамильных, наследственных свойств; но оно вносит в жизнь свою долю нового, оригинального, личного, того, что еще не было ни у одного предка, ни в семье, ни даже в целой расе. Задатки этого нового и оригинального ребенок приносит в жизнь еще при рождении; но он развивает прирожденные оригинальные черты уже под влиянием внешней среды, включая сюда и общество, и школу, и воспитание, под влиянием опыта и всех личных переживаний. Под воздействием внешней среды в ребенке точно так же возникают стремления не только к шаблонному развитию, типичному для всех людей его расы и его класса, но еще и к развитию индивидуальных, ему одному принадлежащих свойств в их своеобразных сочетаниях, ни у кого другого не повторяющихся вполне точно. И все это вместе объединено в одно нераздельное живое целое, индивидуальное, не скопированное, а оригинальное. И как бы смутно ни было в ребенке стремление к развитию, оно вполне индивидуально. Каждый стремится к развитию по-своему.
Отсюда неисчерпаемая способность расы ко всевозможным изменениям, и в том числе к прогрессивному развитию. И стало быть, кто пренебрегает индивидуальными стремлениями к развитию, тот задерживает прогрессивное развитие расы.
Ввиду этого новая педагогика требует, чтобы школьное образование было достаточно эластично, чтобы оно давало простор здоровым, ясно выраженным индивидуальным особенностям каждого ученика. Все положительное, ценное из личных дарований и наклонностей, как бы оригинально оно ни было, должно быть развито. Идеальным воспитанием было бы, если бы дети воспитывались в идеальной среде, которая будила бы только одни хорошие (но зато все хорошие) стремления и задатки и не возбуждали бы дурных пережитков, атавистических наклонностей и задатков, бывших полезными для наших отдаленных предков, но ставших вредными в наш век.
При этом существенно важно иметь в виду не отдельные временные, нередко очень быстро, как в калейдоскопе, меняющиеся стремления ребенка, а уловить самое основное, наиболее устойчивое его стремление, ту красную нить, которая проходит через все его временные увлечения, то оригинальное, что обусловливает индивидуальность ребенка, что станет центром, объединяющим все его интересы и наклонности. При этом придется брать в расчет и те стремления% какие проявились раньше, и те, какие проявились теперь, и на основании предыдущего предвидеть по возможности то, что пока еще ждет своего проявления в будущем. Это сделать нелегко. Воспитание — это самое трудное из искусств, и притом требующее беззаветной любви к ребенку. И сейчас на этом пути ст;оят непреодолимые преграды в виде шаблонных программ, экзаменов, всевозможных формальностей, господствующих в школе и идущих в школу извне, а школьные требования не могут не отразиться и на семейном воспитании. Но когда-нибудь эти преграды будут снесены, и тогда педагог будет художником своего дела и, как художник, проникнет в основное, господствующее индивидуальное стремление ребенка и положит его в основу своей работы.
Действуя таким образом, школа будущего станет служить во благо и самого ученика, и общества, в котором ему придется жить, когда он вырастет. Большое благо сознавать, что мы не являемся шаблонными, стереотипными копиями, а представляем из себя и нечто своеобразное. Большое благо работать там, куда влекут нас и наши преобладающие стремления, и наши индивидуальные способности. Хорошо и тому обществу, где на каждом общественном и трудовом посту стоят люди, любящие свое дело, считающие его своим призванием. Там не пропадают самые ценные богатства, какие только есть в мире, — людские дарования. Там наилучшие условия для поступательного движения вперед.
Старая педагогика, рассматривающая ребенка лишь как материал для развития, заботилась только об одном: научить; новая педагогика должна заботиться о том, чтобы ребенок хотел научиться. Старые педагоги учили детей языкам, наукам, искусствам, правильному мышлению, правильной речи, хорошему вкусу. Ребенок был для них материалом для обработки, а сами они мастерами; в лучшем случае ребенок был существом, предназначенным для. дрессировки, а учитель чем-то вроде Анатолия Дурова, воспитывающего для сцены своих свиней, собак и мышей. Новые педагоги, зная, что главное дело — в стремлении самого ребенка к развитию, прежде всего будут заботиться, чтобы ребенок сам захотел изучить языки, науки и искусства, сам стремился выработать правильное мышление, правильную речь и хорошие вкусы.
Если старая школьная педагогика отвечала только на один вопрос: что должен знать и уметь ученик такого-то возраста и такого-то класса, то новая педагогика постарается ответить на другой вопрос: что в данный момент лучше всего отвечает естественному и нормальному стремлению ребенка к развитию? Если официальная школьная педагогика основывает все обучение на послушании, то новая педагогика — на естественном стремлении ребенка к прогрессивному развитию и на его интересах как выразителях этого стремления.
Старая педагогика изобрела только одно чисто внешнее побуждение к послушанию и к занятиям — экзамены и дипломы. Удовлетворительно выдержанный экзамен и диплом дают желанное право не заниматься больше науками и языками, обозначенными в дипломе, и обыкновенно знаменуют прекращение дальнейшей научной работы. Новая педагогика не будет нуждаться ни в экзаменах, ни в дипломах, ни в наградах, ни в наказаниях и ни в каких внешних искусственных стимулах: она станет культивировать только внутренние стимулы, вытекающие из естественного стремления к развитию, и основываться только на них.
То, что в области нравственности было провозглашено еще Вольфом, поставившим на место незыблемых догм человеческое совершенствование, новая педагогика должна поставить в основу воспитания. Сюда можно было бы применить слова, сказанные когда-то Лессингом о том, что если бы перед ним в одной руке держали поиски за истиной, а в другой — саму истину и предложили бы ему то или другое на выбор, то он предпочел бы путь к истине самой истине.
Новая педагогика сбросит с плеч ученика весь ненужный багаж устарелых требований, весь балласт знаний, потерявших в наш век всякий педагогический интерес и всякое значение; она пойдет за современной жизнью и естественными, здоровыми стремлениями самого ученика, будет развивать в нем жажду все новых и новых знаний, соответствующих потребностям и идеалам века. Она не даст ему полных, исчерпывающих современную науку знаний, но она приоткроет завесу, скрывающую знания, укажет путь, а главное — возбудит умственный голод в ребенке.
Ее лозунгом будет: все — для гармонического развития нормальных природных задатков ребенка, соответственно со стремлениями ребенка к прогрессивному развитию, все — добровольными усилиями самого ребенка, и ничего насилием.
Из всех современных идей я не знаю ни одной, которая бы возбуждала такое стремление, страстное и всевозрастающее желание исследовать детскую природу до самых глубоких ее корней и коренным образом перерешить педагогические проблемы, как эта уверенность в присущее ребенку стремление к развитию.
Этой идее принадлежит будущее, потому что она толкает людской род все вперед и вперед по пути прогрессивного развития, а современная жизнь показала, что народы, выступающие на дорогу прогресса, богаче, умнее, просвещеннее, здоровее, нежели отсталые народы. Идеи же, служащие на пользу людям, выживают, развиваются и распространяются, а идеи вредные и бесполезные исчезают.
Глава VIII
Изучение активности в развитии ребенка
Педагоги любят сравнить ребенка с нежным растением, а детскую школу с садом. Это сравнение при всех своих достоинствах не выражает, однако, самой основной черты ребенка — его активности. Растение почти неподвижно, а ребенок — это само воплощение движения, не знающее ни отдыха, ни покоя. Он похож на растение разве только тогда, когда он спит. В бодрственном же состоянии он бегает, работает руками, говорит, поет, кричит, является самым беспокойным элементом в семьях, любящих тишину и порядок.
Во главу всего воспитания и даже в основу всей жизни мы ставим развитие. Но ученик развивается не только тогда, когда он читает или слушает учителя, но и тогда, когда он так или иначе реагирует на то, что видит или слышит. Ученик развивается, когда он сам действует. Он должен ответить делом, своим делом на всякое впечатление. Движение, труд, действие, упражнение — вот одно из звеньев, через которые должен пройти каждый урок. Каждое впечатление, каждую мысль, каждый образ, каждый урок ученик должен так или иначе выразить в слове, в письме, в черчении, в рисовании, в ручной работе, в игре, если вы хотите, чтобы это впечатление оставило полный след в развитии ученика, оказало влияние на его ум, характер, волю, на его жизнь. Если ученик только слушает вас и ничем не реагирует на ваши слова, ваши труды, ваше время, время и сила ученика потеряны наполовину. Мало даже одного наблюдения, хотя наблюдение дает больше, чем одни слова. Плохо, если ученик может сказать о
чем-нибудь только то, что он читал или слушал об этом или даже видел это. Надо, чтобы он мог еще сказать: «Я об этом рассказывал», или «Я это рисовал», «Я сам делал этот опыт», «Я работал над этим в лаборатории, в мастерской», или «Я об этом писал», «Я составил конспект этой книги», или «Я этому учил своего товарища», или «Я это сделал из бумаги, из дерева», «Я это сам измерил шагами, аршином, метром», «Я это взвесил» и т. д.
Все наблюдения над детьми показывают, что дети неудержимо стремятся каждое свое впечатление и наблюдение выразить внешним образом. Отсюда их любовь к рисованию, лепке, строганию, резанию, строительству всякого рода, играм и пр. Всеми этими способами они стремятся выразить впечатления и образы, живущие в их душе. Как бы грубо ни было исполнение, оно при помощи живого детского воображения отлично воплощает внутренний образ и вполне достигает своей цели. Это тот самый путь, которым пользуется природа, чтобы приготовить ребенка к исполнению его будущих обязанностей.
Но во всех отраслях науки и искусства мы встречаемся с такими явлениями, что истины, высказанные гениальными людьми, ждут десятки и сотни лет своего применения в жизни. Так было и в данном случае. И сейчас еще во многих школах все рассчитано только на слух и немного на зрение учащихся. Учитель объясняет урок, реже показывает что-нибудь для иллюстрации объяснений, а ученики сидят неподвижно, потому что всякое движение считается помехой тому единственному делу, которое они обязаны делать: слушать учителя или смотреть в книгу. В недалеком прошлом — чуть не вчера — все предметы изучались только по учебникам. Девятилетний ребенок слушал и повторял, ничего не понимая, заповедь «не прелюбы сотвори» — и туманные ее объяснения. Учитель боялся делать какой-нибудь опыт и еще менее думал о том, чтобы дети сами приняли участие в этом опыте. К счастью, прошли те времена, когда люди смотрели на жизнь и практическую деятельность как на суету сует, когда уйти от общественной деятельности и от людей и погрузиться в самосозерцание считалось самым важным шагом к самосовершенствованию. Проходят и те времена, когда единственно ценной вещью считался разум. Теперь люди приходят к убеждению, что мысль и поступок, впечатление и реакция, умственная жизнь и практическая деятельность должны быть связаны неразрывно друг с другом и одна переходить в другую и помогать ей. Когда у отдельных предков наших впервые появились зачатки разума в степени, отличающей их от окружающих животных, этот разум служил им в борьбе за их существование. Удачная мысль, какая-нибудь хитрая выдумка сейчас же превращалась в практическое дело. Эта неразрывная связь между впечатлением, мыслью и делом повторялась столько миллионов раз, во стольких миллионах поколений, нам предшествующих, что уже по этому одному, если бы даже не существовало других, еще более глубоких оснований, она, закрепленная наследственностью, стала нашей природой. И теперь порывать связь между умом и волей, между мыслью и движением, между умственной работой и практическим делом было бы, и особенно в деле воспитания, крупной, непоправимой ошибкой.
Эта мысль столь естественна, что народные массы, которые собственно поддерживают жизнь на земле, всегда на первый план выдвигали труд и практическую деятельность. Для них жизнь была и есть труд. Иные точки зрения на жизнь могли установиться только благодаря общественному паразитизму. Только тогда, когда рабство и крепостничество стали давать возможность паразитического существования целому классу лиц, только с тех пор могли появиться другие точки зрения. Лучшие из людей того времени, вроде философов, могли утверждать, что жизнь — это мысль, религиозные проповедники — что это подвижничество и молитва; кисейные барышни и их рыцари — это любовь и наслаждение; их отцы и матери — это покой, комфорт и изысканность. Но те люди, на силе которых держалась вся жизнь, не исключая и паразитического существования, не могли ни на минуту забыть о труде, о практической деятельности. Без их работы не было бы ни мыслей, ни молитвы, ни любви, ни наслаждений. И они думали, что и мысль, и любовь, и комфорт, и наслаждение следовало бы справедливее распределить между людьми и уделить известную долю их и трудящимся классам, что не следует разрывать той естественной связи, какая установлена природой между человеческой деятельностью, мыслью и чувством.
Ту же самую мысль о связи ума с практической деятельностью доказывают физиологи, когда описывают круг нервного процесса и показывают тесную связь раздражения, ощущения и движения. Всякое живое» существо на раздражения — будут ли последние механическими, световыми, химическими, термическими или электрическими — отвечает деятельностью тех или других клеточных элементов, либо движением мускулов, либо химической работой желёз, либо образованием ощущений и нервных импульсов. В данном случае нас интересует реакция первого типа — движение мышц. Физиологи доказывают, что какое-нибудь раздражение — укол кожи, блеск молнии и пр. — передается чувствующими нервами мозгу, а здесь это ощущение вызывает возбуждение в двигательных нервах и таким образом переходит в движение (руки, ноги, шеи и пр.). Если бы можно было оборвать этот процесс на половине и не дать ощущению претвориться в движение, это значило бы сыграть впустую.
Все доказывает, что за ощущением и представлением в большинстве случаев должно следовать соответствующее движение. Когда ученик что-нибудь усвоил, он должен как-нибудь выразить это усвоение: в форме ли рисунка, посредством ли лепки, пения, жестикуляции или простого рассказа, устного или письменного изложения. Получив впечатление, ученик должен на него ответить, реагировать. Усвоение — это начало, выражение
или изображение, реакция — это конец одного и того же естественного процесса одного неразрывного целого.
И если этого почему-нибудь не произошло, если новая мысль и чувство не перешли в свое выражение, практическое действие или в какой-нибудь внутренний процесс (о чем подробнее мы скажем ниже), то это мысль и чувство бесплодно испарятся в бездействии, замрут без всякой пользы для нашего развития. Такое обучение наполовину не может возбудить большого интереса к предмету, оно обрекает ребенка на скуку, вселяет отвращение к занятиям.
Все это вполне согласно с учением анатомии, которое доказывает единство всех трех путей, через которые проходит только что описанный процесс: единство чувствующих нервов, идущих от периферии, например от пальцев, к мозгу,f самого мозга, а также двигательных нервов, идущих от мозга к периферии. И потому проходить только часть этого тройного пути и забывать заключительный этап этой дороги — это все равно, что никогда не заканчивать начатую работу. Несомненно, что она так или иначе будет закончена и без участия учителя; но как закончена — вот вопрос далеко не безразличный в воспитательном отношении. Я знаю, что есть люди, воспевающие разделение труда, преданные этой идее до такой степени, что мечтают о таком состоянии общества, когда одни люди будут только мыслить головой в какой-нибудь области знания, а другие только работать руками в какой-нибудь очень узенькой сфере промышленности. Я читал про одного деспота, который любил говорить своим подданным: «Зачем вам думать? Я за вас думаю. Ваше дело только исполнять мои приказания». Этот деспот обладал умом ниже среднего; но если бы он был даже сверхгением, и тогда он был бы несчастьем для своего народа, потому что его политика была бы могилой развития, а мир существует только для развития, и если стоит жить, то только для того, чтобы помогать развитию. Человек же, как и все живое, развивается лишь тогда, когда он и думает, и чувствует, и действует. Выньте отсюда хоть одно звено, и развитие исчезнет, а начнется вырождение. И что замечательно: станут вырождаться обе стороны — и та, на долю которой осталась одна работа мысли, и та, на долю которой осталась лишь работа грубых рук.
Только что сказанное может одинаково относиться и к взрослому и к ребенку. Но между тем и другим огромная разница. У взрослого энергия, вызванная внешним раздражением, может иной раз почти вся без остатка уйти на внутреннюю, мозговую работу, на размышление и не проявиться в движении, тогда как у ребенка почти всегда большая часть энергии переходит в движение. У взрослого развиты задерживающие центры, способные тормозить движения. У ребенка они почти в зародыше, и каждый образ почти беспрепятственно переходит сейчас же в действие. Подвижность ребенка бросается в глаза самому ненаблюдательному человеку. Однажды летом на даче я с помощью шагомера, прикрепленного к платью моего шестилетнего сына, сосчитал число сделанных им шагов в течение одного дня. Оказалось, что он сделал более 28 500 шагов, и это превышало число моих шагов в то же время почти втрое, хотя на даче я и заставлял себя гулять больше обыкновенного. Но конечно, энергия ребенка проявляется не только в работе одних ног. Едва ли меньше участвуют в этой работе и руки и органы речи. Белл сосчитал число слов, произнесенных в течение дня нормальным 5-летним ребенком и другим, младшим ребенком. Оказалось, что первый произнес немного менее 15 000 слов, а другой — немного более. К сожалению, мы не имеем для сравнения цифр слов, произносимых взрослыми людьми в течение дня; однако же и без экспериментов ясно, что ребенок произносит их больше, чем взрослый. И то же самое мы можем сказать и о движении его рук.
Ничем не одолимую потребность ребенка в движении, его неукротимое стремление бегать, лазить, скакать, ломать, бросать, стучать, болтать, кричать хорошо знают квартирные хозяева, которые всегда справляются о числе детей при сдаче квартиры. Это хорошо знают и учителя школ, особенно мужских, где у непривычного человека заболит голова от необычайного шума, гама и стука. Неугомонное движение — вот самая характерная черта ребенка, вот господствующее свойство этого возраста.
Кто-то остроумно сказал, что ребенок думает мускулами и всем телом. И это правда. Один из учеников тверской школы сказал мне, что, если он будет читать про себя (не вслух), он ничего не поймет. Мои дети не оставили ни одного особенно понравившегося им рассказа, сказки, повести, чтобы не изобразить наиболее ярких для них моментов в лицах. Они сейчас же сооружали сцену из кровати, стульев и т. п., распределяли между собой роли, собирали зрителей и начинали игру: пели, декламировали, боролись, устраивали дуэли, когда нужно, рычали, царапались, кусались. Заставить маленького ребенка сидеть смирно, не двигать своими мускулами очень трудно. Он недвижим только во сне (да и то далеко не в той мере, как взрослый); и заставляя ребенка быть неподвижным, вы располагаете его к дремоте. Правда, со временем и он будет располагать достаточно развитыми задерживающими центрами, и у него значительная часть энергии будет тратиться на размышление, но этот переход, это развитие новых центров происходит только постепенно. И ребенок долго будет немедленно откликаться на каждое сильное раздражение движением, будет подражать тому, что он видит, — и плохому и хорошему, тому, что слышит, что ему рассказывают, — всему, что его интересует.
Ребенок сначала действует, а потом думает; взрослый, как известно, поступает наоборот. Маленький ребенок изучает окружающее посредством подражательных движений. Чего он так или иначе не скопировал, того он не знает.
С этой точки зрения нельзя не осудить те детские школы, где царит неподвижность, где слышен только голос учителя, где у
детей работают только уши да глаза, где они слушают и смотрят, но не действуют. Лобзин статистическим путем (посредством опросных листов) определил, что самыми любимыми учебными предметами служат для мальчиков гимнастика и рисование, а для девочек — рукоделие, гимнастика и пение. Здесь, очевидно, сказывается пресыщение детей словесными предметами и тоска по активной деятельности и по предметному обучению. К счастью, в наше время мы все чаще встречаем школы, где этот стародавний монастырский способ обучения отходит в область печальных преданий. Раньше, нежели в других странах, это движение обнаружилось в Англии.
Там издавна школьник пользовался большей свободой, много двигался, играл, поражал наблюдателя своей веселостью и резвостью. Там кроме словесного обучения пользуются всеми другими приемами. По словам миссис Кэсмор, там знакомят детей с разными способами, посредством которых человек выражает свои чувства: музыкой, живописью, скульптурой, архитектурой, танцами, разговорами, жестами. Там рано приучают детей к этим способам выражения. Там предоставляют им возможность самим петь, рисовать, лепить модели, декламировать.
Мы смотрим на это движение как на первые попытки к тому, чтобы школа стала жизнью, а жизнь — школой. Об этом мечтал Гете. В «Педагогической области» гениального поэта ничто не должно было отделять от жизни. Например, для изучения иностранных языков образуется искусственная родина, и язык изучается посредством живой практики, разговора с окружающими. В земледелии, горном искусстве, скотоводстве и мастерских предметы изучаются в их естественной полной обстановке путем непосредственного участия в работах, а потому реальные знания не преподаются особо.
На первой ступени надо довольствоваться самым грубым и простым исполнением работ; а на высших ступенях, требовать более тонкой отделки. Это касается одинаково и лепки, и рисования, и письма, и игры на рояли, и всяких видов ручного труда и пр. Наблюдения доказали, что, например, развитие мускулов руки у ребенка идет в последовательности начиная от плеча и оканчивая пальцами. В соответствии с таким ходом развития мускулатуры развиваются и движения: грубые и простые вначале, тонкие, изящные, аккуратные в конце. Известный Сегвин, тренируя руку идиота, обнаруживал наибольшие успехи лишь в том случае, когда начинают с плечевых движений. Но, не настаивая на аккуратности вначале, все же наши требования должны каждый раз идти немного выше того, что есть, но отнюдь не выше того, что ребенок может. При нарушении первого требования ребенок станет повторять лишь то, что * он умеет, пойдет проторенными путями и ничему новому не научится; при нарушении же второго требования он скоро истощит запас своих сил, разочаруется в своих способностях, потеряет интерес к работе. Быть может, именно таким истощением сил надо объяснить то явление, почему так часто дети, подававшие большие надежды в детстве, не оправдывали этих надежд в зрелом возрасте.
Вот почему хороший учитель, демонстрируя какое-нибудь наглядное пособие, заставляет детей следить за его контурами глазами, а иногда и рукой и, если можно, предоставляет самим детям смастерить что-нибудь подобное. Вот почему на уроках письма учитель, показывая детям, например, букву, дает ее не в готовом виде, а в процессе письма. Мне кажется, что свойство людей видеть лучше предмет в движении, нежели в покое, можно объяснить и биологически. В развитии животного мира движение играло важную роль. Когда я смотрю на ящерицу, не двигаясь, она остается спокойной, но стоит мне пошевелиться — и она убежит. Чувство самосохранения особенно часто должно было пробуждаться у наших предков именно тогда, когда враг приходил в движение. Охотничьи инстинкты точно так же возбуждались, когда шевелилась добыча.
Но если мышечные движения играют такую видную роль в психических процессах, то дело учителя — использовать их наилучшим образом/ возбуждая в учениках активное отношение к уроку. Сами ощущения обыкновенно играют только пассивную роль, а наше активное, произвольное внимание пользуется двигательными аппаратами внешних чувств. И это особенно резко бросается в глаза, когда мы что-нибудь ищем: предмет, его свойства или его изменения.
Уже много раз было говорено, что все, изученное нами не из книг только и не со слов учителя, а, кроме того, еще и на деле, на практике, мы знаем несравненно лучше, несравненно прочнее, многостороннее, увереннее, чем изученное только литературно. Так, ученик, сам проделавший опыт по физике или по химии, имеет о нем более точное, ясное и основательное понятие, чем ученик, бойко рассказывающий об этом опыте по книге, но его не производивший.
В применении к предметному обучению этот общий принцип требует, чтобы дети сами принимали участие во всех опытах, а не только смотрели, как производит их учитель. Пассивное отношение к опытам и картинам очень скоро надоест ученикам, а главное, оно отучает их от самостоятельности, активности. Необходимо возбуждать их самодеятельность. Надо, чтобы каждый из учеников сам проделал тот или другой опыт; сам нарисовал схему той или другой фигуры, предмета и пр., сам смастерил модель из дерева, бумаги или глины и сам же рассказал или написал, как произведен тот или другой опыт, сделано то или другое наблюдение. В этом смысле можно только приветствовать участие детей в работах на огороде, в саду, в уходе за цветами.
Важно, чтобы для урока о прорастании семени дети сами размачивали семена, расчленяли их, выращивали каждый свою горошину, свой боб и каждый сажал бы в воду свою ветку вербы, а затем чтобы дети сами наблюдали, что происходит.
Пусть они сами расчленяют почку и приклеивают ее части на листе бумаги. Пусть они сами собирают и засушивают листья и другие части растений по системе, рекомендованной учителем. Пусть сами срисовывают корни, корневые клубни и волоски. Пусть сами расчленяют цветки и срисовывают каждую часть особо. То же можно делать и с плодами.
Полезно, чтобы дети сами ловили гусениц и выкармливали их, каждый в своей коробке, чтобы наблюдать их превращение в куколки и затем в бабочки. Если возможно, следовало бы предоставить детям распределить между ними наблюдения за жизнью каких-нибудь животных и птиц. Принесите в класс назревших икринок, положите их в воду, и дети будут иметь удовольствие сами видеть, как из икринок выходит маленькая рыбка, а в ней они сами увидят, как бьется ее сердце, а если есть микроскоп, они с большим интересом рассмотрят, как движутся кровяные шарики по кровеносным сосудам. Пусть дети сами производят наблюдения над своим дыханием, пульсом, утомляемостью, силой и пр.
На уроке о странах света пусть каждый из учеников воткнет свою палку на школьном дворе и отмечает тень в определенные часы дня по указанию учителя.
Пусть каждый сам растворит в воде соль, выпарит ее и сам получит свои кристаллики соли, которые можно посмотреть в лупу, если они малы. Дети могут сами вырастить кристаллы квасцов, если растворить щепотку квасцов в чистой, лучше всего дистиллированной или дождевой воде, и в стакан, наполненный таким раствором, повесят привязанную к перекладине нитку так, чтобы она не касалась стенок стакана. Они могут положить одно яйцо в чистую воду, а другое яйцо в крепкий раствор поваренной соли и увидят, что первое яйцо утонет, а второе будет плавать. Им станет понятно тогда, почему суда на море поднимают больше груза, чем на реке. Выпаривая на сковороде жесткую воду и рассматривая осадок, они поймут, почему внутри самовара образуется накипь и отчего вода становится жесткой.
Пусть дети сами рассортируют — каждый в своем стакане воды — песок и глину. Пусть каждый из них сам сделает из гусиного пера воздушный пистолетик, из которого стреляют картофелем. Эта забава является одним из лучших опытов для наблюдения над свойствами воздуха.
Пусть каждый из них сам плотно обмотает какую-нибудь железную вещь бумагой и держит на огне. Он увидит, что бумага не загорится, потому что железо быстро проводит тепло и не дает нагреться бумаге.
Пусть каждый из них сам смастерит отвес и затем приведет его в движение, сделав таким образом из него маятник. Пусть каждый из них сам с кусочком сургуча, резины или гуттаперчевой гребенки проделает известный опыт, состоящий в том, что натертая о сукно гребенка притягивает лоскутки бумаги, опилки, мыльные пузыри и пр. Пусть каждый из них сам проделает доступные опыты с магнитом.
Итак, в общеобразовательной школе и расположение учебного материала, и выбор его должны быть подчинены принципу развития сил ребенка. Из программ должно быть беспощадно изгнано все, что не соответствует силам детей и принципу развития. Учителя, исходящие только из анализа изучаемого предмета, натаскивая детей к экзамену, заставляют их заучивать на словах как можно больше фактов, имен, названий, дат, цифр, формул и пр. и на заучивание всего этого тратят все силы и время ученика. Но ученикам надо готовиться не к школьному, а к тому экзамену, который поставит им сама жизнь. И вот оказывается, что через год, а иногда даже ранее по выходе из школы вся эта школьная премудрость забывается. Случается и еще того хуже: там, где не нужны права, предоставляемые школьными дипломами, как, например, в литературе, в промышленности, в торговле и пр., очень часто люди с золотыми медалями и наилучшими школьными аттестатами оказываются позади успевающих конкурентов, либо совсем не учившихся в школе, либо показавших в ней посредственные успехи. И кто знает, много ли бы нашлось желающих учиться в катковской гимназии, если бы она, благодаря только правам, связанным с ее аттестатом, не была неизбежным этапом к доходному месту на государственной или общественной службе.
Очевидно, что жизнь требует от школы чего-то другого, а не номенклатуры, не дат, не цифр и прочего материала, заучиваемого для экзамена. Личный опыт каждого из нас показывает, что из номенклатуры и мелких фактов, дат и пр. мы твердо помним лишь то, что связано с нашими постоянными занятиями. Если я — учитель географии, я хорошо помню имена всех сколько-нибудь значительных мысов, рек, заливов, проливов, островов, городов Азии, да и то еще по временам мне приходится, не полагаясь на свою память, заглядывать в учебники. Если же в моей повседневной жизни не требуется подробного знания номенклатуры Азии, то я, наверное, очень скоро позабуду все эти Явы, Борнео, Целебесы, Суматры и т. д. Если чтение газеты или книги наведет мою мысль на какой-нибудь из этих позабытых островов, то я найду о нем в какой-нибудь справочной книге, например Энциклопедическом словаре, все то, что мне нужно о нем знать, и, конечно, в гораздо более обстоятельном и верном изложении, чем в учебнике общеобразовательной школы.
Не является ли нынешняя система обучения пережитком того отдаленного времени, когда не было книгопечатания, когда книги ценились на вес золота, когда они были достоянием только королей да могущественных князей церкви. Тогда было полезно удержать в своей голове как можно больше мелких фактов, рецептов, дат, цифр и пр. Но теперь, когда за несколько гривенников можно приобрести книжку справочного характера по той или другой отрасли знания, когда в такой книжке менее чем в минуту времени можно отыскать требуемую справку, совсем нет надобности обременять благородные клетки головного мозга заучиванием сведений справочного характера. Теперь в жизни имеет успех не тот, чья память переполнена мелкими фактами, а тот, кто обладает наблюдательностью, смышленостью, умением разобраться в вопросах, какие ставит ему жизнь, быстро найти необходимые точные справки, отличить существенное от маловажного, достоверное от маловероятного, предвидеть последствия того или иного поступка, а придя к определенному решению, энергично действовать. Но все эти качества приобретаются не заучиванием фактов, а путем упражнений над ними, путем наблюдений, опытов, анализа явлений, вывода из данных фактов, комбинирования их, размышления над ними. И совсем не важно, чтобы все эти факты остались в памяти хотя бы до первого экзамена, а важно то, чтобы над ними ученик сам, и притом правильно, произвел все необходимые умственные операции. Несомненно, что некоторые из этих фактов останутся в памяти, другие будут наполовину забыты, но могут быть воспроизведены при повторении, третьи могут быть забыты почти совершенно, но останется умение комбинировать факты, останется смышленость. Мы уже знаем, что для таких упражнений всего лучше конкретные факты; а сами упражнения всего лучше, особенно в детском возрасте, брать из опытных и наблюдательных наук, близких природе и действительности. Наблюдения, опыты и факты, из которых можно вывести доступные пониманию детей выводы о сцеплении частиц, о тяготении, свете, звуке, электричестве, химическом средстве, о питании и дыхании растений и животных, о размножении одноклеточного организма и пр., представляют трудно заменимый воспитательный материал.
Здесь воспитывает сам метод, сам процесс мышления, потому что здесь не простая игра ума, как бывает иногда в беллетристике, в мистических учениях и даже в метафизике. Но здесь самая строгая логика, постоянная проверка каждого вывода опытом и наблюдениями. Благодаря этому всякая ощибка в мышлении здесь легко обнаруживается, чего нельзя сказать, например, про философию. Таким образом, получается привычка критического отношения и к нашим восприятиям, и к нашим выводам, привычка отличать достоверное от сомнительного, привычка не подчиняться слепо чужому внушению, предрассудкам, суевериям.
Кроме того, широкие обобщения фактов из этой области экономизируют мышление. Однажды усвоенный закон, например, распространения звука обнимает громадное множество конкретных фактов, которые становятся вполне понятными ученику. И кто может учесть, сколько сил и времени сохраняется таким образом у человека, желающего усвоить эти факты! Изучение таких законов приучает нас изображать целую массу фактов в одном общем законе, который замещает их все и деларт их нам понятными, знакомыми и простыми.
Наконец, работа над таким материалом приучает наш ум отыскивать в природе и жизни законосообразность, а стало быть, приучает нас к предвидению последствий, без чего невозможен успех в жизни. Та же работа приучает нас сообразовать свои действия с ожидаемыми последствиями. Надо ли добавлять, как важны эти отрасли знаний в жизни: в гигиене, сельском хозяйстве, технике, ремеслах и пр. — везде, где приходится иметь дело с физическими, химическими или биологическими законами природы.
Но и помимо этих областей в жизни необходимо умение отыскивать подходящие материалы для решения каждого данного вопроса, привычка обдумывать каждый свой опыт, привычка анализировать факты и комбинировать материалы, навык критически относиться и к материалам и к выводам из них, способность не поддаться чужому внушению, не быть жертвой суеверий и предрассудков, являющихся главными тормозами всякого развития, умения ориентироваться в фактах, отрешаться от частного и случайного во имя общего и постоянного, находить соотношение между частями и целым, связывать факты, выделять между ними постоянные связи, сводя их к определенным законам. Всегда и везде необходима дисциплина и последовательность мышления, неуклонность логики, способность избегать формально-логические ошибки, простота и ясность взглядов, не затемненных мистическим или метафизическим туманом, привычка к точности. Везде, наконец, необходима пытливость ума.
Из главы X
Об экскурсиях и уроках на воздухе
Большая ошибка наших предшественников, впервые вводивших в народную школу чтение статей по природоведению, заключалась в том, что некоторые из ретивых учителей требовали от детей номенклатуры, заставляли их на память заучивать признаки тех или других минералов, растений или животных. Они должны были наизусть знать формулы зубов, число тычинок, лепестков. Это значило превратить процесс, полный живого интереса, очень важный в смысле развития в детях самодеятельности, наблюдательности, внимания и любви к природе, в скучное, бесполезное занятие, возбуждающее не любовь, а отвращение; это значило превратить живое дело в мертвое, схоластическое упражнение. Совсем другое дело — живая беседа о том, что дети видят, слышат, держат в думах, нюхают, и всего лучше беседа в поле, в лесу, на экскурсии, на прогулке.
Еще Руссо сказал, что можно быть великим ботаником и не знать ни одного растения по названию. Нужно знать жизнь растения в связи с естественными условиями, в которых оно находится. Биология и физиология — вот что придает смысл и значение ботанике и зоологии в глазах учеников; анатомические данные интересны ученику лишь тогда, когда они связаны с физиологией и биологией.
Но если с физиологией растений, животных можно познакомиться в школе, то, чтобы видеть жизнь растений в их естественной обстановке, наблюдать борьбу за существование и взаимопомощь, чтобы увидать связь между различными явлениями природы, для этого одной школы мало: нужно видеть самому природу в лесу, на лугу, в пруду — нужна экскурсия.
Наглядные представления, привычка по возможности все сводить к ним играют огромную роль не только в практической жизни, но и в науке.
Величайшие открытия знаменитого Фарадея объясняются, между прочим, тем, что его гениальный ум старался устранить все лишенное наглядности. Вот почему он выразил сомнение на счет пустоты пространства и на счет сил, действующих на расстоянии. Знаменитый Герц в своих работах руководился тем же самым стремлением представить все в наглядных образах.
Есть анекдот про ученых: немца, француза и англичанина. Им дали написать исследование о верблюде. Немец сейчас же заперся в кабинет и написал что нужно. Француз с той же целью отправился в зоологический сад, а англичанин изъездил Африку и Азию, чтобы изучить жизнь верблюда.
Мы должны следовать всем трем примерам, отдавая, однако, предпочтение примеру англичанина. Мы не должны пренебрегать ни книгой, ни музеем, но мы должны обратить особое внимание на экскурсии.
И замечательно, что сведения, полученные во время экскурсии, отличаются необыкновенной яркостью и помнятся удивительно долго и полно.
Особенно много воспоминаний порождают путешествия. Новые впечатления (пароход, вода, горы, лес, животные) оставляют настолько сильные впечатления, что даже 2 — 3-годовалые дети живо вспоминают их и по истечении недель и месяцев.
Деревенские дети, как известно, сами устраивают экскурсии по окрестностям и гораздо больше знакомы с природой, чем городские.
Кроме того, наблюдения деревенских детей отличаются большей точностью, чем наблюдения городских детей. Деревня благодаря своей близости к природе нравится детям гораздо больше, чем город. Лично мною был произведен опрос 249 детей фабричных школ в г. Твери, и этот опрос дал следующие результаты. Ответы были получены на вопрос: где бы желали жить дети (в городе или в деревне) и почему? Ответы получены от 180 мальчиков и 69 девочек. 172 человека (132 мальчика и 40 девочек) предпочитают жить в деревне, а 77 человек (48 мальчиков и 29 девочек) предпочитают жить в городе.
Любопытны мотивы, по которым дети предпочитают деревню городу. В деревне их привлекают поля, леса, зелень, грибы, ягоды, орехи, птицы в лесу и их пение, рыба в реке и рыбная ловля, лошади и катание на лошадях, покос и запах сена, цветы, полевые работы, чистый, свежий, здоровый воздух без городской пыли и вони; «Там я не болею»... «Там здоровее жить», «Там так красиво и приятно». Когда читаешь эти детские отзывы, то невольно вспоминается, как Кропоткин, описывая знакомый ему с самого детства сосновый бор с оврагами и ручьями, прибавляет: «В этом лесу зародилась моя любовь к природе и смутное представление о бесконечной ее жизни».
Мотивы любителей города немногочисленны. Некоторые не знают, «каково в деревне», и потому предпочитают город. Другие (по преимуществу девочки) указывают на театр, на близость церквей, некоторые мальчики указывают на библиотеку и хорошие школы; один указывает на дворцы и этим исчерпывает все преимущества города.
Надо ли говорить, что с объектами природы необходимо знакомить не только в школе на учебных пособиях, но и вне школы, во время экскурсии, когда дети встречают особенно много для них нового и получают наиболее яркие, живые и свежие образы. Без экскурсии дети не приобретут очень многих необходимых представлений и учителю поневоле придется заменять недостающие у детей наблюдения над живой природой словами или мертвыми изображениями.
Надо помнить, что ребенок, как показали массовые исследования, употребляет много таких слов, которым он не придает определенного смысла, которых не понимает, и еще больше таких слов, которые он понимает неверно, по-своему.
Мы уже показали выше, как вредно на развитии детей отражается замена реальных, непосредственных наблюдений словами, если они вытесняют и заслоняют природу.
Часто говорят, будто в данной местности нет материалов для изучения на экскурсиях. Нет ничего более ошибочного, чем такое мнение. Везде видно небо, то ясное, то покрытое различными видами облаков, луна, звезды, солнце, падающие звезды. Детям интересно будет научиться указывать созвездия Большой Медведицы, Малой Медведицы, Лиры, Орла, Пегаса, Возничего, Ориона, Кассиопеи, Плеяд, Девы, Льва, Тельца, Большого Пса и узнавать Полярную звезду в Малой Медведице, пояс Ориона, Альдебаран в Тельце, Сириус в Большом Псе, Вегу в Лире, Капеллу в Возничем, Альтаир в Орле. Им любопытно будет наблюдать, как луна ежедневно меняет свое положение среди звезд, как то же самое делают Юпитер, Венера, Марс и другие планеты. Они могут заметить, как сообразно с временами года прячутся от нас одни звезды и появляются другие, но есть и такие, которые остаются на небе в течение круглого года. Им интересно будет сравнить свет планет со светом звезд. Они с удовольствием посмотрят потоки падающих звезд Лирид — 8 апреля, Акварид — 24 апреля и 16 июня, Персеид — 29 июля, Орионид — 6 октября, Леонид — 1 ноября, Андромед ид — 15 ноября и Геминид — 28 ноября. Разумеется, все эти наблюдения должны.быть осмыслены и объяснены научно.
Везде бывает ветер, вихри и бури, вырывающие деревья, разрушающие здания. Сколько интересных уроков можно дать по поводу каждого из таких явлений! Дети увидели радугу. Дайте им призму, и они увидят те же цвета на стене. Сделайте сами и научите детей делать радугу искусственно, став к солнцу спиной и брызнув воду изо рта, и дети сами найдут сходство между этими явлениями. Можно взять с собой термометр и измерить температуру воздуха на солнце и в тени, температуру воды и почвы. Можно сделать эти измерения в начале экскурсии и в конце ее и объяснить разницу в показаниях термометра. Можно смастерить дождемер и делать наблюдения над осадками. Можно измерить давление воздуха барометром. Если делать эти наблюдения в течение нескольких недель, то можно сделать выводы о связи между «высотой» барометра, ветром, дождем; можно дать заключение о климате местности; можно сравнить местность в климатическом отношении с другими местностями, о которых можно найти данные в книгах. Можно собирать народные приметы относительно погоды и проверять их. Можно в разные времена года измерять температуру погреба, воды в реке, в пруду, в ключе, в колодце, в почве и сравнить полученные цифры с температурой на открытом месте, конечно, с тем, чтобы объяснить, отчего происходит эта разница и почему она неодинакова в разные времена года. Особенно интересно сравнение температуры ключа и почвы с температурой воздуха в зимние морозы и в летнюю жару. Известно, что на глубине 20 см находится постоянная, не изменяющаяся ни зимой, ни летом температура и она близко подходит к средней температуре воздуха в данной местности. И дети обнаружат это явление, если измерять летом и зимой температуру почвы на глубине 1 вершка, 2 вершков и 4 1/2 вершка. Можно сравнить показания двух термометров, из каких один сухой, а другой смочен водой. Объясняя это явление, дети поймут и то, почему после дождя делается прохладнее, зачем смачивают полы в жаркие дни и пр. Детям интересно будет наблюдать, всегда ли облака бегут в ту сторону, куда дует ветер, в однбм ли направлении движутся два слоя облаков, лежащие друг над другом, какой" погоды надо ожидать в жаркие летние дни после полудня, если до полудня ветер дул в одну сторону, а облака бежали в другую, какую погоду предвещает появление перистых облаков. Зимой стоит наблюдать, на каких склонах и на какой стороне крыши всего дольше держится снег. Летом детям любопытно будет заметить и сравнить высоту барометра и термометра до грозы и после грозы; интересно измерить, на каком расстоянии находится гроза, по разнице во времени между блеском молнии и ударом грома (за отсутствием часов можно принять один удар пульса за 1 с). Звук пробегает в свободном воздухе приблизительно 1 км в 3 с, а километр немного менее 1 версты (0,937 версты). И потому ученики не сделают большой ошибки, если будут считать, что звук в каждые 3 с пробегает 1 версту.
Везде бывают дожди, везде дождевая вода делает размывы, образует промоины или овраги, везде речная вода смывает высокие берега реки и мало-помалу перемещает русло реки в одну сторону, образуя на другой стороне низменный берег; везде река уносит размытую землю своим течением все дальше и дальше в море, везде это вечное действие воды мало-помалу изменяет рельеф местности, перемещает вместе с берегом и пашни, и селения, и даже города. Неужели изучение этих местных явлений на берегу оврага, ручья и реки не может заинтересовать учеников и не расширит их умственного горизонта?
Пусть дети возьмут в горсть смесь из мелких и крупных камешков, из песка и из сухой мелко растертой земли, бросят эту смесь в реку с лодки и посмотрят, что будет унесено скорее всего, что погрузится вниз и что останется сверху. Это наблюдение объяснит им очень многое и даст понятие о роли воды в рельефе местности.
Ученики могут сделать рейку (палку, разделенную на вершки, дюймы или сантиметры), воткнуть ее в воду и в определенные сроки наблюдать высоту воды в местной реке, озере или пруду.
Они могут определить быстроту реки следующим образом: по берегу реки отмерят расстояние в 100 м, аршин или просто шагов, обозначат колышками или камнями обе точки этого расстояния и, стоя на верхней точке, бросят прямо перед собой одну щепку на середину реки, а другую — близ берега. Затем с часами в руках сосчитают, во сколько секунд пройдет все отмеренное расстояние первая щепка и вторая. Простым делением они определят, какое расстояние щепки проходят в 1 с. Посредством такого опыта дети определят, в каком месте реки (в середине или к берегу, в глубоком или мелком) течение быстрее (при высоком или низком уровне реки). Они могут затем проследить, в каком месте речного дна осаждается больше всего ила, в каких местах больше всего песку* и где находятся самые крупные камни. Отсюда они узнают, где речная вода обладает наибольшей силой.
* Если река делает 3 дюйма в секунду, она уносит глину; если 6 дюймов, она уносит не только глину, но и песок.
Пусть дети зачерпнут воды из ручья или из реки, когда она особенно мутна, и дадут воде отстояться. Они увидят тогда, что именно отрывает вода от земли и переносит вниз к морю.
Пусть они внимательно рассмотрят то место, где ручей впадает в реку, и заметят, что делается здесь с веществами, принесенными ручьем.
Детям любопытно будет наблюдать, что зимой быстро текущая вода замерзает гораздо позже, а иногда и совсем не замерзает. Может быть, они захотят отметить, когда в текущем году пруд, озеро или река покрылись льдом и какой толщины этот лед, когда тронулся лед на реке. Они могут наблюдать, какое действие оказывает ледоход на берега реки.
Везде есть растения, есть цветы. Можно в поле или в лесу с растениями в руках изучить устройство цветка, роль пыльцы, роль пестика; можно научить учеников самих отыскивать в цветках тычинки (мужские цветы) и пестики (женские цветы). Можно в поле же на живых экземплярах показать, как переселяются семена растений на новые места; как одни из этих семян пользуются своими крылышками и пухом, чтобы перенестись с места на место по воле ветра, как другие семена пользуются своими прицепками, чтобы пристать к шерсти какого-нибудь животного или к платью человека и переехать на нем на другое место. На свежеспиленном пне сосны написана ее биография. Надо пересчитать, сколько колец на этом пне, и мы узнаем, сколько лет жило дерево и в каком году оно начало расти. 50 колец — это значит 50 лет, 60 колец — 60 лет продолжалась жизнь срубленного дерева. Но одно из колец, например десятое, очень толстое; это значит, что десятый год был счастливым годом в жизни дерева, что в этот год оно хорошо питалось и ничто не мешало его росту: ни засуха, ни весенние поздние морозы. А рядом мы видим очень тонкое одиннадцатое кольцо; это значит, что одиннадцатый год был плохим для дерева годом, что в этот год наше дерево голодало. Если сосенка молода, ее годы можно определить и по веткам. Ее ветки расположены кружками. Сколько кружков, столько и лет от роду деревцу: 15 кружков — 15 лет. Но вот ветви пятого кружка особенно выдаются: они длиннее других, значит, это был хороший год для нашего деревца; зато ветки другого кружка, например седьмого, очень коротки; это значит, что на седьмом году от роду нашему деревцу было голодно, какая-нибудь невзгода (засуха или морозы в неположенное время) помешала ему расти.
Нигде эта борьба деревьев за свет и за почву не выступает так рельефно, как в лесу. Если экскурсанты сравнят дерево, растущее на полном просторе, с деревом, растущим в лесу, они сразу заметят резкую разницу между тем и другим уже по одному внешнему виду. У одного из них зеленая крона спускается очень часто до самого низа, а у другого живая листва находится только на самом верху, куда ничто не мешает проникать лучам солнца. У дерева в лесу ствол приблизительно на 2/3 высоты, а часто и выше совершенно лишен живой зеленой кроны; а вместо нее на нем торчат только мертвые легко отпадающие сучья, зеленая же крона приютилась лишь на самой верхней части дерева. Причина ясна: дерево на свободе не терпит никакого недостатка в солнечном свете, а дерево в густом, тесно сомкнутом лесу может ловить солнечные лучи только своей верхушкой; а внизу света мало, и потому здесь листья, работающие только благодаря солнечному лучу, умирают, а вслед за ними лишенные питания засыхают и отмирают и древесные ветви. Предполагается, что экскурсанты уже знают огромную роль листьев в питании растений и им станет понятно, как величина живой зеленой кроны должна отразиться на развитии всего дерева. Но на экскурсии во время дождя можно наглядно выяснить еще другое влияние кроны. Ученики увидят, что дождевая вода, попавшая на крону, не падает отвесно вниз, а по листьям и хвоям стекает сначала от центра к окружности кроны и уже оттуда падает отвесно вниз, образуя окружность вокруг дерева. Естественно, что именно по этой окружности и развивается главная масса корневой системы, чтобы использовать дождевую влагу для всего дерева. И потому чем шире, развитее зеленая крона, тем шире и лучше развивается корневая система; и наоборот: чем хуже развита крона, тем меньше развита и корневая система. Сравнивая деревья-одиночки, растущие на полном просторе, с деревьями в лесу, ученики увидят, что лесные деревья, выражаясь фигурально, гораздо сильнее стремятся ввысь, к солнцу, и потому стройнее и выше деревьев-одиночек. И экскурсанты сумеют объяснить это явление. Если ученики внимательно всмотрятся в разные деревья, растущие в лесу, они и здесь найдут большие различия между деревьями одного и того же возраста. Они увидят, что только сильные деревья, успевшие заблаговременно подняться на высоту к солнцу и свету, благоденствуют и, так сказать, господствуют; менее же сильные от природы деревья, отставшие в росте благодаря ли наследственной слабости или случайно неблагоприятным условиям, обречены на постепенное умирание. Они заглушены и угнетены сильными и рослыми, отнимающими у них солнечный свет своими кронами и плодородную почву своими корнями.
Проследив ручей, текущий по сухому лугу, дети могли бы заметить, какие растения любят расти возле воды и не любят сухих мест. Осмотрев сорные кучи, дети заметили бы, какие растения любят мусор. Они могли бы заметить, какие растения любят известковую почву, какие кустарники и деревья растут на старых каменных стенах, какие травы любят лиственный лес и какие — хвойный, какие любят стоячую и какие текучую воду. Они могли бы проследить, на каких деревьях бывает больше лишайников: на тех ли, которые находятся на опушке или внутри леса. Какие стороны дерева любят лишайники и какие они не любят. Пусть они найдут сорные травы наших полей и садов.
Они могли бы делать наблюдения и записывать, когда в их местности зацветает то или другое растение, когда появляются первые листья и первые зрелые плоды. Они могли бы заметить, что тля имеет цвет, сходный с окраской тех частей растений, на которых держатся эти существа. Они могут увидать таких насекомых, которых благодаря их цвету и их форме трудно отличить от среды, где они обыкновенно живут.
То же наблюдение они могли бы сделать относительно птичьих яиц, самих птиц и некоторых млекопитающих. На экскурсии легко встретить животных, которые для защиты от врагов принимают цвет той среды, где они живут: червяк, живущий на зеленых листьях, сам зеленого цвета, бабочка, порхающая на белых цветах, сама белого цвета и т. п. Они могут заметить, как животные, особенно истребляемые врагами, производят сравнительно большое потомство: бабочки, мухи и пр.
Мы перечислили лишь то, что можно встретить везде; но в каждой местности найдется какая-нибудь особая достопримечательность. Кое-где есть курганы, городища, древние могилы, всякого рода валы и холмы, насыпанные руками человека, грубые изваяния, например так называемые бабы. С некоторыми из них связаны известные предания.
В других местах — каменноугольные шахты, то заводы и фабрики, то железная дорога, то суда и пароходы и пр. Если дети узнали в школе о крахмале в картофеле и пшенице, о превращении растительными клетками крахмала в сахар, то экскурсия на крахмальный или паточный завод будет для них интересной и поможет им глубже и яснее понять свойство растительной клетки. Если дети узнали о растительных жирах, для них будет полезно посещение масляного завода. То же можно сказать о химических производствах и пр. И все это также может составить интересный материал для экскурсий. Во многих местах найдутся исторические памятники местности, с которыми связаны какие-нибудь исторические воспоминания или какие-нибудь предания, или местности, с которыми связаны воспоминания о каком-нибудь выдающемся человеке, чья биография может быть поучительна для учеников.
В Европейской России находится много городищ, крайне интересных в археологическом отношении. В песках на берегу рек можно иногда найти черепки, а также кремневые и другие старинные орудия и украшения. Смотря по характеру местности, в одной школе придется отдать преимущество геологии, а в другой — биологии и в третьей — археологии и истории.
Значение этих экскурсий заключается, между прочим, в самодеятельности детей: они принимают участие в составлении плана экскурсии, сами прочитывают относящиеся к ней статьи и книги, они сами разроют почву, возьмут камень, вырвут корень растения, сорвут цветок, поймают бабочку, сами сделают наблюдения над погодой, сами обработают собранный материал и т. д. Мало этого. Они сами, хотя и при помощи учителя, могут поставить себе цель экскурсии, сами наметить средства для достижения этой цели, сами произвести необходимые опыты и сами выразить на словах или на бумаге полученные результаты и выводы.
Насколько полезны экскурсии в преподавании элементов природоведения, настолько же они необходимы и важны и в деле родиноведения.
Прежде построений воображения и здесь нужны наблюдения. Прежде, нежели перейти к образам, взятым с чужих слов, об отдаленных странах, мы должны использовать то, что дает ценного окружающая ребенка природа и жизнь. Надо, значит, чтобы дети наблюдали над окружающей их жизнью и природой, надо упрочить наблюдения, которые они в дошкольный период сделали, надо дополнить их живыми и непосредственными наблюдениями над тем, чего они еще не видали. Учитель, следовательно, начнет с того, что дети видят вокруг себя, он начнет с изучения родной местности и окружающей живой и мертвой природы.
Окружающая природа и жизнь — вот первые воспитатели человечества. Они воспитывали самых отдаленных из наших предков; они будут воспитывать и самых отдаленных из наших потомков. Что это надежные воспитатели — доказывает уже одно то, что они вели вперед наших предков. И если этот прогресс совершается не довольно быстро, так это потому, что природа и жизнь представляют самую трудную из всех загадок, которые призван разгадывать человек.
Проходят те времена, когда школа могла готовить только к кабинетной деятельности с пером в руке, среди книг, бумаг и рукописей, к деятельности писателя, чиновника и пр. Наступают времена, когда через общеобразовательную школу должны будут пройти все, и в том числе люди практического дела. Большинство никогда не может удовольствоваться кабинетной деятельностью. Для него нужна будет работа или среди природы на воздухе, в поле, в лесу, или в мастерской с инструментами в руках, — словом, практическая деятельность. И этим запросам жизни гораздо более отвечают экскурсии, чем занятия в душном классе.
На экскурсиях дети стоят ближе к природе и жизни, чем в школе. А в наше время все более и более входит в сознание людей мысль о том, что человек не сам себе довлеющий дух, что он подчиняется общим законам природы и жизни, что самые свободные и, казалось бы, случайные, капризные, как морская волна, поступки людей ‘Происходят по определенным законам природы, как и морская волна. И потому главная задача человека хорошо понять требования природы и жизни и надлежащим образом выполнять их. Нужно изучать жизнь и природу.
Человечество давно уже и с громадным успехом вступило на этот путь. Развитие естествознания идет с головокружительной быстротой. Оно преобразовало ‘коренным образом все сношения между людьми (железные и электрические дороги, пароходы, телеграфы, телефоны, газеты, журналы и пр.); оно отразилось на земледелии (травосеяние, минеральное удобрение, машины); оно радикально изменило весь промышленный строй. Благодаря пару, электричеству и массе других технических открытий оно преобразовало до неузнаваемости наш домашний быт, оно улучшило санитарное состояние наших городов (водопроводы, канализации, новейшие средства борьбы с заразными болезнями); оно мощно отразилось на нашем мировоззрении, на современной философии, психологии и общественных науках, — словом, оно оказало громадное влияние на все стороны культуры и во всех областях общественной жизни. В будущем гигиена брака и законы наследственности будут руководить людьми при заключении браков и в
их семейной жизни; гигиена труда будет руководить рабочим законодательством, гигиена же будет руководить при издании законов о торговле вином, табаком и пр., борьба с преступлениями будет основываться на антропологии и пр. Те законы, которые раньше писала религия, затем писали короли, а теперь пишут юристы, в будущем станут писать естествоиспытатели.
Техника может преобразовать современный экономический строй, как она уже преобразовала его раньше.
По словам Маркса, «ручная мельница дает нам феодальное общество, паровая мельница — общество капиталистического производства». Но Маркс не мог предвидеть электрической силы, призванной заменить пар. Не может ли дать эта сила новой экономии, а стало быть, и общественной структуры?
Опытные науки и техника повлекут за собой величайшую не только умственную, но и нравственную и экономическую революцию, какой до сих пор еще не знал наш старый мир.
Но что особенно важно для нас — теперь растет не только количество открытий, но еще упрощается само понимание науки, ее законы сводятся к широким, простым и ясным формулам; а эти последние иллюстрируются и доказываются опытами и наблюдениями, из которых многие доступны даже в начальной школе. Такие явления, как победа Японии сначала в войне с Китаем, а потом с Россией, показывают, как даже в военном деле велико значение техники, основанной на опытных науках и реальном образовании. Не случайно десятина земли во Франции дает 170 пудов пшеницы, а у нас — 45 пудов ржи. Во Франции опытные поля — последнее слово агрономии, а у нас в Самарской губернии навоз свозят в реку Волгу. Не случайно и Вильгельм II в Германии, и лорд Розберри в Англии заговорили о важности знаний, основанных на опыте и наблюдении.
Сам Л. Толстой, с презрением третирующий науку, так много заимствовал из опытных наук, что не составит никакого труда найти влияние их в его произведениях.
А между тем, если мы сравним наши катковские гимназии со школами Древнего Рима и со средневековой европейской школой, мы не найдем в них большой разницы. Чтение, письмо, грамматика, счисление и геометрия, вероучение, история и география, свой родной, а также и чужие языки (греческий у римлян, латинский в средние века) были и тогда. Но науки, основанные на опыте и наблюдении, сделали с тех пор гигантские успехи, преобразовали весь мир и почти не тронули до сих пор только одной школы. Могучие волны реального знания разбивались у нас до сих пор о какие-то роковые твердыни.
Мы говорили о том, какую роль играют экскурсии в деле умственного развития. Но экскурсии влияют не на один только ум ученика. Надо жалеть о том, что прогулки со школьниками не получили у нас широкого распространения еще с другой точки зрения. Уже одно сближение, какое- они вызывают между учителями и учащимися, должно было бы служить достаточным стимулом, чтобы возможно чаще практиковались подобные экскурсии. Находясь в непосредственной близости с учениками, завтракая вместе с ними, деля с ними все случайные приключения и удовольствия прогулки, учитель легче, чем когда бы то ни было, сближается с детьми. После прогулки и учитель на учеников и дети на учителя смотрят совсем иначе, чем раньше. Они стали как бы роднее. Между ними стало больше доверия друг к другу, взаимного понимания и задушевности. В их классных беседах чаще звучит нотка искренности. На прогулке учитель легче, чем когда бы то ни было, знакомится с личными особенностями каждого из них. Он узнает эгоиста по той жадности, с какой тот бросится раньше всех на сладкое блюдо; он узнает альтруиста по той помощи, какую он окажет в пути маленьким и слабым товарищам. Пред ним предстанут в совершенно новом освещении и жизнерадостные весельчаки и угрюмые, сварливые, неуживчивые, раздражительные ворчуны, выносливые, терпеливые и рядом с ними изнеженные, активные и рядом пассивные типы.
Эти прогулки создают самые тесные, близкие, родственные отношения между детьми и учителем, а потому нельзя не признать за ними большого воспитательного значения. У меня самые лучшие и самые прочные отношения между учащимися возникали и навсегда укреплялись почти исключительно на экскурсиях.
Совершенно непринужденное, естественное положение детей, вне школьной дрессировки, дает возможность несравненно лучше понять и правильнее судить о душе ученика. Случаи, на какие неожиданно наталкиваешься во время экскурсии и которые заставляют вас коренным образом изменить ваше мнение об ученике, весьма часты. Нельзя пренебрегать и тем влиянием, какое оказывает на детей во время экскурсии по окрестностям сама природа, ее красота, если бы даже такие экскурсии не сопровождались уроками предметного обучения. Во время экскурсий ученик меняет душную классную комнату на свежий воздух и простор полей и лесов. Нет классной неподвижности, сидения на одном месте, а есть оживленное движение. Вместо книг, формул, цифр, номенклатуры — сама жизнь. Все это живительным образом действует на организм, ускоряет кровообращение и дыхание, усиливает обмен веществ, возбуждает мозг, а вместе с тем обостряет восприимчивость впечатлений, наблюдательность и творчество. К. Д. Ушинский писал: «Я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога; что день, проведенный ребенком посреди рощ и полей, когда его головой овладевает какой-то упоительный туман, в теплой влаге которого раскрывается все его молодое сердце для того, чтобы беззаботно и бессознательно впитывать в себя мысль и зародыши мыслей, потоком льющиеся из природы, — что такой день стоит многих недель, проведенных на учебной скамье».
И наш знаменитый педагог безусловно прав в этом отношении. Любовь к природе, потребность наслаждаться ее красотой заложена глубоко внутри человека и принадлежит к числу наиболее древних и наиболее прочных инстинктов человечества. Эта любовь есть и у ребенка, как она была и у первобытных людей, с которыми нам так часто приходится сравнивать детей и в умственном и в нравственном отношении. Но одного инстинкта мало. Даже мы, взрослые люди, очень часто открываем какую-нибудь новую для нас красоту в природе лишь после того, как нам укажут на нее либо окружающие нас более тонкие эстетики, либо картина талантливого художника, либо художественное описание поэта или беллетриста. Можно сказать, что природа Орловской губернии не казалась такой красивой, пока не было Тургенева; Кавказ не был так поэтичен, пока его не воспел Лермонтов. И мы должны приучать детей находить красоту в природе: в лесу, в водах, в горах, как в целом ландшафте, так и в отдельном цветке, дереве, ручейке, обрыве, камешке и пр. Человеческая жизнь имела бы менее цены, если бы нам не доставляла наслаждение природа своей красотой. И потому на экскурсиях с детьми не будем забывать и об эстетическом воспитании, дадим детям возможность пережить приятные эмоции, какие доставляет прелесть окружающей природы.
Конечно, для этого необходимо, чтобы сами руководители экскурсий любили природу и понимали ее красоту. Только тот, кто сам переживает эстетические эмоции, в состоянии заразить ими другого. Но есть и еще средство обратить внимание детей на красоту природы. Это в лесу читать художественное описание леса, в горах — стихи или прозу, изображающие красоту гор; близ моря — соответствующие беллетристические описания. Таким образом мы заставим поэта или беллетриста служить нашим путеводителем; он будет указывать нам красоты природы там, где без него мы ничего бы не заметили. Он заставит нас пережить живые, свежие впечатления, радости, эмоции, похожие на те, какие пережил он сам в подобных же условиях. Он заставит нас почувствовать ту нашу связь с природой, на какую указал еще Гете: «С зеленеющими, цветущими и плодовыми деревьями вокруг нас, с каждым кустом, мимо которого мы проходим, с каждой былинкой, которую мы топчем, мы находимся в естественной связи, они наши настоящие соотечественники».
Этой связи с природой не почувствует ребенок в четырех стенах своей школы, которая при современных условиях дисциплины, программ и экзаменов иногда напоминает тюрьму или казарму. Не здесь он сольется с природой, полюбит ее, заимствует от нее жизненные силы, не здесь получит он те яркие и радостные впечатления от природы, без которых он может остаться на всю жизнь вялым, забитым, угрюмым, безрадостным существом. Эта оборотная сторона современной культуры давно уже начинает вызывать резкие протесты. Достаточно вспомнить Руссо и Толстого.
КОММЕНТАРИИ
Всеобщее начальное обучение
Реферат, с которым В. П. Вахтеров выступил 14 января 1894 г. в Московском комитете грамотности. В том же году реферат был ойубликован в журнале «Русская мысль». Печатается в сокращении по изданию: Типолитография Т-ва И. Н. Кушнеров и К°. М., 1894. ,
На протяжении всей своей педагогической деятельности В. П. Вахтеров неоднократно обращался к проблемам всеобщего начального обучения, которые приобрели особую актуальность в начале 90-х гг. XIX в. в связи с быстрым развитием экономики России.
Внимание к проблеме введения в России всеобщего обучения отражало демократические стремления Вахтерова, который видел в просвещении важнейшее средство изменения социальных условий жизни народа.
Ссылки на официальные документы, статистические сборники, публикации общей и педагогической прессы, которые содержатся в статье, были необходимы Вахтерову для обоснования своей позиции. Он, например, считал, что экономическая отсталость России и низкий уровень жизни народа в значительной степени связаны с тем, что правительственные учреждения России не заинтересованы в распространении образования.
Для современного читателя эта работа интересна не только как свидетельство общественно-педагогических взглядов и деятельности В. П. Вахтерова, но и как важный документ истории культуры и просвещения России конца XIX в.
1 Манифестом 19 февраля 1861 г. было отменено крепостное право в России.
2 Речь идет о «Положении в начальных народных училищах», которое устанавливало новую систему руководства народным образованием, окончательно ликвидировав систему управления учебными заведениями, введенную Уставами 1804 и 1878 гг. Народная школа изымалась из ведения директоров гимназий и штатных смотрителей уездных училищ и передавалась в ведение уездных и губернских училищных советов.
* Государственный совет — высший законосовещательный орган Российской империи в 1810 — 1917 гг. Рассматривал внесенные министрами законопроекты до их утверждения царем, сметы и штаты государственных учреждений.
4 Ведомство учреждений императрицы Марии — управление, ведавшее в дореволюционной России некоторыми женскими учебно-воспитательными учреждениями (институтами, так называемыми мариинскими гимназиями и училищами, приютами). Существовало с 1796 по 1917 г.
5 Толстой Дмитрий Андреевич (1823 — 1889) — граф, русский гос. деятель, реакционер. В 1865 — 1880 гг. — обер-прокурор Синода, в 1866 — 1880 гг. — министр народного просвещения.
6 Корф Николай Александрович (1834 — 1883) — русский педагог, методист начального обучения, организатор*земских школ.
7 Васильчиков Александр Илларионович (1818 — 1881) — князь, русский экономист, публицист, земский деятель.
8 Бунаков Николай Федорович (1837 — 1904) — русский педагог, разрабатывал основы начального обучения, методист русского языка.
9 Страннолюбский Александр Николаевич (1839 — 1903) — русский педагог, методист-математик.
10 Владимир I (? — 1015) — князь новгородский (с 969 г.), киевский (с 980 г.). В 988 — 989 гг. ввел в качестве государственной религии христианство. При Владимире I древнерусское государство вступило в период своего расцвета, усилился международный авторитет Руси. Канонизирован русской церковью.
Ярослав Мудрый (ок. 978 — 1054) — великий князь киевский (с. 1019). Сын Владимира I. При нем составлена «Русская правда» — свод древнерусского феодального права.
Роман Ростиславович — князь смоленский, князь киевский (1175 — 1177), был одним из самых просвещенных древнерусских князей; очень заботился о насаждении образования в своей вотчине — на смоленской земле.
11 «Стоглав» — сборник решений Стоглавого собора 1551 г. Состоит из 100 глав. Кодекс правовых норм внутренней жизни русского духовенства и его взаимоотношений с обществом и государством. Обучению в училищах посвящены главы 25 и 26.
12 Посошков Иван Тихонович (1652 — 1726) — русский экономист и публицист, сторонник преобразований Петра I.
13 Имеется в виду «Устав учебных заведений, подведомых университетам», опубликованный одновременно с «Уставом университетов Российской империи» 5 ноября 1804 г. Эти документы определяли основные принципы государственной системы народного образования.
14 Школы, находившиеся в ведении органа местного городского самоуправления — городской думы.
15 Борткевич Владислав Иосифович (1868 — 1931) — русский статистик.
16 Буняковский Виктор Яковлевич (1804 — 1889) — русский математик, академик Петербургской АН (1830).
17 Остзейские губернии — в Российской империи общее название Курляндской, Лифляндской и Эстляндской губерний (современная территория Эстонской ССР и большей части Латвийской ССР).
18 Область Войска Донского — административно-территориальная единица в Российской империи, населенная донскими казаками и управлявшаяся по особому положению. Административный центр — г. Новочеркасск.
19 Дерптский учебный округ — один из первых 6 учебных округов, учрежденных в России в соответствии с «Уставом университетов Российской империи» 1804 г. Дерпт — название г. Тарту в период 1224 — 1893 гг.
20 Селиванов Василий Васильевич (1813 — 1875) — русский земский деятель, беллетрист.
21 Бер Поль (1833 — 1886) — французский ученый и гос. деятель, республиканец, противник католического духовенства.
22 Кауфман Александр Аркадьевич (1864 — 1919) — русский экономист и статистик, один из организаторов и лидеров партии кадетов.
23 Симон Жюль (1814 — 1896) — французский философ, политический деятель.
Нравственное воспитание и начальная школа
Работа впервые была опубликована в 1898 г. в журнале «Русская мысль» (№ 5, 6, 10 — 12). В 1900 и 1901 гг. вышла отдельными изданиями. Публикуется по изданию 1901 г.: Типолитография Т-ва И. Н. Кушнеров и К°. М., 1901.
В этой книге выражены взгляды В. П. Вахтерова на проблемы теории воспитания. Он поднимает важные вопросы, которые могут представлять интерес и для современной школы. Это обоснование им социально-психологической и воспитательной роли труда в жизни человека и необходимости воспитания у детей твердого убеждения в том, что труд обеспечивает успех, здоровье и дает человеку нравственное удовлетворение. Вахтеров показывает широкие возможности школы в подготовке человека к труду «не для себя самих только, но и для других», в воспитании «общественных чувств и привычек к общественной деятельности». Поднимая вопросы воспитания школьной дисциплины, Вахтеров особое внимание обращает на формирование общественного мнения в коллективе. Актуальны такие его указания по поддержанию школьной дисциплины, как создание учителем интереса к занятиям, предупреждение утомления, посильность занятий, осознанность и понимание изучаемого материала, сочетание наглядности с живым словом учителя, правильная школьная обстановка и активная позиция детей в установлении школьных порядков и др. Особое внимание в воспитании детей В. П. Вахтеров отводит учителю. Идеалом учителя для него был человек образованный, культурный, пользующийся авторитетом и уважением среди детей и родителей, являющийся примером для молодого поколения. Он совершенно правильно считал, что авторитет учителя находится в прямой связи с его знаниями, с его любовью к детям. Большую роль Вахтеров отводит творческому, вдохновляющему высокими идеалами труду учителя, отстаивает право учителя на свободное педагогическое творчество.
1 О деле Слетовой подробнее см.: Грустный процесс тамбовских народных учителей //Русская школа. 1897. № 7 — 8. С. 385 — 397.
2 Горбунов Иван Федорович (1831 — 1895/96) — русский писатель, актер, мастер устных рассказов из народного быта.
3 Статья В. П. Вахтерова «Общеобразовательные задачи народной школы» была опубликована в «Русской мысли» (1897. № 11. С. 79 — 96).
4 Песталоцци Иоганн Генрих (1746 — 1827) — швейцарский педагог-демократ, основоположник теории начального обучения. Цитата (вольная) из произведения Песталоцци «Письмо другу о пребывании в Станце» (см.: Избр. пед. соч. М., 1981. С. 53).
5 Имеется в виду Екатерина II Алексеевна (1729 — 1796) — российская императрица с 1762 г.
6 Стоюнин Владимир Яковлевич (1826 — 1888) — русский педагог, методист-словесник.
7 Спенсер Герберт (1820 — 1903) — английский философ и социолог, один из основателей позитивизма, идеолог буржуазного либерализма.
8 Цит. по кн.: Спенсер Г. Статьи о воспитании. СПб., 1914. С. 83.
9 См.: там же. С. 83 — 84.
10 Белоконский Иван Петрович (1855 — 1931) — руссшГ публицист, земский статистик, участник народнического движения.
11 Сикорский Иван Александрович (?) — русский врач, исследователь вопросов высшей нервной деятельности, профессор Киевского университета.
12 Вагнер Владимир Александрович (1849 — 1934) — советский биолог-
дарвинист, основатель сравнительной психологии в России.
13 Гюйо Жан Мари (1854 — 1888) — французский философ-позитивист, сторонник утилитаризма; рассматривал духовные явления с точки зрения их биологической полезности.
14 Бине А. и Анри В. — французские психологи, представители экспериментальной педагогики.
15 См.: Пирогов Н. И. Дневник старого врача // Избр. пед. соч. М., 1953. С. 518 — 519.
16 Дистервег Адольф (1790 — 1866) — немецкий педагог-демократ, последователь Песталоцци.
17 Острогорский Алексей Николаевич (1842 — 1917) — русский педагог, писатель, редактор педагогических журналов «Детское чтение» (начало 70-х гг. XIX в.), «Педагогический сборник» (1883 — 1910).
18 Грановский Тимофей Николаевич (1813 — 1855) — русский историк, общественный деятель, глава московских западников. Выступал против деспотизма и крепостничества.
19 Кольридж Самюэль Тейлор (1772 — 1834) — английский поэт, критик, богослов, реформатор английской поэзии, один из виднейших представителей реакционного романтизма в литературе Англии.
20 Кант Иммануил (1724 — 1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.
Цезарь Гай Юлий (102 или 100 — 44 до н. э.) — римский диктатор, политический деятель.
Микеланджело Буонаротти (1475 — 1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт.
21 Тейлор (Тэйлор) Э. Б. (1832 — 1917) — автор работ по культуре первобытного общества.
22 Фенелон Франсуа (1651 — 1715) — французский писатель, архиепископ, автор педагогических трактатов. Неточная цитата из его труда «О воспитании девиц» (М., 1913. С. 23).
23 Франклин Бенджамин (1706 — 1790) — американский просветитель, государственный деятель, ученый, один из авторов Декларации независимости США (1776) и Конституции 1787 г.
24 «За и против» (лат.),
25 Рибо Теодюль Арман (1839 — 1916) — французский психолог и психопатолог,
родоначальник экспериментальных исследований высших психических процессов во Франции.
26 Дарвин Чарлз Роберт (1809 — 1882) — английский естествоиспытатель, создатель материалистической теории эволюции органического мира Земли.
27 Джемс Уильям (1842 — 1910) — американский философ-идеалист и психолог, один из основателей прагматизма.
28 Мюссе Альфред де (1810 — 1857) — французский поэт-романтик.
29 Жорж Занд — Санд Жорж (наст, имя Аврора Дюпен) (1804 — 1876) — французская писательница. ,
30 Паскаль Блез (1623 — 1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик.
31 Оуэн Роберт (1771 — 1858) — английский социалист-утопист.
32 Локк Джон (1632 — 1704) — английский философ-материалист, педагог, психолог. Приведена неточная цитата из его произведения «Мысли о воспитании».
33 Каннинг Джордж (1770 — 1827) — английский государственный деятель, лидер тори, занимал должности министра иностранных дел и премЬер-мийистра.
34 Милль Джон Стюарт (1806 — 1873) — английский философ, экономист и общественный деятель, основатель английского позитивизма. Неточная цитата из «Автобиографии» Милля.
35 Неточная цитата из статьи Г. Спенсера «Моральное воспитание» (см.: Спенсер Г. Статьи о воспитании. СПб., 1914. С. 101).
36 Нерон (37 — 68) — римский император (с 54 г.).
Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский политический деятель, философ, писатель, представитель стоицизма, был воспитателем НерОна.
37 Эртель Александр Иванович (1855 — 1908) — русский писатель.
38 Тимковский Николай Иванович (1863 — 1922) — русский писатель.
39 Вересаев (Смидович) Виктор Викторович (1867 — 1945) — русский советский писатель.
40 Речь идет о Добролюбове Николае Александровиче (1836 — 1861) — русском литературном критике, публицисте, революционном демократе. Приведены цитаты из его статьи «Что такое обломовщина?».
41 Ушинский Константин Дмитриевич (1824 — 1870) — русский педагог-демократ, основоположник научной педагогики в России. Приведенные цитаты даны_ неточно, взяты из статьи «Труд в его психическом и воспитательном значении».
42 Домициан (51 — 96 н. э.) — римский император (с 81 г.).
43 Тацит (ок. 56 — ок. 117) — римский историк.
44 Кольцов Алексей Васильевич (1809 — 1842) — русский поэт.
45 Цшокке Иоганн Генрих Даниэль (1771 — 1848) — немецкий писатель.
Блинов Николай Николаевич (1839 — ?) — педагог-священник, беллетрист.
Дружинин Александр Васильевич (1824 — 1864) — русский публицист, писатель.
46 Альфиери Витторио (1749 — 1803) — итальянский поэт.
47 Виньи Альфред Виктор де (1797 — 1863) — французский писатель-романтик.
48 Конт Огюст (1798 — 1857) — французский философ, один из основателей позитивизма и буржуазной социологии.
49 Брем Альфред Эдмунд (1829 — 1884) — немецкий зоолог, путешественник, просветитель, автор сочинения «Жизнь животных».
50 Рихтер Жан Поль (наст, имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер) (1763 — 1825) — немецкий писатель.
51 Успенский Глеб Иванович (1843 — 1902) — русский писатель.
52 Засодимский Павел Владимирович (1843 — 1912): — русский писатель народнического направления.
53 Симоновский В. — учитель Хорольского уезда Полтавской губернии, автор ряда публикаций в педагогической периодике, писал о Вахтерове в журнале «Русская школа».
54 Десятский — в Российской империи выборное должностноелицо из крестьян для выполнения полицейских и различных общественных функций. Обычно избирался на 10 дворов.
Исправник — в России глава уездной полиции. В 1775 — 1862 гг. избирался дворянами (назывался капитан-исправник), затем назначался правительством.
Мир в рассказах для детей
Книга для классного чтения в начальных училищах (ч. I) Впервые опубликована в издании Т-ва И. Д. Сытина (М., 1900; ч. II, М., 1901).
Вся деятельность В. П. Вахтерова тесно была связана со школой. Свои педагогические и дидактические идеи он воплощал в методических пособиях для учителей и учебных книгах для учащихся. Одним из его крупных достижений в этой области является книга для классного чтения «Мир в рассказах для детей», построенная на основе принципа наглядности и светского характера образования. Так же как и К. Д. Ушинский, В. П. Вахтеров включал в свои книги для чтения богатейший материал из области естествознания, истории и географии. Подчеркивал их огромное образовательное и воспитательное значение. Вахтеров считал, что естественные науки развивают у учащихся наблюдательность, творческое воображение, умение сравнивать, делать выводы и т. д. Ценными являются для современной практики обучения его выводы о необходимости связи обучения с практической жизнью. Учебные книги Вахтерова, так же как и «Мир в рассказах для детей», отличаются простотой, ясностью изложения, доступностью и наглядностью, наличием методически обработанного научного материала. Все это усиливало их воспитательно-образовательное значение, требовало от учащихся большой самостоятельности в овладении знаниями, активности, проведения доступных опытов под руководством учителя, применения разнообразных методических приемов.
«Мир в рассказах для детей» сыграл огромную роль в приобщении молодого поколения к науке, к русской культуре. В первые годы развития советской школы эта книга для внеклассного чтения признавалась Наркомпросом как одна из лучших.
1 Выбор статей для чтения, по нашему мнению, определяется не только интересами детей, но прежде всего задачами коммунистического воспитания детей и планом работы учителя. Возбудить интерес к читаемому — дело учителя, и в этом огромную роль играет его педагогическое мастерство.
Наши методы преподавания и умственный паразитизм
Статья была опубликована в журнале «Русская школа» (1901. № 1. С. 186 — 201; № 2, С. 174 — 190). Печатается в сокращении по данной публикации.
В этой работе наиболее полно отразились взгляды В. П. Вахтерова на воспитывающий характер школьного обучения. По его мнению, обучение должно быть развивающим, направленным прежде всего на развитие активности и самостоятельности учащихся. Эта идея разрабатывалась им в публикациях последующих лет, особенно в статье «Предметный метод обучения».
Определяя границы и возможности применения эвристического метода, В. П. Вахтеров в то же время высказывался за рациональное соединение разнообразных методов обучения.
1 Лессинг Готхольд Эфраим (1729 — 1781) — немецкий драматург, критик, основатель немецкой классической литературы.
2 Спиноза Бенедикт (1632 — 1677) — нидерландский философ-материалист, пантеист.
3 Кеплер Иоганн (1571 — 1630) — немецкий астроном, один из творцов астрономии нового времени.
4 Бытие, 41, 1 — 5.
5 Самоеды — старое русское название саамских племен северной Руси; позднее перенесено на ненцев, энцев, нганансан и селькупов.
6 Грот Яков Карлович (1812 — 1893) — русский филолог, академик Петербургской АН (1856).
7 Гедимин (? — 1341) — великий князь литовский (с 1316 г.).
8 Иаков — в библейской мифологии младший йз двух сыновей-близнецов Исаака и Ревекки. Откупил у брата Исава право первородства за чечевичную похлебку и хитростью получил благословение Исаака как первородный сын.
9 Лесгафт Петр Францевич (1837 — 1909) — русский педагог, анатом и врач. Цитата из сочинения «Семейное воспитание ребенка и его значение» (см.: Избр. пед. соч. Т. I. М., 1951. С. 193).
10 Алчевская Христина Даниловна (1841 — 1920) — русский деятель в области образования взрослых.
11 Конради Евгения Ивановна (1838 — 1898) — деятель русского женского движения, публицист, переводчик, автор статей о воспитании.
12 Крюзи Герман (1775 — 1844) — швейцарский педагог, сотрудник Песталоцци в Бургдорфе и Ивердоне.
На первой ступени обучения
Методическое руководство к обучению письму
и чтению по «Русскому букварю»
Впервые опубликовано в издании Т-ва И. Д. Сытина (М., 1901).
Вопросы начального образования, поднятые В. П. Вахтеровым в ряде работ для учителей — «Предметный метод обучения», «Основы новой педагогики» и др., последовательно рассматриваются и в методическом руководстве «На первой ступени обучения». В нем широко представлены такие вопросы методики обучения грамоте, как основы звукового метода обучения, преимущество аналитикосинтетического метода совместного обучения чтению и письму, система расположения и введения звуковых и слоговых трудностей, этапы букварного чтения, основные приемы обучения грамоте.
В. П. Вахтеров является основателем буквенно-звукового аналитикосинтетического метода обучения чтению и письму. Он развивает положение К. Д. Ушинского и продвигает вперед методику обучения грамоте. Именно на основе аналитико-синтетического метода были построены его учебные кнцги для начальной школы — «Русский букварь» и книга для классного чтения «Мир в рассказах для детей». В. П. Вахтеров считал, что одновременное обучение чтению и письму делает более осмысленным анализ слов и их синтез. «Чтобы написать слово, надо сначала разложить его на звуки, а чтобы прочитать слово, надо слить составляющие его звуки. Таким образом, письмо сводится к разложению, к анализу слов, хотя и проверяется синтезом, а чтение сводится к слиянию, к синтезу, хотя и может быть проверено анализом». Опираясь на психологию детей, Вахтеров проводит мысль о необходимости сделать обучение грамоте сознательным. По его мнению, следует давать простор для самостоятельности детей, используя для этого соединение чтения с письмом и эвристический метод обучения, чтобы «с первых шагов обучения дети привыкали к самодеятельности...» Он разработал подробную методику приучения детей к сознательному чтению и методику проведения объяснительного чтения, тесно увязывая их с воспитательными задачами.
В его аналитико-синтетическом методе обучения грамоте даны оригинальные приемы для слияния звуков в слоги и слова. Он всесторонне изучил механизм произнесения отдельных звуков и раскрыл механизм борьбы с косноязычием и неправильным произношением детей. f
В. П. Вахтеров отрицательно относился к звуковым упражнениям в добуквар-ный период без связи их со зрительными образами. Учитывая интересы и стремления детей к овладению грамотой, он рекомендует с первых же уроков наряду со звуковыми упражнениями обучать чтению. Он выступает противником механических упражнений, смысл которых не понятен детям. По его мнению, в начальной школе основное внимание должно быть уделено «толковому чтению». Критикует В. П. Вахтеров школу и за чрезмерное увлечение проверочными диктантами — особым видом упражнений. Они широко практиковались в обучении грамоте в ущерб «чтению художественных произведений, знакомства с явлениями природы, изучения истории... географии родины, умственного и нравственного развития детей, ...стремления к самообразованию...»
В данной работе В. П. Вахтеров рекомендовал из содержания обучения отбирать лишь то, что ценно по своему образовательному и воспитательному значению. И если содержание материала, писал он, «превышает силы учащихся или же вызывает скуку», то без сожаления надо исключить его из изучаемого курса. Таким образом, Вахтеров требует строить обучение на каждой ступени на принципах доступности, учета интересов, стремлений и возрастных особенностей школьников.
В. П. Вахтеров рационально решал вопрос об отношении к опыту прошлого.
Он считал, что опыт надо перенимать с учетом «особенностей нашего языка и нашей народной школы», с учетом тех традиций, тех черт, которые исторически сложились у различных народов. Он так же, как и К. Д. Ушинский, выступал против механического перенесения педагогики западных стран «на русскую почву».
Рассматривая вопросы методики обучения грамоте, В. П. Вахтеров предъявляет высокие требования к подготовке учителя. Он резко осуждает распространенное среди школьной общественности мнение о том, что «обучение грамоте, букварю, алфавиту, азбуке... дело совсем не важное, не серьезное, не требующее от учителя ни знаний, ни ума, ни таланта». Школьное руководство «хотело бы закупорить учительские мозги, — пишет Вахтеров, — они хотели бы так законопатить их, чтобы потом никакие силы не в состоянии были бы их расконопатить». Вахтеров твердо убежден, что «на хорошо заложенном основании построится и прочное здание». Поэтому он требует, чтобы учитель народной школы имел законченное среднее специальное образование, овладел наукой «в собственном смысле этого слова».
Новая школа
Впервые опубликовано в журнале «Народный учитель» (1906. № 13. С. 3 — 6). Печатается по данной публикации.
Статья «Новая школа» была включена автором в коллективную «Записку об организации начальной школы на новых началах, соответствующих новому, демократическому строю» (М., 1906), изданную Московской Лигой образования.
В статье выражены взгляды В. П. Вахтерова на цели, задачи, способы организации начальной школы, содержание образования, методы обучения и воспитания в школе, руководимой принципами «рациональной» педагогики.
1 Имеется в виду циркуляр министра народного просвещения И. Д. Делянова от 18 июня 1887 г., направленный на резкое сокращение в средних учебных заведениях учащихся — выходцев из «низших» слоев населения.
Спор между школой и обществом
Впервые статья опубликована в. газете «Русские ведомости» в 1906 г., позже включена в сборник «Спорные вопросы образования» (М., 1907). Печатается по последней публикации.
Статья была написана в условиях общественного подъема, вызванного русской революцией 1905 — 1907 гг. В ней резко выражены социальнопедагогические взгляды В. П. Вахтерова, его критическое отношение к феодально-сословной системе народного образования в России. Много внимания в статье уделяется идее административной независимости школы и учителя от государственного контроля и давления со стороны многочисленных инстанций. При этом автор подчеркивает, что необходимо всегда помнить о том, что деятельность педагога имеет всегда творческий характер. Впоследствии В. П. Вахтеров неоднократно возвращался к этой идее, в частности в статье «Свобода учительского творчества» (1914).
В статье автор обращается к проблеме профессиональной подготовки учителя, содержания его работы, свободы его деятельности и допустимых форм контроля над нею. По его мнению, будущий народный учитель должен обладать широким образованием, а также знаниями, имеющими прямое отношение к его профессии. Но он должен не только знать, но и уметь; он должен обладать умением обучения, приобретаемым на практических занятиях в школе. «Будем мы иметь хороших учителей, — говорит Вахтеров, — надлежащее развитие школьного дела будет обеспечено». В новой школе учитель будет, по Вахтерову, воспитывать не рабов, не обывателей, лишенных воли, а свободных граждан. Но для этого учитель должен иметь возможность принимать участие как в общественной жизни, так и в политической борьбе, проводить в жизнь и бороться за свои общественные и политические идеалы. Нетрадиционным явился подход Вахтерова к рассмотрению проблемы рационального сотрудничества школы, семьи и органов местного народного самоуправления. Вахтеров убежден, что необходимо сблизить школу с жизнью, привлечь к участию в школьном деле все общество, все живые силы страны,
и прежде всего тех, кому дороги дети, их счастье, их развитие, — родителей. «Школа, имеющая на своей стороне семью, всесильна; школа, враждующая с семьей, мертва и ничтожна по своему значению», — говорит Вахтеров.
1 Аракчеев Александр Андреевич (1769 — 1834) — русский гос. деятель, генерал, в 1815 — 1825 гг. — фактический руководитель государства, организатор и главный начальник военных поселений.
2 Сперанский Михаил Михайлович (1772 — 1839) — русский гос. деятель, автор плана либеральных преобразований при Александре I.
3 Андреев Леонид Николаевич (1871 — 1919) — русский писатель.
4 Шаляпин Федор Иванович (1873 — 1938) — русский певец.
5 Имеются в виду поражения России в Крымской войне 1853 — 1856 гг. и русско-японской войне 1904 — 1905 гг., вызванные социальной и экономической отсталостью России.
6 Синод (Святейший синод) — один из высших государственных органов России в 1721 — 1917 гг.; ведал делами православной церкви.
7 Победоносцев Константин Петрович (1827 — 1907) — русский гос. деятель, юрист, в 1880 — 1905 гг. — обер-прокурор синода.
8 Плеве Вячеслав Константинович (1846 — 1904) — министр внутренних дел России, шеф отдельного корпуса жандармов (1902 — 1904), крайний реакционер.
Возможно ли равное для всех общее образование?
Впервые опубликовано в издании Т-ва И. Д. Сытина (М., 1907).
В данной работе В. П. Вахтеров рассматривает ряд актуальных педагогических проблем начального образования и общих коренных педагогических положений. Подвергает резкой критике современную ему систему образования за наличие в ней неравенства. Требует для всех без исключения, в том числе и для «кухаркиных» детей, всеобщего равного и общедоступного образования. «Наш идеал, — писал он, — равное для всех общее образование. При идеальной системе просвещения не должно быть ни низшего, ни среднего, ни высшего общего образования, а должна быть общая для всех общеобразовательная школа...» Однако он не смог понять, что в условиях самодержавного строя равное для всех образование немыслимо, не осознал тот факт, что только после пролетарской революции может претвориться в жизнь этот демократический принцип.
Говоря о равной для всех школе, Вахтеров имел в виду не специальные и не профессиональные учебные заведения, а только одну общеобразовательную школу. Совершенно справедливо он отмечал, что людям всех специальностей кроме специальных знаний нужны одинаковые общеобразовательные знания.
К преподаванию общеобразовательных предметов В. П. Вахтеров предъявлял такие педагогические требования, как изучение главного, существенного в предмете, введение в курс изучаемого материала наиболее достоверных понятий, законов, фактов, проиллюстрированных доступными для понимания учащихся опытами, примерами. Рекомендуя отбирать только самое ценное и достоверное, общее и существенное из наук, Вахтеров утверждал: «Народу должны быть сообщены самые последние выводы науки, ...а не средневековые суеверия...»
Как и К. Д. Ушинский, Вахтеров значительное место в своих работах отводит раскрытию и обоснованию дидактических принципов обучения, выступает против «тягостного, принудительного» характера обучения, против зубрежки, механического запоминания, требует строить его на принципах сознательности и активности, доступности обучения, опоры на интерес к предметам, раскрытия значимости и полезности знаний для жизни.
В обучении необходимо опираться на естественные стремления ребенка к знаниям и давать им правильное направление. По мнению В. П. Вахтерова, лучшее понимание материала достигается не тогда, когда ученикам преподносятся готовые выводы, правила, обобщения, слепо принимаемые на веру, а когда учащиеся сами, самостоятельно ищут ответы на возникающие вопросы, сравнивают, делают выводы, обобщения.
В статье поднимается вопрос и о важности межпредметных связей, от которых в значительной степени зависит «основательность и прочность знаний» учащихся. «Нужны связи между знаниями, нужна гармония... узнать предмет — это значит определить его связь с другими предметами... Мыслить — это значит связывать идеи друг с другом... быть развитым — это значит обладать наибольшим запасом наиболее важных и наилучше связанных между собой образов и понятий...»
Тяжба между общим и профессиональным образованием
Впервые опубликовано в журнале «Русское слово» (1906). Печатается по изданию Т-ва И. Д. Сытина (М., 1907).
В статье проводится мысль о том, что методы и приемы преподавания должны определяться природой, способностями ребенка, «анализом его душевных сил», а не анализом предметов преподавания. По Вахтерову, общеобразовательная школа должна воспитывать человека, развивать его природные способности. Здесь поднимается также вопрос о необходимости широкого распространения специального профессионального образования. Причем внимание автора акцентируется на том, что специалист должен обладать общими для всех людей знаниями. Общее образование Вахтеров считает основой профессионального, «оно создает почву, на которой легко и пышно расцветает любая профессия и любая специальность... Задачу общего образования должна решать начальная школа. Однако оно должно осуществляться и средней и высшей школой... в будущем не должно быть разделения общего образования на высшее, среднее и начальное. Образование справедливо сравнивают с солнечным светом, но солнце одинаково светит и бедным и богатым. Так и общее образование в противоположность профессиональному должно быть одинаковое для всех...»
Предметный метод обучения
Первое издание работы вышло в 1907 г., последнее (пятое) в 1918 г. Издание Т-ва И. Д. Сытина. Печатается в сокращении по последнему изданию.
Данная работа не утратила своего значения и в наши дни. В ней В. П. Вахтеров рассматривает коренные вопросы теории воспитания и обучения в начальной школе.
Подвергая критике существовавшее содержание обучения и программы начальной школы, пропитанные духом религии и направленные лишь на привитие детям механических умений и навыков (чтения, письма и счета), он требует такого содержания обучения, которое в наибольшей степени отвечало бы задачам всестороннего развития ребенка. Он предложил учебный план для начальной школы, в котором, подобно К.Д. Ушинскому, определил оцэомное образовательно-воспитательное значение таких предметов, как родной язык, естествознание, история, география, арифметика, элементы обществоведения, ручной труд.
На основе экспериментальных данных и своего большого разностороннего практического опыта Вахтеров развивает передовые для своего времени дидактические взгляды. Особенно большое внимание уделяет пропаганде таких методов обучения и воспитания, которые развивают активность, самостоятельность и самодеятельность учащихся, повышают их интерес к знаниям. Предлагает строить процесс обучения на основе сознательности, самостоятельности, наглядности в сочетании с живым словом учителя, учета психологических особенностей детей. Считает важным вводить в обучение элементы исследования и др.
Следует отметить, что в этой работе Вахтеров развивает свои взгляды на педагогику в целом, на ее задачи и методы. Он выступает против педагогики, выведенной дедуктивным путем из общих, отвлеченных положений, не проверенных на практике.
1 Бриджмен Лаура (1829 — 1889) — американка, первая из слепоглухонемых получившая систематическое образование.
2 Келлер Елена (Элен) (1880 — ?) — слепоглухонемая, получившая высшее образование и ставшая доктором философии.
3 Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646 — 1716) — немецкий философ-идеалист, математик, физик, языковед.
4 Бэкон Фрэнсис (1561 — 1626) — английский философ, родоначальник английского материализма.
5 Михайловский Николай Константинович (1842 — 1904) — русский социолог, публицист, литературный критик, народник.
6 Мейман Эрнст (1862 — 1915) — немецкий педагог и психолог, основатель экспериментальной педагогики в Германии.
7 Галл (точнее Холл) Гренвилл Стэнли (1846 — 1924) — американский психолог, один из основоположников педологии, сторонник экспериментальной педагогики.
8 Пиццоли Гуго — немецкий психолог-экспериментатор (начало XX в.).
9 Нечаев Александр Петрович (1870 — 1948) — русский психолог, возглавлял экспериментальное направление в дореволюционной педагогической психологии.
Богданов-Бельский Николай Петрович (1868 — 1945) — русский живописец, передвижник.
11 Перов Василий Григорьевич (1833/34 — 1882) — русский живописец, один из организаторов Товарищества передвижников.
12 Цыганов Николай Степанович (? — 1833) — русский артист, поэт, автор песен, ставших народными, — «Вниз по матушке по Волге», «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» и др.
13 Аксаков Сергей Тимофеевич (1791 — 1859) — русский писатель.
14 Лобзин Макс — немецкий психолог конца XIX — начала XX в.
15 Эббингауз Герман (1850 — 1909) — немецкий психолог, положил начало экспериментальному исследованию высших психических функций.
Кершенштейнер Георг (1854 — 1932) — немецкий педагог, теоретик буржуазной «трудовой» школы и гражданского воспитания.
17 Катков Михаил Никифорович (1818 — 1887) — публицист, издатель. В молодости был участником демократического кружка И. В. Станкевича. С начала 60-х гг. — реакционер.
18 Лот — в библейской мифологии племянник Авраама. Его жена была превращена в соляной столб за то, что при бегстве из г. Содома оглянулась, несмотря на запрет бога.
19 Вольта Алессандро (1745 — 1827) — итальянский физик и физиолог, один из основателей учения об электричестве.
Гей-Люссак Жозеф Луи (1778 — 1850) — французский химик и физик.
Араго Доминик Франсуа (1786 — 1853) — французский ученый и политиче-
ский деятель.
Эрстед Ханс Христиан (1777 — 1851) — датский физик.
Фарадей Майкл (1791 — 1867) — английский физик, основатель учения об
электромагнитном поле.
Малюта Скуратов — прозвище Скуратова-Бельского Григория Лукьяновича (? — 1573) — думного дворянина, приближенного Ивана IV, главы опричного террора.
21 Муравьев Михаил Николаевич (1796 — 1866) — русский гос. деятель, генерал от инфантерии (1863), в 1851 — 1861 гг. — министр государственных имуществ, за жестокость при подавлении польского восстания 1863 г. прозван вешателем.
22 «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...» — слова из стихотворения А. Фета.
23 Моррис Вильям (Уильям) (1834 — 1896) — английский художник, писатель, теоретик искусства.
24 Гарибальди Джузеппе (1807 — 1882) — народный герой Италии, один из вождей национально-освободительного движения за объединение Италии в середине XIX в.
25 «Казенка» — питейное заведение; называлось так, потому что находилось в ведении Казенной палаты, органа Министерства финансов России.
Основы новой педагогики
Впервые опубликовано в издании Т-ва И. Д. Сытина (М., 1913). Эта работа, являясь главным теоретическим трудом В. П. Вахтерова, осталась незаконченной. Первый том был напечатан дважды: в 1913 и 1916 гг. Материалы второго (незавершенного) тома хранятся в научном архиве АПН СССР. В данном издании печатаются введение к первому тому, в котором выражены основные идеи книги, и гл. II «Стремление к развитию».
Эта работа посвящена общим вопросам воспитания и образования. В ней автор стремился осветить факты и данные педагогики с точки зрения теории развития.
Такие важные педагогические проблемы, как цель и задачи воспитания и образования, содержание и методы обучения, он пытался рассмотреть под углом зрения «стремления к развитию самого ребенка». По мнению В. П. Вахтерова, главный недостаток современной педагогики заключается в отсутствии «руководящей точки зрения», основы, которая выражала бы общую идею и дух времени. Он справедливо замечает, что в основном все положения в педагогике выведены ее творцами из личного опыта, из их личных переживаний, что у них нет прочного фундамента, нет фактической обоснованности. Педагогическая наука, по его мнению, включает самые разнообразные цели воспитания и обучения, различные методы и системы, разные программы. Все в ней бессвязно, разбросано, противоречиво. Чтобы объединить отдельные вопросы педагогики, Вахтеров предлагает положить в основу идею развития, понимая ее «в самом широком смысле этого слова — и как развитие индивидуума, и как биологическое развитие рода, и как исторический процесс...» Причем главное значение для педагога имеет развитие личности воспитанника. «Общую, объединяющую точку зрения» Вахтеров находит в эволюционной теории. Но считает ее недостаточной для объединения всех проблем педагогики. Она, как указывает Вахтеров, определяет лишь объективные факторы, а для создания новой педагогики нужен и фактор субъективный. Этот фактор он видит «в стремлении самого ребенка к развитию». При этом следует отметить, что Вахтеров не дошел до марксистского понимания того положения, что развитие ребенка обусловлено определенными общественными отношениями и что осуществляется оно путем планомерно организованной системы воспитания.
Книга «Основы новой педагогики» представляет громадный интерес для современного учителя и воспитателя, поскольку в ней автор стремится рассмотреть такие актуальные задачи педагогики и школы, как совершенствование содержания общего образования, формирование у подрастающего поколения гражданских качеств, развитие сознательности детей, самостоятельная работа учащихся, их самодеятельность и активность. «Педагоги, — писал В. П. Вахтеров, — любят сравнивать ребенка с нежным растением, а детскую школу — с садом. Это сравнение при всех своих достоинствах не выражает, однако, самой основной черты ребенка — его активности. Растение почти неподвижно, а ребенок — это само воплощение движения, не знающее ни отдыха, ни покоя».
1 Азеф Евно Фишелевич (1869 — 1918) — один из лидеров партии эсеров, провокатор, секретный сотрудник департамента полиции (с 1892 г.).
2 Цусима — здесь имеется в виду разгром японцами русской тихоокеанской эскадры у о. Цусима, после которого Россия была вынуждена начать мирные переговоры. Термин «Цусима» нередко использовался как символ поражения.
3 Промиль (промилле) — тысячная часть числа.
4 Тюрго Анн Робер Жак (1727 — 1781) — французский государственный деятель, философ-просветитель и экономист.
5 Гельвеций Клод Адриан (1715 — 1771) — французский философ-материалист, идеолог революционной буржуазии, сторонник учения о решающей роли среды в формировании личности.
6 Гаусс Карл Фридрих (1777 — 1855) — выдающийся немецкий математик.
7 Климент VIII (? — 1446) — папа римский.
8 Геккель Эрнст (1834 — 1919) — немецкий биолог-эволюционист, представитель естественнонаучного материализма, сторонник и пропагандист учения Ч. Дарвина.
9 Гердер Иоганн Готфрид (1744 — 1803) — немецкий философ, критик, эстетик.
10 Гербарт Иоганн Фридрих (1776 — 1841) — немецкий философ-идеалист, психолог и педагог, основатель школы в немецкой педагогике.
11 Монтень Мишель де (1533 — 1592) — французский философ-гуманист.
12 Рабле Франсуа (1494 — 1553) — французский писатель-гуманист.
13 Эдисон Томас Алва (1847 — 1931) — американский изобретатель и предприниматель.
14 «Последующие выпуски» не выходили.
15 Боклъ Генри Томас (1821 — 1862) — английский историк и социолог-позитивист.
16 Дидро Дени (1713 — 1784) — французский философ-материалист, писатель, идеолог революционной французской буржуазии XVIII в.
БИБЛИОГРАФИЯ
Педагогические сочинения В. П. Вахтерова
Повторения // Семья и школа. 1874. № 1. С. 41 — 51.
Чувство и его значение в жизни и воспитании // Семья и школа. 1874. № 2. С. 81 — 110.
О делении классов в начальных школах на группы // Журнал министерства народного просвещения. 1878, нояб., отд. III. С. 1 — 14.
Об организации учебной части в начальных училищах // Журнал министерства народного просвещения. 1880, июль, отд. III. С. 1 — 25.
Городские училища по Положению 31 мая 1872 г. // Журнал министерства народного просвещения. 1882, апр., отд. III. С. 70 — 79.
Дешевая организация всеобщей грамотности в России // Школа и жизнь. 1889. № 16. С. 4 — 5; № 17. С. 5 — 6.
Заметки о народной школе // Журнал министерства народного просвещения. 1891, авг., отд. IV. С. 59 — 110.
Воскресные школы и повторительные классы // Русская школа. 1894. № 2. С. 115 — 136; № 3. С. 80 — 107; № 4. С. 118 — 145; То же // Частный почин в деле народного образования: Сб. М., 1894. С. 1 — 103.
Книжные склады в провинции // Русская мысль. 1894. № 1. С. 1 — 24; То же // Частный почин в деле народного образования: Сб. М., 1894. С. 293 — 317.
Сельские библиотеки // Северный вестник. 1894. № 5. С. 1 — 19; № 6. С. 19 — 34.
К вопросу о всеобщем обучении // Русская школа. 1895. № 5. С. 122 — 129; То же. СПб.: тип. Скороходова. [1895]. 8 с.
Возможно ли и нужно ли у нас обязательное обучение? // Русская школа. 1896. № 1. С. 122 — 139; № 2. С. 120 — 140; № 3. С. 105 — 118.
Народные чтения // Русская школа. 1896. № 4. С. 148 — 162; X® 5 — 6. С. 214 — 246; № 7 — 8. С. 231 — 255; № 9 — 10. С. 127 — 172; № И. С. 117 — 159; X® 12. С. 117 — 150; То же. СПб.: изд. «Русской школы», 1897. 209 с.
Новые пути распространения грамотности в народе // Образование. 1896. X® 9. С. 16 — 25.
Внешкольное образование народа. Сельские библиотеки, книжные склады. Воскресные школы и повторительные классы. М.: изд. т-ва И. Д. Сытина, 1896. 380 с.
Сельские воскресные школы и повторительные классы. М.: изд. X. Д. Алчевской, 1896. 48 с.
Русский букварь. М.: изд. т-ва И. Д. Сытина, 1897. 222 с.; 129-е изд. М., 1918. 222 с.
Всеобщее обучение. М.: изд. т-ва И. Д. Сытина, 1897. 216 с.
Всеобщее обучение в малонаселенных местностях // Русская мысль. 1897. X® 1. С. 1 — 28; X® 2. С. 1 — 21.
Из истории народной школы // Русская школа. 1897. X® 9 — 10. С. 28 — 55; X® 11. С. 24 — 45; X® 12. С. 38 — 61.
К вопросу о всеобщем обучении // Вестник воспитания. 1897. X® 1. С. 1 — 28.
Общеобразовательные задачи народной школы // Русская мысль. 1897. X® 11. С. 79 — 96.
О внеклассном чтении учащихся // Образование. 1897. X® 1. С. 66 — 80.
Порядок разрешения народных чтений // Русская мысль. 1897. X® 8. С. 164 — 176.
Как воспитывать детей // Журнал для всех. 1899. X® 1. С. 74 — 80; X® 2. С. 181 — 186.
Нравственное воспитание и начальная школа // Русская мысль. 1898. X® 5. С. 71 — 86; X® 6. С. 56 — 66; X® 10. С. 122 — 149; X® И. С. 101 — 123; X® 12. С. 78 — 102.
Первый шаг. Букварь для письма и чтения. М.: изд. т-ва И. Д. Сытина, 1899. 222 с.
Правовое положение воскресных школ // Образование. 1899. 7 — 8. С. 1 — 12.
Воспитание общественности // Русская мысль. 1900. № 11. С. 182 — 206.
Мир в рассказах для детей: Книга для классного чтения в начальных училищах. Ч. I. М.: изд. т-ва И. Д. Сытина, 1900. 188 с.; 67-е изд. М., 1918; ч. И. М., 1901. 333 с.; 58-е изд. М., 1917; ч. III. М., 1905. 243 с.; 34-е изд. М., 1918; ч. IV. М., 1905. 327 с.; 35-е изд. М., 1918.
На первой ступени обучения: Методическое руководство к обучению письму и чтению по «Русскому букварю». М.: изд. т-ва И. Д. Сытина, 1901. 333 с.
Наши методы преподавания и умственный паразитизм // Русская школа. 1901. № 1. С. 186 — 201; № 2. С. 174 — 190.
Объяснительное чтение с воспитательной точки зрения // Образование. 1901. № 1. С. 100 — 108; № 2. С. 31 — 43.
Запросы народа к образованию и школе // Образование. 1902. № 1. С. 10 — 23; № 2. С. 21 — 36.
Коллегиальные попечительства при народных школах // Русская школа. 1902. № 10 — 11. С. 165 — 175; № 12. С. 139 — 156.
Записка об организации начальной школы на новых началах, соответствующих демократическому строю. М., 1906. 32 с.
Насущный вопрос // Русские ведомости. 1906. 29 июня, 1 июля.
Новая школа // Народный учитель. 1906. № 13. С. 3 — 6.
Общее и профессиональное образование // Народный учитель. 1906. № 19 — 20. С. 2 — 9.
Пережитое зло: Очерки по народному образованию // Русское слово. 1906. № 2 — 4.
Предметный метод обучения. М.; изд. т-ва И. Д. Сытина, 1907. 333 с.
Из психологии детского возраста в связи с вопросами воспитания и обучения // Просвещение. 1907. № 2. С. 41 — 45; № 3. С. 69 — 74; № 4. ,С. 103 — 105; № 5. С. 131 — 137; № 6. С. 165 — 171; № 7. С. 200 — 202; № 8. С. 227 — 231; То же // Народный учитель. 1910. № 1. С. 8 — 11; № 2. С. 4 — 7; № 3. С. 10 — 14; № 4. С. 1 — 5; № 5. С. 3 — 5; № 7 — 8. С. 5 — 7.
В поисках призвания // Народный учитель. 1913. № 6. С. 3 — 8; № 7. С. 5 — 9; № 8. С. 9 — 11; № 9. С. 1 — 5; № 10. С. 2 — 4; № 11. С. 1 — 3.
Основы новой педагогики. Т. I. М.: изд. т-ва И. Д. Сытина, 1913. 583 с.; 2-е изд. М., 1916. 592 с.
Всенародное школьное и внешкольное образование. М.: изд. т-ва И. Д. Сытина,, 1917. 208 с.
Роль организованного учительства в комитетах народного образования // Учитель. 1917. № 2 — 3. С. 22-23.
Новый русский букварь. М., 1917. 112 с.
Национальное воспитание // Учитель. 1918. № 9 — 10. С. 6 — 20; № 11 — 12. С. 4 — 13: № 13 — 14. С. 21 — 30.
Естественный педагогический эксперимент и методы преподавания в школах 1-й ступени // Вестник просвещения. 1922. № 7. С. 29 — 38.
Новый русский букварь для обучения письму и чтению. М.: Госиздат, 1922. 62 с. '
Мир в рассказах для детей. Первая после букваря книга для классного чтения в школах 1-й ступени. М.; Пг.; Саратов. 1923. 164 с. Вторая после букваря книга ... М.; Пг.; Харьков. 1923. 232 с. Третья книга для чтения ... М.; Пг. 1923 . 400 с.
Предисловие к первой книге «Мир в рассказах для детей» // Чтение в начальной школе. М.: Учпедгиз, 1949. С. 276 — 279.
Предисловие ко второй книге «Мир в рассказах для детей» // Там же. С. 280 — 282.
Предисловие к третьей книге «Мир в рассказах для детей» // Там же. С. 283 — 285. _
Из книги «Нравственное воспитание и начальная школа» // Учителю начальной школы. М.: Просвещение. 1964. С.‘223 — 231.
Из книги «Предметный метод обучения» // Учителю начальной школы. М.: Просвещение. 1964. С. 223 — 231.
Из книги «Предметный метод обучения» // Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. М.: Просвещение, 1964. С. ,232 — 276.
Из книги «Предметный метод обучения» // Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. М.: Просвещение. 1974. С. 382 — 421.
Литература о В. П. Вахтерове
Архангельский А. Б/н // Книгоноша, 1924. № 16. С. 9. Рец. на кн.: Мир в рассказах для детей. М., 1923.
Вахтерова Э. О. В. П. Вахтеров, его жизнь и работа (1853 — 1924). М., 1961. 368 с.
Веселов М. О., Попов К. Н., Сироткин В. М. К истории звукового метода обучения грамоте // Советская педагогика. 1938. № 4. С. 71 — 85.
Герд В. А. Естествознание как особый предмет начальной школы // Вопросы и нужды учительства. М., 1911. С. 36 — 61.
Гончаров Н. К. Наглядность как дидактический принцип // Советская педагогика. 1937. № 5 — 6. С. 53 — 64.
Долинский С. Б/н // Книгоноша, № 9. С. 8. Рец. на кн.: Мир в рассказах для детей. М., 1923.
Егоров С. Ф. В. П. Вахтеров и педагогика России начала XX в. // Советская педагогика. 1983. № 12. С. 107 — 114.
Ельницкий К. Б/н // Педагогический сб. 1903. № 11. С. 487 — 489. Рец. на кн.: Нравственное воспитание и начальная школа. М., 1901.
Евстафиев И В. Б/н // Русская школа. 1905. № 10 — 11. Критика и библиография. С. 15 — 17. Рец. на кн.: Мир в рассказах для детей. Кн. 1 — 3.
Иорданский Н. В. П. Вахтеров // Вестник просвещения. 1924. № 4 — 6. С. 218. Казанский Н. Г, Назарова Т. С. В. П. Вахтеров (1853 — 1924) // Учителю начальной школы. М.: Просвещение, 1964. С. 217 — 223.
Козлов П. К. Заметка о моем замечательной учителе В. П. Вахтерове //
География в школе. 1951. № 4. С. 31 — 34.
Королев Ф. Ф. В. П. Вахтеров — выдающийся русский педагог (1853 — 1924) //
Советская педагогика. 1960. № 1. С. 95 — 109.
Лебедев П. А. Педагогические взгляды В. П. Вахтерова // Начальная школа.
1978. № 2. С. 91 — 96.
Медынский Е. Н. История русской педагогики. М.: Учпедгиз, 1938. С. 368 — 369, 440 — 441.
Ососков А. В. Начальное образование в дореволюционной России. (1861 — 1917). М.: Просвещение, 1982. С. 38 — 40, 46, 113, 159 — 160.
Острогорский А. Н. Б/н // Педагогический сб. 1915. № 7. С. 39 — 42. Рец. на кн.: Основы новой педагогики. М., 1913.
Разина Е. Б/н // Русская школа. 1897. № 4. С. 186 — 191. Рец. на кн.: Всеобщее обучение. М., 1897.
Ру сова С. Б/н // Русская школа. 1903. № 10 — 11. Критика и библиография. С. 4 — 7. Рец. на кн.: На первой ступени обучения. М., 1901.
Самоуков П. П. В. П. Вахтеров о нравственном воспитании // Советская педагогика. 1968. № 11. С. 112 — 120.
Свердлова К. Б/н // Книгоноша. 1924. № 8. С. 10. Рец. на кн.: Новый русский букварь для обучения письму и чтению. М., 1922 (1923).
Соболев А. Грамматика и правописание в начальной школе // Русская школа. 1903. № 10 — 11. С. 289 — 293.
Суходеев И. // Народный учитель. 1914. № 12. С. 3 — 9. Рец. на кн.: Основы новой педагогики. М., 1913.
Тихомиров Кл. Опыт психологии грамоты с главнейшими из нее дидактическими выводами // Русская школа. 1900. № 4. С. 203 — 220.
Тумим Ц Книга и революция. 1923. № 11 — 12. С. 21 — 22. Рец. на кн.: Новый русский букварь для обучения письму и чтению. М., 1922, 1923.
Ушаков Д. Чем не закончена реформа образования? (По поводу статьи В. П. Вахтерова) // Вестник просвещения. 1923. № 7 — 8. С. 18 — 25.
Фармаковский Вл. // Русская школа. 1894. № 11. С. 135 — 143. Рец. на кн.: Всеобщее начальное обучение. М., 1894.
Чехов Н. В. Вахтеров Василий Порфирьевич (1853 — 1924) // Начальная школа. 1946. № 10 — 11. С. 36 — 40.
Шорин М. И. Стенной букварь. Классное пособие к «Русскому букварю» В. П. Вахтерова. М., 1914. 19 с.
Яковлев А. Методологические откровения г. Вахтерова // Нар. образование. 1907. № 9. С. 208 — 224. Рец. на кн.: Предметный метод обучения. М., 1907.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин Блаженный Аврелий — 70
Азеф Е. Ф. — 395
Аксаков С. Т. — 298, 394
Александр II — 316
Алчевская X. Д. — 158, 390
Альфиери Витторио — 99, 388
Анастасиев — 164
Андреев Л. Н. — 232, 392
Анри В. — 24, 61, 277, 387
Араго Доминик Франсуа — 315, 394
Аракчеев А. А. — 232, 392
Аристотель — 47, 348
Архимед — 148, 149, 249
Байрон Джордж Ноэл Гордон — 67
Балдвин — 185
Бальзак Оноре де — 99
Белинский В. Г. — 67, 326
Белоконский И. П. — 53, 387
Бер Поль — 42, 386
Бине Альфред — 24, 233. 277, 333, 387
Блинов Н. Н. — 98, 388
Богданов-Бельский Н. II. — 287, 321,
326, 394 Бойков — 43, 44 Бокль Генри Томас — 348, 395 Болдуин Джеймс Марк — 334 Борткевич В. И. — 34, 386 Брем Альфред Эдмунд — 388 Бриджмен Лаура — 270, 393 Брокгауз Ф. А. — 312 Бруно Джордано — 265, 316 Бунаков Н. Ф. — 275, 385 Бунин И. А. — 324 Буняковский В. Я. — 34, 386 Бургерштейн — 277 ‘
Бэкон Френсис — 273, 348, 393
Вагнер В. А. — 55, 387
Васильчиков А. И. — 31, 385
Вахтерова Э. О. — 6, 9
Вентцель К. Н. — 17
Вересаев В. В. — 92, 388
Виньи Альфред Виктор де — 99, 388
Владимир Святой — 31
Вольта Алессандро — 315, 394
Галл — 24, 277
Гарибальди Джузеппе — 394
Гаусс Карл Фридрих — 332, 395
Гедике Фридрих — 164
Гедимин — 155, 389
Гей-Люссак Жозеф Луи — 315, 394
Геккель Эрнст — 334, 395
Гельвеций Клод Адриан — 332, 395
Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд — 173
Гербарт Иоганн Фридрих — 334, 395 Гербач — 164
Гердер Иоганн Готфрид — 334, 395 Гёте Иоганн Вольфганг — 99, 320, 334,
358, 368, 384
Глинка М. И. — 326 Гоголь Н. В. — 67, 92, 175 Голл Стэнли — 307 Гончаров И. А. — 92, 93 Горбунов И. Ф. — 45, 387 Горький М. — 95, 96, 232, 326 Грановский Т. Н. — 71, 387 Грибоедов А. С. — 68 Грот Я. К. — 155, 389 Гуд Томас — 213
Гюйо Жан Мари — 59, 67, 344, 348, 387 Дарвин Чарльз — 78, 99, 101, 113, 248, 286, 348, 388
Джемс Уильям — 78, 131, 388
Дидро Дени — 349, 395
Дистервег Адольф — 269, 387
Добролюбов Н. А. — 25, 232, 326
Додже — 173
Домициан — 94, 388
Достоевский Ф. М. — 126, 186
Дружинин А. В. — 98, 388
Дюпон де Немур — 249
Жакото Жан — 164
Жорж Санд — 80, 388
Жуковский В. А. — 298
Засодимский П. В. — 126, 388
Зейфферт Герман — 282, 307
Золя Эмиль — 99, 101
Иаков — 159, 389
Икельзамер — 164
Каннинг Джордж — 88, 388
Кант Иммануил — 75, 89, 115, 387
Каптерев П. Ф. — 17
Катков М. Н._245, 394
Кауфман А. А. — 386
Келлер Елена — 270, 393
Кеплер Иоганн — 389
Кершенштейнер Георг — 309, 394
Климент VIII — 395
Кольридж Самюэль Тейлор — 72
Кольцов А. В. — 97, 98, 388
Коменский Ян Амос — 23, 49, 164, 25'.
257, 283
Конради Е. И. — 390
Конт Огюст — 111, 266, 334, 388
Коперник Н. — 265
Королев Ф. Ф. — 6
Короленко В. Г. — 353
Корф Н. А. — 24, 49, 385
Крамской И. Н. — 71
Крылов И. А. — 69
Крюзи Герман — 162, 390
Лай Вильгельм — 23, 24, 213, 277, 302,304
Лебедев — 56
Левинштейн — 309
Лейбниц Готфрид Вильгельм — 273, 393 Лермонтов М. Ю. — 92, 298, 326, 384 Лесгафт П. Ф. — 158, 389
Лессинг Готхольд Эфраим — 362, 389 Лобзин М. — 304, 394 Лобачевский Н. И. — 358 Локк Джон — 80, 360, 388 Ломоносов М. В. — 121, 232, 265. 316,
326, 356
Магницкий М. Л. — 358
Макаров — 178
Маркс К. — 382
Мейман Э. — 23, 277, 285
Менделеев Д. И. — 326
Микеланджело — 75, 387
Милль Джон Стюарт — 7, 88, 265, 278,
348, 388
Михайловский Н. К. — 276
Монтень Мишель де — 341, 395
Моррис Уильям — 318, 394
Моцарт Вольфганг Амадей — 332
Муравьев М. Н. — 394
Мусоргский М. П. — 326
Мюллер Макс — 173
Мюссе Альфред де — 80, 388
Некрасов Н. А. — 7, 298
Нерон — 90, 388
Нечаев А. П. — 277, 394
Ницше Фридрих — 263
Ньютон Исаак — 67, 99, 249, 254, 296,316
Окорокова — 286
Орлова О. П. — 71
Острогорский А. Н. — 65, 387 Оуэн Роберт — 83, 388 Павленков — 164 Пайо — 164
Паскаль Блез — 80, 254, 388
Паульсон И. И. — 164, 184, 192
Перов В. Г. — 287, 394
Песталоцци Иоганн Генрих — 49, 59, 63,
66, 125, 162, 164, 253, 257, 258, 283,341, 387
Петр Великий — 28, 41, 158, 316 Петров — 265
Пирогов Н. И. — 7, 49, 63, 124, 258, 259,387
Писарев Д. И. — 7, 245, 317
Пифагор — 249, 341
Пиццоли — 24, 277, 394
Плеве В. К. — 235, 392
Победоносцев К. П. — 235, 392 Посошков И. Т._32, 121, 232, 386 Прейер Вильгельм — 182, 314 Пушкин А. С. — 92, 121, 298, 316, 326 Пфейфер — 277
Рабле Франсуа — 341, 395
Репин И. Я. — 71, 232, 321, 326 Рибо Теодюль Арман — 77, 253, 387 Рихтер Жан Поль — 119, 388 Руссо Жан-Жак — 49, 99, 116, 253, 257,
258, 283, 329, 330, 334, 341, 373, 384 Селиванов В. В. — 42, 386 Селли — 314
Семенов П. П. — 312
Сенека — 90, 388
Сикорский И. А. — 24, 54, 158, 277, 387
Симон Жюль — 42, 386
Симоновский В. В. — 120, 126, 127, 388
Скотт Вальтер — 67
Слетова — 43, 44
Смит Адам — 253
Сократ — 70, 148, 150, 160, 249, 250, 265 Спенсер Герберт — 25, 50, 52, 89, 168,
334 387 388
Сперанский М. М. — 232, 326, 392
Спиноза Бенедикт — 249
Стоюнин В. Я. — 50, 387
Страннолюбский А. Н. — 31, 40, 385
Тацит — 94, 388
Тейлор — 76, 387
Тимковский Н. И. — 92, 388
Тихомиров Д. И. — 9
Толстой Д. А. — 10, 24, 385
Толстой Л. Н._9, 24, 50, 51, 52, 66, 89,164, 320, 326, 329, 341, 382, 384 Триплетт — 286
Тургенев И. С._92, 298, 318, 326, 384 Тюрго Анн Робер Жак — 329, 341, 395 Успенский Г. И. — 107, 120, 131, 132,320 388
Ушинский К. Д. — 7, 9, 16, 23, 24, 25, 49, 93, 164, 174, 258, 259, 388
Фарадей Майкл — 315, 374, 394 Фенелон Франсуа — 76, 387 Франклин Бенджамин — 77, 296, 387 Фребель Фридрих — 341 Фуш — 277
Холл Гренвилл Стэнли — 394 Цезарь Гай Юлий — 75, 387 Циглер — 304, 307
Цшокке Иоганн Генрих Даниель — 90, 388
Цыганов Н. С._298, 394
Чайковский П. И. — 326
Чернышевский Н. Г. — 7, 232, 326 Чехов А. П. — 92, 318, 324, 326, 353 Шаляпин Ф. И. — 232, 392 Шеве — 164
Шевченко Т. Г. — 326
Шекспир Уильям — 47, 61, 67, 89 Шеридан Ричард Бринсли — 67 Шрейдер — 309
Шуйтен — 304
Щедрин (Салтыков-Щедрин) М. Е. — 348, 351
Эббингауз Герман — 306, 394 Эдисон Томас Алва — 342, 348, 395 Энгелынпергер — 304, 307 Эрдман Иоганн Эдуард — 173 Эрстед Ханс Христиан — 315, 394 Эртель А. И. — 92, 388
Яблочков П. Н. — 326
Ярослав Мудрый — 31, 385
_________________
Распознавание текста — БК-МТГК.
|