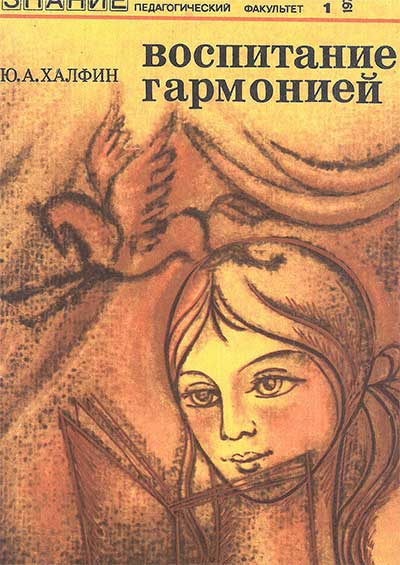Полный текст книги
СОДЕРЖАНИЕ
ШПТ (Школьный поэтический театр) 7
Исполнители или творцы 8
Сотворчество 8
«Огонь в одежде слова» 12
Рождение 16
Второе рождение 22
Театр полифонического слова 29
Многозвучное эхо 29
Отстранение 32
«Звучащее слово» 35
Музыка 38
Полифония 42
Традиции 45
Чествование товарища 47
Праздники 52
Соавторы и сорежиссеры 56
Глаза соратников 59
Единство нравственных требований в коллективе 63
Труд 69
Край любимый и края любимые74
С идеей в сердце 77
Пробужденные 83
Дорогие папы и мамы 88
Более десяти лет я со своими учениками создавал театр поэзии. Наши судьбы, судьбы тех, кто начинал со мной эту работу, тех, кто многие годы ее продолжает, тех, кто лишь вчера окончил школу, и тех, кто только вступил в наш коллектив, так переплелись, все стало настолько близким, интимным, что необыкновенно трудно начать, найти главное слово, которое точно и резко выражало, в чем суть того опыта, о котором я хочу рассказать.
В поисках этого слова я брожу по двум залам нашего музея театра. «Музей ШПТ» — гласит витая черная с золотом надпись на его дверях (ШПТ — школьный поэтический театр).
Я всматриваюсь в такие родные мне, такие прекрасные лица, глядящие с фотографий на стенах. Наверно, это смешно, но мне кажется, что не бывает у юности более прекрасного, более вдохновенного лица, чем то, которое глядит на меня с этих портретов.
Я скольжу взглядом по стене музея...
Вот наш герб, вот символический круг наших актеров. Над ним надпись: «Друзья мои, прекрасен наш союз!..»
Наверно, главная тема книги — рассказ о том, как слагался «под сенью дружных муз» этот братский круг. Необходимо, чтобы человек провел юные годы в кругу влюбленных друг в друга людей. Это не только сфера радости, полноты жизнеощущения, в которой расцветают лучшие душевные силы; это школа любви к человеку, любви к Родине, ибо что будет озна-
чать понятие «Родина» для того, кто не ощущает себя родным другим людям?
Да, конечно, главное было то, как все эти годы складывался единый, дружный коллектив с единым эмоциональным восприятием многих понятий, нет, не боюсь сказать, с едиными духовными интересами, с взаимным проникновением в мир мыслей, чувств не только воспитателя и воспитуемых, но и порой тонким и глубоким проникновением ребят друг в друга, радостными открытиями в этом мире неведомого, освоение его, обретение, обогащение себя.
Я вновь, который уж раз, рассматриваю макеты наших спектаклей, фотографии, сцены... Вот девушка... лицо тонкое, трепетное, полное ожидания — вот-вот сейчас должен наступить святой миг приобщения ее к чуду искусства...
А передо мной вся ее жизнь от восьмого класса до сегодняшнего дня, когда она уже окончила университет и вместе со мной продолжает ковать наши кадры. И вся моя зрелая жизнь последнего десятилетия прошла перед ее задумчивыми, строгими, судящими глазами.
Вот мальчишка. Я помню его в шестом классе. Он один вступил к нам так рано. Толстый, смешной, неуклюжий, вечно опаздывавший на все уроки. Он ходил среди актеров — десятиклассников, студентов — смущался, бормотал что-то, но упорно не уходил из коллектива. Он подходил на метр, не ближе, к каждой беседующей группке, стесняясь подойти вплотную, но боясь пропустить какое-то «самое умное» слово (его обычно подзывали: «Иди сюда, Коля... у нас все свои»). На фотографии он (это уже девятый класс) лихо отбросил назад левую ногу, в правую упер гитару и под «балконом» красавицы «исполняет сцену «Я здесь, Инезилья!» из нашего спектакля «Пушкин».
Вот массовая сцена. На фотографии более двадцати человек. Фигуры словно летящие, устремлены вперед, вверх и вместе с тем все слиты воедино, подчинены единому порыву музыки, единой воле дирижера. Губы чуть тронула улыбка, но лица озарены пламенем: «Я в ЛЕНИНЕ мира веру славлю и веру мою!» Это финал спектакля «Вождь».
наш главный девиз (может быть, и главный итог?):
«...И ПРОБУЖДАЕТСЯ ПОЭЗИЯ ВО МНЕ...»
Корень, источник доброты, учит Сухомлинский, в созидании, в творчестве, в утверждении жизни и красоты. Доброе неразрывно связано с красотой.
Теперь я знаю, о чем будет эта книга. О том, как мы все старались в каждой личности пробудить творца; не научить поэзии, актерскому чтению, а пробудить поэзию в ребенке, в юноше.
Пробудить... — слово это избирает и великий поэт, и прекрасный советский педагог. Значит, есть она в каждом рожденном эта духовная жажда, жажда творчества.
Только люди высокого духовного горения смогут стать творцами прекрасного будущего.
Ныне, подводя итог более чем десятилетней работе с театром и 25-летней работе с ребятами, я убежден, что, окуная их в океан поэзии Пушкина, Гейне, Маяковского, «чувства добрые я лирой пробуждал».
И значит, книга эта должна быть о том, как эстетическое стало этическим.
Именно поэтому так трудно выделить главное.
Что важнее, рассказать, как мы стремились до самой сердечной сути постичь строку Есенина: «Но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла»? Как долго размышляли над каждым словом, слогом и интонацией; искали все новую, все более глубокую трактовку, все лучшего исполнителя?
Или, может быть, важнее рассказать, как все отправились в Дубну, где наша любимая Оля, неизменная пианистка с восьмого класса по сей день, защищала дипломную работу?
Или, может быть, самое важное рассказать о вечере, когда все мы — восьмиклассники, десятиклассники, студенты — пошли после репетиции к только что поступившей в театр семикласснице Марине, которая заболела. Сидели вокруг самовара с радостными и растерянными родителями и распевали только что сочиненные бесшабашные куплеты.
Театр имеет уже большую, сложную биографию. В ней есть страницы смешные и есть трагические, есть свои традиции, свой бесконечно растущий «фольклор».
И еще об одном, чтобы завершить вступление.
Мы обязаны добиться того, чтобы годы детства и юности были для наших ребят годами счастья. Радостный, творческий запал этих лет во многом определит личность человека.
— Откуда ты?
— Я из страны моего детства, — говорит герой Экзюпери.
Антон Павлович Чехов с ужасом вспоминал, что ему до
сорока лет снилась унылая гимназическая зубрежка и что, ощущая все тот же смертельный страх перед вызовом к доске, он просыпался в холодном поту.
Сухомлинский как первый шаг к обучению создал «Школу радости». С какой болью пишет он об учителях, которые замыкают весь горизонт ребенка угрюмой стеной: уроки, уроки, уроки! Как часто все критерии восприятия личности сводятся к «выучил — не выучил».
Надо сказать, что пора осмысления опыта совпала у меня с увлечением идеями и самим образом Сухомлинского, человека, который показался мне сердечно близким по своим устремлениям. И потому эта книга — раздумье над пройденным путем и над страницами его книг.
Так вот, важнейший вопрос нашей деятельности — как сделать школьные годы годами радости и высокого творческого горения? И чтобы непреклонная нравственная чистота помыслов гордой юности осталась нравственным критерием человека на всю жизнь.
Мы хотим, чтобы «страна детства» стала подлинной духовной родиной человека.
Коммунистическая партия ставит сегодня перед нами задачу, чтобы школа формировала творческую личность. Мир, который мы строим, — это мир гармонически, всесторонне развитых людей.
«Коммуна, — писал Маяковский, — это место, где будет
бы, чтобы он витал над юностью, входящей в мир.
ШПТ
Доброе название — это тоже немало. Оно должно быть влекущим и таинственным. Оно должно выражать сущность того, что стоит за ним, должно быть небанальным.
ШПТ. Что же это означает?
Звук Ш сразу прочно утвердился на нашей эмблеме. Мы театр школьный. Мы родились в школе, школа питает нас живыми соками, мы служим нашей школе, и тот, кто, окончив школу, остался в наших рядах, навсегда именуется «ученик нашей школы» (пусть бывший, пусть выпускник). Т — театр. А вот П оказался многозначным звуком. Сначала он означал поэтический. Но потом все чаще вытеснялось значение это словом «полифонический» (о полифонической форме будет особая глава).
Но есть у нас и заветная мечта: название это чтобы означало еще «школьный пушкинский театр». Пушкин входит во все наши спектакли, Пушкин — наш кумир, наше художественное кредо, наша мера вещей. Возродить без хрестоматийного глянца живое пушкинское слово, сделать его имя любимым для каждого нашего слушателя — наша самая высокая цель.
В музее ШПТ есть сокровенная ниша, обтянутая темнозолотистым шелком. В ней маленький старинный столик, на нем книга, гусиное перо, портрет Пушкина, медная дощечка со стихами:
Люблю ваш сумрак неизвестный И ваши тайные цветы,
О вы, поэзии прелестной Благословенные мечты!
Это святая святых ШПТ. Алтарь, где наш огонь горит.
ИСПОЛНИТЕЛИ ИЛИ ТВОРЦЫ
Сотворчество
— Послушай, — сказал мне Иван Дмитриевич, опытный методист по внеклассной работе, — вот все жалуются, что не хотят ребята идти в художественную самодеятельность. Вчера только плакалась мне молоденькая учительница пения: «Заставляешь их идти в хор — не идут, упрашиваешь — смеются. Последний раз пришло лишь четверо. Так и тем учительница математики, их классный руководитель, обещала, если придут — разрешит переписать их двоенные контрольные. Ты б дал мудрый совет. У тебя в ШПТ народу хоть отбавляй. Ты там какие-то конкурсные экзамены проводишь, испытательные сроки назначаешь. А они все равно идут.
— Где ж ты видел, чтоб конкурсы отпугивали? Вон по 20 человек на место в иные вузы. А идут. В театральные и по сто.
— Значит, прегради пути, чини побольше всяких препон — и народ валом повалит? Запретный плод сладок?
— Конечно, нет. Это было бы слишком просто. Да и чему служило бы? Но что несомненно: серьезное дело должно и
того, что делаешь, кто ж поверит?
Да, мы действительно «играем» в театральный институт, вывешиваем за месяц объявление об условиях конкурса, создаем солидную комиссию (из своих же актеров, разумеется), ставим большой стол со скатертью, вазончик и т. п. Все как положено. Приглашаем желающих присутствовать в зале (учеников, учителей). Необходимо, чтобы этот акт имел общественное звучание.
Ребята волнуются, ждут решения; они надолго запоминают этот день. Они ощущают, что в их жизни произошло что-то важное. Они должны уметь бороться за свое право быть в коллективе, который должен стать им родным, право заниматься любимым делом. Но это лишь внешняя сторона.
Главный разговор сейчас об ином. Потребительское отношение к художественной самодеятельности, к эстетическому воспитанию может породить потребителя, а не творца. Задумаемся над таким на первый взгляд парадоксальным явлением. Казалось бы, так просто в наш век не только в столице с богатым выбором музеев и театров, но и в селе приобщиться к миру прекрасного. Повернул рычажок проигрывателя, телевизора, приемника — и перед тобой Моцарт и Шекспир, и Уланова. Протянул руку — взял с полки Чехова, Шукшина...
Но сколько людей пока еще вешают ца шею транзистор и конвульсивно двигаются под что-то визжащее. Или просто занимаются своим делом под эти звуки. Или уж чего проще — прекрасные картины родной природы перед глазами у каждого жителя села, но должен прийти прекрасный педагог Сухомлинский и открыть детям чарующую «музыку весенних лугов». И дети, и учитель наперебой творят прекрасные сказки, и в маленьком человеке пробужден творец.
Секрет так прост: человека надо побудить к сотворчеству. Тогда он сможет постичь творца. Когда мальчик, попивая чай, переговариваясь с бабушкой, лениво посматривает на экран телевизора, то творит не он (если то, что там происходит, даже имеет отношение к творчеству).
Однажды с пятым классом мы почему-то не попали в «Уголок Дурова», куда была намечена экскурсия. Очутившись с целым классом на улице, не зная, что предпринять, я предложил пойти в Третьяковку. Реакция была неожиданная для меня: все скривились, заныли.
— А вы были там? — спрашиваю.
Оказалось, что были немногие. Однако, что это скучно, почему-то знали все.
Реакция была, следовательно, на самую форму подобного мероприятия. Некто стоит, рассказывает что»то, дабы «повысить уровень нашей культуры». Оно, конечно, необходимо, но... вроде как 7-й урок.
Разумеется, не был у нас заказан экскурсовод, да и я тоже не был готов ни к какой теме. Остановились мы почему-то у «Ночи на Днепре» Куинджи и у васнецовского «После побоища...»
И неожиданно экскурсоводами стали все. И какими тонкими, наблюдательными! Я спрашивал о каких-то деталях картины, о цвете целого или отдельных частей, об одежде воина, о выражении лица...
В ответ сыпались гипотезы, наблюдения, параллели, свои жизненные впечатления. Я не мог отличить бойкого отличника оттого, кто обычно бубнит что-то однообразное, уныло-бессмысленное.
Педагоги так часто жалуются на равнодушие ребят к великим творениям литературы и искусства. «Хотите, чтобы вам умно отвечали, — говорил Гёте, — спрашивайте умно». Хотите, чтобы человек постигал произведение творца, разрешите ему творить. Я не знаю ребят ни в четвертом, ни в десятом, которых не увлекал бы подвиг Колумба, открытия Лобачевского или Эйнштейна. Но когда человеческая культура превращается в карту, на которой все уже открыто, а с тебя требуют заучить названия, это действительно скучно.
Мы готовим их для будущей жизни. А они хотят жить уже сегодня. Они потому рвутся к нам в театр, что знают, как там трудно, что там на тебя ляжет большая ответственность; что мы
искусство.
— Скажите, это входит в программу, что вы четвероклассникам задаете писать стихи? — спросил меня очень серьезный папа. — Я, знаете, сам бывший работник просвещения...
Я чувствую, что не сумею убедить его. Но мне хочется убедить других присутствующих тут родителей. И я пытаюсь донести до них мысль Гёте о том, как полезно заниматься творчеством; о том, что человек, который не станет поэтом, будет зато глубже понимать, чувствовать произведение творца. А перед моими глазами судьбы, биографии. Вот девочка. Она в четвертом классе написала:
Шумит, шумит он русский лес,
Весь золотой и шумный весь.
А в восьмом полюбила Пушкина, писала чудные сочинения о нем. В девятом и в десятом выступала с нашим театром в Москве и Тбилиси. Потом блестяще филфак окончила... И картинку к стихам, помню, нарисовала: большое золотое дерево и маленький синий цветок. Рядом другой ее стишок:
Девочка не пела,
Девочка молчала.
Как окаменела С самого начала.
И еще я вспоминаю недавний разговор с моим учеником, физиком.
— Это вы Алешу математиком сделали.
— Математиком! Я?
— Да, он пока к поэзии не приобщился, очень стереотипно решал задачи.
Конечно, совсем не обязателен путь от стихотворчества к нам в ШПТ, но это разные грани единой работы. И еще мне хочется сказать прозаическому папе, как интересно было у нас на уроке, когда мы сочиняли стихи. Я задавал определенный размер и опорные три слова, или строки поэта с большими пробелами, или одни рифмы из четверостишия.
Вот стихи Марины из четвертого класса:
Зима. Окно заледенело.
Проходит вьюга за окном.
А я сегодня разглядела Листок кленовый под стеклом.
А вот стихи Наташи в седьмом классе:
Ветер
Усмехнулся черемухе, всхлипнул,
Налетел на душистую липу,
Осторожно обвил мои плечи,
Просвистел и унесся далече (заданы первые три слова).
Стасик из четвертого порадовал нас следующим:
Почему Таня не допела песню Песню Таня не допела,
Потому что рыба
Вдруг из речки прохрипела:
«Танечка, спасибо!»
На задание по четырем рифмам Маяковского пятиклассник написал:
У Барбоса длинный нос,
Короткий он у Ванечки.
Съестное носом чует пес,
А Ваня — одуванчики.
В Программе нашей партии поставлена задача, чтобы школа формировала духовный облик человека, а не просто несла ему сумму знаний. В одном из своих выступлений Л. И. Брежнев сказал, что учитель должен не только обучить ученика, а зажечь его факел от своего огня.
Мне хочется рассказать, как соединяется в работе над поэтическим словом в полифоническом театре формирование интеллекта ученика, его вкуса, его убеждений, его духовности.
«Огонь в одежде слова»
Мы выступали в Карпатах в сельском клубе. Перед спектаклем тревожно всматривались в лица. Кто будет нас слушать? Композиция «Звезда пленительного счастья — бег времени» очень сложная. Рассказ о духовном поиске трех поколений рус-
(...)
и зале несколько кол-
хозниц, нянечка, убиравшая клуб; очень несолидные мальчишки; школьники, школьницы... Поймут ли? Поймут ли чужой язык?
Я еще подзадоривал:
— Держитесь! Помните у Маяковского:
Стихов навезите целый мешок,
с таланта
можете лопаться.
В ответ
снисходительно цедят смешок
уста
украинца хлопца.
После выступления поднялась учительница местной школы; в глазах слезы, речь прерывается:
— Спасибо, ребята... вы даже сами не знаете, какое вы... какое чудо то, что вы делаете. Я..: мы все испытали сейчас подлинное счастье... простите, я не могу сейчас говорить... — и она вышла из зала.
А старенькая нянечка подошла к девочке, исполнявшей арию Баха и «Грезы» Шумана, и сказала:
— Ой, як вы, дивчинко, спиваете, дай вам боже счастья!
Местная газета напечатала о нашем выступлении статью
под названием «Чары поэтического слова».
Эпиграфом автор поставил строки Ивана Франко:
Слова — полбва,
Але огонь в одеж1 слова —
Безсмертна чудотворна фея,
Правдива iCKpa Прометея.
Как добиться того, чтобы наши ученики ощущали этот Прометеев огонь? Необходимо, чтобы и родители, и учителя прониклись мыслью Сухомлинского о том, что язык — это наше духовное богатство, что речевая культура человека — зеркало его духовной культуры.
Равнодушная, безликая речь на собрании, равнодушное, скучное объяснение на уроке делают слово шелухой, пеплом, под которым хоронится и гаснет пламя живой мысли и живого чувства. Нельзя допускать равнодушного, неличностного
чтения стихов на уроке. Это хуже, вреднее, чем невыученное в срок стихотворение. Сколько людей спокойно говорят потом всю жизнь: «Я, знаете, не люблю стихов».
«Учить поэтическому творчеству, — говорит Сухомлин-ский, — надо не для того, чтобы вырастить юных поэтов, а для того, чтобы отблагодарить каждое юное сердце». И еще: «Когда душу ребенка охватывает поэтическое вдохновение, слово — живое, полнокровное, играющее всеми цветами радуги, благоухающее ароматом полей и лугов, — входит в духовную жизнь ребенка; дети ищут и находят в нем средства выражения своих мыслей, чувств, переживаний. Пробудить в детском сердце поэтическое вдохновение — это значит открыть еще один животворный источник мысли».
Меня всегда волнует близость многих исходных позиций Сухомлинского-педагога с позицией художника. Пробудить чувства добрые он тоже хочет лирой, общением с прекрасным, как поэт.
И еще. Станиславский утверждает, что в каждом человеке живет артист. «В каждом ребенке живет художник», — говорит педагог.
Слова о том, что педагог должен быть артистом, художником, настолько стали расхожим штампом, что мы забыли их смысл.
С четвертого класса я ввожу обязательную стихотворную пятиминутку. Каждый ученик должен раз в четверть выступить с тщательно подготовленным стихотворением. Ученика неоднократно прослушивают старшие ребята — актеры ШПТ, отрабатывают с ним каждую деталь, и читает он лишь тогда, когда получил от своего «режиссера» разрешение. Важен и сам момент чтения. Ученики знают, что это особая, святая минута. Тут нельзя шелохнуться, отвлечься. Опоздавший стоит тихо, не просится в класс до конца исполнения; завуч, пришедший с объявлением, почтительно ждет. Я пытаюсь создать, если хотите, некий культ художественного слова. Особенно еще и потому, что в старших классах часто, как это ни дико, сталкиваешься с явлением противоположным: ребята (особенно маль-
(...)
о силе и красоте, о нужности художественного слова я с младших классов стараюсь убедить ребят, что стыдно читать равнодушно слова, в которых поэт говорит о самом сокровенном, волнующем. Постепенно в классе удается создать атмосферу нетерпимости к небрежному, бездумному чтению.
Тут есть одна важная деталь. Нельзя показать ребенку его несостоятельность (вон какие таланты, я так не умею и не пойду отвечать). Если педагог сам верит, что в каждом ребенке живет художник, поэт, то он убедит в этом своих учеников.
Какое отношение все вышеизложенное имеет к деятельности поэтического театра? Я пытаюсь ответить на вопрос, откуда они берутся, будущие энтузиасты — будущие актеры, будущие зрители, поклонники, соратники? Разумеется, чтобы не расширить рамки этого труда до бесконечности, я не буду касаться вопросов преподавания литературы, с которыми эта работа сплетается воедино. Скажу лишь, что, конечно, урок должен проходить так, чтобы у ученика возникло желание поговорить о Блоке или Маяковском после урока.
Не является ли чрезмерным это настоятельное желание создать атмосферу некоего почтительного благоговения перед живым словом? Нет. Юный человек должен благоговейно раскрыть свое сердце навстречу животрепещущему родному слову, и тогда в одежде слова проникнет в его сердце и живой огонь — его опалит пламень революционных стихов Маяковского, щемящая сердце любовь к Родине Есенина, мудрость Тютчева, высокая гуманность пушкинской мысли.
И то, что младшие ребята видят, с какой серьезностью отдаются этому старшие их товарищи, как служат этому сами, как кропотливо возятся с ними, создает эстафету живого огня. С четвертыми, пятыми, шестыми занимаются у нас девятые и десятые. На четвертый год (в седьмом классе) я вдруг заявляю ученикам, что теперь они выросли, умеют прекрасно анализировать художественное слово (а они, действительно, три года
подряд придирчиво анализируя чтение на стихотворных пятиминутках, изощряются в этом очень основательно) и должны сами будут проводить эту работу с четвертым классом. Вы бы видели, как они загораются от этого предложения! С какой настойчивостью, дотошностью отрабатывают каждую строку, слово, интонацию! Во время перемен ко мне без конца обращаются спорящие о различных трактовках какого-либо произведения или строки. Они копаются в различных книгах, примечаниях, осаждают родителей.
И как отрадно видеть, проходя по школьному коридору, стоящих в разных уголках, вытянувшихся, серьезных малышей и заботливо, внимательно слушающих их, как-то сразу повзрослевших семиклассников.
Вот так рушится граница между актером и зрителем, между зрителем и учеником.
Ребята полны жаждой творчества. Живое горение их душ и живой огонь поэтического творчества должны только соединяться. Это должен сделать наставник, педагог, режиссер. Поэтическое творчество, по мысли Сухомлинского, лишь высшая ступень речевой культуры, а речевая культура выражает самую сущность культуры человеческой. Поэтому оно не удел избранных. Оно доступно каждому, это нормальная игра духовных сил, обычный творческий огонек, без которого нельзя представить нормального детства.
РОЖДЕНИЕ
В программе вечера, посвященного десятилетнему юбилею театра, значилось: «100 человек у кастальских вод».
Мы посчитали, что за десять лет 102 человека прошли школу ШПТ. Впрочем, через год оказалось, что если учесть всех, кто рисовал афиши, работал в музее и возникший за эти годы второй, младший ШПТ (он начинал с четвертого класса), то
кеально функционирующих членов на одиннадцатым год существования театра оказалось 65 человек.
Но десятилетняя дата рождения условна. На самом деле не один год до создания театра десятки ребят работали в кружке художественного слова. Ставили близкие по форме к сегодняшним композиции («Победа Октября», «Пушкин», «Реквием»),
Ребята кончали школу, уходили. Приходили новые и вновь продолжали ту же работу.
Возвращаясь к истокам, я вспоминаю, с чего же все началось. Пожалуй, с вечера поэзии, живописи и музыки, посвященного юбилею Левитана. Готовили три учителя: преподаватель рисования, физик и я.
На экране диапозитивы — картины Левитана. Мои ребята читают Некрасова, Фета, Тютчева. Физик со своими помощниками управлял всякой музыкальной и световой техникой. Стремились мы слить звук, изображение и слово. Восторгались, когда достигали удачного эффекта. Вечер всем понравился.
Впрочем, техника у нас была примитивная. И не было тогда в школе зала. Вечера проходили в коридоре первого этажа.
В этом коридоре и собрались однажды семь человек — будущих основателей нашего ШПТ.
Прошлое вспоминать всегда сладко. Оно, по словам Шолохова, как дальняя степь в дымке. Эта дымка многое красит, делает идеальнее. С умилением вспоминаем мы сегодня, как сидела в первом ряду зрительного зала (коридора) девочка Инночка с двумя карманными фонариками в руках (это были наши «софиты») и светила на лица чтецов.
Пытаясь создать на сцене лирическую атмосферу, я предложил однажды, чтобы все, кто сумеет, принесли из дома торшеры и коврики.
Какая-то женщина случайно заглянула к нам в коридор, увидела нашу идиллию и искренно восхитилась: «Какая прелесть! Как уютно!»
Это меня ужаснуло. Повелел ребятам впредь никаких торшеров и ковриков не носить.
Высокое искусство чуть не оступилось в мещанский уют. И именно на тех репетициях, где мы анализировали образ поэта у Багрицкого, того поэта, который уходит из сытого, благоустроенного обывательского рая в продутый ветрами, голодный мир вдохновения, а затем устремляется за ветром революции!
Семь человек. Не мало ли это для самодеятельного театра? Не мало. Любое дело требует сначала энтузиастов, провозвестников.
Главное начать. Потом на ваш огонек притекут другие — тоже энтузиасты.
В будущем с каждого своего члена мы будем сурово спрашивать: «Из твоего класса у нас ни одного члена ШПТ больше нет: не ведешь, значит, агитации».
Но пока нас семеро.
Пятеро были мои десятиклассники. А двоих девятиклассниц случайно отыскали в группке ребят на школьном вечере. Они читали подругам стихи. Окружили, познакомились и завлекли.
Эти семеро не были похожи на моих сегодняшних соратников, которые спорят со мной из-за каждой строчки, вносят поправки в композицию, составляют свои сценарии и сами их ставят. Они доверчиво смотрели мне в рот, когда я трактовал (...)
Ученик, как бы ни был он мал, может выполнять только свою, нужную ему задачу. Нарушение этого обязательного условия — причина скуки, равнодушия при проведении многих школьных мероприятий. Учитель и ученик должны быть воодушевлены единой целью. Это одно из важнейших требований педагогики Сухомлинского.
И мне, и моим актерам хотелось создать такой спектакль, так прочесть стихи, чтобы это потрясло всех, чтобы вечер стал настоящим праздником большого искусства.
А еще вернее даже не это. А то, что нам всем было до сердечной боли, до страстной жажды необходимо проникнуть в каждое слово поэта, в его заветную мысль. Мы могли допоздна, пока старая нянечка Шура не выгоняла нас, читать и читать стихи. «Я от чтения стихов не устаю», — говорил Есенин, если его спрашивали, не устал ли он читать. И мы не уставали. Читали стихи Есенина, Багрицкого. Это был год 70-летия со дня рождения двух этих поэтов.
Мне пришла в голову увлекшая меня мысль: сопоставить столь разных поэтов в одной композиции, чтобы тем более выявилась неповторимость, непохожесть каждого. Чтобы ветер революции и ветер моря, бушующий в строках Багрицкого, так же пронизывал наши сердца, как и нежнейшая мелодия любви к Родине, льющаяся со страниц Есенина.
Скоро нас стало десятеро. Пришли две певицы и пианистка. Было решено, что Есенин в основном будет обрамлен русской народной песней, а Багрицкий — музыкой Шопена, Бетховена...
Ко второму полугодию стало ясно, что мы не успеваем.
— Предлагаю дополнительную репетицию в воскресенье в 7 утра, — сказала Ира.
— Почему так рано?
— 10-й класс! Уроки! И вообще, чтоб еще день остался. Приняли единогласно. Пришлось и мне согласиться.
Но мучительные попытки до чистоты отработать каждый звук, без огрехов соединить музыку, пение, речитатив, хоровые
клики с солистом и пр. привели к тому, что к концу марта стало ясно: спектакль не готов. Кантата седьмая (последняя) даже не начата.
Приняли решение: на мартовские каникулы выехать в Подмосковье и там, живя вместе, ежедневно репетируя, довести к апрелю спектакль до конца.
Это были семь дней вдохновенной каторги.
В апреле наступил он — наш день. Была вывешена гигантская афиша — «СТЕПНОЕ ПЕНЬЕ И ПЕНЬЕ МОРЯ»
(Сергей Есенин — 70 — Эдуард Багрицкий)
И от потолка до пола полный перечень семи кантат нашего спектакля: мы хотели быть понятыми, мы хотели привлечь всех на свой концерт.
Увертюра. «И кто из нас ты...»
(о нас, актерах ШПТ)
Кантата первая — «Родина».
1. «Страна березового ситца».
2. «Окруженный ветром океан».
Кантата вторая — «Определение поэзии».
1. «Чтоб и мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть».
2. «Обернется парусом бумага, укрепится мачтою перо». Кантата третья — «Революция».
1. «Мать моя, Родина, — я — большевик».
2. «Я мстил за Пушкина под Перекопом».
Кантата четвертая — «В развороченном бурей быте».
1. «Я тем завидую, кто жизнь провел в бою».
2. «Пусть покрыты плесенью наши костяки,
То, о чем мы думали, ведет штыки».
Кантата пятая — «Ветер странствий».
1. «Голубая родина Фирдуси».
2. «Солдаты Фландрии, давно ли вы коней своих забыли?!»
Кантата шестая — «О братьях наших меньших».
1. «Для зверей приятель я хороший».
Кантата седьмая — «Отговорила роща золотая...».
Финал. «И тополя уходят,
но нам оставляют ветер».
Все актеры стали декораторами, оформителями. По школе, по залу расклеили плакатики со строками Есенина и Багрицкого. Надисценой огромный плакат: «Звени, звени, Златая Русь!» (Есенин). По стене зала строка Багрицкого: «Нас водила молодость в сабельный поход».
Бледные, похорошевшие, с резко отточенными лицами стояли на сцене мои ребята в день концерта. По залу ходили наши помощники, раздавали программки (отпечатали их на машинке). Поскольку актеры наши не воплощаются в зрительный образ, а каждый голос — это интонация, мелодия, то мы пытались роли обозначить по характеру чтения, тембру, музыкальной роли в нашей композиции.
Людмила С. — Звенящая Струна.
Александр В. — Грозная Сталь.
Нина Г. — Печальная Лютня.
Маша К. — Шелест Листа
и т. п.
После того как отзвучал голос певицы, отзвенела наша Печальная Лютня, «отговорила роща золотая березовым веселым языком», отгремели последние аккорды фортепиано... зал завороженно еще молчал, потом были долгие, шумные хлопки, крики, объятия, речи. Две девочки из десятого класса, которые начали одно время ходить на наши репетиции, но потом как-то отошли, обнимали моих актрис: «Как же это мы! Как это мы ушли от такого!» Они спрашивали, можно ли вернуться...
Я же, как всегда, с тоской думал, что скоро экзамены, ребята уйдут из школы, и вот такая гигантская работа исчезнет без следа.
Конечно, свою роль для воспитания этих десяти юных сердец она сыграла. Да и для зрителей это было немало. И все-таки...
На следующий день ко мне пришли домой мои десять побе-
дителей. «А можно мы не уйдем из школы?» Я не понял. «Ну, будем, если вы не против, дальше репетировать».
На будущий год в коллектив влилось новое поколение — очень самостоятельных, ярких восьмиклассников: они захватили инициативу в свои руки: было их двадцать три, а студентов — шесть.
Но театр родился.
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Первый раз мы родились такого-то числа такого-то года, ибо в этот день десятеро моих семнадцатилетних патриархов порешили: быть нашему театру.
Но в работе по созданию этого самого театра началось наше второе — самое главное — рождение — рождение коллектива с определенными устремлениями и традициями, человеческой общности, складывание отдельных индивидуумов в цельный, живой организм, способный принимать в себя новых членов, способный воспитывать подростка и юношу.
Воспитателю в ходе работы всегда приходится не только искать свои приемы и методы, совершать свои педагогические открытия, но и на своем опыте постигать заново многие очевидные истины. Так ведь и отдельный человек должен на своем пути заново открыть многие законы человеческого общежития, принять осознанно нравственные нормы общества.
Задним числом легко показать, как мудрый наставник выдвигает определенную цель, как она достигается им. На деле же увлеченный то одной стороной работы, то другой упускаешь часто самое необходимое. Воспитательные проблемы возникают, увы, не как твой разумный, последовательный план, а как рифы на пути. Разумеется, педагогическая наука «сокращает нам опыт быстротекущей жизни», но одни ее пожелания мы забываем, другие кажутся нам само собой разумеющимися, и потому мы убеждены, что мы их, естественно, выполняем. Наверное, я бы очень удивился, если бы кто-нибудь стал дока-
общности: люди должны вступать в человеческие отношения, какая бы работа или цель их ни объединяла: строительство дома, дальний поход или научные исследования. Кто ж с этим спорит?
Однако же какой неожиданностью было для меня, когда восьмиклассница Рита, самый преданный энтузиаст нашего дела, превратив вдруг репетицию в собрание, заявила, что уходит из ШПТ.
Рита была для меня воплощением всего лучшего в нашем коллективе. Девочка ярко эмоциональная, как-то изысканно артистичная, быстрая, отзывчивая, удачливая. Она всегда легко и красиво училась, играла на сцене, пела, танцевала. В своем классе она всегда была инициатором всех добрых начинаний. Начальница летнего трудового лагеря нашей школы весело сказала мне: «Вы думаете, это я руковожу лагерем? Это Рита руководит. Вчера она устроила факельное шествие в честь мальчика, у которого был день рождения. Сегодня обещала организовать концерт в соседнем селе». Это была девочка, полная всегда живой, яркой веры в слово поэта, в нужность нашего очередного выступления, в важность слова режиссера. Абсолютно чуждая зазнайства, она легко, без ломания показывала по моей просьбе другим актерам, как надо садиться, вставать, как прочесть данную строку. Во время наших выступлений Рита стояла всегда на возвышении, рея над нами, как наш символ, как наше знамя. За две-три минуты до приближения ее реплики в спектакле глаза широко раскрывались, наполнялись слезами... В четверостишие, порученное ей, она, казалось, вкладывала всю себя: свою веру, свою страсть, свой вечно жаждущий выхода духовный запал. Потерять Риту казалось мне ужасным не только потому, что я был к ней привязан, и даже не потому, что я терял прекрасную актрису. Для меня это означало, что работа, в которую я верил, которой отдавал столько сил, была чем-то совсем не тем, что мне представлялось. Если от нас уходят такие соратники, значит наша деятельность ошибочна. Рита и была для меня сам ШПТ.
Я так и сказал на этом собрании, что нам тогда всем, возможно, надо расходиться, но попросил ее объяснить причины своего ухода.
— У нас все очень плохо, — заявила она.
— Плохо?
— Да, неестественно, все не так... Непонятно, зачем мы собираемся.
— Как? Совсем не нужно, чтобы мы волновались, готовя спектакль, чтоб часами спорили над строкой Пушкина, что ты сама...
— Ну, конечно, это хорошо... стихи... высокие слова. Но ведь у нас с Леной и Надей (она называла своих шестерых подруг) не так все. Ну что нас тут связывает?
— А дело ? А репетиции ?..
Я что-то долго говорил ей о естественной разнице между группой близких друзей и сошедшемся для дела коллективе, убеждал в нужности того, что мы делаем, для нас самих и для слушающих, убеждал не уходить. Она как-то грустно согласилась, но упорно повторяла, что мы люди и что так коллектив существовать не может.
«Без высокой потребности человека в человеке, — говорит Сухомлинский, — нет преданности идее». И это верно не только тогда, когда речь идет о высокой идее служения Родине или борьбе за свободу. Без этой потребности не может сложиться в единый духовный организм коллектив, служащий «святому искусству», пропаганде со сцены высоких идеалов добра и красоты. Все книги Сухомлинского пронизаны упорно повторяющейся мыслью о необходимости гармонического сочетания различных воспитательных воздействий, мыслью о коллективе как о сложнейшей и тонкой духовной организации, в которой живет и формируется личность. Коллектив, на чем бы ни была основана его общность, не может жить только своими узко профессиональными интересами. Не была ли моя полифония звуков жесточайшей преградой для полифонии характеров, полифонии духовных ценностей, которые должна вносить каждая личность в коллектив?
алея богатству нашей палитры, да и актеры радовались нашим спехам. Я убежденно объяснял им особенности нашего театра, где необходимо это высокое отречение от себя во имя целого. С умилением рассказывал о девочке, которая читала в моей композиции одно слово «мозг», и два года посещала все репетиции, выступления; выкладывалась вся в этой своей единственной реплике. И, возможно, я был прав в спектакле. Музыкант в симфоническом оркестре должен скромно отсчитать свои два десятка тактов паузы, вступить в нужный момент и вновь умолкнуть, покорный воле дирижера и композитора. И это хорошо и для нравственной самодисциплины, и для равенства в творчестве (об этом в следующей главе).
Но для выражения себя, для общения с товарищами, для полнокровной жизни в коллективе эти жесткие рамки были явно непригодны. В жизни человека и в жизни коллектива этих пауз не бывает...
Надо признаться, что и после получения сигнала о неблагополучии я тогда понял немного. Дело в том, что каждый из ребят так или иначе был связан со мной: на уроках, в беседах, в театре я ощущал каждого своим. Как на сцене я чувствовал, что весь пучок звуков, эмоций я должен схватить дирижерской рукой и перебросить в зал, так и в коллективе я уверенно ощущал нити, связующие ребят со мной, но совсем не чувствовал, какие узы связывают их друг с другом. Тут мне все представлялось благополучным: мы делаем одно дело, все в него влюблены и, естественно, мы соратники и друзья. Состав же коллектива становился с каждым днем сложнее: девочка из седьмого класса и студент с мехмата, девушка, работающая днем, вечером занимающаяся в пединституте, и десятиклассники, восьмиклассники. Более того, мне даже кажется сегодня, что неосознанно я в чем-то мешал созданию настоящего коллектива, ибо для себя решил: ну что же, действительно, может быть общего между второкурсницей и девчонкой из седьмого? Зачем им общаться вне репетиции? Я выдумывал возрастную проблему, которой, как потом оказалось, не существовало, и не решал той, которая должна была стать главной для воспитателя.
В ребятах уже рождалась потребность друг в друге, та потребность в человеке, на которой, по мысли Сухомлинского, и зиждется коллектив. К чести моих «детей» многие из них пытались меня воспитать. То взрослый юноша, то девочка из девятого класса оставались со мной наедине и рассказывали о неудовлетворенности, о какой-то подавленности после очередной репетиции. Если один доказывал мне превосходство союза истинных друзей, то другой рассказывал о своем духовном поиске, о том, как восхитила его работа в нашем театре, но как теперь она все-таки не удовлетворяет многих запросов. Я же весьма логично отвечал, что ШПТ не может удовлетворить всех запросов, что есть еще огромный живой мир, есть школа, книги, выставки, общественная работа...
Все это так, но правота была все же за ними: коллектив созрел до того, чтобы стать духовным сообществом. Да и сам я многое для этого сделал. Я организовывал первые коллективные дни рождения, я рассказывал часто ребятам друг о друге.
На ноябрьские каникулы мы были приглашены биофизиками в подмосковный город Пущино. Нам дали прекрасное общежитие. Мы могли репетировать, гулять в лесу, отдыхать, и в дни праздников должны были дать два концерта (ученым и школьникам).
Все перегородки рухнули сразу. Зайдя вечером к старшим девушкам, я увидал, что поперек кровати, примостившись к студентке Маше, лежит семиклассница Марина. Другую младшую так же нежно лелеет другая старшая. И всем им очень хорошо и весело, и никаких возрастных перегородок не существует. То старшие беседуют между собой, а младшие влюбленно смотрят им в очи, то они очень возбужденно обсуждают наши общие дела, вовсе позабыв о возрасте, то вижу, филолог трактует школьнику пушкинскую строку. В коридоре во время назначенной мною уборки два девятиклассника везут на швабре студента университета (чтобы лучше натереть пол!). Все трое необычайно довольны.
(...) репетиции и органивация досуга, питание, уборка, походы в лес. Мы устраивали коллективные читки и обсуждения, беседовали о жизни нашего театра, его успехах, причинах неудач, характерах друг друга. Никто не желал расставаться ни на час. После бесед читали друг другу любимые стихи. Допоздна готовы были слушать секстет наших хористок. А у тех репертуар не иссякал: русские песни сменялись украинскими, украинские — английскими. Потом классика: романсы Гурилева, Глинки, Шумана. А то и просто без слов инструментальные мелодии Моцарта. Кто-то из ребят предложил организовать какой-то буффонадный совестный суд. С помощью свидетелей судимы были все подряд: записывались данные личности, «разоблачалась» вся ее биография. Грозный судья вызывал каждого «подсудимого», выяснялись различные подробности его школьной и внешкольной жизни, свидетели давали показания. Хохот сотрясал комнату (благо мы жили одни на целом этаже), подсудимым игра нравилась не менее чем судьям. Я еле разогнал ребят поздно вечером, ибо давно было пора идти спать, а они явно вознамерились пересудить всех подряд.
На 7-е ноября мы впервые готовили вечер не для публики, а для себя. На вечере, растроганный и влюбленный во всех своих актеров, я предложил, если хватит терпения, выслушать мою речь о каждом. Это уже не был пародийный суд, это была попытка обрисовать каждого из ребят, учить любовному интересу к человеку. На обратном пути в Москву я спросил Риту, что она все молчит.
— Столько всего. На месяц хватит осмыслять.
— Ты не будешь больше подавать заявлений об уходе?
Она улыбнулась, помолчала, потом подняла на меня глаза:
— Зачем вы? Теперь же все совсем иначе.
На первой репетиции в Москве я сказал:
— Первый раз мы родились в нашей Альма Матер — родной школе, назвались театром и положили начало хорошему делу. Но духовное наше рождение мне кажется свершилось лишь сейчас в прекрасном Пущине.
Все радостно захлопали. Мнение было единодушным.
Люда, наша старшая актриса, сказала:
— Давайте всегда помнить, что мы все любим друг друга. Давайте всегда будем вместе.
Трое моих мальчиков вдруг скрылись за сценой, выбежали оттуда с молочными пакетами и кучей бумажных стаканчиков.
— Предлагаю тост, — сказал Витя.
Куда бы нас ни бросила судьбина И счастье куда б ни повело,
Все тем же братством будем мы едины,
А Пущино — нам Царское Село.
И тут же загремел наш хоровой тост, который со времен пущинского праздника станет у нас традиционным (это часть из нашей кантаты «Декабристы»):
Поднимем стаканы!
Содвинем их разом!
Да здравствуют музы!
Да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!..
Оля мощно ударила Мендельсона, обрамляющего у нас эти строки. „
Хоры радостно перекликались:
— Да здравствует солнце!
— Да скроется тьма!
Я не рассказал в этой главе, может быть, о самом главном — о необыкновенно напряженном труде в Пущине, о троих больных, которые не хотели уходить со сцены, о вхождении самых юных в спектакль, их волнении и их подвиге (они так страстно хотели скорее читать, что ко второй репетиции знали наизусть текст двух огромных композиций), о десятках индивидуальных, групповых, общих задушевных бесед об искусстве и о театре, о выборе пути и о смысле жизни, о мещанстве, о Блоке, о духовном горении.
Я не рассказывал, как мы репетировали весь день перед первым выступлением, как волновались, сумеем ли одолеть такую ученую аудиторию, как одержали победу, как задорно исполнили на «бис» бесшабашные веселые сценки «Театр «Синей блузы» (иная форма представления, существующая у нас (...), несколько нас озэдэчивший; «Ну, вторым отделением вы вовсе забили первое».
Измученных, голодных добрые хозяева отвели после вечера в буфет, где нам приготовили бутерброды и апельсиновый сок. Столы были сдвинуты вместе, и Люда провозгласила: «Поднимем стаканы!..» Все дружно ответили: «Содвинем их разом!» Наверно, тогда мы ощутили себя духовным сообществом и счастливыми провозвестниками поэтического слова о разуме, музах и солнце, о нашей прекрасной Родине.
ТЕАТР ПОЛИФОНИЧЕСКОГО СЛОВА
Посвящая работу рассказу о воспитании школьника в поэтическом театре, необходимо рассказать о некоторых особенностях избранной нами формы исполнительства. Рассказ этот не может претендовать на полноту, ибо сам мог бы стать предметом отдельной книги.
Многозвучное эхо
Поэзия в представлении Пушкина — многозвучное эхо мира. Соперник ему в гармонии — лишь ропот вод да вихорь тихоструйный. Баратынский говорит о великом поэте: «Была ему звездная книга ясна, и с ним говорила морская волна». И когда многокрасочную симфоническую музыку поэта исполняет монологичный солист, сколько красок, звуков, интонаций остается за пределами его возможностей!
Вот самый простой пример (простой по способу разложения). «Вакхическую песню» Пушкина легко себе представить как клики отдельных голосов и групп людей где-нибудь в кругу будущих декабристов или на братской пирушке лицейских друзей поэта.
Сочный баритон возглашает: — Поднимем стаканы!
Хор отзывается ему: — Содвинем их разом!
Высокий, звонкий голос: — Да здравствуют музы!
Группа мужских голосов: — Да здравствует разум!
Глубокий мягкий альт начинает: — Ты, солнце святое...
— Гори, — присоединяется к нему группа голосов.
По мысли поэта нашей эпохи Маяковского, «революция выбросила на улицу корявый говор миллионов». Поэзия стала голосом революционной площади. Известно, как в дни праздников в двадцатые годы колонны демонстрантов читали знаменитый «Левый марш». А в наши дни прекрасную симфоническую интерпретацию стихам поэта дал Свиридов в «Патетической оратории».
«И чувствую — «я» для меня мало », — написал ранний Маяковский. «Сто пятьдесят миллионов говорят губами моими», — скажет он в дни революции.
Вслушаемся в могучие ритмы строк поэта:
Сто пятьдесят миллионов
мастера этой поэмы имя.
Пуля — ритм.
Рифма — огонь из здания в здание.
Сто пятьдесят миллионов
говорят губами моими.
Не кажется ли вам, что человеческое, актерское «я» мало, чтобы выразить этот океанский прибой чувств, этот миллионо-устый рокот толпы, этот грохот гигантского оркестра?
Не лучше бы передал эти строки многоголосый хор на фоне труб, скрипок и литавр?
Открытие пришло случайно. На уроке я раздавал ученикам строки поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Меня поразило ярко выступившее многообразие тембров человеческого голоса.
Строки стихов зазвучали необыкновенно выпукло, многозначно. Каждая мысль, интонация, которая при индивидуальном чтении часто сглаживается, подавалась наглядно, запечатлевалась в памяти. Оно и понятно: как ни богата палитра скрипача, кларнетиста, она не может состязаться с многокрасочной палитрой интонаций, тембров, звучаний симфонического оркестра.
При этом достигался еще и необыкновенный педагогиче-
человека, сюлее того, даже девочка с хриплым, глухим, печальным голосом, которая при самостоятельном исполнении читала стихи однотонно, скучно, превращала здесь свои индивидуальные особенности в достоинство. Гордый, бунтующий, стальной, непреклонный бас говорил о России, где «горы, каторги и рудники», а она отзывалась ему глухо, печально, словно из-под земли:
Но и каторг больней была
У фабричных станков кабала.
Причем, имея лишь две строки, она вкладывала в них всю полноту своего чувства. Актеры получали небывалое равенство. Каждый нес себя, свое чувство, свою личность; был равновелик другой личности, соревновался с ней, чувствовал свою важность в том волнующем, ярком целом, которое созидалось на его глазах.
Ощутив себя живой клеткой творческого организма, личность проявляет себя, осознает, она вовсе не замыкается в рамках своей краски-роли, а входит в интересы целого, понимает его и свое место в нем. Овладев первой ступенью, поверив в себя, начинает овладевать другой и т. д.
Несколько упрощенно, чтобы наглядно выяснить одну из главных особенностей нашего исполнительства, я говорю ребятам:
— Представьте себе огромного, гениального актера. У него богатейший диапазон интонаций, модуляций голоса, смысловых оттенков, десятки красок эмоциональных и т. п. Он все это вкладывает в свое чтение, поэтому оно так выразительно и богато. Никто из нас не может быть ему равен. Но нас 25 человек. Если каждый из нас свою реплику отшлифует идеально, то мы способны вместе сложиться в одного большого актера с огромным, многозвучным, многоцветным диапазоном.
Если в начале этой главы я говорил о стихах, полифониччых по своей сути, то, отталкиваясь от последнего сравнения, хочу сказать, что многоликому, многоголосому актеру, в которого превращается полифонический театр, доступны и монологические стихи с единым центром авторского «я».
Ведь любой артист, переходя от мысли к мысли, от строки к строке, меняет интонацию, мимику, силу звука и т. д. Мы же передаем это движение авторской мысли и чувства, окрашивая мысль, строку, новое четверостишие новым актерским голосом. Но тут выступает еще одна особенность нашей сценической формы.
Отстранение
Строго говоря, отстранение имеет место в любом актерском исполнении. Актер не полностью входит в образ, он также показывает свое к нему отношение. На репетициях мы вспоминаем вместе игру больших актеров. Вспоминаем, как умен, насмешлив Анатолий Папанов, изображающий какого-нибудь отрицательного героя. Я рассказываю, как Грибов не только влезает в шкуру своего Собакевича, но и подает его на ладони на всеобщее осмеяние.
Актер же нашего театра вообще не входит в образ в том смысле, как это делает автор драматического театра. Наш актер не надевает на себя маску-роль, но словно держит ее в руках. Я привел выше для простоты поимео с отрицательными
У юности обостренное нравственное чутье. Ребята легко понимают мысль Сергея Образцова о возмутительной профанации искусства, когда актер подменяет авторское «я» своим. Образцов говорит просто о бесстыдстве, когда актриса, исполняя строку романса «Я молода и хороша собой», полагает, что это она молода и хороша, а не героиня произведения.
Лицо актера нашего театра должно быть не искажено никакой изобразительной мимикой, оно должно быть внешне спокойно.
Читая строку Майорова
«Мы были высоки, русоволосы...», строку Есенина
«Я тем завидую, кто жизнь провел в бою...»,
актер должен, скромно стоя в стороне, бережно преподнести зрителю это поэтическое «я», поэтическое «мы». Он словно экскурсовод у прекрасной картины. Его дело любовно показать зрителю каждую ее деталь. Зажечь слушателя, объединиться с ним в преклонении перед талантом поэта, перед его скорбью, радостью, подвигом.
Отстранение дает нам возможность преодолеть еще одну условность.
Легко себе представить в многоголосом полифоническом исполнении строки Маяковского о Ленине:
Тенора: Пожарами землю дымя.
Альты: Везде, где народ испленен,
Басы: Взрывается бомбой имя —
Один голос: Ленин!
Пятеро: Ленин!!
Весь хор: Ленин!!!
Его авторским (авторскими) «я» может быть многотысячная народная толпа. Мы читаем эти стихи, прорываясь сквозь мощные революционные марши, пение хора, грохот барабанов (вспышки революционных боев, пожар восстаний, взрывы гнева...).
Но как быть со строками таких стихов:
Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом Дорогого гостя встречать...
Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...
И на песни мои прольется Молоко твоих рыжих коров.
Есенин
Не будет ли смешно, если первое «я» исполняет один актер («Разбуди меня...»), второе — другой («Я пойду...»), а третье — еще один («Воспою я...»)? Ведь это один и тот же голос, такой трепетно индивидуальный, нежный, неповторимый...
Тут мы «разъединяемся», чтобы потом объединиться в чувстве, в созерцании единой картины. Мы воображаем себе: вечер... тишина... мы все очень близкие друг другу люди (молчать можно только с близким!)... Каждый ушел в себя. Мы вспоминаем дорогой каждому из нас образ любимого поэта, самые заветные его строки... Кто-то вдруг произнес его строку вслух... потом замолчал... вспоминает далее про себя. Другой начинает другую... Так двое подруг сидят, обнявшись, у реки, и каждая думает о своем, и обе едины.
Сразу скажу, что это объяснение очень относительно. Разумеется, за долгие часы репетиций рассказывается и многое другое, выступают другие стороны исполнительства.
Хочу сейчас только показать, что, отстраняясь от своего «н», театр строку за Строкой складывает перед мысленным взором зрителя образ поэта, цельное, хоть и многокрасочное сТп-^ хотворение.
Отстранение, мне кажется, имеет и глубокий нравственный смысл. Чтобы подросток, юноша не использовал сцену для культивирования своей личности, утверждения мелкого самолюбия, выделения себя над другими. Мы много размышляли над восточной пословицей о том, что ценность кувшина в его пустоте (не в его глине), т. е. в его возможности вместить в себя как можно более влаги. Очищай свой сосуд от грязи всего мелбчного, корыстного. Готовь его, чтобы принять в себя высо-
вдохновляли поэтов Великой Отечественной войны.
Люби искусство в себе, а не себя в искусстве!
Звучащее слово
Название этой главы — антитеза не слову написанному, а слову изображаемому. Помню, я с удивлением отмечал, что на вечере популярного поэта зрители восторженно слушали его собственное исполнение стихов, но расходились, когда во втором отделении стихи его читал мастер художественного слова. Казалось бы, должно быть наоборот: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник»... Есть даже ходячее мнение, что поэты читать стихов не умеют, «как-то так завывают». Впрочем, оно сложилось, очевидно, под влиянием плохих поэтов и плохих стихов, ибо мы все знаем, как великолепно читал Маяковский; как волнует странное, протяжное чтение Есенина, его чуть хриплый голос. А Багрицкий, Маршак, Ахмадулина, Вознесенский? Нет, поэты явно чем-то превосходят актеров.
Многие открытия приходится часто по невежеству или по неведенью делать заново, изобретать деревянный велосипед, ежели вокруг не в ходу железные. Я несколько лет работал со своим театром, насаждая «свой» метод исполнения стихов, когда неожиданно натолкнулся на статью выдающегося советского литературоведа Эйхенбаума, опубликованную еще в 1923 году.
«Я резко помню впечатление, произведенное на меня декламацией А. Блока... я впервые не испытывал чувства неловкости, смущения и стыда, которые неизменно вызывали во мне все «выразительные» декламаторы. Блок читал глухо, монотонно, как-то отдельными словами, ровно, делая паузы только после концов строк. Но благодаря этому я воспринимал текст стихотворения и переживал его так, как мне хотелось. Я чувствовал, что стихотворение мне подается, а не разыгрывается. Чтец мне помогал, а не мешал, как актер со своими
«переживаниями», — я слышал слова стихотворения и его движения. Надо мной не совершалось насилия и обмана, потому что не совершалось насилия над самим стихотворением. Впечатление было настолько сильное, что с тех пор я стал предпочитать «неумелую» декламацию поэтов разработанной и уснащенной театральными приемами декламации актеров».
Мы сразу взяли эту статью на вооружение. Актер по своей натуре «действователь» (акт — значит действие). Он стремится разыграть стихотворение, ищет в нем сюжет, коллизию, драматическое содержание. Но в стихотворении гораздо чаще есть лирическое содержание.
Анализируя вместе хрестоматийные классические стихи Пушкина, ребята легко убеждались, что свести к сюжетному действию «Я помню чудное мгновенье» — значит карикатурно обеднить его (Я встретил тебя... был взволнован... теперь вновь встретил и вновь взволновался). Какое действие есть в знаменитом «На холмах Грузии»?
Стихотворение, разумеется, может нести огромное философское, гражданское, нравственное, духовное содержание, но весь строй его мыслей и чувств передается не драматическим сюжетом и действием, а единым музыкальным напором. Слово для поэта не элемент для создания драматической картины, а могучая музыка, могущая «мертвых сражаться поднять». И это пишет не нежный певец вздохов,,а Владимир Маяковский, и не о сумбуре эмоций, а о слове «пролетариат».
Актер часто старается скрадывать поэтический ритм; во имя «естественности» не акцентирует рифму. А поэт ищет «рифмы, чтобы враз убивали, нацелясь», он утверждает, что «рифма — бочка, бочка с динамитом, строчка — фитиль. Строка дымит, взрывается строчка, и город на воздух строфой летит». Мы стараемся культивировать в нашем театре такое отношение к огненной, взрывчатой силе стиха. И не случайно Маяковский — один из наших любимых авторов.
Эйхенбаум, опираясь на мысли о поэзии Пушкина, Гёте, немецких романтиков, утверждает, что чтец должен свести к минимуму жестикуляцию, мимику, т. е. субъективное начало в (...) месяцу, лишь отражать поэтический свет, проникнуться поэтом и дать ему через себя говорить.
Тут мы, во-первых, возвращаемся еще раз к проблеме отстранения (выпячивать не себя, а быть струною, чисто передающей звучание поэта).
Но, кроме того, тут выступает еще одно начало поэтического театра. Это театр музыкального, ритмического чтения. Оно не только не скрывает ритмический рисунок поэтического произведения, но, напротив, обнажает его речевыми, музыкальными и прочими средствами. «Слово рождается из музыки». Это изречение Томаса Манна выгравировано на гербе ШПТ, висящем в музее.
Разумеется, ничто не возникает на голом месте. Отдельные элементы близкой нам формы встречаем мы в чтении лучших наших актеров. На репетиции мы слушали голос Яхонтова, который так читает строки Пушкина:
Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам..., что сквозь это чтение ясно слышится шум морского прибоя. Всем коллективом совершили мы культпоход на концерт Юрского и, обсуждая изысканность вкуса, блеск, юмор его исполнения «Графа Нулина», отметили трубный зов охотничьих рогов при чтении строфы:
Пора, пора! Рога трубят!
Много споров было при обсуждении воспоминаний о том, как читал Маяковский, о маршевых и песенных ритмах и мелодике при чтении им поэмы «Хорошо!» Слушали грамзапись чтения Есенина, Багрицкого. К слову, последний читает стихотворение Блока «Шаги Командора», сладостно отдаваясь мелодике этиХ удивительных стихов. Зловещий бой часов в ночи слышен в его «Донна Анна! Анна-а..!»
Потом, изображая на сцене неодолимую мощь напора Октябрьской революции, мы будем акцентировать аллитерации Маяковского: «топота потоп», «от гула дрожит взбудораженный
Смольный». И стараться так прочесть строки, рисующие залп «Авроры», чтобы передать то, о чем мечтал поэт: «Строка доды-мит, взрывается строчка, и город на воздух строфой летит». Ведь именно для такого исполнения написаны строки:
— А поверху город как будто взорван!
В ритме марша прочтем «Наш марш» или строки Багрицкого «Нас водила молодость в сабельный поход».
А бешеную скачку обезумевших в буране коней мы, исполняя пушкинских «Бесов», постараемся передать через акцентированные, резкие, скачущие, тревожные ритмы его четырехстопного хорея:
Мчатся тучи, вьются тучи...
И совсем по-иному его же строки о нежном фонтане любви, где слова плещут и журчат, словно ласковая струя:
О, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне боль...
Тут нельзя нарушить легкий, льющийся ямб, нельзя ни пропустить, ни слишком акцентировать эти плавные, ласкающие «л» и чуть слышно журчащие «р».
Музыка
Музыка в нашем театре не только фон, обрамление текста для усиления его эмоционального звучания, но и равноправный, а часто ведущий голос в хоре. Она может гармонично сочетаться с темой, которую раскрывают чтецы, может контрастировать с ней, может рассказывать о чем-то совсем ином, создавая полифонию мысли.
Хотя в коллективе есть группа певцов, есть пианист и гитарист, петь у нас обязаны все. Тем, кто жалуется на отсутствие слуха, старшие весело рассказывают о том, как нелепо, не в такт и не в тон пели многие из них, и ничего. «Вон Оксана даже в солисты метит. А давно ли ни одной ноты правильно взять не могла!» Оля, наш хормейстер, убеждает, что слух — дело наживное. Главное любить песню, понимать, что ты хочешь выразить.
няются по своим функциям, то объединяются (вообще «чистых» певцов у нас немного, все хотят читать. Хоть одну строку. Хоть одно слово).
Например, в кантате «Революция» два хора сначала разграничены: певцы исполняют триумфальную победную песнь. На их фоне громко, резко звучат голоса чтецкого хора, клики отдельных голосов солистов. Потом резкая пауза, и два хора уже одно: все сливаются в едином стремительном порыве сви-ридовского марша:
Наш бог бег,
Сердце наш барабан.
Потом хор замолкает, но фортепиано продолжает вести тему неукротимого, летящего революционного марша. На этом фоне мощный, радостный бас ликующе, задорно читает строки Маяковского о юной, победной силе революции.
«Держа в руках скрипку, человек не способен совершить плохого», — цитирует Сухомлинский старинное украинское изречение. Он считал, что «одна из важнейших задач воспитателя заключается в том, чтобы, образно говоря, дать в руки каждому ребенку скрипку, чтобы каждый чувствовал, как рождается музыка. В наши дни, когда технические средства записи и распространения музыки приобрели столь универсальный характер, эта воспитательная задача приобретает особый смысл. Не допустить, чтобы молодое поколение стало потребителем красоты, — это проблема не только эстетического, но и нравственного воспитания».
Мне неоднократно советовали музыканты, преподаватели, режиссеры облегчить себе работу: взять грамзаписи и на их фоне творить нашу полифонию. И при этом, уверяют меня, мы еще выиграем, ибо вместо любителя получим любой хор, оркестр и пр. Но мы все многие годы стоим на своем, и на это быть может, даже извинительное потребительство не соглашаемся. Кроме того, мы все, возможно, наивно убеждены, что никакая великая певица в механическом исполнении не заменит нам нашей певицы, которая решает единую со всеми худо-
жественную задачу, рисует вместе с чтецом единую картину, испытывает те же чувства.
Вот рассказываем мы о гибели поэта.
— Какими словами рассказать о смерти? — скорбно произносит в тишине одинокий голос.
И нет слов... Томительная пауза. И словно откуда-то сверху, словно рождаясь из самой тишины, начинает струиться голос певицы. Еле слышно скатывается первый звук, как пролившаяся наружу первая слеза. Голос нежный, прозрачный, он все более заполняет зал, соединяет сердце исполнителей и слушателей единым чувством — одухотворенного, просветленного искусством высокого страдания.
Шуми, левкой и лебеда,
С моей душой стряслась беда...
— как вздох, произносит чтецкий хор. А голос певицы все
ширится, заливает зал слезной волной русской народной песни
«У зари-то у зореньки»...
Может быть, здесь присутствует то, о чем мечтал Сухомлин-ский, — ощущение, как из живого, трепетного чувства рождается музыка. Песня, писал он, раскрывает тонкость звучания слова, утверждает поэтическое видение мира. «Только песня может раскрыть красоту души народа. Мелодия и слово родной песни — это могучая воспитательная сила, раскрывающая перед ребенком народные идеалы и чаяния».
И я не знаю, где здесь грань между чисто эстетической задачей — создать определенную поэтическую картину и задачей воспитательной. Да ее и не существует.
Музыка в спектакле может рисовать определенную картину. Так создаем мы иллюстрацию к стихам Багрицкого о Пушкине. Мерные волны бетховенской сонаты должны вызвать в воображении актера и зрителя представление о море, подготовить сердце к восприятию образа любимого поэта.
Здесь он стоял. Здесь рвался плащ широкий,
Здесь Байрона он нараспев читал...
Исполнителю вменяется в обязанность не просто аккуратно наложить на этот сЬон стихи. Он должен вслушаться дойти я слово естественно соединится с мелодией.
— Помни, что лучше Бетховена ты все равно не расскажешь, — разъясняю я задачу. — Пусть он передаст и красоту свободной стихии, и преклонение наше перед поэтом. Ты должен вслушаться в музыку и поверить, что в ней предстает картина высокого поэтического вдохновения.
Актер должен «устраниться», стать лишь скромным «экскурсоводом» возле великой картины мастера.
Здесь, стало быть, выступает та же идея отстранения. Нести не себя, а быть сосудом, наполненным музыкой, быть каналом, несущим волны поэзии, музыки от сердца творца к сердцу зрителя. И пусть, «как летний дождь, приходит вдохновенье, осыплет сердце и в глазах сверкнет».
Картину умиротворения спящих долин, ландыша серебристого должна создать у нас музыка в кантате «Лермонтов», картину тревоги и смятения, образ «ппакиды-вьюги» — в рассказе о Сергее Есенине и т. п.
Музыка может не только сливаться с изображаемой картиной, но и дополнять поэтическую мысль, создавая многогранный, полифоничный образ мира. Полифонический театр должен быть не только многоголосым по звучанию, но и полифоничным по своей мысли.
Музыка, песня входят у нас в качестве самостоятельного солиста во многие наши спектакли. Она может предворять слово, создавать определенный настрой. Подобно музыке в кино, обещать вот-вот долженствующую случиться беду или радость.
Фортепьянная «буря» рисует у нас в спектакле образ нарастающей «желанной, железной бури» Октября. И лишь на ее высшей кульминации вступают голоса солистов чтецов.
Она рисует в воображении самостоятельную картину. Вот рвутся из ночи голоса первых борцов. Они жадно взывают к буре. Но «бесконечно длинна» ночь. В ответ им, словно грозный образ их судьбы, звучит песня:
...темнее той ночи встает из тумана Видением мрачным тюрьма...
Песня должна построить в воображении зрителя эту черную стену. Напомнить о тернистом, суровом пути русского революционера.
Полифония
Предыдущая глава, по существу, уже заставила подоити к рассказу о том, как сопрягаются разные элементы в полифоническом чтении. Но все-таки хочется подвести некоторые итоги. Многозвучный, многокрасочный образ мира театр полифонического чтения пытается воссоздать, соединяя вместе разнообразные формы художественного изображения. Наше желание, чтобы мир поэтический зазвенел, засвистал, запел стоголосым эхом мира живого. Звон гитарной струны, стуки, звукоподражание, отдельные выкрики, удар фортепьянного аккорда, хоры певцов, чтецов, речитативы, отзвуки, подголоски — все это должно быть объединено режиссерским замыслом в одной картине, и картина эта должна быть не продуктом формалистических звуковых фантазий, а своеобразным «переводом» поэзии на язык театра звучащего, хочется сказать, изображаемого (через его звуковую структуру) слова.
Приведу некоторые примеры полифонической разработки стиха. Необходимо сразу оговориться, что и эти, и вышеприведенные примеры дают весьма приблизительное представление о создаваемой звуковой картине. Скорее это рассказ о направлениях поиска, о формах работы. Изобразить же словами звучащие на сцене ритмы, интонации и прочее можно не более чем рассказать о музыке. Кроме того, в рассказе совсем нет возможности дать почувствовать главное, т. е. одновременность звучания разных компонентов. И наконец, десятки других форм, интонаций, интерпретаций просто опущены, чтобы эта глава не стала бесконечной. Трудно объяснить также, как все это объединяется в целое, чтобы оно стало естественным и органичным.
Прежде всего, необходимо вслушаться в звучание стиха, постараться прочесть его подлинную музыку (...), который стремится перегнать железную громаду поезда:
Видели ли вы,
Как бежит по степям
В туманах осенних кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?
Вслушаемся в первые слова: «Видели ли...» Это «ли-ли» можно было бы принять за какое-то косноязычие, за грубый звуковой просчет, немыслимый у такого изысканно-музыкального поэта, как Есенин.
Представим себе степной простор... Сначала издали, легко набегающий звук — образ летящего поезда: та -та-та-тата: вй-ди-ли-ли вы в ритме явно ощущается звуковая зарисовка. Но стук еще легкий, ласкающий слух, не разрушающий степной тишины. Скользящие «в», мягкие «л», чуть постукивающее «д» (в-д-л-л-в). Потом резче, — «железней», «вагонней»:
Как бежит по степям (к-б-ж п-ст-п) та-та-та та-та-та .
Растворяется в степных просторах одинокий, печальный гудок — аллитерация переходит к гласным:
В туманах осенних кроясь (у-а-а а-э-и о-я):
А вот уже скрежет, грохот, пыхтение железного зверя, противопоставленного поэтом нежному, живому «красногривому жеребенку»:
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд.
Легкое постукивание по крышке рояля имитирует у нас бег поезда.
На фоне его три хора чтецов (речитатив) — басы, альты, сопрано. Начинают на одной низкой ноте басы:
Видели ли вы?
Высоко-высоко отзываются сопрано:
Видели ли вы?
Легкие, напевные, стремительные, два эти хора переходят затем в фон.
Слегка постукивает ударник (быстро, ритмично: бег паровоза).
Время от времени тихо, но стремительно перекликаются два хора (высокий и низкий):
Басы: Видели ли вы...
Сопрано: Видели ли вы...
Басы: Как бежит по степям...
Сопрано: Как бежит по степям...
На этот ритмический бег (та-та-та-та) накладываются голоса альтов, напевно (звук, тающий в степях) тянущих:
В тума-а-анах осе-э-э-нних кро-о-оясь...
У, у — в терцию поют, вторя им, две певицы (гудок в степях...). Резко, жестко, с подчеркнутыми аллитерациями вступают два чтецких хора:
Железной ноздрей храпя, — читают басы.
На лапах чугунных поезд, — отвечают альты.
На фоне этого продолжающегося бега вступает солист и взволнованно, нежно рассказывает о «милом, милом, смешном дуралее», о красногривом жеребенке, который пытается обогнать паровоз.
Эта картина монтируется в композиции с другой, рассказывающей о революционном порыве народа, об одиночестве поэта, который остался в прошлом «одной ногою» и тщетно стремится «догнать стальную рать»... Одинокий голос певицы, поющей народную песню, — рассказ о том, как
Деревня по-бабьи завыла, заплакала в голос.
И, услышав тот плач, навсегда им заслушался ты.
Все это вместе рисует сложный противоречивый образ поэта.
Группа десятиклассников написала в нашей книге отзывов: «Прослушав «Бесов» в вашем исполнении, мы впервые почувствовали, поверили в то, что раньше казалось лишь теорией. Впервые ощутили не только леденящий ужас путника, заблудившегося в снежном буране, но и горестное одиночество поэта-патриота в последекабрьской России. Театр раскрывает траги-
проникнуться исполнители. Прежде чем приступать к полифонической разработке партитуры стихотворения, мы читаем его, пытаемся войти в его идею, в структуру его поэтической мысли.
Однако подобный анализ произведения имеет место в любом актерском коллективе. Здесь же хотелось показать специфику нашей работы, попытку создания особенной манеры, рождение определенных поэтических форм, ибо рождение коллектива неотделимо от его устремлений и тех форм, в которые эти устремления выливаются.
В заключение данной главы мне хочется рассказать, что, все более углубляясь в полифонические формы, мы, естественно, как нам представляется, пришли к желанию читать Достоевского. Работая над сценами из его романов, мы в какой-то мере пытаемся воплотить в практике театра учение Бахтина о полифоническом романе.
ТРАДИЦИИ
Выше уже говорилось, что качественный перелом, который наметился у нас после Пущино, был, конечно, подготовлен осознанно и неосознанно годами предыдущей работы. Я был в ней и порождающим, стимулирующим началом, а порою, как рассказывал выше, и тормозом.
Отдельные черты, традиции, формы существования коллектива зарождаются с первого дня его появления. Я вообще не представляю себе коллектива, который не имел бы своих преданий, своих традиций, своих героев, своих кумиров
Конечно, как живая клетка нашего общества коллектив, естественно, живет с ним одной жизнью, празднует праздник Октября и Мая, постигает жизнь Маркса и Пушкина.
Но именно для того чтоб быть живой клеткой общества, коллектив должен иметь свои неповторимые черты. Недаром же мы всегда с любовью изучаем историю своего края, отыскиваем своих ветеранов, в институтах, парках и школах устанавливаем памятные доски своим землякам и однокашникам.
Каждый вуз сегодня пытается найти свои формы, ритуалы посвящения в студенты, имеет свои значки и эмблемы.
Ритуалы, эмблемы, традиции — реалии, воплощающие в символической форме духовную жизнь коллективного организма.
Экзюпери справедливо считает, что если люди забывают ритуалы, они теряют неповторимые духовные ценности.
Живя, непрерывно изменяясь, коллектив должен вместе с тем оставаться цельным организмом с присущими ему индивидуальными чертами.
Возможно, на первом этапе в конечном счете все у нас было правильно. Несомненно, можно было бы найти какие-то иные формы общения, которые быстрее стимулировали бы активность каждого, требовали бы большей личной инициативы и, значит, давали бы большую возможность для личностного самопроявления. «Но настоящая инициатива рождается не сразу. Для этого необходима вначале увлекающая детей коллективная деятельность, нужен опыт борьбы для достижения общих целей, опыт подчинения личных интересов интересам коллектива», — писал Сухомлинский.
По мысли Сухомлинского, члены коллектива должны быть убеждены, что, «совершив данное дело, они станут интереснее, лучше, переживут чувство морального удовлетворения, гордости».
Этот смысл, эту радость, это достижение нам давала наша работа.
Однако коллектив, где во имя целого подавляется личность, так же неприемлем для советского педагога, как и такой, где личность подавляет коллектив. Сухомлинский считал, что главное мерило коллектива — полнота раскрытия в нем каждого его члена, то, что педагог называл «индивидуальной духовной деятельностью».
«Коммунизм, — говорится в программе КПСС, — это строй, где расцветают и полностью раскрываются способности и таланты, лучшие нравственные качества свободного человека».
(...) создания подлинной человеческой общности. Если коллектив зиждется на том, что личность должна жертвовать своими интересами ради коллектива, то это нравственно только при условии, что и коллектив ставит во главу угла как свой главный закон уважение к каждому своему члену, любовь к нему, живое ощущение его духовной, его человеческой ценности. Если мы в нашей печати, в наших беседах воспитываем в человеке сознание справедливости того, что десятки, сотни людей жертвуют своим благополучием, часто и жизнью, вступая в борьбу за одного невинно осужденного, то и в своей ежедневной практике мы можем строить воспитание детей лишь на соблюдении этого принципа. Антуан де Сент-Экзюпери приводит как пример, воплощающий идею человечности, рабочее братство шахтеров, когда двести человек рискуют жизнью, спасая засыпанного в шахте товарища. Тут не скажешь, что надо пренебречь одним, охраняя большинство. Иначе эта общность будет основана не на любви к человеку, а на пренебрежении к нему.
Традиции определенных форм общения в коллективе, его ритуалы, праздники, песни, эмблемы — это, мне кажется, и закрепленные в определенных реалиях воплощения его духовных ценностей, и живые черты его неповторимого лица, и функционирующая кровеносная система данного организма.
В сложившихся формах, традициях коллектива виден уровень его нравственных требований и та полнота свободы, которую он предоставляет своему члену для раскрытия той «индивидуальной духовности», о которой писал Сухомлинский.
Чествование товарища
За что можно чествовать своего товарища? Думаю, прежде всего за то, что он есть, что его пребывание рядом с тобой доставляет тебе радость. Поэтому празднование всем коллективом дня рождения одного из членов представляется мне событием немаловажным. Разумеется, дни рождения празднуются везде. Речь идет о том настоящем ритуальном празднике,
который выражает дух коллектива, в котором коллектив еще раз осознает себя, ощущает радость единения в прекрасном чувстве товарищества. Этот праздник должен быть живым воплощением идеи, что нет ничего в мире прекраснее, чем сам человек.
На одном из таких праздников я прочел ребятам строки Маяковского:
Если не
человечьего рождения день,
то черта ль,
звезда,
тогда еще
праздновать?!
В празднике этом проявляется уровень человеческих взаимоотношений, их красота. Ведь чем полнее, шире живет личность в коллективе, тем свободней, выше коллектив. Конечно, тут еще далеко до той высоты братской солидарности ста шахтеров, о которых писал Экзюпери, готовых отдать свою жизнь за товарища, но это должно быть частицей такого вот культа Человека. Если в дальнейшем ребята оказались настоящими в труде и в трудностях, то наши праздники единства были ступенью на этом пути.
Мы никогда не жалели ни времени, ни затрат часто очень большого труда на сочинение и старательнейшее разучивание спектаклей в честь наших юбиляров. Надо сказать, что ребята мои живут очень напряженно: у десятиклассников (да и у других) — масса уроков, аттестационный балл, подготовка в институт, у студентов — занятия, сессии, а некоторые у нас еще и работают. Два раза в неделю репетиции и часто дополнительные (через день выступление, а мы еще не готовы). Но если у кого ритуальная дата, то начинаются сплошь благородные жертвы: то мальчики обещают, что они сами соберутся в воскресенье и все сделают, то все, репетируя в день спектакля с двух дня до вечера, обещают прийти на час раньше и т. п.
Макаренко говорит, что литература прошлого воспитала нас на трагедии, на гибели счастливых надежд... Необходимо, (...) жанра идиллии.
Так вот, начну с идиллии.
Представьте себе сияющий всеми огнями зал, сияющий паркет и красный ковер, усыпанный цветами. По краю ковра стоят на одном колене изящно склоненные мальчики и девочки. Все в единой «нашей» строгой черно-белой форме. На сцене красивой группой выстроились старшие юноши и девушки. Звучит музыка. Двое актеров галантно вводят в зал взволнованную девушку. Напряженная и сияющая, идет она по ковру, перед сценой ей уготовано покрытое красным кресло. Ее усаживают и начинают в ее честь торжественные, шуточные стихи, песнопения, ритуальные движения.
К концу представления вдруг гаснет свет. Четверо самых могучих наших юношей поднимают кресло вместе с героиней праздника высоко над головой, по сторонам кресла загораются свечи (их несут другие актеры «факельщики»), все участники праздника и гости (мы всегда приглашаем гостей на такие юбилеи) уже рассредоточены по залу. Вся процессия делает по залу торжественный круг, обнося именинницу, зал же встречает ее аплодисментами и торжественными кликами. Серьезное, патетичное, ироничное, гротескное переплетается в этих прославлениях.
Когда-то, когда мои воспитанники были еще совсем маленькими, прочел я им на уроке рассказ Паустовского «Корзина с еловыми шишками».
Вы, наверное, помните: композитор Г риг дарит семилетней девочке свою симфонию, посвятив ее дню, когда ей исполнится 18 лет. Я спросил ребят, почёму герой повести, видя потрясение восемнадцатилетней Дагни, встретившейся в свои восемнадцать с чудом этого подарка, уверен, что теперь жизнь ее не пройдет даром. Интересно, что дети, порой наивно это выражая, поняли главное.
«Она почувствовала то добро, которое ей сделал Григ, — сказала одна девочка, — и будет стремиться тоже всем делать добро». Мальчик добавил: «Дагни ведь говорит в конце:
«Жизнь! Я люблю тебя». Она поняла красоту жизни. Она будет стараться делать ее хорошей».
Мы читали с ними Александра Грина, утверждающего, что чудеса надо делать своими руками. И это так необходимо сегодня и для тех, кто созидает эту встречу своими руками, и для того, кому она предназначена.
Традиция возникла у нас в тот год, когда старшей нашей актрисе исполнилось восемнадцать. Для нас, для коллектива, это многозначительная дата: она означает не только день рождения, но и то, что именинник не ушел из театра после школы.
Не было тогда у нас зала. Красный ковер унесли из учительской. Креслом для героини праздника служил стул, застланный чьей-то красной курткой. Подружке нашей старейшей было дано задание увезти ее в город и сказать, что репетиция сегодня в 7 вечера. Все же собрались к двум.
В основу триумфальной кантаты были положены самые разнообразные факты биографии нашей «Дагни». Эпизоды ее жизни, смешные казусы, достижения, неудачи и в первом, и в девятом классах. Ребята многое помнят. Пародировалось ее чтение и ошибки в наших спектаклях и т. д.
Когда ее, ничего не ожидавшую, подруга ввела в зал (пикет следил во дворе), она очень растерялась поначалу: прожекторы, свечи, цбзты и музыка.
Семь кантат в ее честь были остроумной пародией на нашу серьезную ораторию. Первые пять девочка безудержно хохотала. Но при двух последних расплакалась от переполнивших ее чувств. Однако неумолимые актеры довели ритуал до конца: клали цветы к ее ногам, вновь забирали, ходили вокруг хороводом, поднимали ее, опускали, вручили see ЦВеты, какие-то торжественно-шуточные грамоты.
Все тоже были взволнованы, и тогда постановили отмечать большим праздником день рождения каждого актера, достигшего в наших рядах 18 лет.
Всегда приятнее сюрприз и неожиданность. Как это ни странно, несмотря на уже неоднократные праздники, нам это обычно удается. У нашей певицы Тани эта дата совпала с днем,
вместе со всеми и видела, что ничего не готовится (да и уверена была, что никто и не знает о ее юбилее). В чужом городе, где мы два дня готовились к выступлению, волновались, нам действительно было пока не до праздника. И вот перед концертом вышла на авансцену наша актриса и объявила, что у нас большой праздник: не только встреча с далекими друзьями, но и день рождения нашей певицы. И мы посвящаем ей наш сегодняшний концерт
Ребята вручили ей цветы. Пела она в этот день необыкновенно, но голос ее иногда дрожал. Пылкие грузины после спектакля всю ее завалили цветами. Ее вызывали особо, кидали к ногам букеты, руки ее были заняты цветами, и ей нечем было утереть широко раскрытые, влажные, счастливые глаза.
Постепенно появляются у нас и другие юбилеи. Очень радостный, очень наш праздник — окончание института. Он означает, что пять-шесть лет после школы, обретая иных друзей, иные интересы, человек остается верен нашему любимому делу и любимому союзу. Уже пятерым членам коллектива справили мы этот юбилей.
После лета пришла защитившая диплом по биофизике Галя. В это время ребята строили свой музей. Из столов, досок, пластика соорудили к ее приходу гигантскую триумфальную арку, увили гирляндами цветов, приветственными плакатами и фотографиями актрисы за все годы. Вставили ее лицо в репродукции с известных картин, создавая забавные намеки и ассоциации. Заготовили свой оркестр: барабаны, труба, гитара, пианино, свистульки и расчески.
К моему юбилею ребята поставили яркий буффонадный спектакль, пародирующий формы проведения мною репетиций, стиль обращения с ними, личные привычки, недостатки и пр.
Спектакль был сделан настолько талантливо, что мы его стали показывать с успехом и широкой публике.
Рассказ этот — отражение лишь некоторой стороны жизни театра. Мне хотелось передать атмосферу жизни коллектива.
Сквозь все шутки, дружеские проделки светится подлинный интерес к товарищу, любовь к нему. Это видно даже в том, с какой тщательностью вспоминается вся его биография, особенности характера, чтобы потом создать веселое представление или песню.
Многие песни входят затем в любимый репертуар, и по пути на выступления, на гастролях ребята любят петь свои песни. Песни есть нежные и есть насмешливые. Одни пародируют подлинные черты характера, другие приписывают обратные свойства. Бывает, что в дружескую шутку переведены драматические эпизоды из жизни товарища. Это не раз помогало посмотреть вместе с друзьями иными глазами на прошедшее, помогало залечить душевные травмы.
Грустной и одинокой девочке посвятили песню:
Кто символ радости и света?
Чье имя бодрости девиз?
Конечно, это Лизавета —
Жизнелюбивая Элиз.
И это была наша большая победа, когда наша прекрасная Элиз не только растроганно выслушала куплеты в ее честь, смеялась и плакала на спектакле «Бедная Лиза», но и пригласила всех к себе на праздник и в стенах ее дома долго звучала лихая песня:
Так громче пойте песню эту Про дорогую Лизавету.»
Праздники
Праздник — это общее действо, это радость единства, это радость жизни, так свойственная и так необходимая детству и юности.
Пусть с ранних лет будет у наших ребят как можно больше радости. Пусть ощутят они радость быть частью своего коллектива, своей школы, своей страны.
Пусть обретут они такой запас бодрости, задора, веселья, чтобы он помог им потом пройти сквозь все трудности жизни. И пусть накопят они так много света в своей душе, чтобы одаоять им других людей. (...) слых, стереотипно строятся сплошь и рядом общественные праздники подростков и юношей: положенный доклад, после которого бесконечные танцы.
Праздник должен, с одной стороны, выражать дух коллектива, а с другой — быть этапом на пути к большему его сплочению. Известно, что улыбка, общее веселье легче всего ломают барьеры между людьми.
Каждый коллектив, особенно коллектив актерский, должен иметь свои праздники. Дело в том, что праздник страны, праздник школы для нас означает обычно напряженнейший труд: мы должны нести радость, творческий запал другим. Мы выступаем с концертами в своей школе и в других местах.
Впрочем, на свои праздники труда уходит у нас не меньше. Их цель — доставить радость своим товарищам и создать атмосферу дружеской раскованности, сердечности. В наших праздниках присутствуют всегда два начала: с одной стороны, ребята стараются проявить как можно больше фантазии, выдумки, ввести в сегодняшний праздник нечто никогда не бывшее у нас; с другой — то лучшее, что есть в каждом празднике, часто сохраняется, превращается в обязательный ритуал. Поэтому наряду с традиционными ритуалами рождаются все время новые.
Сама новизна, обязательные приготовления сюрприза друзьям превратились тоже в традицию.
Свой ШПТовский вечер мы непременно проводим под Новый год, восьмого марта (у нас много девочек, и поздравить их наши мальчики считают делом чести), а также в дни гастролей, если мы уезжаем на время в другой город.
Таинственной мистерии новогоднего карнавала мы стараемся придать черты, выражающие наш дух.
Сначала все заняты украшением двух зал нашего музея, чтобы превратить их в Залу Новогоднего Праздника. Стены сверху донизу покрываются дружескими шаржами, стихами, карикатурами; фотографии забавно болтаются на елке. Часть
комнаты отгораживают ширмы и занавес («малая сцена»). Повсюду театральные маски, шутливые плакаты и пр.
Каждый актер обязан придумать свой маскарадный костюм. Он должен иметь свой девиз (в дальнейшем как-то обыгранный), свое вымышленное имя; должен свободно разговаривать стихами, цитатами, соответствующими создаваемому образу. Кроме того, по повелению Королевы Праздника каждый обязан прочесть приготовленное на этот случай стихотворение или исполнить иной какой-либо номер.
Гостей встречает внизу у входа театрализованная группа. Раз это был «негритянский» джаз, другой раз — Воланд со своей свитой (по Булгакову), которая издевательски-вежливо сопровождала каждого прибывшего до Бального зала. По дороге огромный черный «кот» бросался к каждому с приветствиями и вульгарными излияниями своих дружеских чувств.
На четырех лестничных клетках гарольды торжественно передавали друг другу имя пришедшего.
Внутри музея начинается «серьезный» ритуал. Двое старших актеров в полутьме встречают каждого вошедшего (ввод строго по одному), ритуально вручают ему зажженную свечу (символ горения, творчества, негаснущей традиции), с тихим ритуальным приветствием вошедшего проводят внутрь, так продолжается до тех пор, пока все не выстроятся в один ряд. Потом карнавальное шествие движется по кругу, ритмически скандируя «таинственные», тихие слова. Это пожелания доброго нового года ШПТ, пожелания его расцвета и т. п.
Исполняется наша традиционная песня о воздушном корабле поэзии, уносящем нас в заоблачные выси Гомера и Пушкина.
Интересно, что хотя это игра и хотя все знают, что это прелюдия к началу веселых представлений, проделок, но лица всех исполняющих ритуал (и семиклассников, и старших) взволнованы. В этот миг все ощущают, что они едины в своей любви к поэзии, в общем труде, в чувстве товарищества.
Далее начинается то, чего все ожидают с большим нетерпением. Дело в том, что за месяц до праздника все актеры делятся
сюрприз. Это может быть и пародийная игровая сцена, и серьезное чтение высокой поэзии, и хоровая песня, и свой кинофильм и пр.
Есть у нас ироничный и красивый ритуал выбора королевы праздника. Есть сложный, строгий, многоступенчатый ритуал приема нового человека в члены коллектива.
Антон Семенович Макаренко очень ценил красивые внешние формы, в которых выражается, воспитывается «общий определенный стиль» жизни данного коллектива. Эта «внешняя форма, — говорил он, — часто определяет и самую сущность». К слову сказать, на всех остальных «шепетовских» вечерах (кроме новогоднего карнавала) член коллектива должен являться в нашей театральной строгой черно-белой форме. Он должен чувствовать, что может шутить, веселиться и на других вечерах, но здесь он принадлежит к определенному коллективу, с которым он связан важным и дорогим для всех нас делом, коллективу со своими законами поведения.
«Я не могу вам перечислить всех этих норм красивой жизни, но эта красивая жизнь должна быть обязательной. И красивая жизнь детей это не то, что красивая жизнь взрослых. Дети имеют свой тип эмоциональности, свою степень выразительности духовных движений», — писал Макаренко.
Полностью разделяя эту мысль Макаренко, скажу только, что в эту детскую игру очень охотно играют мои «взрослые». Там, где самые юные играют у нас с отчаянной серьезностью, хотят быть достойны старших товарищей, старшие веселы, взволнованы, рады и за себя, и за младших. «Игра, — утверждает Макаренко, — обязательно должна присутствовать в детском коллективе. Воображение развивается только в коллективе, обязательно играющем. И я, как педагог, должен с ними немножко играть. Если я буду только приучать, требовать, настаивать, я буду посторонней силой, может быть полезной, но не близкой. Я должен обязательно немного играть...» Должен признаться, что в нашем коллективе я играю вовсе не «немного». Я шагаю вместе со всеми в карнавальной процессии,
строго стою во время ритуала посвящения в члены коллектива. Я пою с ними и танцую. Меня похищали «анархисты» на одном из вечеров, осыпал «кот» каким-то порошком на другом и т. д.
Нет, я был бы не точен, если бы сказал, что я играю для них. Я играю вместе с ними. С той же радостью, что и они, пою наши любимые песни. Как и мои юные друзья, я верю в подлинность нашей дружбы.
Соавторы и сорежиссеры
Мне кажется, что если педагог утверждает равенство свое с учениками в ощущениях и устремлениях, то должно быть равенство в совместном творчестве.
Эту главу я умышленно соединил с главой о праздниках, ибо на них в нашем коллективе это осуществлялось наиболее наглядно. Однако все большее включение ребят в творчество, предоставление им все большей инициативы и самостоятельности происходило, разумеется, не только на подготовке подобных вечеров.
С первого дня существования театра ребята привыкли каждую строку, каждое режиссерское решение обсуждать совместно. Вместе обсуждаем мы исполнителей. Вместе решаем, кому произносить данную реплику.
Если мнения расходятся, то предлагаем двум претендентам (бывает, что их и больше) приготовиться к конкурсу на следующую репетицию. И тогда мы следующий раз проводим веселое соревнование. Потом идет диспут о том, чья трактовка более соответствует мысли поэта, нашей композиции, требованиям полифонии и т. д. Вместе решаем, за кем из претендентов останутся данные слова. То же самое бывает при отборе актера на игровую роль (у нас есть некоторые элементы игрового театра).
Первые годы работы не только спектакли, но и дружеские капустники составлял и режиссировал я сам, но при коллективном обсуждении, добавлениях.
Затем наступил наш очередной праздник 8 марта. В этот день я сказал мальчикам, что они уже выооспи. Стихи их потше
балалайкой, пианолой и пр. Кроме того, мальчики у нас более, чем девочки, склонны к актерскому (игровому) театру. Авторами будут все. Саша будет режиссером.
Короче, на завтра я назначил спектакль-поздравление. Сначала были бурные протесты: они после дискуссии согласились сами все сочинить, но требовали, чтобы я соединил все и режиссировал. Я отказался. После долгих споров согласились на том, что за час до спектакля я посмотрю все целиком.
Было два свободных дня. Вечером мальчики пришли ко мне с тревогой, что хотя они весь день репетировали, ничего пока не выходит. Я стойко отбил все их атаки. Напомнил, что праздник завтра в три.
На завтра в 7 утра они попросили ключи от зала. До часу репетировали, а потом пришли с серьезной просьбой.
— Мы все сделали, вроде бы спектакль смешной, а чего-то не хватает.
Я посмотрел их представление. В нем была бездна фантазии. Игровые сцены, музыкальные куплеты, чтение и буффонада были соединены в цельный спектакль.
Не хватало им лишь знания одного элементарного закона о темпе спектакля. Мы несколько ускорили темп, заменили одну протяжную песню на быструю — и дело пошло.
С этого все и началось. В дальнейшем меня не посвящали в тайну праздничного поздравления, даже если я об этом просил. Мои мальчики разохотились и к ближайшему «нашему» празднику приготовили яркие пригласительные билеты на оперу «Новый идеал». Никто из нас (кроме участников) не знал, что это такое. Пародийная «опера» решала в иронико-патетическом плане многие наши проблемы. В ней были и кровавая драма с убийством, и роковая любовь. В героях переплелись черты наших школьников и черты испанских рыцарей. Героиня была восьмиклассницей и одновременно греческой богиней зари и т. п.
Я решил предоставить ребятам еще большую самостоятельность: в ближайшей поездке (мы выступали в Ярославле):
назначенные мною руководители должны были сами поделить остальных актеров и обеспечить художественное оформление вечера и концерт. В этот вечер я впервые пережил в своем коллективе ситуацию для меня и радостную, и странно непривычную.
Весь день гулял я по Ярославлю (обычно до изнеможения устаю в дни гастролей). А вечером в общежитии технологического института, где мы жили, происходило нечто для меня непонятное. Какие-то вещи переносились из одной комнаты в другую, какие-то надписи, неведомо что означавшие, наклеивались на окна.
Один рисовал мало понятные для меня рисунки. Группа девочек сооружала что-то в зале, в то время как группа мальчиков с таинственным видом преобразовывала одну из комнат. Одни примеривали какую-то одежду, другие разучивали песню и сразу замолчали при моем приближении. В коллективе, где я привык, что и тумбочка ставится по моему указанию, и мизансцена продумана мною дома, где всегда все происходило по задуманным мною планам, я ощутил себя посторонним на какой-то стройке. Все чем-то заняты, все передвигаются, выполняя известный им, очевидно, план, я же один слоняюсь из конца в конец, не зная, где приткнуться. На любые мои вопросы мне сурово отвечали: «Так надо».
Наконец, в одной из комнат дважды ударили медные тарелки, с лестницы отозвались перезвоны колокольчика, в зале прозвучали несколько аккордов фортепиано, и все стали собираться в одной комнате. Двое актеров прибыли за мной, провели меня в запланированное место. Я был самым благодарным слушателем, ибо каждый из присутствующих ребят знал какую-нибудь часть представления. Я ж единственный не знал ничего.
Было видно, что каждая из выступающих групп, несмотря на веселье, задор, желание поразить меня, все-таки по-настоящему волнуется: сдает своеобразный экзамен на зрелость.
Начиная с этого вечера, все наши внутренние спектакли готовятся только таким образом. Рядом с капустником, шуточ-
спектакли.
В них я вижу и некоторое эпигонство — подражание нашим полифоническим пьесам, и прорыв в самобытное творчество.
Эти задорные праздничные конкурсы стали своеобразной школой режиссуры. Все чаще я на репетиции ухожу в зал, чтобы послушать целое, а репетицию ведет кто-нибудь из юных режиссеров.
Родилась при этом еще одна традиция. В праздничном спектакле обязаны участвовать все, невзирая на возраст и актерский стаж.
Это приводит к более быстрому росту актерской самостоятельности, расковывает ребят, поднимает веру в себя, ускоряет вхождение в коллектив. Создает ощущение подлинного равенства.
Глаза соратников
Давно ушла в прошлое проблема, поставленная правильно когда-то Ритой: коллектив не может жить только репетицией, выступлением.
Давно уже переплелись наши дружеские, деловые, творческие интересы. Сегодня Галя созывает всех на очередную выставку в Третьяковку. В воскресенье Саша, который занимается яхтами, предлагает использовать даровую шепетовскую силу для переноски яхт, суля за это прекрасный поход по Подмосковью. И мы дружно перетаскиваем яхты из каких-то огромных сараев, потом плаваем на яхте, потом играем в невероятный футбол (мальчики и девочки) с фантастическими законами игры и тут же репетируем «Театр «Синей блузы».
На другой неделе Люда организует всех на просмотр фильмов Вайды.
Примеры можно умножить. Но данная глава не об этом. Коллективная совместная жизнь не только сближает людей в сердечном, человеческом смысле, но и укрепляет, содействует осознанию своей определенной идейно-художественной позиции. В первый же выход в консерваторию на инструментальный камерный концерт обнаружил, что мы несколько своеобразно его воспринимали. В антракте и после спектакля каждый указывал на детали, которые нам близки, на приемы, которые можно позаимствовать. Это, разумеется, не отменяло наслаждения музыкой, но оказалось — все смотрели на сцену режиссерским взглядом с позиций своего художественного сообщества. Все обратили внимание на то, какие лица были у артистов, как они стояли, как изящны были переходы (концерт был театрализован).
Это повторилось на концерте Юрского. Вслушивались в его речитативы и аллитерации, учились грации, смелости переходов и пр. На ближайшей репетиции учились зажигать свечу так, как это делает Юрский. Естественно, отношение к миру и к искусству не может и не должно быть столь утилитарно односторонним. Мы обсуждали спектакли Малого театра и на Таганке, спорили о фильмах А. Вайды, читали вместе новые стихи Арсения Тарковского, рассказы В. Белова и В. Шукшина. У нас бывает «круглый стол», За которым каждый должен прочесть свое любимое стихотворение и попытаться обосновать свои мысли о нем, свои ощущения. Это раскрывает не только тайны поэзии, но и тайны человеческого сердца. Сближает друзей.
связь отъединяла нас от мира, то теперь, напротив, она стала нашей человеческой, творческой связью друг с другом и через нее мы соединялись со всем прекрасным вокруг нас.
Очень скоро это единство начало ощущаться не только в подходе к проблемам искусства.
Помню, на одном из первых экзаменов в ШПТ к нам поступала незнакомая мне (не моя) ученица. Читала она неважно, но поразило ее лицо во время чтения: она вся расцветала; казалось, забывала про нас, лицо освещалось нежной и вдохновенной красотой. Я уныло думал, что сейчас беспощадные члены комиссии дружно проголосуют против. На мои доводы весело возразят мне, что она, конечно, милая девочка, но у нас все-таки в некотором роде театр... И зачем тогда экзамен, если всех принимать? И еще, думаю, примут вон ту вертлявую, которая читала стихи очень театрально и действительно довольно эффектно.
Но когда дошло до обсуждения, то Вера, самая суровая из членов комиссии, сказала: «Таню? Конечно, принять. Вы видели, какое у нее было лицо? И как она волнуется! Это наш человек!»
Оказалось, что «лицо» заметили все. Против не голосовал ни один. Только Рита предложила в нарушение «статуса об экзаменах» послать к абитуриентке Лену (подружку Тани и члена ШПТ) и тихонько сообщить ей, что она уже принята, чтобы не мучить ее до конца всей церемонии. «Она ведь и так уже сколько напереживалась. И теперь сидит в углу и рыдает, будто ее навсегда счастья лишили и дорога в светлый храм искусства ей заказана».
Комиссия милостиво дала такое разрешение. Мнение о другой тоже оказалось довольно единодушным. Но постановили, что не принять будет несправедливо «Скажем ей правду и дадим испытательный срок».
Испытательного срока она не выдержала.
Не случайно в ближайшие годы экзамен у нас все больше превращался в формальный ритуал. Дело в том, что связь между тем, как человек декламирует, и тем, станет ли он соратником на трудном пути энтузиаста, весьма непрямая. Мы все более старались привлекать тех, кому, нам казалось, это необходимо и кто нам необходим. Порой приходилось уговаривать человека робкого, нежно приветить его.
Все больше складывалось единство требований коллектива к личности. Единство многих нравственных оценок.
Иногда стихийно, иногда по плану у нас вспыхивают острые обсуждения проступка или просто каких-то черт характера кого-нибудь из ребят.
Помню один поразивший меня эпизод, который мне кажется свидетельством большой нравственной победы в борьбе за то, чтобы члены коллектива стали действительно одной семьей.
Шло очень бурное обсуждение одного из старших юношей. Как всегда у нас, говорили довольно резко, упрекали его в некоторой трусости, недостаточной принципиальности. Он то с большим, то с меньшим успехом отбивался.
На все это с ужасом глядела одна из новеньких (девятиклассница Лена). Сама она человек очень ранимый и довольно скрытный. Ей, очевидно, показалось все происходящее какой-то моральной пыткой, недопустимым публичным обнажением души товарища.
— Да нельзя же так с человеком! — вдруг воскликнула она со слезами на глазах.
И тут «казнимый» широко улыбнулся ей и сказал:
— Леночка, ИМ можно.
После собрания мы шли вместе большой группой. Виновник события подошел к нам и сказал:
— Ну... я там отбивался: амбиция заела. Все, конечно, правда. А чего вы все ругаетесь! Научили бы лучше, как жить.
Решено было «учиться жить» начинать немедленно. Самая взрослая наша актриса пригласила его, меня и еще двоих «учителей жизни» к себе на чай, где и состоялся «первый урок».
Это «им можно» мне кажется великолепной формулой признания права товарищей судить тебя. В формуле этой я вижу твердую убежденность, что в основе наших отношений, (...), лишлие видеть своего товарища лучшим, чем он есть. И твердая вера и судящих и судимого, что это достижимо.
— А меня тоже будете так грызть? — тихо спросила Лена в конце собрания.
Все рассмеялись.
— Нет, Лена, ты еще не дозрела до этого.
— Так я лучше убегу заранее.
— Ты? Ты не убежишь. Ты дозреешь.
На следующую репетицию наши «поэты» принесли поэтический комментарий:
И свеж, и крепок юный плод,
Но кто же в рот его возьмет?
Вот плод поспел, вот плод созрел,
И даже червь его проел.
Берите нож, червя долой!
А плод пусть хрустнет под скулой!
Единство нравственных требований в коллективе
Коллектив, по мысли Сухомлинского, должен сознавать себя как единое целое. Должен непременно в коллективе быть свой кодекс чести. Влияние коллектива на личность становится реальностью лишь при условии, что в коллективе «сформировано активное отношение к нравственным ценностям».
Большую радость доставил мне разговор с двумя восьмиклассниками, членами ШПТ. Мы работали в трудовом ЛЗГврв нашей школы и собирались в довольно трудный поход. При обсуждении кандидатур участников похода я спросил их, все ли, по их мнению, выдержат такую нагрузку. Они назвали троих, которые не выдержат. Меня поразило то, что это полностью совпадало с моими предположениями. Критерии оценки личности у нас были похожими. В поход должны были идти и двенадцать восьмиклассников — членов ШПТ. Этих не обсуждали:
«Шепеты все пройдут», — уверенно сказали они в один голос. Я и сам так думал. Но, теша свою гордость, все же спросил их о Гале и Тане — тоненьких, хрупких девочках.
— Да что вы, Юлий Анатольевич, — весело возразила мне Наташа, — да наши верхом на Пегасе хоть до вершин Альп доскачут!
Пророчества наши оказались точны, даже слишком. Все три сомнительных походника не выдержали. А шепетовцы несли их рюкзаки, пели песни, читали на привалах стихи и даже дали по дороге концерт в сельском избирательном участке.
А ведь мы принимали в театр не по спортивным признакам. Впрочем, был у нас один своеобразный набор, который, может быть, объяснит природу «спортивного» духа юных актеров.
Однажды на вступительном экзамене, где принималась группа девятиклассников, Марик, член комиссии, сказал: «Предлагаю принять всех вместе без обсуждения! После того как они пятнадцать километров прошли в летнем походе по песку, без привала и с песнями, совершенно ясно: это наши люди!».
Интересно, что я, который был с ними в этом походе, в то же лето прошел один по песку два километра и устал невероятно. А перед этим трое старших ребят ШПТ и эти девять нежных девочек шли со мной по глубокому песку вечером после утреннего похода и дневного привала с песнями, без отдыха, с шутками и играми. Так мы ковали себе кадры. Вечером у костра мы рассказывали им о ШПТ, исполняли втроем наши композиции, читали стихи.
Мы приняли их всех. И, разумеется, легенда о подобном экзамёНв Живет в ШПТ, формирует сознание новых поколений. У нас много своего «фольклора»: рассказов о выступлениях в Грузии, о походах по горной Армении и концерте в сельском клубе Аштарака. О смешных, трогательных героических эпизодах из биографии коллектива. И каждая юная смена считает своим долгом не уступить предшественникам, высоко держать знамя традиции, беречь честь мундира.
Коллективная ласка и забота, о которой говорит Сухомлин-ский, действительно способна делать чудеса с человеком.
(...) встречает новичка, его пощипывают, пробуют, испытывают. Впрочем, так встречает класс и нового учителя.
Мы ртараемся привлечь к себе человека, рассказать ему много хорошего о нашей совместной жизни. Не оттолкнуть, даже если он кажется несколько чужим. Может, поймет что-то, изменится. И настоящую борьбу за каждую душу ведут ребята (особенно мы возлагаем это на одноклассников), когда видят, что перед ними человек одинокий или стеснительный, или (что нередко бывает у подростков и юношей) страдающий сознанием своей неполноценности. Причиной тому бывают и какие-то неполадки в семье, и столкновение с нечуткостью, и просто совершенно ни на чем не основанное приписывание себе каких-либо недостатков.
Трижды уходила из нашего театра Лиза, человек очень талантливый, ранимый, одинокий, внушивший себе, что она никому не нужна. «Лизу отогреть!» — сказали троим одноклассницам. «Уже наполовину отогрели», — весело сказала Маша.
— И что?
— Ничего, греем дальше!
После третьего прихода к нам Лиза сказала, что больше не уйдет. «Отогревать» продолжают и внутри коллектива.
— Заметили, что Сережа никогда не остается с нами после репетиции? Да, и в гости ни к кому не ходит.
— Люда, это по твоей части. Зови на чай.
— Звала, не идет.
После долгих атак Сережа сдается. Гуляет с нами в Тимирязевском парке, идет в гости к заболевшей девочке и т. п.
Этот рассказ довольно грубое упрощение. Трудно рассказать о многих интимных беседах, о многих тонких нюансах в человеческих взаимоотношениях.
— С Мариной все хорошо, — докладывает кто-нибудь. — Там родители против.
Выделяется после долгих обсуждений авторитетная делегация: убедить, очаровать Марининых родителей.
— Пускай Витя идет. Он такой солидный и физмат кончает на пять.
— Еще Лену возьмите: отличница, одноклассница. Пусть видят, что не шпана у нас в ШПТ.
В итоге Наташа совершенно очаровывает папу, Витя ведет с ним профессиональный разговор о проблемах математики. Мама девочки поит нас чаем с пирожными, и Марина отдана нам с головой и с полным доверием.
Не удивляет уж меня сегодня, что в шестидневном походе по Мещерскому краю, когда одна из девочек разбила ногу, никто не согласился ни отправить ее домой, ни прервать поход. Ко мне прибыла делегация шепетовцев:
— Мы два рюкзака расформировали. Мальчики будут по очереди ее нести.
— Так она ведь не легкая (это была крупная, высокая десятиклассница).
— А у нас Костя и Сережа какие богатыри.
Двигались весь поход мы странной процессией. На плечах высокого, широкоплечего юноши впереди всех ехала улыбающаяся и смущенная девушка, покачиваясь высоко надо всеми.
На привале горланили бесконечные музыкальные вариации на тему:
Все изменилось на земле:
Философ ездил на осле Когда-то прежде.
Ослы обычно мчат верхом,
А мудрецы идут пешком.
Я все равно не в силах охарактеризовать все формы работы с человеком в коллективе. Индивидуальные беседы со мной и беседы с кем-либо перед всеми. Беседа двух-трех сверстников с одним из товарищей по моей просьбе и такая же воспитательная беседа без моей инициативы.
Коллектив должен дорожить каждой своей личностью, а не только личность коллективом. В противовес бюрократическому
— И Наташа: она такая тактичная и неотразимая.
— Вам, Юлий Анатольевич, уж по штату придется пой¥и.
А теперь
(...) человека, и юных лет я стараюсь показать каждому ребенку красоту жеста, голоса, души товарища.
Это мы привыкли замечать и в спектакле, и в ежедневном общении. Как радует то, что за десять лет существования театра мы не приобрели «театральных» пороков: зависти к роли, радости утверждения себя над другим актером.
После каждого спектакля я слышу:
— А вы заметили, как Лиза красиво стояла?
— А Коля? Коля становится великим актером! Какие у него были глаза в сцене из Гомера!
— Юлий Анатольевич, правда, Лена у нас последнее время стала такая красивая!..
Я говорил выше об ощущении духовной и душевной красоты товарища, без которой не может быть подлинных связей в коллективе.
Помню такой диалог между «старым» нашим членом — десятиклассницей Леной и недавно пришедшей к нам девочкой из восьмого:
— Ты, Ира, как-то нехорошо относишься к товарищам.
— Я?! Мне все очень нравятся...
— Да нет, не в этом дело... Понимаешь, мы ж, как тебе сказать... коллектив прежде всего роэтический.
(Я испуганно насторожился: что это, думаю, за эстетство?)
Но Лена продолжала:
— Ты eciex воспринимаешь как-то слишком просто, реально. Нет того, что Оксана назвала вчера... «хрупкой высоты». Тебе в человеке вроде бы все ясно. Ты смотришь, оцениваешь. Вот я с Машей дружу несколько лет, но все равно она ж для меня не только вот эта реальная девчонка, что вчера тройку по физике получила. Понимаешь, когда мы все говорили о ее грации после спектакля «Степное пенье», это одно. Это и ты, наверно, видела, и любой может. Но ведь я ее и потом, в воображении, такой вижу. Она ж для меня что-то такое безмерное, прекрасное. Да иначе и нельзя. Иначе выходит, что на сцене
можно читать о «чудном мгновении», о «гении чистой красоты», а в жизни совершать мелкие поступки, быть пошлым или лживым.
Сухомлинский говорит, что, конечно, чувству приказать нельзя, но воспитание чувства является самой основой педагогической культуры.
Помню резкую полемику с журналистом, который писал о нас статью. Он был на нескольких спектаклях, репетициях, беседовал со многими ребятами. Очень привязался к нам и приобрел доверие.
Говоря о своей будущей статье, он спросил: «Верно ли будет написать, что вы коллектив романтический.»
Это вызвало всеобщее несогласие. Выступила одна из наших старших — студентка-филолог:
— Это будет означать, что мы уходим в свой красивый мирок от серых, так сказать, будней. А это неправда. Стремиться внести в жизнь красоту идеала — не значит быть идеалистом. Скажу о себе. У меня в ШПТ путь особый: я не рвалась сюда поступить, меня Юлий Анатольевич привел сюда за руку, чуть не силой. Ребенок я была запуганный, всех чуждающийся. (Сейчас неважно выяснять причину). Я выхожу теперь с репетиции — вижу людей, улицы Москвы. Раньше я всего сторонилась. Мне нравится жить, учиться. Я с радостью смотрю на других людей (вовсе не на одних членов ШПТ). Нет уж вы, пожалуйста, так не пишите: это мы примем за оскорбление.
Мы стремились всегда к тому, чтобы не только для сцены, но и для жизни дать душам ребят высокий духовный настрой.
И если мы в спектакле о Великой Отечественной войне читаем строки юноши-поэта, отдавшего жизнь за Родину:
Есть жажда творчества. Уменье созидать,
На камень камень класть, вести леса строений,
Не спать ночей, по суткам голодать,
Вставать до звезд и падать на колени.
Остаться нищим и глухим навек,
Идти с собой, с своей эпохой вровень И воду пить из тех священных рек,
К которым прикоснулся сам Бетховен.
и и мы должны идти со всей эпохой вровень и такою лишь мерою мерить свои поступки и устремления.
ТРУД
Я хотел бы говорить здесь о труде физическом, что на первый взгляд может показаться странным. Действительно, какое отношение имеет художественная самодеятельность к уборке, скажем, свеклы или к столярным работам? Непременно ли должен коллектив кружка художественного слова заниматься физическим трудом?
Не знаю, возможно, не должен. Но мне вовсе не кажется случайным то, что у многих моих ребят грамоты за работу в колхозе в школьные годы, грамоты стройотрядов в после-школьные.
"На юбилейном вечере нашего театра администрация школы говорила о том, что ребята ШПТ всегда были среди лучших на полевых работах, что выпускники всегда бескорыстно едут в лагерь вожатыми и показывают пример в труде.
Сухомлинский, ставивший во главу угла общение с прекрасным, убежденный, что красота — путь к человеческому.
духовному, нравственному, вместе cj тем считал, что в отрыве от других сторон коммунистического воспитания и прежде всего от воспитания трудового эстетическое воспитание может оказаться бесполезным и даже вредным.
Но как в походе мы были убеждены, что наши пройдут, так в поле мы не сомневались, что наши будут не последними.
И дело тут не только в сознании своей ответственности за честь коллектива, а в том, что трудолюбие, как справедливо утверждает Сухомлинский, составляет обязательный элемент духовной, интеллектуальной жизни.
Он считает наивным полагать, что трудолюбие воспитывается лишь в процессе труда. «Как нельзя воспитать трудолюбие одними словами о труде, так нельзя его воспитать без серьезных умных слов».
Кроме того, умение заниматься черной,нетворческой, будничной работой вовсе не является принадлежностью лишь физического труда. Нам известны поистине героические черновики Пушкина, гигантский труд Станиславского по отшлифовке технического мастерства, труд пианиста и т. п.
Я вовсе не убежден, что, когда мы в поле серпами жали лаванду (фиолетовые цветы с ярким ароматом) на склоне холма, с которого было видно море, это был труд менее поэтический, чем тот, когда я в сотый раз на репетиции командую:
— Три-четыре!.. еще раз громче...
— Стоп! Еще раз: не глотай согласные!
— Повтори теперь медленней...
И так до бесконечности.
Несправедлива жалоба многих руководителей, педагогов, что ребята не любят трудиться. Их отпугивают вовсе не трудности, а формальное отношение к мероприятиям самих их организаторов. Напротив: одну из причин тяготения ребят к нашей работе я вижу именно в ее сложности, в жесткости предъявляемых требований. В школе слишком много говорят ребятам о будущей жизни, к которой они должны себя готовить (обычный довод педагогов и родителей: учи математику, без нее ты не (...) иино или живут уже сегодня и хотят уже сегодня быть, работать, вносить частицу себя в настоящее дело. Видеть его плоды. И когда труд осмыслен, они способны и к терпению, и к самопожертвованию. Помню, как в сияющем, цветущем, сказочном, весеннем Тбилиси, куда мы прибыли из совсем еще зимней Москвы, мы три дня почти не выходили на улицу, готовясь к спектаклю. И лишь дав концерт, пошли дивиться и на Куру, и на старинные крепости, и на горы в белых лепестках цветущего кемаля. И так же было среди стен древнего Таллина и в чарующих горах Армении. Помню, как на концерт в МГУ пришла Нина Гришкина через несколько дней после операции удаления гланд. Я категорически запретил ей чтение. Она еще не ходила в школу, могла открыться рана. Она настаивала, доказывая, что уже почти здорова.
По ходу спектакля после четвертой части все расходятся, ухожу от сцены и я, и в луче софита появляется одна актриса, которая читает Блока.
Я устало опустился где-то в углу за сценой... Раздались привычные звуки арии Баха... И вдруг я услышал голос Нины:
И всем казалось, что радость будет Что в тихой гавани все корабли...
Она читала звонко, на предельной страсти. Она всегда создавала нам успех, вызывала слезы у самых сдержанных слушателей... И каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И у меня перехватило горло... А потом я узнал, что рядом стояла Маша и сразу после чтения дала ей вату, чтобы остановить кровотечение в горле. Она болела еще несколько дней. Все, в общем, обошлось хорошо. Но сколько тайного страха я натерпелся! В фольклор ШПТ вошла еще одна легенда. И мне порой приходится вести жестокую борьбу, охраняя здоровье юных героев.
Но я о труде ином.
В одно лето туристский трудовой лагерь нашей школы работал под Одессой. Почти все ребята из восьмых были в ШПТ. Поехали, как обычно, вожатыми несколько наших студентов.
Напрасно на поле я уговаривал двух своих старших, чтобы они осуществляли общее руководство.
— Нет уж, Юлий Анатольевич, вы сами руководите... в целом... А мы должны норму сделать. Видели, как они за нами идут. Вот и руководство.
Они шли в паре, слаженно, красиво. Работали быстрее всех и абсолютно без брака. Когда заканчивали норму, смотрели, кто отстал, быстро, с шутками, вместе с ним догоняли других Шепетовцы шли за ними в ряд, стараясь быть не хуже. Им было трудно: рядом были десятые, девятые.
Каждый вечер у меня происходил уже привычный диалог с начальником лагеря. Хоть он был моим другом и мне доверял, но стандартность моих рапортов его начала раздражать.
— Кто лучше всех работал?
Я молчал. Улыбался, глядя ему в глаза...
Потом говорил:
— Ну... Фунтова... Грязнова...
— Опять?
Вступалась за меня вожатая:
— И правда. Шепетовцы работают удивительно: я им велела отдохнуть — они не согласились. Говорят, там навстречу нам Саша идет с нашими, и пошли. Их соседи клин оставили на поле неочищенный, так они его доделали. Объяснили: неудобно, ведь он так и останется.
А на винограднике приятно было наблюдать, как каждый, сделав свои два ряда, не уходил в лагерь, а смотрел, кто там еще не кончил, и шел помогать. Подлинное трудолюбие как моральное качество рождается только в коллективе. Тут соединяется многое: и ответственность перед товарищем, и радость совместного труда, и уже сложившаяся традиция, и уже сформированный у члена данного коллектива навык — делать дело серьезно и добросовестно.
А в одно прекрасное лето ШПТ решил создать свой собственный трудовой лагерь.
Группа ребят обосновалась в крымском колхозе. Туда стали (...) виищтинании и одна из наших самых вдохновляющих легенд. От этого события осталась в нашей среде тьма песен, историй и пр.
Жили мы настоящей трудовой коммуной. С рассвета до обеда работали в поле, потом купались, потом в саду под вишнями репетировали. И даже дали концерт в колхозном клубе.
Каждые несколько дней мы кого-нибудь встречали из наших. Набирали цветов, готовили символические дары, сочиняли песни и приветственные оды в честь прибывающего. Его встречали прямо на автобусной остановке, оглушали торжественным маршем, затем тут же исполняли все кантаты и стихи, вели под вишню, где стоял стол, заваленный щедрыми дарами юга. Хвастливо проводили его.по всем нашим складам, демонстрируя роскошь жизни: целые залежи персиков, миндаля, помидоров и пр. (Колхозное начальство благоволило к нам и выписывало все это по копеечным ценам).
Потом новичку торжественно вручали серп и обучали, как им работать.
Хотя за работу довольно хорошо платили, но делать просто для себя норму всем показалось неинтересным. Дружно делали одну норму, записывая все корзины на одного, потом так же на другого. Потом делали норму за кого-нибудь из тех, кто дежурил или отправился по своим делам в Евпаторию.
После того как мы сжалй последние цветы лаванды, нас на несколько дней бросили на уборку камней с поля. Работа оказалась очень тяжелой, плохо оплачиваемой. Камни мы грузили на жаре, в открытом поле. С нормами пошло туго. Тогда было принято решение совмещать эту работу с разучиванием стихов из новой композиции. Под ритмы Пушкина и Маяковского лихо кидали камни в железный кузов трактора.
Какою сладостной мечтою загораются глаза юного нашего члена — семиклассника или десятиклассника, когда он слушает наши воспоминания!
КРАЙ ЛЮБИМЫЙ И КРАЯ ЛЮБИМЫЕ
Мы много ездим, выступаем. Каждая поездка становится настоящим праздником дружеского общения. Поэтому так рвутся ребята в каждую новую поездку. В этих поездках перевариваются, становятся своими те, кто еще не вошел по-настоящему в коллектив. Тут и проверка ежедневной работой, и дружеские споры, и «суды», и выяснение еще раз, что мы есть и к чему обязывает членство коллектива. Недаром одна из самых любимых тем — рассказы «ветеранов» о том, «как я пришел в ШПТ»... серьезное и юмор, взгляд со стороны и изнутри.
Помню, как после недельного пребывания в Подмосковье, в Подлипках (в ноябрьские праздники), собирались мы на Новый год в Карпаты. Многие родители возражали. Мол, и прошлые каникулы дети не отдохнули...
Неожиданно все протесты подавил папа восьмиклассницы.
«Я очень дружен со своей дочкой. Мы вместе ходим в походы, смотрим храмы и музеи, ходим в театр и т. д. Я не знаю до конца, что вы там все делали в Подлипках, но я должен признать, что за все годы я не сумел дать дочери такую духовную радость. Я отпускаю ее в в Карпаты и призываю к этому остальных. Кроме того, нельзя понимать под словом «отдых» полное безделье или лежанье с книгой на диване. У них другие возрастные потребности, другой темперамент. Эта смена обстановки, это пребывание с юными друзьями для них и есть самый лучший отдых».
Мы очень серьезно готовимся к этим поездкам. Мы читаем заранее (а затем вместе в поезде) стихи поэтов Грузии, когда едем в Тбилиси, поэтов Армении и русских писателей об Армении, когда направляемся в Ереван.
Я цитирую своим питомцам строки советского поэта, которые учат воспринимать чужую культуру:
О языке судите по поэтам,
новую композицию:
Ты прочитал иероглифы и хроники тебе достались,
А видел ли, какой олифой Старинный выкрашен Тифлис?
И если к древностям забытым Я нежности тебе придам,
Легко поймешь, каким магнитом Притянут я к его вратам.
Гришашвили
А по дороге в Ереван ребята сдружились с группой попутчиков-армян и разучивали с голоса песню, прославляющую советскую Армению. Мы хотели ее спеть не как «иностранцы», а с характерными армянскими интонациями и правильным произношением. И сразу включили в приветствие наше Армении:
Ты о древности певала —
Пой о юности своей.
Горя выпила немало —
Чашу радости испей!
— звучал голос чтеца. «Эси мануш Айястани», — радостно вступал хор.
И как отрадно было нам потом петь три подлинные армянские песни в каменных залах подземного храма в Гехарте!
В Карпаты мы везли кантату «Украина». Всю композицию мы исполняли на языке Шевченко и Леси Украинки.
Потом, к пятидесятилетию СССР, мы готовили спектакль, в который вошли части: «Украина», «Грузия», «Армения».
Одна из самых прекрасных идей — идея братства народов — обретает для ребят свою плоть. Она становится зримой, ярко переживаемой.
И какие чудесные, сердечные отношения завязывались у нас и в армянской деревушке, и в театральном институте Еревана, где мы выступали!
А Ира Маркарян, которая была с нами в первой поездке в Ереване, и Карина Абрамян, которая была с нами при повторных (...) ощущали себя живой связующей нитью. «Ты наш флаг». аезло говорили ребята Ире, ставили на сцене ее выше в - срывающимся от волнения голосом
провозглашала:
Орущих камней государство,
Армения! Армения!
Хриплые горы к оружью зовущая
Армения! Армения!
А еще Россия... Русь... С одним поколением ШПТ мы бродили по лесам Мещеры, по есенинскому краю, побывали в Угличе, Ростове, Переславле... Спектакль о Есенине обрел совсем иное звучание, когда увидели мы и «низкий домс голубыми ставнями», и серебряную Оку. По-другому зазвучали строки Маяковского о взятии Зимнего, когда прошли мы по площадям Ленинграда. А рядом Петербург Блока, Петербург Некрасова, Достоевского... Знакомое по книгам зримо представало перед глазами. Виденное припоминалось, когда читали стихи...
Выступали мы в школе в Пушкине, бывшем Царском Селе. Спектакль был готов, репетиция была не нужна. Но я боялся, что пройдет он холодно. Мы выступали утром. Огромные окна зала, дневной свет; прозаичность дня трудно наполнить чарой поэзии. Кроме того, предыдущим вечером с успехом выступили в общежитии ЛГУ. По актерскому «закону» второе выступление — всегда неудача.
За полтора часа до концерта собрались мы на сцене и начали читать воспоминания современников о Царском Селе. Перед глазами проходила живая история Царского Села и живая история русской поэзии... Жуковский, Вяземский, Пушкин, Баратынский... Аненский... Блок, Ахматова... Мы все были взволнованы и очарованы. Все чувствовали свор ответственность перед тем, что стихи предстоит читать в городе, где по паркам и садам, кажется, бродят тени русских поэтов. Спектакль имел мало отношения к Царскому Селу, но все свое волнение, наполненность этим одухотворенным миром ребята вкладывали в исполнение.
Дважды выступали мы в городе, имя которого стало гордостью нашего сегодня, — в Дубне. И живая современность поила
другом, кантата «Родина» в спектакле о Ленине). В этой связи я хочу затронуть тему, которая, может быть, не является обязательной в рассказе о театре поэзии, но сама по себе представляется мне очень важной. Все годы работы одним из моих пристрастий было, чтобы наш ШПТ стал копилкой русских народных песен.
Среди визжащих радиол, однотонно бренькающих гитар, на которых размножившиеся любители исполняют нехитрый вздор, среди сплошного потока чужеземного джаза мне представляется важным и для формирования чувства Родины, и для формирования эстетического вкуса молодежи, чтобы в сердце наших детей вошла русская песня.
У нас нет спектакля, в котором по тому или иному поводу не звучала бы русская народная песня.
В свободное время так отрадно видеть, когда юное племя, шумное и радостное, вдруг затихнет и словно растворяется в нежной и печальной мелодии:
Вью-ун над водою, ах, вьюн над водою,
Вьюн над водою завива-а-ается...
Или сотый раз просит нашу певицу: «Ниночка, спой «Речушку»!» И она, никогда не отказывая, начинает своим тоненьким, серебристым голосом:
Течет речушка слезовая,
По ней струюшка кровавая...
С ИДЕЕЙ В СЕРДЦЕ
Всех нас, воспитателей, всегда волнует главный вопрос: каким он вырастет, наш воспитанник? Какие идеалы будут увлекать его? Каким сыном своей Родины будет он?
Вот он читает со сцены в нашем спектакле о декабристах хрестоматийно известное «Пока сердца для чести живы...»
Вдумаемся в это жестокое для нас, педагогов, «пока». А потом? Потом, говоря словами Маяковского, может начаться «амортизация сердца и души».
Мы обязаны, пока юные сердца открыты миру, восприимчивы ко всему доброму и прекрасному, зажечь их безмерной красотой идеала. Зажечь так, чтобы не гас этот пламень до конца дней.
Мне кажется, что одна глава не может исчерпывать данной темы: хотелось бы думать, что вся книга отвечает ей, ибо человек коммунистического завтра — это прежде всего гармонично развитая, духовно расцветшая личность.
Мы во многих спектаклях читаем стихи Маяковского, но как добраться «до артезианских людских глубин?» Как.добиться, чтобы исполнитель не только отработал ритм и интонацию, но чтобы, говоря словами поэта, «у него «огонь «Авроры» горел во взоре?».
Нельзя допустить, чтобы святые для сердца советского человека понятия остались для него звуком пустым, потому ли, что он не по возрасту рано их воспринял, либо потому, что до него не был донесен их глубинный смысл.
Эта мысль волнует сегодня многих советских педагогов и ученых. Как боялся Маяковский, что «слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платья», так тревожился Сухомлинский, «чтобы высокие слова о Родине и возвышенные идеалы не превратились в сознании наших воспитанников в громкие, но пустые фразы».
(...) тех, кто воспитывается, кроме развития «их собственного деятельно-критического отношения к миру и столь же деятельно-критического мышления. Ленин писал: «Наша школа должна давать молодежи... уменье вырабатывать самим коммунистические взгляды».
Все эти требования имеют прямое отношение к нам, тем, кто работает с ребятами над поэтическим словом — носителем высоких идеалов, словом, в котором эти идеалы оживают, обретают свой подлинный эмоциональный и нравственный смысл.
Мы действительно стараемся, чтобы все было в нашей работе самими продумано.
Вот, например, готовим к 60-летию Октября мы спектакль, посвященный трем поколениям русских революционеров — от декабристов до ленинцев. Я предоставляю слово своей бывшей ученице, а сегодня сорежиссеру, студентке пединститута. Она говорит:
— Необходимо, ребята, чтобы мы все почувствовали, что это не какая-то история прошлого. И даже не только история наших отцов. Необходимо, чтобы каждый всем сердцем ощутил, что это его личная история. И даже не история. Это твоя жизнь, и иначе жить нельзя. Это твоя мука — мука Пушкина, жаждущего духовности и безмерной воли. Это тебя переполняет лермонтовская тоска и некрасовская жажда бури. И ты идешь на эшафот с соратниками Чернышевского; и это ты, я, все мы радостно выходим на революционную площадь и вместе с Маяковским скандируем строки «Левого марша». И это твоя боль и твоя победа. И если мы, современники, можем забыть, не слышать голоса ушедших за нас на смерть, то мы лишены и духовности, и будущего.
Если ж говорить о революции, то так, как говорил Маяковский.
«Дать бы революции такие же названья, как любимым в перйый день дают».
И эти слова я беру за основу, когда трактую кантату «Революция» в нашем спектакле. Идеологическое, воспитательное, эстетическое начала и режиссерская трактовка сливаются тут воедино. И разъясняя, как исполнять строки поэта о Родине, о революции, я цитирую его стихи:
Восторжен до крика,
взволнован до боли...
Рифмы, ритмы, речитативы, аллитерации — все должно быть подчинено этой сверхзадаче. Ибо симфония Октября для поэта — самая «могучая музыка», ибо во имя этого он «по меди слов языком колоколил, в ладони рифм оглушительно хлопал».
Наша задача — нести людям чару поэзии, песню о красоте мира, о сияющем зеркале озер, о нежности серебристого ландыша; мы хотим рассказать и про волнистую рожь при луне, и про бездонность материнской любви. «Но пусть эта красота войдет в детское сердце вместе с мыслью о том, что не было бы ни цветущего сада, ни пчелиной арфы, ни ласковой материнской песни... если бы в холодное зимнее утро 19-летний юноша Александр Матросов не упал на вражеский пулемет... если бы не пролили свою кровь от Волги до Эльбы тысячи и тысячи героев», — писал В. А. Сухомлинский.
В связи с этой мыслью мне хочется рассказать об одном эпизоде, наиболее меня взволновавшем.
Мы репетировали к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне спектакль, посвященный юным поэтам, павшим на фронтах войны. До,этого мы работали над стихами Лермонтова и Тютчева, Блока и Есенина. Естественно, что художественный уровень строк рано погибших юношей уступал мастерству классиков. Это все чувствовали.
На генеральной репетиции вдруг поднялась одна из моих старших учениц:
— Я хочу обратиться к вам: давайте завтра выступим хорошо. Эти ребята заслужили, чтобы мы рассказали о них по-настоящему.
Все затихли, и я почувствовал, что этот призыв стоил многих воспитательных речей и бесед.
На завтра вышли на сцену, как на бой. Долго продумывали годами. Стояли на сцене подтянуто, двигались по-военному четко. Каждую строку подавали очень бережно, с мыслью о человеке, что ушел на смерть за великую идею, за Родину.
После спектакля ко мне подошла наша учительница, бывшая фронтовичка. «Я не буду выступать в обсуждении, — сказала она, — мне это слишком трудно, но скажите спасибо всем вашим ребятам. Вы будите такие воспоминания... и такие большие чувства».
Неправда, что наши ребята равнодушны к идеям, за которые заплачено кровью. Сердца подростков и юношей открыты миру и не затвердели. Если мы преподносим им большие идеи с трепетом душевным, он передается им. Причиной равнодушия чаще всего является формальное, чиновничье отношение самих воспитателей к важнейшим воспитательным мероприятиям.
Юность же, овладев культурой эмоционального воздействия, стремится зажечь своим огнем других.
Мы выступали однажды в клубе фабрики. Читали «Смерть пионерки» Эдуарда Багрицкого. Зал состоял из подростков, настроенных к поэзии и музыке весьма недоброжелательно. Воспитательница их говорила нам: «Трудные у нас мальчики». И просила все же выступить, помочь ей. «Надо же их чем-то захватить».
Мы долго совещались, как будем держаться на сцене, как не уступим «до победы». Мне кажется, что в таком спектакле идейная и художественная задача, драматическая коллизия, решаемая внутри произведения, соединяется с коллизией, задачей актера, разрешающейся в зрительном зале.
Там, в произведении, отвергая «постылые скудные слова», утверждает Валя идею летящего по ветру пламенного галстука. Там, в спектакле, я трактую ребятам идею сцены «Нас водила молодость в сабельный поход»: мелодия «Варшавянки» ведет у нас тему боя. Ритм стиха сливается с ритмом песни. Но вот один чтец замедляет ритм и сквозь быстрые, летящие, маршевые звуки мелодии, сопротивляясь ей, словно побеждая ее, утверждает:
Но в крови горячечной подымались мы!
Но глаза незрячие открывали мы!
Так солдат поднимается на поле боя и идет на пули, сквозь дым и смерть.
Здесь, в зрительном зале, актер идет пусть не в столь опасный, но так нужный для дела воспитания нового человека бой: убедить в нужности поэзии, убедить в нужности духовной жизни и через огненное поэтическое слово убедить в величии и красоте той идеи, за которую сражается и Валя, и боец на поле сражения.
И ты, воспитатель, и ты, юный актер, должны выиграть этот бой, потому что это бой за наше будущее.
Выход артистов на сцену, музыку, начало чтения печальных строк зал воспринимает иронически... шум, смешки, грубые шутки.
«Дави их паузой! — шепчет Витя. — Дай подумать и опять наступай!» До спектакля постановили — на провокации не поддаваться, читать все сильнее, вдохновенней...
Зал все чаще стал стихать на нежных строках об умирающей девочке... Вдруг совсем стих, услышав горестный призыв матери... Потом опять шум.
«Нас водила молодость в сабельный поход», — начинают два чтеца. Зал чуть притих... хотел вновь утвердить затем свое первенство...
«Нас бросала молодость на кронштадтский лед», — отзываются двое других, ярче, звонче, словно преодолевая лед Кронштадта и лед непонимания.
«На широкой площади убивали нас!» — с резким вызовом, подавляя последние попытки помешать, гордо читает новый голос. И когда выдвигается вперед наша ведущая актриса и, широко раскрыв глаза, мощно, трагедийно и победно утверждает: «Но глаза незрячие открывали мы!» — зал уже покорен. Он до конца концерта, затаив дыхание, слушает рассказ о героической гибели маленькой пионерки, об отчаянии матери.
«А в больничных окнах синее тепло...»
Затем нарастает звонкая, задорная песня: «Мы кузнецы, и дух наш молод», «Поднимает песню на голос отряд», и выходит она «в мир, открытый настежь», и весь зал разражается бурей аплодисментов, забыв свои глупые мальчишеские шутки. И актеры, счастливые, благодарно смотрят на «покоренных», и, чувствуется, довольны этой публикой больше, чем доброй и понимающей. Да и у мальчишек в зале вовсе не пошлые и не развязные лица, а открытые, радостные, согретые.
И верится, что вырастут завтра эти мальчишки и, если надо, тоже пойдут бесстрашно на пулеметы. Да и в самом деле, ведь не из «конфет и пирожных и сладостей всевозможных» были сделаны Корчагины и Матросовы.
А мои любимые, мои прекрасные ребята окружают меня за сценой, возбужденные и сияющие донельзя:
— Какие мы, а?!
— Вы что надо, — г смеюсь я и показываю им большой палец.
Чтобы идея вошла в сердце, за это действительно надо сражаться.
ПРОБУЖДЕННЫЕ
Думаю, что вышеизложенное должно достаточно убедить, как много значит работа в поэтическом театре для каждого из его членов, для интеллектуального, нравственного и духовного его роста.
Однако необходимо всё-таки остановиться на некоторых сторонах этой проблемы.
Естественно, что ребята, отдающие многие часы работы над поэтическим словом и над соединением его с музыкой, вырастают людьми, для которых книга, стихотворение, симфония или скрипичный концерт становятся насущной потребностью. Приобщаясь к высокому строю мысли и чувства, -юность и свои человеческие, свои интимные отношения желает строить поэтически возвышенно и глубоко.
Кроме того, одной из истин и моей педагогической веры «является безграничная вера в воспитательную силу книги. Школа — это прежде всего книга. Воспитание — прежде всего слово, книга и живые человеческие отношения», «без книги я не мог бы сказать юному сердцу и сотой доли того, что ему надо сказать и что я говорю. Умная вдохновенная книга нередко решает судьбу человека» (Сухомлинский).
Мы радуемся, что в своей работе нам удается осуществлять завет замечательного педагога, чтобы не только кино, магнитофон и радиола, но и умная, красивая книга стала постоянным спутником ученика.
Обретая это богатство, ребята становятся страстными пропагандистами книги, стихов, а главное, наполненной, духовной, жизни.
Двое наших выпускников с горькой иронией рассказывали, что, увидев «Анну Каренину» у одного из них, студент технического вуза, где они теперь учатся, спросил: «Зачем тебе это?» (Действительно, «по программе» более не надо!). «Ничего, — весело доложили мне они, — мы уже Евтушенко им привили, скоро до Тютчева будем «поднимать».
Через месяц еще докладывали о своих победах: уже читают некоторые стихи Пушкина и Тютчева. «Дойдем и до Толстого!»
И я с гордостью ощущаю в них своих соратников и продолжателей. И таковы все 102 человека, те, кто прошел через ШПТ. Я не говорю о десятках «распропагандированных» зрителях в стенах нашей школы и в других залах.
Утилитаризм юных «физиков» без лирики, магнитофончик с модной песенкой, духовная жизнь, сводящаяся к беседе об очередном матче, — страшные пороки части сегодняшней молодежи, крторые не могут не волновать воспитателя. Не говорю уж о более страшном: пьянстве и хулиганстве. Надо помнить завет Маяковского, что и поэзия — вино, «и если ее хоть раз ... испили рты», то ее не заменит уже никакое питье, никакая пошлость уличных куплетов.
Еще одна очень важная проблема в прямой связи с вышеизложенным. Часто говорят о занятости, о перегруженности программы в старших классах. Некогда, дескать, ходить на концерты, читать сверх программы и тем более участвовать в самодеятельности, отнимающей столько времени.
Я вспоминаю выступление на комсомольском собрании десятиклассницы. Вместе с группой сверстников увлеченные работой, увлеченные дружеским соревнованием с нами ставили они со своим учителем истории «Маленького принца» Экзюпери.
«Я готовлюсь на мехмат и вплоть до декабря только решала и решала задачи по математике да физике, i — рассказывала она. — А потом мы неожиданно увлеклись идеей поставить «Маленького принца». Я так отдалась этому, что на месяц чуть ли не вовсе забросила уроки. Думала потом, что не будет ничего получаться, но оказалось наоборот. Чем больше я усердствовала в ноябре, тем меньше у меня получалось. А теперь я занимаюсь математикой с таким наслаждением, и все стало выходить».
Хочу подчеркнуть, что это говорила десятиклассница во втором полугодии, когда уж, кажется, не грех отдаться только учению и подготовке к вузовским экзаменам. Она призывала всех жить полнокровной жизнью.
Известен опыт Новосибирской математической школы, где занятия точными науками пошли с ббльшим успехом, когда ввели дополнительные часы по гуманитарным, эстетическим дисциплинам.
Занятия в поэтическом театре не отвлекают от труда. За десять лет у нас не было ни единого примера, чтобы вступление в ШПТ снизило интерес ученика к учебе. Зато достаточно примеров противоположного характера.
Таня семь лет в школе училась очень посредственно. Она всегда казалась мне какой-то забйтой и очень некрасивой. От ответов по литературе обычно уклонялась. А если я все-таки поднимал ее на уроке, уныло и хмуро смотрела в сторону и молчала. Однажды я заметил, что у нее красивый, сердечный голос, когда она, не очень стараясь, читала на уроке заданное стихотворение.
Я предложил ей прийти к нам: «У тебя есть данные...» Она, как и ко всему, отнеслась к моим словам со своим привычным равнодушием. Я еще несколько раз с ней говорил. Потом, как. это у нас всегда бывает, ее стали исподволь «обрабатывать» наши актеры, ее одноклассники. Девочку очень замкнутую, всегда сторонившуюся и товарищей, и всякой общественной жизни, очевидно, поразил этот неожиданный интерес к ее личности. Однажды ко мне прибежали три восьмиклассницы: «Сегодня Таня придет на репетицию. Так вы уж не спугните ее. Она ужасно боится. Мы столько с ней провозились, пока она чуть поддалась».
Таню постепенно «отогревали». Но все же она по-прежнему сидела, забившись в угол, хоть мы чувствовали, что репетиция и формы общения ребят не оставляют ее равнодушной.
К ближайшему представлению нам срочно нужна была Эос, богиня утренней зари, которая во время спектакля проходит несколько раз по сцене в белых «греческих» одеждах с красным цветком в руке, символизируя восход.
Сцена для нас очень важная, определявшая форму спектакля. Гас полностью свет, потом раздавалась тихая музыка, вспыхивал один узкий луч и в нем появлялась белоснежная богиня. Она мерно проплывала по авансцене. А весь хор вставал ей навстречу, тихо и ритмично признося:
«Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос».
Предшествующая Эос выбыла. А нам через две недели надо было выступать.
— Попробуйте Таню, — предложил мне кто-то из старших ребят. Я посмотрел на нее другими глазами: тонкая, легкая, гибкая фигура. Начали пробовать.
И далее произошло подлинное чудо преображения. Таня не уолэКО великолепно йспСлнигЗ свою ооль.но в несколько дней буквально преобразилась. Я так подсобно рассказываю о ней, (...) ское. Это же происходит со многими, но не в несколько дней, не так ярко и наглядно.
Таня пересела на первую парту, к самой лучшей ученице (и члену ШПТ), они вместе готовили литературу, наперебой отвечали. Она мучительно переписывала по нескольку раз сочинения, и они всегда были живыми, эмоциональными, часто односторонними, но очень самобытными. Но самое чудо было не в , этом. Таня стала поразительно красивой. Она расцвела как-то сразу. Лицо светилось все время нежной улыбкой, она полна была вовсе не только на сцене удивительной грации. В театре ее трепетный высокий, нежный голос зазвучал в самых музыкальных, задушевных строках:
«В Хоросане есть такие двери,
Где усыпан розами порог...»
Или: «Заметался пожар голубой...» и т. п.
В десятом классе она стала учиться без троек. Как-то неожиданно уже к девятому классу стала всеобщей любимицей.
У меня был ее отец. Он рассказывал о трудной ситуации дома, которая всегда болезненно отражалась на Тане. О том, что с первого класса она всегда была запугана всем: оценками, ответами, окриками.
После школы она зашла ко мне и сказала: «Я не знаю, как это объяснить, но меня просто не было до вступления в театр».
Прав Сухомлинский: юность — пора поэзии. Пробуждение поэзии в человеке — это пробуждение самого человека, его духовных, творческих и, если хотите, жизненных сил.
Есть у нас и мальчик, который прошел тот же путь, но не в три дня, а с шестого класса по десятый, мучительно преодолевая себя.
До шестого класса он в коллективе ребят (и увы, часто и учителей!) был чем-то вроде классного дурачка. Теперь он окончил школу, поступил в Московский университет. У нас он один из ведущих актеров. И человек он большой душевной широты и изящного юмора.
Есть у нас много примеров душевного, нравственного расцвета, не связанного с учебой._Так, Оксана, когда-то дичившаяся всех, нервная, испуганная девочка, теперь у нас главный «идеолог», литературный режиссер и, как ее зовут младшие ребята, «матушка-утешительница».
Я привожу примеры наиболее зримые. Но пробуждение поэзии в человеке, пробуждение человека, несомненно, главное во всей нашей работе.
ДОРОГИЕ ПАПЫ И МАМЫ
Это у нас одна из самых животрепещущих проблем. Это проблема внутри коллектива: отношение ребят к своим родителям. Это проблема вне коллектива: отношение родителей к увлечению своего ребенка самодеятельностью. Это вопрос чисто деловой: мама не отпускает сына на репетицию. И это вопрос нравственный: какого человека мы хотим воспитать? Вопрос об утилитаризме и духовности.
Это, с одной стороны, необходимость выполнения завета Макаренко: через учеников оказывать влияние на родителей. Я был глубоко удовлетворен, когда мне мама одного ученика сказала, что, увлекшись стихами, мальчик заставил всю семью перечитать Пушкина, Лермонтова («Посмотрите, говорит, как интересно». А мы со школьных лет это не вспоминали!). Папа другого рассказывал, что их сын открыл им Томаса Манна («Мы и имени такого не знали!»).
С другой стороны, необходимо, чтобы задача воспитателя не расходилась с задачей родителей, чтобы мы были солидарны в главном.
На деле все это очень сложно. Многие родители настроены крайне утилитарно. Их раздражает мысль, что можно заниматься делом, не дающим «никакого» практического результата. Нужна физика, нужна математика." Нужно готовиться в институт, а ребенок занимается какими-то репетициями, выступлениями («Актером он не будет. А вот в институт не поступит»).
(...) десятиклассника, то с каждым годом опускается ступенью ниже.
Недавно родители шестиклассника говорили мне по какому-то поводу: «Но ведь ему же надо будет в институт поступать!» Эти крайне убогие, антипедагогические взгляды захватывают, к сожалению, и некоторых учителей, и, разумеется, многих старшеклассников («Отрываетесь от жизни», — насмешливо говорят такие своим одноклассникам, вступившим в ШПТ).
Зажечь юность крылатой мечтой все же легче. Но как часто ты ощущаешь себя наивным младенцем, когда доказываешь взрослому человеку, что прежде всего необходимо пробудить в ребенке живую душу, любовь к людям, восторг перед культурой, перед поэтическим словом, а он глядит на тебя с плохо скрытой насмешкой, а то и с явной враждебностью, ибо понимает, что встретил противника — того, кто отвлекает ребёнка от жизненно необходимого для его судьбы дела.
С восьмого класса по четвертый курс института работала у нас в коллективе девочка, папа которой неизменно повторял: «Долго ты будешь ходить на эти спевки?» Он ни разу не был ни на одном спектакле, он не пытался даже понять, что влечет туда дочку. Он и так знал твердо, что дело это пустое и ненужное.
Приведу еще дваочень характерных примера. Папа десятиклассника очень тепло благодарил меня да и всех ребят ШПТ за сына. «Он был все годы таким односторонним. Все лишь математика да математика. Сочинения писал короткие, равнодушные. Да и сам был очень скованным и, я боялся в этом признаться, ограниченным». А за два дня до этого ко мне домой пришли двое взволнованных раздраженных родителей мальчика из девятого класса. Они обвиняли меня и весь коллектив в том, что мы отвлекаем их сына от дела, что он плохо учится, что стал ночи напролет читать классику, которую раньше в руки не брал, что решил стать филологом, пренебрегая своими мате-; матическими способностями, и т. п.
Тщетно пытался я вычленить в этой беседе рациональное зерно.
— Как он учился до восьмого класса?
— Очень плохо. И музыкальную школу бросил.
— Стало быть, раньше он не читал серьезных книг, не занимался музыкой; сейчас много занимается, по вашим словам, серьезной музыкой, читает серьезные книги, страстно увлечен стихами (да и по математике стал получать 4).
Действительно, мы не сумели заставить его обратить свой взор к математике. Я не стал рассказывать моим оппонентам, что две недели подряд мы запрещали посещать их сыну репетиции, что чуть ли не ежедневно с ним занимался по математике наш старший актер — студент мехмата, что проблему с трудным ребенком решали всем коллективом, общим собранием. И преуспели не очень. Но все же никак не зло от нас исходит, ибо ничем их дитя не дорожило ранее, а теперь дорожит своим театром и вне его не мыслит своего существования, почему при всей великой лени терпит все наши «домогательства». Мальчик удивительно много знает наизусть стихов, и ему дорога книга и небезразлично имя Бетховена...
Гордость проснулась в некоторых родителях, когда про нас появилась статья в «Правде».
— Сегодня за обедом папа прочел статью, торжественно поцеловал меня в лоб и сказал: «Молодец!» — рассказывала девятиклассница Таня.
А ведь «молодец» Таня была вовсе не тогда. Молодец она была тогда, когда, обжигая пальцы нашим ужасным фонарем, мужественно старалась не испортить спектакль и внести в него лирическую световую поэзию. Молодец она была тогда, когда открывала в ванной все краны и, перекрывая шум воды, читала стихи, потому что не получала сольных строк из-за тихого голоса, и еще потому, что этим «вздором» в комнате заниматься не разрешали.
На родительском фронте у нас много радостных побед, но наши спектакли в Москве и даже в пригородах.
— Вам не надоело? — спрашиваю ее.
— Что вы! Так всегда интересно. Сравниваешь разные представления. И, — она смущенно улыбнулась, — Людочку послушать хочется. Она так волнуется перед каждым представлением! И вообще она ведь этим сейчас живет.
А рядом совсем другие диалоги.
— Что это ты, Сережа, как-то странно сегодня одет? — спрашиваю я у десятиклассника.
— А это все Витькино. Папа одежду всю запер. Сказал, что больше не пустит в ШПТ.
Методы подобного воспитания удивительно однообразны.
Обнаружив, что обуви в доме слишком много, а шкаф недостаточно вместителен, папа другого мальчика запер в шкаф все правые ботинки.
«Папа, ты меня плохо знаешь: ради искусства я могу пойти в двух левых», — написал ему в записке сын и отправился на репетицию.
Создается впечатление, что некоторые родители, страстно любя своих детей, стремясь скорее пристроить дитятю, дать ему путевку в вуз (в хорошую профессию), словно забывают, для чего они растят человека. Духовность, гражданственность, нравственные качества не то чтобы считаются ненужными, а так... откладываются на потом. Предполагается, что будет хорошим инженером, ну а остальное, разумеется, приложится. А ведь на самом деле наоборот: надо вырастить человека одухотворенного, преданного товарищам, делу, открытого миру, искусству, идейно убежденного, и тогда он найдет свое место в жизни.
Я как воспитатель порой попадаю в положение сложное и двусмысленное. Мне негоже поощрять обман родителей или неуважительное отношение к их требованиям. Помню трудную (хоть и не вовсе безуспешную) беседу с отцом школьницы. Она в театре была певицей. Отец не разрешил ей пойти на выступление, но она самовольно ушла.
И девочка не могла поступить иначе: она год готовила со своими товарищами спектакль и не допускала мысли, что может подвести их, предать в трудный и ответственный день.
Ее отец был руководителем крупного производства. Он требовал от своих подчиненных сознания своей ответственности перед коллективом, исполнения долга. А ведь именно эти качества и руководили его дочерью. Где, как, когда сформируется это чувство гражданской ответственности, если пока что ради себя (урока, оценки, аттестационного балла, вуза) можно им пренебрегать?
С волнением рассказывали мне десятиклассники, что двое их соучеников не выступили и не голосовали на комсомольском собрании за дело, которое они считали справедливым, но опасным для «карьеры». «Сейчас наша задача аттестатики, характеристики», — сказали они после собрания (в данйой ситуации им казалось характеристики могли пострадать). Вот они злонравия, практицизма достойные плоды!
Как ни парадоксально, но родители, нацеливающие ребенка лишь на корыстный труд, очень похожи на фонвизинскую героиню, оберегавшую своего Митрофанушку от всякого труда. И пренебрежение к нравственным и духовным ценностям приводит часто к тому, что оборачивается в итоге и против самих воспитателей. Целенаправленные Митрофанушки отличаются от своего предшественника способностью к делячеству, но не уступают ему в корысти и утилитарном отношении не только к миру, но и к своим мамушкам и нянюшкам.
Сколько потом слышишь стереотипных материнских вздохов: «Все для них делаешь, а они...»
Митрофанушка — дурной гражданин, ибо всякие высокие понятия воспринимает лишь как орнамент для удобного обделывания своих дел. Митрофанушка — дурной сын, ибо и на мать он глядит потребительски: полезна — стало быть нужна. А нет, то как в бессмертной комедии: «Отвяжись, матушка!..»
Меня поразила беседа с одной девятиклассницей. Юность — пора сомнений, вопросов, нравственного, духов-
«Униженные и оскорбленные». Папа не разрешил. У нас непрограммный Пушкин, Баратынский, Толстой и прочие заперты в книжном шкафу. Папа говорит: «Поступишь в институт — и читай в свое удовольствие. А сейчас учи физику!»
У человека, возможно, духовный кризис. У юноши вопросы о смысле жизни, о справедливости... А ему твердят: пока будь инженером, человеком потом.
«Я как скорая помощь, которая вот-вот поспеет», — говорит о поэзии Михаил Светлов. Но на пути скорой помощи, которая вот сейчас, сегодня нужна ребенку, стоит огромный, черный амбарный замок (он мне упорно таким представляется). Та самая умная вдохновенная книга, которая, по словам Сухомлинского, нередко решает судьбу человека, папою запрещена. -Скорая помощь запоздает. Перейдя школьный порог, дитя, возможно, откажется от ее услуг.
Мне хочется завершить эту главу призывом:
«Уважаемые мамы и папы! Снимите, пожалуйста, замок с книжного шкафа! Отпустите ребенка в мир поэзии и музыки! Он не может жить завтра. Он живет уже сейчас. Он вместе с поэтом рвется «к людям коммуны и к людям вчерашнего дня». Он должен сегодня страдать вместе с Пушкиным, мечтать с Максимом Горьким, стремиться в грядущее с Маяковским. Разрешите ему сегодня спеть со сцены свою любимую песню, прочесть свое заветное стихотворение!»
* * *
Человеку свойственно многие духовные ценности осмыслять в реальных образах. «Низкий дом с голубыми ставнями» соединяет в себе представление о Родине и о детстве. Медный всадник становится символом Ленинграда. В нашей школе мы уже привыкли к тому, что выпускники, приходя на вечер встречи, спрашивают: «А сегодня будет выступление ШПТ?»
Мне кажется, это так немало, если воспоминание о школе будет связано у человека не только с памятью об уроках, звонках, любимых учителях, но и с воспоминанием: «Школа, где у нас был свой поэтический театр».
Гаснет свет в зале, раздаются мерные аккорды фортепиано, и вдохновенный юный голос произносит слова о красоте мира, о счастье, о грядущем.
Распознавание текста книги с изображений (OCR) —
творческая студия БК-МТГК.
|