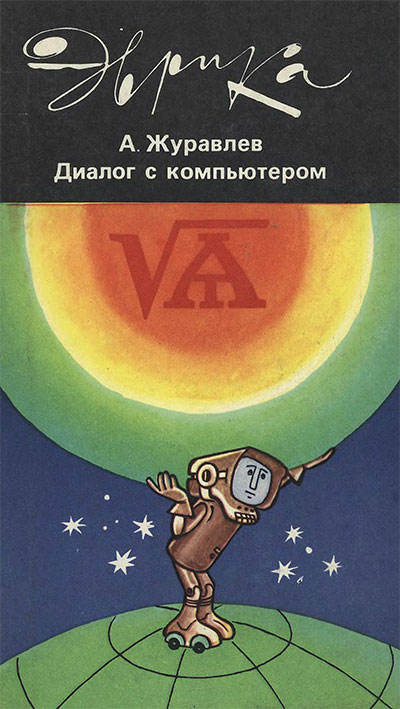Полный текст книги
Доктор филологических наук профессор А. Журавлев работает в области кибернетической лингвистики. Сейчас он занимается вопросами применения компьютеров с синтезаторами речи в обучении русскому языку и разрабатывает проблему общения человека с компьютером на естественном языке. Помимо научной и педагогической деятельности, он стремится популяризировать результаты, полученные в своей области знания. Им опубликован ряд популярных статей и книга «Звук и смысл». «Диалог с компьютером» — первая его книга в серии «Эврика».
Краткое предисловие
Словосочетание диалог с компьютером постепенно становится все более привычным, и это закономерно, потому что компьютеры входят в нашу жизнь все более широко и основательно, мы общаемся с ними все чаще, «беседы» с ними становятся все сложнее и содержательнее.
Но слово «беседы» недаром взято в кавычки: в данном случае это просто образное выражение. На самом деле пока еще общаться с компьютером можно лишь в очень узких, жестко ограниченных рамках и только через переводчика-программиста, потому что человек и машина говорят на разных языках. И подумайте-ка, не парадокс ли: не машина приспосабливается к своему создателю и повелителю — человеку, а он к ней, своей служанке. Ведь человек вынужден учить язык машины, чтобы повелевать ею. А почему бы не наоборот? Пусть компьютер потрудится выучить язык человека, чтобы служить ему верой и правдой!
Да, это сейчас одна из важнейших проблем кибернетики — общение с компьютером на обычном человеческом языке. Потому что все острее становится «информационный кризис», возникший из-за неэффективности общения человека с техникой. Как его преодолеть? Академик Г. Поспелов по этому поводу говорит: «Создание интеллектуальных средств общения позволит добиться того, что вычислительной машиной сможет пользоваться практически каждый, кто изъявит желание. Появление машин такого типа практически даст выход из того информационного кризиса, о котором шла речь».
Еще совсем недавно проблемы такого рода специалистам казались чисто инженерными: нужно повысить быстродействие машин, увеличить их память, сделать более совершенными устройства ввода-вывода информации — и машина овладеет языком человека.
Да только оказалось, что дело не в технике, а в самом языке. Мы с детства владеем языком, поэтому и не видим в этом ничего сложного. На самом же деле владеть языком — значит понимать мысли говорящего и выражать собственные мысли на этом языке. Язык — выразитель мышления. Эта истина — азбучная для любого языковеда — оказалась недооцененной кибернетиками, которые пытались обучить машину человеческому языку, не отдавая себе отчета в тех колоссальных трудностях, которые их ожидают, собирались учить языку машину, сами еще не зная всех сложностей и возможностей языка. Правда, знания языковедов, знания лингвистов о языке тоже не годились для кибернетических целей.
Вот ведь как сложилась ситуация — чтобы решить техническую проблему эффективного управления компьютером, приходится решать сложные языковые задачи, а для этого, в свою очередь, приходится обращаться к компьютеру. Выход здесь один — объединять усилия обеих наук, развивать пограничную область знаний. Как она будет называться, трудно пока сказать. Может быть, киберлингвистика? Но что такая наука необходима, что она будет существовать и развиваться, сомнений нет.
Кибернетико-лингвистические проблемы возникают и разрабатываются уже сейчас. Создаются диалоговые системы, когда общение с компьютером идет на обычном языке. Но все же что это за язык?! Убогий набор стандартных фраз, предполагающих не менее стандартные ответы. А ведь задача в том, чтобы компьютер понимал (вернее, как бы понимал) нормальную живую человеческую речь со всеми ее богатствами, со сложной игрой смысловых оттенков.
Разрешима ли в принципе такая задача? Есть ли какие-нибудь пути ее решения? А если есть, то означает ли это, что можно создать мыслящие машины? Такого рода вопросы и будут обсуждаться в книжке. Читая ее, вы увидите русский язык — звуки речи, слова, предложения и даже стихи — как бы глазами компьютера, который пытается понять человека и заговорить с ним на его живом и ярком человеческом языке.
Значение значения
Поговори со мной, машина, о чем-нибудь поговори
Как стремительно развивается техника! Помню, с каким замиранием сердца смотрел я на техническое чудо середины XX века: стекло керосиновой лампы обрамлено диковинной серебристой крыльчаткой, от нее идут провода к радиоприемнику, в недрах которого звучит далекая разноязычная речь, играет музыка... А теперь включаю телевизор и смотрю, как люди ходят по Луне, как они парят в космосе, слушаю, как они рассказывают о том, что там видят!
Уже не верится, что статистические таблицы для своих первых публикаций приходилось рассчитывать на арифмометре. На арифмометре! С ручкой, которую надо было крутить. А ведь это было совсем недавно. Всего-то два десятка лет назад. Теперь же нажимаешь пальцем кнопку и сидишь себе, попивая кофе. А компьютер приятным голосом читает стихи и рисует по ним дивные цветные картины. Я веду с ним интеллектуальную беседу:
— Как по-твоему, какова экспрессивная тональность этих стихов?
— По-моему, — рассуждает он, — в них говорится о чем-то сильном, но печальном и даже, пожалуй, страшном. И потом, здесь интересная звукоцветовая игра: эти резкие красные всполохи ударных А на грозном темно-синем фоне У и Ы. Как гроза или пожар в бурю. Вот, взгляните на экран.
Нет, каково! Компьютер проник в такие тонкости и глубины поэтического произведения, какие не всякому человеку доступны. Мыслимое ли дело!
Но поумерим восторги. Все правильно: наша техника могуча, стремительна, сложна. Только зададим такой каверзный вопрос: а как мы ею управляем, нашей могучей, стремительной и сложной техникой? С помощью чего? Каким способом?
Очень уж неожидан и, пожалуй, даже обиден для нас ответ: мы управляем техникой руками. Ну, иногда и ногами. Руками мы крутим штурвалы, двигаем рычаги, включаем рубильники, ногами жмем на педали, пальцами нажимаем кнопки. То есть в принципе управляем нашей техникой вручную, так же, как первобытный дикарь управлял своей «техникой» — дубиной и камнем. Человек в современнейшем автомобиле руками и ногами прикован к его управлению, ни на минуту не может оторваться. Так кто кому служит? Даже вершина технического прогресса — компьютер — и тот управляется вручную! Его самостоятельность — иллюзия. Чтобы он работал «сам», нужно пробить на перфокартах или перфоленте отверстия, командующие каждым его действием, или набрать программу на клавиатуре терминала. А пробить или набрать команды надо руками. Вот и стучат по клавишам программисты и перфораторщицы часами, неделями, месяцами, подготавливая управляющие команды, которые компьютер выполнит за считанные минуты. Да и вложить эти перфокарты в приемное устройство машины нужно руками, руками поменять диски с магнитными лентами, руками нажать кнопки исходных команд...
Плохо обстоит дело и с обратной связью. Мало о чем могут сообщить нам технические устройства. И набор сигналов для этого убог: стрелки приборов, мигание лампочек, звонки да гудки — вот и все.
Может, кто и упрекнет нас: мол, вы уж совсем хотите сложа руки сидеть, чтобы уж и пальцем не пошевелить, чтобы все само собой делалось, да еще бы и подавалось как на блюдечке. Отнюдь нет. Не подумайте, что нам грезится теплая лежанка на самодвижущейся печке. Другое волнует: резкое несоответствие между высоким уровнем развития техники и примитивными способами управления ею. Это несоответствие уже сейчас вырастает в тревожную проблему — дальнейшее совершенствование машин теряет смысл из-за невозможности эффективно ими управлять. И здесь, конечно, уже нельзя надеяться на совершенствование работы рук оператора, нужно менять сами отсталые принципы управления и обратной связи.
Менять-то менять, да на что? Есть ли у человека в запасе другой принцип управления?
Вспомним, что мы управляем не только техникой, но и друг другом, людьми. Как мы это делаем? Руками? Конечно, нет. Разве что в исключительных и, заметьте, в «дикарских» случаях. А вообще-то людьми мы управляем с помощью языка, с помощью речи. Вот истинно человеческий, интеллектуальный принцип и способ управления! Он чрезвычайно эффективен, гибок, надежен, универсален. Он служит нам верой и правдой в любых ситуациях —- а ведь человек несравненно сложнее любого компьютера. И с обратной связью никаких проблем — опять выручает язык: он объединяет управление и обратную связь в единый процесс общения, процесс коммуникация. А нельзя ли и с техникой общаться так же эффективно, так же гибко и универсально? Общаться с помощью речи?
Желание это в наши дни не так уж и фантастично. Сейчас выпускаются электронные устройства, которые слышат человеческую речь, реагируют на нее и сами умеют говорить «человеческим» голосом. Конечно, их умение весьма ограничено. И, как ни странно, особенно им трудно не самим говорить, а слушать человека. Как ни бьются специалисты с распознаванием человеческой речи машиной, с трудом удается настроить электронику лишь на несколько фраз, да еще чтобы голос не менялся, да помех бы не было, да чтобы говорил диктор четко, да слова бы не переставлял... Столько мороки! Попробуйте-ка так пообщаться — никакого терпения не хватит. У человека не хватит, а машине-то ничего — она электронная.
Зато говорить компьютер научился неплохо. Первые образцы машинной речи благозвучием не блистали, но теперь синтезатор речи (говорящий компьютер, диктодисплей — устоявшегося названия еще нет) говорит вполне человеческим голосом, правда, в основном мужским — женский пока синтезируется хуже. А мужским голосом синтезатор и песни поет, и стихи декламирует, и книги вслух читает, да и поговорить с человеком может.
Так что же, значит, уже сейчас есть возможность речевого общения с машиной? Уже можно управлять техникой с помощью речи? Можно надеяться на обратную речевую связь?
Если бы это было так! Какой мощный рывок совершила бы в своем развитии техника! Это был бы такой взлет человеческой цивилизации, который можно сравнить разве что с возникновением письма.
В самом деле. В процессе своего развития человек овладевает материалами, энергией и информацией. Вот три основных источника, питающие совершенствование человеческой цивилизации.
К этим источникам припадают и животные, но робко. Пчелы строят соты из воска, птицы — гнезда из веточек, муравьи — дома из «подручного» материала, калан разбивает камнем лакомые раковины. Конечно, это овладение материалами, но весьма и весьма ограниченное.
Еще меньше успехов у животных в овладении энергией — вот разве что паук летит на своем паутинном ветролете, ну птицы парят, используя энергию восходящих потоков воздуха. На этом фоне скат — просто феномен: это ж надо догадаться — использовать в качестве оружия электроэнергию! И хоть его интеллектуальной заслуги в этом нет — он использует энергию не извне, а изнутри себя, как и энергию мышц, — все же нельзя не отдать ему должное: запросто орудует электричеством, которое человек освоил лишь в нашем веке.
Информация тоже служит животным: все они пользуются различными, пусть и примитивными сигнальными системами, перерабатывают поток информации, идущей от внешнего мира.
Но только человек стал намеренно, осознанно и творчески черпать из этих трех источников, черпать смело и все более активно. И в разные эпохи решающей оказывалась роль разных источников.
Сначала он взял в руки дубину и камень, перераспределил энергию мышц, встав на ноги, и выработал удивительно эффективную систему оформления, передачи, получения и переработки информации — язык. Этого ему хватило на долгие тысячелетия развития. И главную роль на этом этапе играло, конечно, овладение силами информации с помощью языка.
Потом энергетический рывок — приручение огня. Его энергия обеспечила победу над холодом и хищниками, утвердила царство человека на Земле. Огонь дал толчок к активному овладению материалами и даже к созданию новых — керамики, бронзы, железа.
А дальше — информационное достижение: возникновение письма. Если энергия огня защитила человека от опасностей, если энергия ветра, надувая паруса, дала возможность ему преодолевать огромные расстояния, то письмо дало власть не только над пространством, но и над самим временем. Отныне информацию можно было зафиксировать и передать не только своим современникам через расстояния, но и самым отдаленным потомкам через время. Отныне информация не только потреблялась, но и накапливалась, неизмеримо умножая свои «информационные силы».
Огонь, металл и письменность создали человеческую цивилизацию. Потом человек оперировал разными материалами, но в их основе все же оставались дерево, камень и металл; использовал энергию пара и бензина, но это все же видоизмененная энергия огня, воды и ветра; изобрел книгопечатание, но это та же письменность.
И вот сейчас, в наш век, в наши дни человечество стремительно совершает новый рывок в овладении материалами, энергией и информацией. Мы пользуемся принципиально новым видом энергии — электричеством, учимся создавать принципиально новые материалы — синтетические, переходим к принципиально новому способу использования информации — к ее кибернетической переработке.
Конечно, люди мудро хранят и используют все свои приобретения. С самых первых шагов и до сегодняшнего дня верно служит им дерево. Несмотря на то, что в их распоряжении есть уже масса других, в том числе искусственных материалов, люди и сейчас используют этот «первый материал» так активно, что возникает даже опасение за его дальнейшую судьбу.
Они научились использовать атомную энергию и уже осваивают термоядерную, но до самого последнего времени наиболее широко пользовались... энергией лошадиных мышц. Только двигатель внутреннего сгорания сменил, наконец, этот самый распространенный источник энергии, настолько распространенный, что и сейчас мощность автомобиля измеряется в лошадиных силах.
Так и с компьютером: он не отменит ни речь, ни письмо. Напротив, он должен будет вобрать их в себя, овладеть ими. Сущность развития человеческой цивилизации не в сменах, а в приобретениях.
Должен сознаться — в желании огорошить читателя парадоксом автор незаслуженно обидел современную технику, особенно электронную. Разумеется, такой техникой мы управляем не совсем руками, и уж совсем не так, как управлял дубиной первобытный человек. По сути дела, мы управляем компьютером с помощью языка. И даже с помощью трех языков: человеческого, человеко-машинного (программистского) и машинного. Только здесь как раз тот случай, когда количество не переходит в качество, а совсем наоборот.
Начать с того, что не всякий человек может управлять компьютером, а только «посвященные», только жрецы-программисты. Это посредники между простыми смертными и машиной, переводчики с человеческого языка на машинный. Происходит все это так. Желающий воспользоваться услугами компьютера обращается не к нему, а к программисту, которому дает задание на обычном человеческом языке. Но это только так говорится — «дает задание». На самом деле программист в основном занимается тем, что охлаждает пыл заказчика и постепенно гасит его радужные надежды на всесилие кибернетики. Он терпеливо объясняет, что компьютер вот этого не может, и этого тоже не может, а это, пожалуй, сможет, но совсем не так, как хочется вам... В конце концов выясняется, что компьютер в основном способен выполнить только то, что можно как-то формализовать, а еще лучше — описать с помощью математических формул и вычислить. Теперь, если от грандиозных замыслов заказчика еще остались какие-то крохи, программист переводит задание с вольного языка заказчика на строгий, точный, но крайне примитивный язык программирования — Фортран, Бейсик, Паскаль или какой-либо другой. Это язык-посредник между человеком и машиной, который лишь весьма условно можно назвать языком. В действительности это ограниченный набор простейших стандартных команд.
Наконец команды языка-посредника набираются на клавиатуре компьютера либо перфораторщица набивает их на перфоленте или перфокартах.
И только после того, как команды попадут в машину, она действует как бы самостоятельно, хотя, разумеется, тоже по заранее вложенной в нее программе-транслятору. Она переводит команды на свой предельно простой язык машинных кодов, имеющий всего две позиции (как бы две буквы) — наличие сигнала, отсутствие сигнала. Далее машина совершает все предписанные программой операции и выдает ответ, переведя его со своего языка на язык человека.
Как видите, прежде чем управлять компьютером, прежде чем вести с ним беседы, нужно основательно побеседовать с людьми, обслуживающими компьютер (или самому выучить языки программирования), составить программу, отладить ее, и только после этого компьютер выполнит ваши распоряжения. Подготовка к диалогу требует во много раз больше сил и времени, чем сам диалог. Месяцы, а то и годы нужны для составления программы. Непросто и отладить ее. Компьютер требует от программиста железной логики, абсолютной точности, прямо-таки крохоборства. Какая-нибудь не там оказавшаяся точка немедленно ставит машину в тупик, и она отказывается повиноваться.
Но даже и такие, прямо скажем, скромные способности машины поначалу вызвали буйный оптимизм у кибернетиков, и они сразу вознамерились дать ей языковую работу. Раз машина только и делает, что переводит, то ей безразлично, с какого языка на какой переводить. Так пусть она переводит с русского на английский, с английского на французский, с итальянского на суахили и вообще с любого языка на любой! Ведь языков на земле — тысячи, контакты между ними развиваются. Где взять армии переводчиков? Пусть это делает неутомимая и быстродействующая машина.
И машина с первых же шагов отважно взялась за переводы. Еще в 50-х годах громоздкие и несовершенные ЭВМ бойко переводили с языка на язык пару-другую фраз. И казалось: немного усилий — и проблема машинного перевода будет решена. Заговорили об отмирании профессии переводчика, о машинном синхронном переводе, о библиотеках-информаториях, где вся литература будет храниться на некоем языке-посреднике и по запросу пользователя любая информация будет моментально отыскана и выдана на желаемом языке.
Филологи пытались робко возражать. Дескать, перевод — это творческая интеллектуальная деятельность, даже человеку-то она дается не просто, мол, язык — штука сложная, как-никак — выражение мышления...
Но кто тогда слушал филологов? Филология уже не считалась полноценной наукой и в перечне наук относилась в разряд «...и другие». А тут еще кибернетика поражала все новыми неслыханными достижениями: и теоремы-то машина доказывает, и мастеров-шахматистов обыгрывает, и древние письмена расшифровывает, и музыку пишет, и даже стихи! Правда, с течением времени обнаруживалось, что сама машина ничего не расшифровывала, а только помогала сортировать многочисленные фрагменты письмен, музыку «писала», лишь комбинируя сочиненные человеком отрывки музыкальных фраз, а со стихами вообще получился конфуз: оказалось, что это розыгрыш — написал их человек и выдал легковерным поклонникам кибернетики за машинные, в чем сам потом со злорадством признался.
И все же, и все же... Машины обзавелись глазами фотоэлементов, речью синтезаторов, руками манипуляторов. Появилось и замелькало по страницам научных и популярных журналов и книг невероятное словосочетание «искусственный интеллект».
Лет десять назад некоторые кибернетики объявляли, что искусственный интеллект уже создан и находится сейчас на уровне развития пятилетнего ребенка. Он будет учиться, совершенствоваться и лет через пятнадцать-двадцать достигнет уровня среднего молодого человека. И тогда, беседуя с ним из-за перегородки, вы ни за что не догадаетесь, кто там за перегородкой — человек или компьютер.
Прошло десять лет, но что-то не видно киберов с соображением пятнадцатилетнего подростка. Да что там пятнадцатилетнего! Пятилетний карапуз все же смышленее любого компьютера, потому что может общаться с людьми, может действовать осмысленно и самостоятельно, может сам ставить цели, сам разрабатывать и осуществлять стратегию и тактику их достижения, может разумно поступать в меняющейся ситуации, согласуя свои действия с действиями окружающих, и много еще чего может, что совершенно недоступно компьютеру.
Да, что ни говори, а первоначальный оптимизм кибернетиков поугас. Никто из них не отважится теперь пообещать соорудить электронный разум на уровне человеческого ни через пятнадцать, ни через двадцать лет.
Почему же не видно кибер-переводчиков, не решается проблема речевого общения с машиной, почему компьютер никак не может овладеть человеческим языком? Некоторые филологи торжествуют: мы же говорили, мы предупреждали. А зря торжествуют, может, оттого и неудачи, что кибернетики самонадеянно пытались решить языковые трудности без филологов, а филологи высокомерно отвернулись, не желая вникать в проблемы кибернетиков? А может, еще и оттого, что филология не готова решать новые задачи?
Вот такие пироги
У доски мается ученик — не может определить тип сложноподчиненного предложения.
— Опять не знаешь, — укоряет учительница.
Я сижу в комиссии, должен ставить оценку, а сам думаю: зачем, собственно, ему это знать?
Читатель, если вы не филолог и кончили школу несколько лет назад, признайтесь, всегда ли вы отличите изъяснительное предложение от определительного или точно укажете тип обстоятельственного? Например, какое это предложение: Захар сделал вид, что будто шагнул?
Не спешите огорчаться, если не смогли дать правильный ответ. Лучше подумайте, где, для чего, в какой жизненной ситуации человеку приходится определять тип сложноподчиненного предложения? По-моему, только в школе, чтобы попасть в вуз, и только на филологическом факультете вуза, чтобы учить этому в школе. За пределами этого замкнутого круга — нигде и никогда. И вам, конечно, не приходилось этого делать — вот и забылись ненужные знания. Повлияло ли это на вашу грамотность? Наверняка нет. Может быть, из-за этого вы хуже стали владеть языком? Тоже нет.
— Ну, знаете ли, — скажут мне. — Во-первых, должен же человек знать, как устроен его родной язык. А во-вторых, если знания такого рода не находят практического применения сейчас, то это вовсе не значит, что их практическая ценность не обнаружится в будущем.
Что ж, таких случаев в истории науки действительно сколько угодно — космогоническая теория Коперника, алгебра Буля, геометрия Лобачевского... Сами творцы этих теорий не могли даже отдаленно предположить, в какой области практической деятельности человека найдут применение их идеи. Но в одном они были несомненно убеждены: объективные знания не могут остаться бесполезными, рано или поздно люди найдут им применение.
Но, подчеркнем, только объективные, отражающие какой-либо момент постижения действительности. А отражает ли какую-либо сторону языковой действительности та классификация сложноподчиненных предложений, которая дана в школьном учебнике? Да кто ее знает! Ведь классификаций-то множество. Можно учить эту, можно другую. В той же степени бесполезную.
Языковеды говорят, что существует несколько сотен определении предложения. Так которое же из них правильное? Восемьдесят четвертое? Или пятьсот тридцать седьмое? Впрочем, это не так уж важно — мы в общем-то представляем себе, что такое предложение. А вот с его анализом дело хуже. Единственным инструментом анализа в школе и в вузе является так называемый разбор по членам предложения.
Если вам нужно починить часы, то какому мастеру вы их доверите: тому, кто их моментально разберет, но не умеет собирать, или тому, кто их соберет? Сомнения исключены — конечно, второму. А почему же школьника и студента-филолога мы учим только разбирать предложение, но не собирать его? Если считается, что собирать он и так умеет, поскольку владеет языком, то зачем тогда разбирать?
Но допустим, что это первая ступень постижения устройства предложения: ступень анализа, необходимая для дальнейшего синтеза. Тогда она должна быть прочной, надежной, чтобы обеспечить следующий шаг. А что получается на деле?
А на деле даже подлежащее не всегда можно указать бесспорно. В предложении Он отсутствует сегодня все ясно. Он — подлежащее, потому что «отвечает на вопрос» «кто?». Но в предложении Петя — пионер слово пионер тоже «отвечает» на тот же вопрос, но подлежащим не является. Где же логика? А каким членом предложения является слово его в предложении Его нет сегодня? Второстепенным? Но ведь ради него и предложение построено, уберите его — и предложение рухнет.
Если эти строки читает школьный учитель русского языка, пусть он, положа руку на сердце, скажет, какое предложение он возьмет для разбора в классе: Он отсутствует сегодня или Его нет сегодня? Уверен, что первое. А какое из них — нормальное предложение живого русского языка? Конечно, второе. Невозможно, чтобы дома на вопрос Где папа? ребенок ответил: Он отсутствует. Так какому же языку мы учим ребенка в школе? Разве что канцеляриту! И еще удивляемся, откуда берутся стилистические перлы вроде наличие отсутствия или среди присутствующих отсутствуют.
Вот что страшно: формализм в грамматике ведет к формализму в языке.
Со сказуемым еще хуже. Верите ли, меня охватывает мистический трепет, когда ученик ищет и даже находит сказуемое. Как он это делает — непостижимо. Ведь для сказуемого никаких определенных признаков грамматика не указывает. Сказуемым может быть все что угодно и в какой угодно форме. Практически отыскивать этот член предложения учат методом натаскивания на примеры. И учительница, бывает, жалуется:
— Ну что делать с Ивановым — бьюсь, бьюсь, никак он не сообразит, что такое составное именное сказуемое. Нет у него никакого языкового чутья.
Да помилуйте, ведь ученик не собака, чтобы нюхом сказуемое чуять!
Так-то вот: из крайностей формализма в отыскивании подлежащего — в крайности интуитивизма в отыскивании сказуемого.
А уж со второстепенными членами начинаются прямо-таки анекдоты. В одном солидном синтаксическом труде предлагается так разграничивать определение и дополнение: в пирогах с капустой второстепенный член с капустой — определение, поскольку капуста кладется внутрь пирога, а вот в блинах с икрой икра намазывается на блин сверху и потому оказывается дополнением.
Не напоминает ли это вам, читатель, попытку Митрофанушки определить грамматическую принадлежность дверей?
Как-то на конференции докладчику был задан вопрос:
— А что, если блин намазать икрой, а потом в трубку свернуть — каким второстепенным членом окажется икра?
Ответ докладчика потонул в смехе зала.
Минутку. Читателю может показаться, что нас куда-то в сторону уводит. Ведь книжка о диалоге с компьютером, а мы затеяли разговор о школьных проблемах изучения русского языка, которые вроде бы так далеки от проблем современной кибернетики.
Да в том-то и беда, что эти проблемы все еще далеки друг от друга. Давно пора, прямо-таки необходимо их сблизить! Школа и вуз — вот где должны готовить тех, кто завтра будет решать проблемы кибернетической переработки языковой информации, будет обучать компьютер языку. Так что давайте все же продолжим наблюдения за тем, как они там готовятся к решению этих сложнейших задач.
Разными науками увлекаются школьники. Кто в физику углубился, кто с химическими реакциями колдует, кто над головоломными уравнениями бьется. Но где вы видели ученика, который бы на досуге занялся разбором предложения? Или бы самозабвенно увлекся разрядами местоимений? Нет таких учеников. Я не встречал ни единого.
И никогда о таких не слышал. В чем же дело? Да неужели наука о величайшем из достижений человека, наука о его языке, должна быть такой отталкивающей, такой занудной, такой никому не нужной? Не могу в это поверить. Ведь подчас диву даешься, наблюдая, какую богатую, яркую и эмоциональную языковую жизнь ведет на перемене тот самый Иванов, который только что на уроке косноязычно демонстрировал отсутствие «языкового чутья»: он рассказывает о фильме интересно и образно, знает считалки и пословицы, прибаутки и поговорки, острит, рассказывает анекдоты и с увлечением играет в «балду».
Кощунственные мысли порой одолевают: а не больше ли получается проку, когда на уроке вместо зубрежки разрядов местоимений Иванов под партой играет с приятелем в «балду» — игру большой информационно-языковой емкости? Да мало ли языковых игр, в которые играют не только дети, но и взрослые — кроссворды, ребусы, шарады. Не так давно появилась языковая игра «Эрудит» — увлекательная и захватывающая, как шахматы. По ней вполне можно было бы проводить турниры. Но ни в школу, ни к вузовским филологам она не пробилась — второстепенные члены привычнее.
Заметьте: все, чем интересна и увлекательна наука о языке, все «живые» моменты урока и учебника, все языковые игры связаны отнюдь не с грамматикой, а с языковым значением. Действительно, что составляет основную ценность языка, самое важное в нем? Фонетика? Морфология? Синтаксис?
Нет. Все это важное, но второстепенное, подсобное, нужное лишь для того, чтобы осуществить главное — выразить смысл, значение, содержание. Следовательно, основа языка — значение, семантика. Только вот парадокс — ни в школьных, ни в вузовских учебниках даже раздела такого нет. Кое-что про синонимы, омонимы, антонимы да про переносные значения — вот и вся семантика. Где уж тут интерес, когда в учебники не допущена сама душа языка, его жизнь, его смысл, остались только пустые футляры «грамматических форм».
Читатель, незнакомый с программой высшего филологического образования, пожалуй, удивится, узнав, что основной, стержневой курс этого образования — современный русский язык — изучается лишь первые три года обучения. Будущий специалист по преподаванию русского языка два последних, наиболее сознательных года учебы этим языком не занимается. Я допытывался на разных совещаниях, чем объяснить такое странное положение, но вразумительного ответа ни разу не получил. А потому вижу в этой ситуации некий перст судьбы: будто оставлен временной резерв для введения последнего и важнейшего раздела курса — семантики современного русского языка. Что он будет введен, не сомневаюсь. Заставят и общетеоретические соображения, и практические нужды. И прежде всего нужды кибернетики.
Хотя компьютер худо-бедно слышит речь и довольно сносно говорит, но... И здесь остановимся, чтобы подчеркнуть это «но» двумя жирными чертами. Потому что в этом-то «но» вся и загвоздка. Оказывается, мы, люди, слушая речь, слышим не то, что слышим, а то, что понимаем. Поэтому так трудно вникнуть в смысл живой речи а чужом языке, если даже этот язык знаком. А вот если говорят на родном — достаточно лишь нескольких опорных звуков, лишь звукового намека, и мы узнаем слово, домысливаем его. Даже если речь зашумлена или с дефектами. Как в сцене с «вогопедом», живущим на улице «Койкого» из известного фильма:
— Февочка, скажи «фыба».
— Селедка!
Вот чего компьютер не в состоянии сделать — он не в состоянии домыслить, сообразить. Первый советский синтезатор речи, едва «раскрыв рот», сказал следующее:
— Я могу прочитать все, что вы напечатаете, но я не понимаю того, что читаю вам.
Да, компьютер не понимает ни того, что слышит, ни того, что говорит. И эту фразу он, конечно, не сам придумал, ее напечатали на телетайпе создатели синтезатора, он только прочел вслух.
Любопытно, что долгое время в группах разработчиков «искусственного интеллекта» не было лингвистов. Это была не случайность, а позиция кибернетиков, которые считали, что от языковедов никакого проку в таком деле не будет, что «машинники» и сами прекрасно справятся с премудростями языка: машина, мол, вон какими сложными формулами шутя оперирует, а тут, подумаешь, всего-то ничего — буквы, слова да предложения.
Только орешек оказался твердым — не поддался. Теперь наконец-то стало ясно, что без лингвистики кибернетике дальше ходу нет. Подошел тот момент, когда овладение силами информации через кибернетическое освоение языка стало насущной и неотложной задачей, а решить ее нельзя без кибернетического моделирования языковой семантики.
Вот почему не продвигается разработка проблемы речевого управления техникой, вот почему не налаживается общение с ней на человеческом языке. Можно сказать, что компьютер овладел фонетикой, отчасти морфологией и синтаксисом, но совершенно не владеет языковой семантикой.
Что же, ничего удивительного. Ведь в семантике выражено мышление человека, в ней отразились, закрепились и сейчас бурлят, работают все достижения человеческого разума со времени его формирования и до наших дней!
Поэтому исследование семантики — задача колоссальной сложности. Сплавленность значения с мышлением не позволяет изучать одно без другого. А мышление — это самое сложное из всех явлений, известных человеку. Как подступиться к этому явлению, как его изучать, чтобы можно было потом результаты этого изучения вложить в «железные мозги» машины? Ведь ее не заставишь искать значение «чутьем», ей подавай математически точные сведения о семантике. Вопросов здесь гораздо больше, чем ответов.
И хотя штурм семантики уже начался и ведется он объединенными усилиями многих наук — лингвистики, психологии, математики, кибернетики, биологии и других, — все же ответы, видимо, придется искать тем, кто сидит сейчас за школьной партой и размышляет о том, куда кладется капуста и как намазывается икра.
В ближайшие годы во все сферы нашей жизни, в том числе и в школу, основательно войдут компьютеры. Только все ли сферы готовы их принять и оптимально использовать их огромную информационную мощность? Не получится ли так, как в школьном анекдоте?
«Учительница вносит в класс компьютер, ставит его на стол.
— Дети, сколько на столе компьютеров?
— Оди-ин!
Учительница с трудом вносит второй компьютер.
— А теперь, дети, сколько компьютеров?
— Два-а!
Выбиваясь из сил, учительница вносит третий компьютер, ставит на стол.
— Ну а теперь сколько на столе компьютеров?
— Три-и!
— Правильно, дети, — вытирая со лба пот, шепчет: — А все же с яблоками как-то легче было».
Принципиальное отличие компьютерной техники от любой другой заключается в том, что она способна поддерживать с человеком обратную связь. Именно эту способность компьютера следует прежде всего развивать и использовать. Но чтобы связь была полноценной, человек должен общаться с машиной не на ее убогом и жалком подобии языка, не на Бейсике или Паскале. Помните, мы говорили о трех языках в общении человека с машиной? Так вот, нужно из цепочки связи пользователя с компьютером выбросить промежуточное звено — язык-посредник, искусственный язык программирования, чтобы человек мог непосредственно общаться с машиной на своем обычном, нормальном, естественном языке. Ясно, что не сегодня и не завтра, но рано или поздно эту проблему решать придется.
Может показаться, что здесь возникает противоречие. Только что автор иронизировал над попытками создать «искусственный интеллект», а теперь сам призывает беседовать с машиной на обычном человеческом языке. Разве для таких бесед машине не нужно мыслить? Не нужно понимать, что ей говорят и что она отвечает?
Относительно машинного разума автор все же остается скептиком. И не пытается научить компьютер понимать семантику человеческой речи «по-человечески». Но имитировать понимание языка, создавать иллюзию человеческой речи — это другое дело.
— Да велика ли разница? — спросит кто-то.
Что ж, разберемся повнимательнее. Не так давно появились было в языке и быстро исчезли два слова иском и кожимит. Первое означало «искусственная кожа», авто-рое — «имитация кожи». Их короткая жизнь наводит на интересные размышления. Слово искож в речи вообще не прижилось, тогда как кожимит существовало довольно долго (пока химия не завалила нас таким разнообразием «кожимитов», что им нет ни числа, ни названий). Думаю, победу кожимита в соревновании с искожей (или искожем?) обеспечило не только лучшее устройство морфологической формы (видите, у слова искож мы даже род затрудняемся определить, не говоря уж о неудобстве образовывать от него производные слова). Видимо, чувствовалась и более высокая семантическая точность слова кожимит. Вот если бы человек своим искусством создал материал, который можно было бы приживить на место поврежденной естественной кожи, и этот материал функционировал бы так же, вот это была бы действительно искусственная кожа. Она бы не только имитировала внешний вид кожи, но и передавала бы ее внутренние свойства. А раз этого нет, то это — кожимит.
Слова имитация и искусственный не всегда так строго различаются в нашей речи. Может быть, потому, что время всего искусственного и имитации всего, чего угодно, только еще начинается и мы еще недостаточно основательно разобрались в сложностях и тонкостях этого процесса? Говорят искусственный мрамор и имитация мрамора, искусственный дождь и имитация дождя. Это примерно одно и то же. Но вот вместо искусственное орошение нельзя сказать имитация орошения. Получится, что никакого орошения нет, а создается только его видимость. То же самое искусственный отбор или искусственный спутник. Так что имитация — это скорее подделка, видимость, обман. Имитируется лишь внешняя сторона явления, его сути имитация не отражает. Например, имитация бурной деятельности. Как видим, язык постепенно все четче разграничивает понятия искусственности и имитации.
Такое же разграничение стремится провести и автор между понятиями искусственный интеллект (искинт) и имитация интеллекта (имитинт), считая, что искинт — название принципиально неверное и что есть смысл говорить лишь об имитинте.
Сейчас у кибернетиков нет ни малейших оснований полагать, что искусственный интеллект может быть создан хотя бы в принципе, не говоря уж о его практическом конструировании. Единственное, о чем есть смысл сегодня говорить, — это имитация внешней видимости интеллектуальной деятельности без попыток проникновения в ее сущность. Другими словами, какие бы по видимости разумные действия ни совершал компьютер, какие бы умные речи ни говорил, он не в состоянии осмыслить их, постичь, понять.
И здесь опять языковая семантика дает нам хорошую подсказку. Слово понять восходит к древнему «взять, сделать своим». Так вот, компьютер как раз этого и не может. Не может сделать своим, личным, осознать, прочувствовать.
А имитировать может. Тут автор и сам глубоко убежден, и читателей попытается убедить, что компьютер, причем не какого-то отдаленного будущего, а теперешний, сегодняшний, способен удивительно правдоподобно имитировать понимание различных аспектов языкового значения, может создавать иллюзию владения такими тонкими семантическими нюансами, которых полностью не осознает даже сам человек.
Вы спросите, нужны ли компьютеру такие уж тонкости, не достаточно ли ему имитировать лишь главные, основные аспекты значения? Это, наверное, сделать легче?
Все дело в том, что человек не только мыслит, но и чувствует. Рациональное и эмоциональное переплетены и слиты в человеке так, что их невозможно разделить: мы думаем, потому что чувствуем, а чувствуем, потому что думаем. Язык отражает двуединство рационального и эмоционального: наша речь не только логична, но и экспрессивна, выразительна. Не существует безэмоциональной, безэкспрессивной, «бесчувственной» живой речи, лишь соотношение рационального и экспрессивного в ней может быть разным.
Даже специальная терминология, которая, казалось бы, должна быть сугубо рациональной, часто оказывается экспрессивной. Термины новейшей физики — кварк, странность, цветность — отражают эмоциональное отношение исследователей к удивительным явлениям микромира, в который они проникают. Общенародный язык постоянно и активно пополняется за счет профессиональных «языков», термины которых приобретают в «большой жизни» еще большую экспрессию и эмоциональность либо сами по себе, либо включаясь в общий эмоциональный контекст, как, например, в строках из поэмы А. Вознесенского «Оза»:
Будьте прокляты, циклотроны!
Будь же проклята ты, громада
программированного зверья.
Будь я проклят за то, что я
слыл поэтом твоих распадов!
Поздно ведь будет, поздно!
Рядышком с кадыками
циклотрона 3-10-40.
Я знаю, что люди состоят из атомов,
частиц, как радуги из светящихся пылинок...
Так что если бы мы и решили облегчить себе жизнь и научить компьютер только логическому в языке, не касаясь экспрессивного, то все равно из этого бы ничего не вышло. Как пишет А. Вознесенский в той же поэме:
Не купить нас холодной игрушкой,
механическим соловейчиком!
В жизни главное человечность —
хорошо ль вам? красиво ль? грустно?
В семантике тоже, как в жизни, — важно не только то, какие понятия передают слова, но и то, какое впечатление они на нас производят, как на нас влияют, как оцениваются, какое отношение вызывают к сказанному. Значит, нам придется рассматривать все аспекты языкового значения и пытаться обучать компьютер семантике человеческого, в частности, русского языка, во всей ее сложности, многогранности, многоаспектности.
О том, можно ли это сделать, и пойдет беседа в книжке. Но понятно, что все написанное — лишь наметки долгого и сложного маршрута. Возможно, кого-то из читателей увлекут поставленные здесь проблемы, они отважно пойдут по маршруту и дальше — объединят в электронном «сознании» компьютера все аспекты языковой семантики и создадут имитинт — верного слугу человеческого интеллекта. Можно с уверенностью обещать, что путь таких смельчаков будет сопровождаться неоднократными возгласами «Эврика!», ради чего можно иногда пожертвовать не только теплой ванной, но и пирогами с капустой и даже блинами с икрой.
Ядро значения и ореолы смысла
Представьте себе, что вы иностранец и русский язык знаете плоховато. Например, вам неизвестно значение слова отец. Открываете толковый словарь и читаете: «мужчина по отношению к своим детям». Вы узнали, какое понятие выражается словом отец. Но вот вам попалось слово папа. Снова справляетесь в толковом словаре и находите там: «то же, что отец». Значит, эти слова взаимозаменяемы, решите вы. И ошибетесь. Русский человек никогда не скажет: Милый отец, поздравляю тебя с днем рождения. А в официальном документе не напишет: Мой папа работает на заводе. Почему же? Ведь это «то же самое».
В общем-то да, логически рассуждая, оба слова действительно обозначают одно и то же понятие. Можно сказать, что у этих слов сходная логическая, понятийная основа значения. Это основная, центральная, главная часть значения слова — как бы его ядро, понятийное ядро значения. Толковые словари как раз и описывают, истолковывают это понятийное ядро. Но, как мы только что убедились, словарных толкований не хватает для того, чтобы правильно оперировать словами во всех ситуациях. Вот и получается, что иностранец, даже зная словарные значения слов, не может толком понять, о чем говорят при нем русские, да и сам то и дело попадает в «семантический просак». То перепутает лошадь с кобылой, то коня с жеребцом. Точно так же, как и мы, когда общаемся с иностранцами на их языке.
Добро еще, если такая путаница вызовет только смех. А бывает и хуже. Один иностранец, в языке которого обращение «старая женщина» считается очень почтительным, уважительным, вежливым, прочитав в словаре, что по-русски старуха—это «женщина, достигшая старости», так и обратился к пожилой женщине, у которой хотел снискать расположение. Думаю, последствия описывать не надо.
Значит, есть что-то в семантике слова, кроме словарного, «ядерного» значения? Нечто, что обязательно нужно знать, чтобы действительно понимать язык и уметь им пользоваться?
Да, есть.
Ах, как легко написать вот так: «Да, есть», — когда все известно, когда это «нечто» уже уловлено, измерено и вложено в компьютер, который уже знает, что «бабка» — это отнюдь не «то же, что бабушка», как уверяет толковый словарь.
Но ведь еще совсем недавно языковеды считали, что значение слова — это только и есть, что вот такое словарное толкование, и больше там нечего искать. И вдруг обнаружилось то же, что открылось взору физиков, когда они сумели заглянуть внутрь атома: там целый мир со своим ядром и электронными ореолами.
Да, значение слова — целый мир, целая живая планета с твердью-ядром и зыбкими ореолами биосферы и атмосферы. Есть у каждого значения и свое солнце, своя солнечная система и галактика. Мир значений слов — вселенная языка, пронизанная сетью связей и тяготений, действующая и развивающаяся по своим законам.
Однако не будем уноситься в космические дали, вернемся к планете «Значение».
Понятийное ядро значения слова как бы окружено ореолами созначений. Ближайший к ядру ореол — качественно-признаковое значение слова. Это та часть, тот аспект значения, который можно описать путем перечисления качественных признаков данного понятия.
Например, понятийное ядро слова птица — «покрытое пухом и перьями животное из класса позвоночных с крыльями, двумя ногами и клювом». Но когда мы говорим: Он птицей полетел на свидание, то имеем в виду вовсе не пух, не перья и не клюв. В этом случае птица в нашем представлении — что-то быстрое. Конечно, птицы могут летать и медленно. Орел медленно парит в вышине, жаворонок вообще на одном месте висит (правда, крыльями быстро машет). И тем не менее обобщенный образ птицы связывается для нас с чем-то быстрым, стремительным. Не то что черепаха или медуза.
У других понятий на первое место выдвинутся другие признаки. Скажем, слон прежде всего, конечно, большой и сильный, а комар — маленький и слабый. Любовь — это что-то хорошее, а ругань — ясное дело, плохое. Да и любое понятие может быть охарактеризовано какими-либо признаками и, как правило, не одним признаком, а целым их набором. Ведь птица — не только что-то быстрое, но и что-то небольшое и в общем-то хорошее. Любовь — не только хорошее, но и нежное, светлое, возвышенное чувство. А ругань — что-то плохое, грубое, низменное. Вот такой набор качественных признаков и характеризует признаковый ореол значения слова.
Легко убедиться, что это не понятийное ядро, а особый аспект значения. Вспомним слова отец и папа. Понятийные ядра у них совершенно одинаковые, а вот качественно-признаковые ореолы различны: отец — это нечто более серьезное и суровое, папа — более ласковое и нежное. Именно качественными ореолами различаются слова лошадь и кобыла, конь и жеребец. Тонкие различия в признаковых ореолах помогают нам выбрать нужное в данный момент слово из ряда бабушка, старушка, бабка, старуха, хотя понятийные ядра у них сходны. В своем родном языке мы эти ореолы прекрасно чувствуем и никогда не перепутаем. А в иностранном то и дело случаются «ореольные» казусы. В словаре качественные ореолы не отражены, иностранец их знать не знает и, конечно, не может догадаться, что если назвать девушку красавицей, то она расцветет, а если красоткой — то обидится.
Но не нужно думать, что качественно-признаковый ореол четко отграничен от понятийного ядра и никак с ним не связан, как скорлупа и ядро у ореха. Как раз наоборот. Признаковый ореол, с одной стороны, как бы и порождается самим ядром, а с другой — и сам помогает формированию, оформлению ядра.
Скажем, слово бег. Признак «быстрый» органически входит в само понятие, выражаемое этим словом, потому что это обязательно «быстрое передвижение». Качественных! ореол здесь исходит изнутри самого ядра. И таких примеров сколько угодно. Так, великан — обязательно что-то большое, а пигалица — маленькое. И даже неважно, что именно: то ли дом великан, то ли человек; то ли девочка пигалица, то ли птичка. Не столько и понятия важны, сколько признаки.
Может даже и так оказаться, что понятийное ядро как бы исчезает, его целиком замещают признаки. Если нас обманул какой-то человек, мы можем сказать: Ну и дрянь же этот тип! С тоской глядя на развалившиеся ботинки, посетуем: Вот какую дрянь делают. А попав в затруднительное положение, вздохнем: Наше дело дрянь. Какое логическое понятие скрывается за словом дрянь? Что это такое? Человек, вещь, явление? Да все что угодно. Четкого понятийного ядра здесь не найти, от него осталось лишь «нечто»: «нечто плохое, скверное, негодное». Все, кроме этого «нечто», описывается лишь качественными признаками, фактически заместившими собой ядро.
А если вы услышали восклицание: Что за прелесть! — то оно может относиться к чему угодно. К очаровательной девушке или не менее очаровательному мужчине, к понравившемуся платью или брошке, к симпатичной собаке, восхитительному закату, необыкновенному цветку... Снова это будет «нечто», но обязательно прекрасное, обаятельное, привлекательное. Снова вместо понятия — признаки, вместо ядра — ореол.
Бывает и наоборот — ядро почти лишено качественного ореола. Например, слово середина. Какие признаки к нему ни прикладывай, все равно оно будет ни таким, ни сяким, короче — никаким. Что-то хорошее это или что-то плохое? Да так себе, ни то ни се. Сильное оно или слабое, быстрое или медленное, нежное или грубое, большое или маленькое? Как сказать? Среднее, серединка на половинку. Одним словом — середина, да и все тут.
Но это все крайние случаи. Чаще всего у слова обнаруживается и вполне определенное понятийное ядро, и окружающий его качественный ореол. Как у планеты — земная твердь и развившаяся на ней жизнь — биосфера. Дерево корнями уходит в землю, но кроной ловит свет солнца; оно порождено землей, но и порождает почву, сбрасывая на нее листья и плоды, а затем, отмирая, и само становится землей. Жизнь — активный, движущийся, бурлящий ореол Земли, придающий особый смысл ее существованию. Так и качественный ореол значения — это функциональный, действенный аспект семантики.
Ведь когда говорим: Не хочешь ли яблочка? — то для нас важно совсем не то, что это «плод яблони», а то, что оно сладкое да красивое, вкусное да полезное. А если слышим: Ах, капая она красавица! — то понимаем, что говорящий восхищается не тем, что она женщина, а тем, что красивая, очаровательная, обворожительная. В живой речи наши оценки, наши характеристики исключительно важны, они придают речи особый смысл, они и делают речь живой.
Мы играем ореолами, жонглируем ими, крутим-вертим так и сяк и в результате, не меняя понятия, меняем смысл коренным образом. Казалось бы, достаточно одного слова глаза, чтобы обозначить нужное понятие. Так нет же — если нам нужно, мы украшаем, высветляем, возвышаем это понятие, говоря очи. Или, наоборот, затемняем, принижаем, огрубляем его, говоря зенки.
Для жизни слова качественный ореол оказывается настолько важным, что оно может сменить свое понятийное ядро, сохранив ореол. И сделает это только потому, что у двух понятий ореолы оказались сходными. Действительно, что общего между птицей и девушкой? Рассуждая рационально, логически, нужно сказать, что сходного в общем-то мало для того, чтобы одно понятие заменить другим. Ну а между деревом и девушкой сходств, пожалуй, еще меньше. Не так ли? Но прочитаем стихотворение С. Есенина.
Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?
Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?
Открой, открой мне тайну
Твоих древесных дум,
Я полюбил печальный
Твой предосенний шум.
И мне в ответ березка:
«О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.
Луна стелила тени,
Сияли зеленя.
За голые колени
Он обнимал меня.
И так, вздохнувши глубко,
Сказал под звон ветвей:
«Прощай, моя голубка,
До новых журавлей».
Здесь голубка совсем не «самка голубя» и уж, конечно, не «птица с разнообразной окраской оперения и большим зобом». Понятийное ядро этого слова как бы удалено из признакового ореола и заменено другим — «девушка», потому что ореолы у этих двух ядер сходны: девушка так же красива, нежна и верна, как голубка.
С березкой получается несколько иначе. Обе они — и девушка и березка — красивые, стройные, нежные, светлые. Поэтому два разных понятийных ядра сливаются, окруженные общим ореолом, и возникает новое понятие « девушка-березка».
Пожалуй, уже ясно, что качественно-признаковый ореол — очень важная часть значения слова. Он охватывает собой все сферы жизни, все области действия языка — от обыденной речи до поэтического творчества. Без качественной семантики язык не язык, а сухая рациональная основа, которой еще нужно заиграть красками жизни.
Если значение — планета с ядром и биосферой, то у нее должна быть и атмосфера, не так ли?
Да, у значения есть и она. Мы не видим воздух и как бы даже не замечаем его, хотя постоянно чувствуем его воздействие, когда он веет на нас ветром, обдает нас холодом или теплом. Он становится видимым в синеве небес и в красках зари. Облака, тучи, дождь и снег — все это тоже сгустившаяся, ставшая явной часть воздуха.
У значения слова тоже есть аспект, который мы не замечаем, не осознаем, хотя и постоянно используем в речи. Вот, например, что такое фитюлька? Есть ли у этого слова понятийное ядро значения? Пожалуй, что и нет, потому что это все, что угодно. А качественно-признаковый ореол есть? Конечно, потому что это хотя и все, что угодно, но обязательно маленькое: какая-то маленькая деталька, вещица, а в переносном значении может быть и девчушка небольшого росточка. Есть у слова и другие признаки — скорее всего это что-то подвижное, слабое.
Как же возник такой ореол? Понятийного ядра нет, значит, не оно сформировало перечисленные признаки. Тогда что же? Вслушайтесь получше в звучание этого слова. Сами звуки-то миниатюрные, маленькие, мелкие. Такое впечатление они производят. Значит, сама звуковая форма слова тоже содержательна, информативна.
Иногда говорят «звуковая оболочка слова». Это выражение неверно в принципе. Звуки слова нельзя считать его скорлупой, его оболочкой, в которую вложено отдельное от этой оболочки содержание. Звуковая форма слова — не фигурная формочка, в которую можно налить разноцветное желе-содержание. Звуки сами несут в себе содержательность, которая вливается в общее значение слова, служит одним из аспектов значения.
Бывает даже и так, что звуковая содержательность становится основной, главной, как в слове фитюлька, где понятийного ядра вообще нет, а качественный аспект несамостоятелен, потому что порожден не свойствами названного этим словом предмета, а той содержательностью, изобразительностью, которую несут с собой звуки слова. Но так бывает, конечно, редко. Чаще всего звуковая содержательность не претендует на роль примы, а ведет себя более скромно, довольствуясь тем, что поддерживает, подчеркивает понятийный и качественно-признаковый аспекты значения. К примеру, в слове тюлька легко обнаружить понятийное ядро — «рыба» и качественно-признаковый аспект — «маленькая». А «маленькие» звуки этого слова подчеркивают признаковый ореол, и он становится еще ярче, еще заметнее.
Соответствие значения и звучания делает слово выразительнее, живее, «нагляднее» (жаль, нет слова «наслыш-нее»). Ну что бы, действительно не ограничиться словом точно. Хорошее слово, вполне выражает нужное нам понятие. Но если мы хотим особенно изобразительно и живо передать это понятие, то говорим тютелька в тютельку, привлекая в союзники еще и выразительность звучания.
Вот это и есть «атмосфера» значения, неопределенный, неуловимый, почти не осознаваемый нами ореол. Он, как и воздух, присутствует всюду, но внимание на нем не фиксируется. Только в тех случаях, когда звуковая содержательность сгущается, как туман, как облако или туча, оно становится явным, мы вдруг замечаем его, как замечаем снег или тяжелый град, возникший из «ничего», из такого легкого, незаметного, неосязаемого воздуха.
Что за человек такой — хмырь? Ну, такой какой-то, то ли хитрый, то ли себе на уме, то ли темная личность какая-то. А ханурик? Тоже что-то такое... этакое... Нет у этих слов определенного понятийного ядра, только сгустившаяся выразительность звуков. Уберите ее, и от слов не останется ничего. Мы только чувствуем их, как чувствуем туман, дождь или снег на ладони, а ухватить — никак. Подержите на ладони градину — она растает, вода испарится, и от тяжелого крепкого шарика не останется и следа.
Ореол содержательности звучания, или фоносемантический ореол, есть у любого слова, только чаще всего мы его не замечаем. И тогда нужны специальные приборы, хитроумные приемы, чтобы тайное сделать явным.
Мы еще вернемся к этому неуловимому явлению и попытаемся увидеть невидимку. А пока подумаем о взаимосвязи всех аспектов значения слова. Дереву необходима почва, но и без воздуха оно жить не сможет. Оно дышит воздухом, пьет влагу, пропитавшую почву, и само способствует формированию атмосферы. Так же неразрывно связаны между собой разные аспекты значения: понятийное ядро формирует ореол признаков, но и само формируется под воздействием этого ореола, звукосодержательный ореол тоже формирует признаковую оценку слова, воздействует и на понятие, но и сам получает ответные импульсы.
Так что это только кажется, будто значение слова — простая штука: загляни в словарь — вот и вся недолга. Нет, словарь и человека-то не всегда выручает, а уж машине с ним никак не разобраться. И если мы хотим, чтобы компьютер понимал нас и сам говорил с нами на нашем языке, то нужно научить его именно этому, полноценному, живому человеческому языку.
Здесь могут мне возразить и, казалось бы, резонно. Могут сказать, что на первых порах нужно как раз очистить язык от всего сугубо человеческого и дать машине лишь выжимки, «сухой остаток» языка в виде его основы. А поскольку основа семантики — понятийное значение, то именно понятийными ядрами слов и нужно загружать машинный разум.
На это отвечу так: истребите в Сахаре последние следы влаги, откачайте над ней еще и воздух, а потом попробуйте вырастить на этой почве хотя бы одну былинку. Точно так же, если содрать с понятийного ядра его ореолы — значит лишить слово жизни. Наивно думать, что разные аспекты языкового значения могут существовать отдельно друг от друга, хоть в естественном языке, хоть в имитации его для машины. Для того и пишется эта книжка, чтобы показать, как неразрывно слиты, сплавлены, переплетены эти аспекты в едином живом слове. И не только в слове. В языке информативно, пропитано значением все — звучание речи, отдельные слова и их сочетания, способы соединения слов, устройство предложений, композиция текстов — все от мельчайших звуков до сложной архитектуры всего здания языка.
Конечно, можно и на полностью безжизненной почве пустыни укрепить искусственные цветы и деревья, придать им форму, цвет, фактуру живых растений. Такая задача выполнима и для имитации интеллекта, то есть при обучении компьютера человеческому языку придется имитировать не только понятийные ядра значений, но и их ореолы. А чтобы имитировать, нужно их знать, изучить до тонкостей и суметь «объяснить» компьютеру на его языке строгих чисел и точных мер. А как же иначе: другого языка компьютер не поймет. Так что хотим мы или не хотим, нравится нам или нет, а придется как-то измерять значения в числе, и не только более или менее определенную его часть — понятийное ядро, но и зыбкий мир ореолов.
Поставьте такую задачу перед филологами, и большинство из них в один голос скажут, что это невозможно. Но вот один из парадоксов науки. Казалось бы, если уж пытаться подходить со строгими мерками к языковому значению, то нужно начинать с понятийного ядра — его мы осознаем, можем худо-бедно истолковать, объяснить, ну и, наконец, в словарях оно зафиксировано. Да и заманчиво научить машину оперировать с понятиями — это основа нашего мышления и языка. Поэтому-то все лингвисты кибернетической ориентации, так сказать, «кибер-лингвисты» бьются именно с логико-понятийной основой значения. А она не поддается. Не удается экономно и точно ее описать, не удается обучить понятиям машину, хотя малый ребенок, не прожив еще и года, еще и на ноги не встав, уже спокойно осваивает языковые значения, в том числе и понятийный их аспект.
И вдруг оказывается, что те аспекты значения, те ускользающие от жестких определений ореолы, которые мы едва-едва осознаем, а то и совсем не замечаем, поддаются строгому и достаточно точному числовому измерению, и компьютер свободно оперирует ими, создавая поразительную имитацию понимания тончайших их оттенков и сложных переливов.
Такое кажется невероятным, непостижимым, но это так.
Читайте дальше и вы увидите, как это происходит.
Компьютер изучает основы семантики
Первые шаги в освоении понятийного ядра
Не так давно, в 1982 году, вышел из печати «Русский семантический словарь», составленный... компьютером. Авторы-то у словаря есть. Это даже целая группа под руководством члена-корреспондента АН СССР Ю. Караулова. Но они скорее авторы программы для ЭВМ. А составляла словарь и даже писала его все же машина. И добро бы это был обратный словарь, или частотный, или по длине слов, а то ведь семантический!
Немудрено, что вокруг словаря сразу разгорелись страсти. Одни считали, что это новое слово в семантике, первый шаг к постижению языкового значения компьютером, другие были шокированы и даже возмущены тем, что машине доверили такое тонкое и сложное дело, как обнаружение семантических сходств и различий между словами.
Многие посмеивались над компьютером — кто добродушно, кто злорадно — вот, мол, смотрите-ка, в одной группе оказались слова зерно и женщина. Ничего себе, семантическое сходство — в огороде бузина, а в Киеве дядька. Но других те же самые результаты восхищали: ай да компьютер — собрал в одну группу все злаковые, сюда же включил и овощи, да не все, а только с зернышками (огурец, помидор, тыква), про хлеб не забыл, глагол кормить тоже здесь оказался, и даже женщину вспомнил. А как же — она ведь кормилица! И снова споры, снова дискуссии.
Что ж, новое должно доказать свою жизнеспособность в борьбе мнений, должно пробить себе дорогу. А это было не просто новое, это было никогда раньше не виданное и не слыханное: компьютер делал первые шаги к постижению понятийного ядра значения. Пусть даже, как и положено на первых шагах, его вел за руку человек: компьютер, разумеется, значений слов не понимал, он сравнивал по разным словарям описания значений слов людьми — составителями словарей, а найдя сходство в описаниях, относил слова к одной группе, то есть считал слова сходными по значению.
Пока еще не все у компьютера получается гладко, не со всеми его решениями можно согласиться, но главное в том, что оказалось принципиально возможным обучить машину имитации понимания понятийного ядра — основы значения слова.
Скажем, в одну группу со словом бабочка компьютер отнес и слово хоккей. Что-либо общего в значениях этих слов трудно отыскать, не правда ли? Они оказались в одной группе на том основании, что в словарных описаниях и того и другого значений есть слово поле, а откуда машине знать, что хоккейное поле вовсе не тот лужок, над которым порхают мотыльки. Зато другие слова в соседи к бабочке компьютер подобрал с явным «пониманием» их значения: цветок, пыльца, пестик, крыло, птица и т. п.
Получается, что программа, по которой составлялся «Русский семантический словарь», является как бы автоматическим понятийным классификатором слов, распределяющим слова по группам в зависимости от сходств их понятийных ядер.
В целом машина неплохо освоила понятийную семантику почти десяти тысяч русских слов, распределив их по семантическим группам так, что непосвященному человеку и в голову не придет подозревать в этой явно интеллектуальной работе компьютер.
Вот, к примеру, такая группа: архитектура, архитектор, кремль, крепость, башня, пирамида, колокольня, дворец, здание, портал и т. п. Можно ли сомневаться в семантической общности этих слов? Конечно, нет. А ведь их подобрал компьютер, который действительно не понимает их значений. Просто трудно поверить, что машина не знает смысла слов, когда объединяет такую «театральную» лексику: спектакль, актер, балкон, кукла, отделение, премьера, самодеятельность, темп, афиша, кино, опера, постановка, программа, сцена, уборная, балет, кинотеатр, оркестр, представление, пьеса, театр, цирк.
Работа машины особенно поражает в тех случаях, когда семантика сформированных ею групп и человеку-то не всякому доступна. Например: альтруизм, самопожертвование, уступка, польза, делиться, ближайший, сосед.
Электронный языковед настолько правдоподобно имитировал понимание значений слов, что даже критиков словаря ввел в заблуждение. Ведь, подмечая семантические неточности в работе компьютера, они как бы спорили с ним на равных.
Разумеется, «Русский семантический словарь» — лишь первый приступ к машинному оперированию с самым важным, но и с самым сложным аспектом значения слова, с его понятийным ядром. Сейчас еще рано говорить о перспективах развития этого направления и конкретных приложениях его результатов, одно несомненно — принципиальная новизна направления приведет к принципиально новым решениям и результатам в этой важнейшей области обучения компьютера человеческому языку.
Работа эта чрезвычайно сложна, она только в популярном описании выглядит так просто. На самом деле предстоит еще долгий путь, пройдет еще немало времени, прежде чем компьютер сможет разнообразно оперировать понятийной семантикой, хотя человека он в этом не сможет ни заменить, ни даже повторить никогда.
А мы с вами вспомним, что понятийное ядро — только один (пусть и главный) аспект значения слова. И если компьютер добился успехов в постижении языковой семантики, опираясь даже на один этот аспект, то подключение к рассмотрению и других сторон семантики должно привести к еще более глубокому проникновению в сущность языкового значения. Поэтому перейдем к следующему семантическому аспекту — к качественно-признаковому ореолу слова.
Поиски, находки, потери
Тридцать лет назад группа американских исследователей под руководством Ч. Осгуда опубликовала сенсационную книгу под вызывающим заглавием «Измерение значения». Для языковедов само сочетание этих слов было бессмыслицей: каждому ясно, что значение слова, его смысл невозможно как-то там измерить — это ведь не отрез на платье. И добро бы еще Ч. Осгуд выражался метафорически, просто для большей завлекательности употребил бы слово «измерение» в каком-нибудь переносном смысле. Тогда можно было бы упрекнуть его в стремлении к саморекламе, да и все тут. Так ведь нет — в книге рассказывалось именно об измерении значений слов буквально с помощью линеек, с помощью числа и даже (!) с помощью еще таинственных тогда ЭВМ! Это было непостижимо для солидных языковедов, которые в глубине души были уверены, что научно-техническая революция с ее числами и машинами касается физики, химии и других «прикладных» наук, что она не затронет их любимых членов предложения и уж, конечно, никогда не посмеет коснуться святая святых языка, его семантики.
Книга, понятно, была поначалу встречена в штыки и в Америке, и в других странах. Объявлялось, что Ч. Осгуд вообще ничего не измерил, а если измерил, то совсем не так, как надо бы, а если и так, то совсем не то, что следовало бы измерять. Появилась даже расхожая шутка: мол, Ч. Осгуд хотел открыть неведомую Америку, а приплыл в хорошо известную Индию. А чтобы уж не совсем обижать энтузиастов, к этой шутке снисходительно добавлялось, что опыт незадачливых мореплавателей все же, мол, оказался полезным. Правда, осталось непонятным, в каком смысле этот опыт признавался полезным: то ли в том, что группа Ч. Осгуда все же получила какие-то результаты, то ли в том, что убедилась в невозможности выполнить поставленную задачу.
Теперь, по прошествии времени, видно, сколь несправедлива была критика. И еще видно, как трудно, как невозможно трудно новой идее пробить стереотипы мышления. Ведь Ч. Осгуд действительно открыл для языкознания новые земли.
Прежде всего он доказал, что в области семантики возможны измерения. И не только доказал, но и показал, как их можно выполнить. Это принципиально важно вообще для науки, а сегодня особенно важно, потому что возможность семантических измерений открывает дорогу к семантике для компьютера. И как оказалось — дорогу к самым тонким и неуловимым аспектам значения, к которым пока никакими другими путями компьютеру прийти невозможно.
А кроме того, если уж проводить сравнение с Колумбом, то «экипаж» Ч. Осгуда скорее повторил открытие и
заблуждение первооткрывателя Америки. Ч. Осгуд считал, что измеряет значение слова, тогда как на самом деле он 01 крыл и измерил новый аспект семантики. Те, кто критиковал Ч. Осгуда, ставили ему в упрек то, что он не измерил значения, имея в виду понятийное ядро. Да, это так — понятийное ядро с помощью методики Осгуда не измеряется. Измеряется другое — качественный аспект, качественный ореол значения. Но кто знал тогда, что значение слова — не монолит, что оно само по себе сложное, многоаспектное явление?! Кто четко представлял себе, что у слова имеется понятийное ядро и семантические ореолы?! Это теперь ясно, что Ч. Осгуд впервые выделил и измерил качественно-признаковый аспект значения слова.
Как же удалось группе Осгуда сделать то, что казалось явно невозможным? Представьте себе, в принципе достаточно просто. Свой «измерительный инструмент» Ч. Осгуд назвал весьма внушительно — «семантический дифференциал», видимо, стараясь весомостью терминов как-то затушевать предельную простоту, можно даже сказать, примитивность самого этого инструмента. По сути дела, это просто линейка, а посолиднее говоря, шкала, которая у Ч. Осгуда еще выглядела довольно замысловато, а теперь, после многих лет «обкатки», оказалась и совсем простой: очень хорошее — 1, хорошее — 2, никакое — 3, плохое — 4, очень плохое — 5. Вот и все. Трудно поверить, но действительно все.
А дальше — измерения с помощью этого «инструмента». Этап трудоемок, но тоже в общем-то прост. Измерительная шкала дается носителям языка. Это те, кто говорит на данном языке и для кого язык является родным. Их называют информантами, потому что они дают исследователю нужную информацию. Так вот, информантам дается шкала и предъявляются слова (в произношении и написании или только в написании). Предъявляются как угодно: просто диктуются и записываются на доске или с помощью каких-либо технических средств — неважно. Задача информантов несложна — нужно поставить очередному слову «оценку», то есть цифру по данной шкале. Например, предъявлено слово дом. Если информант почему-либо считает, что это «что-то очень хорошее», он доставит слову оценку 1, если, по его мнению, это «нечто очень плохое» — оценку 5 и так далее. Если возникают затруднения с оценкой, или слово для информанта не обозначает ничего — ни хорошего, ни плохого, или информант вообще почему-либо не желает оценивать слово, он всегда может поставить тройку («никакое»).
Оценки, понятно, индивидуальные. Один информант ответил так, другой может ответить иначе. Поэтому на мнение одного носителя языка опираться нельзя. Нужно опросить побольше информантов. Существуют различные способы определения надежности такого измерения, которые показывают, что нужно получить ответы не менее чем 50—60 человек, чтобы выявить «усредненное», коллективное мнение об оценке данного слова. При этом в группу должны входить самые разные носители языка — разного пола, возраста, уровня образования, разных профессий. По их ответам вычисляется средняя арифметическая, которая и является средней оценкой, отражающей коллективное суждение носителей языка о том, насколько «хорош» или «плох» дом.
Средняя оценка для слова дом по шкале «хорошее — плохое» получилась 2,2. Значит, в общем дом — «нечто хорошее».
Все же вас, читатель, наверное, одолевают сомнения. Ведь не только информанты все разные, но и дома-то всякие бывают: красивое, добротное здание — это, понятно, хороший дом, а какая-нибудь покосившаяся развалюха — что же в ней хорошего? Да и вообще слово дом может не обозначать никаких зданий. Скажем, отчий дом — это может быть и родная деревня, и город, и целая страна. Что же тогда оценивается?
В том-то и дело, что измеряется не конкретный предмет и не конкретное понятийное ядро определенного узкого значения слова, измерением как раз и улавливается некий общий оценочный ореол вокруг обобщенного понятия или представления, связанного в сознании «коллективного носителя русского языка» со словом дом.
Допустим, что каждый информант имел в виду какой-то свой дом, и оценки были самые разные — примерно одинаковое количество единиц, двоек, троек, четверок и пятерок. Тогда средняя арифметическая была бы приблизительно 3,0. Это означало бы, что никакой единой оценки этого обобщенного понятия не существует, и измерительная шкала не работает, оказывается бесполезной. В таком случае пришлось бы распроститься и с идеей измерить качественные ореолы слов, и с надеждой обучить компьютер оперированию этими ореолами.
Но при реальном измерении все оказалось иначе. Средняя оценка явно отклонилась от нейтрального деления шкалы в значимую (в данном случае в «хорошую») сторону. Так случилось потому, что информанты в подавляющем большинстве ставили слову дом оценки 1 и 2. Были и тройки и четверки, и даже пятерки, но эти «плохие» оценки просто потонули среди «хороших».
— Вот видите, — можете вы снова возразить, — ведь кто-то думает иначе, чем все, а оценка выводится усредненная. Зачем же всех стричь под одну гребенку?
Вообще-то можно было бы получить оценки какого-либо одного информанта, к примеру, некоего Иванова, и на их основании моделировать на компьютере языковое сознание именно Иванова. Другой компьютер моделировал бы Сидорова, третий — Петрова и т. д. Может быть, в каких-то случаях такой подход и имел бы смысл. Скажем, любопытно было бы получить индивидуальные оценки качественных ореолов слов какого-либо поэта или писателя, с тем чтобы в дальнейшем наблюдать за проявлением этих оценок в их произведениях. Наверняка можно разработать специальные методы тестирования, чтобы определять индивидуальные особенности языкового сознания, например, для профориентации, в психиатрии, да и везде, где требуется «моделировать» конкретную личность.
Но, обучая языковой семантике компьютер, нужно моделировать именно усредненное языковое сознание некоего коллективного, среднего, типичного, «говорящего по-русски». Так что для нас усреднение оценок не недостаток, а выгодное преимущество «семантического дифференциала».
И вот еще что возьмите в расчет. Хоть мы все и личности, и индивидуальности, но в языке особенно-то не посвоевольничаешь. Оказывается, наши языковые сознания в общем довольно единообразны. А как же иначе? Иначе мы бы просто не понимали друг друга. Это в моде все дозволено — женщины могут носить брюки, а мужчины навивать себе девичьи локоны. А попробуйте в своей речи заменить мужской род женским. Можно, конечно, но никто этого делать не будет, потому что его просто-напросто не поймут. И значение слова во всех его аспектах не может быть слишком индивидуальным в языковых сознаниях разных носителей языка — для взаимопонимания важны не различия, а сходства.
Вот и получается, что значения одних и тех же слов в сознании разных носителей одного языка при всех индивидуальных различиях должны быть в основном единообразными. И если слова постройка или строение на шкале «хорошее — плохое» расположены ближе к нейтральному делению (они «никакие»), то дом расположится ближе к отметке «хорошее», дворец будет еще лучше, а хибара, халупа или хижина расположатся на «плохой» стороне шкалы. И это «нормально», «типично» для говорящих по-русски.
Разумеется, можно намеренно придать этим словам противоположный ореольный смысл. Скажем, некто может назвать свою роскошную квартиру хибарой или развалюху дворцом. Но это будет игра на ореолах, это ореольные маски на словах. А если вы на новогоднем маскараде наденете маску волка, то ведь никому и отдаленно в голову не придет, что вы настоящий волк.
Бывают и «коллективные отклонения» от типичных средних оценок слов. Например, для моряков (а точнее, для «усредненного моряка») все «морские слова», связанные с берегом — причал, бухта, маяк, берег, — гораздо «лучше», чем для «сухопутных» носителей языка. Само собой разумеется, что и вся сугубо профессиональная лексика по-разному оценивается профессионалами и «непосвященными». Скажем, для тех же моряков слово лоцман обозначает «нечто хорошее», а для всех прочих русских оно нейтрально. Факт вполне объяснимый: моряк прекрасно знает, что лоцман — очень нужный, важный, а потому и «хороший» человек, опять же с берегом связан. И в любой профессии так — слова своей профессии известны точнее, понимаются глубже, полнее, чем всеми остальными.
Так что при желании можно смоделировать на компьютере ореольные языковые сознания моряков, астрономов, летчиков, механизаторов и т. д.
Но еще раз нужно подчеркнуть, что представители разных профессий специфически воспринимают лишь свои профессиональные слова, а всю общеязыковую лексику, которая составляет основу языка, они оценивают так же, как и все остальные.
До сих пор речь шла лишь об оценочной измерительной шкале, как будто качественный ореол состоит только из оценки. Несомненно, оценка составляет основу качественного ореола, но для его характеристики можно использовать и многие другие признаки. Ну что же, почему бы не построить по образцу оценочной любые другие признаковые шкалы? Например:
очень очень очень
большое — 1 подвижное — 1 женственное —1
большое — 2 подвижное — 2 женственное — 2
никакое — 3 никакое — 3 никакое — 3
маленькое — 4 статичное — 4 мужественное — 4
очень маленькое — 5 очень статичное — 5 очень мужественное — 5
Тогда дом будет не только «хорошим», но и «большим», «статичным» и т. д.
Но огонь — это «нечто горячее», вода — «нечто мокрое», да и каждое из имеющихся в языке качественных прилагательных обязательно описывает какие-либо признаки предметов, явлений, состояний. Как же быть? Строить шкалы из всех прилагательных и мерить по ним все остальные слова языка?
В принципе да. Это было бы самое полное, исчерпывающее описание качественно-признаковой ореольной семантики языка. Но такая работа — на много лет для нескольких крупных научно-исследовательских центров. А у Ч. Осгуда все же была небольшая группа исследователей, хотя ему активно помогали многие энтузиасты-студенты. Этот коллектив провел огромную работу — измерил несколько тысяч английских слов по 75 шкалам.
Затем весь этот гигантский материал был обработан на ЭВМ, и тут оказалось, что исследователи даже перестарались. Вот так всегда достается первопроходцам — сколько пустой породы приходится перелопатить, прежде чем откроются заветные алмазные трубки. Знать бы заранее, где они есть!
Так вот, оказалось... Впрочем, то, что оказалось, поначалу ошеломило и самих исследователей. Они отказывалась верить в этот результат и все перепроверяли расчеты. Однако ошибки не было — выявилось всего три(!) основных шкалы, вокруг которых группировались все остальные. Неужели так просто, так примитивно устроено значение?
Ну, во-первых, как мы теперь знаем, с помощью шкалирования измеряется не все значение, а только один его аспект. А во-вторых, это только основных шкал-признаков три, а их оттенков великое множество. Ведь цветная палитра кино, фотографии и телевидения богата и разнообразна, тогда как все богатство цветов и оттенков создается комбинацией всего трех основных цветов.
Результаты осгудовских экспериментов многократно перепроверялись в разных странах и на разных языках, но (с небольшими вариациями) вывод всегда был один и тот же: существует три основных аспекта, три фактора в восприятии качественно-признакового ореола слов. И как ни обидно было филологам расставаться с мнением о невероятной сложности, непостижимости и тем более неизмеримости каких бы то ни было аспектов языкового значения, деваться некуда: факты — вещь упрямая.
Какие же это факторы, составляющие, по сути дела, основу нашего мировосприятия?
Первый и главный из них — фактор оценки. Он объединяет шкалы-признаки «хорошее — плохое», «полезное — вредное», «безопасное — страшное», «светлое — темное», «радостное — печальное», «красивое — безобразное» и т. д.
Второй — фактор силы. Сюда входят шкалы «сильное — слабое», «легкое — тяжелое», «большое — маленькое» и т. п.
Наконец, третий — фактор активности, объединяющий шкалы «подвижное — статичное», «быстрое — медленное», «активное — пассивное» и т. п.
Можно представить себе, как формировалась эта трехмерная структура восприятия у нашего предка — дочеловека. Ясно, что весь окружающий мир прежде всего делился для него на безопасное, полезное, съедобное — с одной стороны, и на страшное, бесполезное, несъедобное — с другой. Все, что способствовало его выживанию, было хорошим, все, что угрожало его существованию — плохим. В этой связи понятно, почему шкала «светлый — темный» входит в оценочный фактор: темное время суток было для предчеловека наиболее опасным. Так что если бы нашим предком был филин, то, вероятно, дело обстояло бы иначе — хорошим считалось бы темное. Оценка — самый главный, жизненно важный аспект восприятия, который долгое время был единственным.
С этим аспектом тесно был связан и второй фактор — силы. Было важно — некто сильнее меня или слабее. Если сильнее, то этот некто может угрожать моему благополучию, если слабее — бояться его нечего. Следы единства и последующего разделения факторов прослеживаются довольно явственно и сейчас во всех языках и особенно при сравнении языков, стоящих на разных ступенях развития. В «первобытных» языках, как правило, есть слова, обозначающие одновременно и «хорошее» и «сильное». Такие следы есть и в русском языке. Мы можем сказать слабый фильм, и это будет означать «плохой». А вместо «хорошее» в разговоре можно услышать: «Ух, сила!»
В фактор силы входит и шкала «большое — маленькое». Интересно, что она довольно долгое время была связана с оценкой, в частности со шкалой «красивое — безобразное». Вспомните, как в сказке П. Ершова «Конек-горбунок» Царь-девица разочаровала Ивана:
Хм! Так вот та Царь-девица!
Как же в сказках говорится, —
Рассуждает стремянной, —
Что куда красна собой
Царь-девица, так что диво!
Эта вовсе не красива:
И бледна-то, и тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
А ножонка-то, ножонка!
Тьфу ты! словно у цыпленка!
Пусть полюбится кому,
Я и даром не возьму.
Но, поварившись в котлах и поднявшись на новую ступень, Иван меняет эстетические взгляды и охотно женится на «тоненькой» царице.
Теперь в развитых языках факторы обособились, и мы знаем, что сильное и большое — это вовсе не обязательно хорошее, а, может быть, даже и наоборот. Вот фашизм был силен, но это, вне всяких сомнений, нечто крайне отвратительное. А ребенок слаб и мал, но очарователен.
Фактор активности также изначально был связан с оценкой, чему тоже есть объяснение: неподвижное менее опасно, чем движущееся. Интересно, что в русских сказках счастливая жизнь часто связывается с покоем, возможностью спать, валяться на теплой лежанке, как это делает Емеля, который вообще не слезает с печки, или Иван, попавший с Коньком-горбунком в царский дворец:
Ест он сладко, спит он столько,
Что раздолье, да и только!
Понятно, что замученному постоянной тяжелой работой труженику пассивное времяпрепровождение, не-
ограниченный отдых могли представляться только в сказке и были доступны, по его разумению, не меньше как царям. Недаром в «Коньке-горбунке» царь все «государственные» дела вершит в спальне, не слезая с кровати.
Но в настоящее время фактор активности так отдалился от оценки, что начинается их «обратное» сближение, как при все большем и большем расхождении часовых стрелок: они наконец начинают сближаться «с другой стороны». Теперь уже активность сближается с положительной оценкой, и если мы говорим «активный человек», то это положительная оценка, а если «пассивный» — то отрицательная.
Такое «более цивилизованное» сближение факторов прекрасно обыгрывают в сказках П. Ершов и А. Пушкин. В «Коньке-горбунке» постоянное местопребывание царя в кровати звучит как издевательская насмешка над бездельником, явно выраженная Пушкиным в «Сказке о золотом петушке»:
Царствуй, лежа на боку!
Итак, три фактора, три меры восприятия, три основных компонента качественного семантического ореола. Три меры — это куб. Шкалы могут быть изображены в виде линеек, и тогда три основных шкалы («хорошее — плохое», «сильное — слабое», «подвижное — статичное») образуют трехмерное пространство, которое называют семантическим пространством, или семантическим кубом Осгуда, но точнее нужно бы сказать пространство качественно-ореолъной семантики.
А дальше легко догадаться: если по всем трем шкалам взять средние оценки какого-либо слова, то в семантическом кубе по трем координатам определяется его местоположение. Теперь, пожалуйста, измеряйте любое слово и располагайте его в ореольном пространстве. Можете воочию наблюдать группировки слов, их взаимное расположение, можете буквально линейкой измерять расстояние между их качественными ореолами.
Если ореолы сходны, слова расположатся компактно, этаким ореольным облачком, если резко различны, они разбегутся в противоположные углы куба, и можно точно сказать, насколько велики ореольные сходства и различия.
Можно нарисовать пространство и расположить в нем слова, можно и модель сделать. Кто до Ч. Осгуда хотя бы отдаленно предполагал, что с неуловимыми и тонкими оттенками значений слов будут проделывать такие «материальные», зримые и ощутимые манипуляции? И если тридцать лет назад трудновато было решить, для чего нужно (и нужно ли) так необычно и странно измерять значение, то теперь-то мы это хорошо себе представляем: такое описание качественных ореолов слов легкодоступно и «понятно» компьютеру. Теперь ему очень просто объяснить, «что такое хорошо и что такое плохо», как сказал поэт. Теперь компьютер свободно разберется, что сильное, а что слабое, что быстрое, а что медленное, что горячее, а что холодное или, как сказал тот же поэт, «который москит и который мускат, кто персюки и персики».
Схема измерения качественных семантических ореолов, как видите, в принципе проста. Но только схема и только в принципе. Далеко не все так легко и просто, не все решено до конца, не все ясно.
Сначала о проблемах непринципиальных, но все же о проблемах.
Легко манипулировать со словами в ореольно-семантическом кубе, если слов два-три десятка. А если их десятки тысяч? Такого куба ни нарисовать, ни построить. Правда, группа Ч. Осгуда в какой-то мере справилась с этой задачей довольно остроумно. Был издан «Атлас семантических профилей» — книга, где страницы представляют как бы срезы куба с попавшими на эти срезы словами. Конечно, наглядность уже не та, но все же в таком атласе заключена большая и уникальная информация.
Сложнее обстоит дело с самим кубом. Для его построения взяты три шкалы, а ведь измерение проводилось по десяткам признаков. И каждый фактор — это не одна шкала, а их пучок. Значит, ребра куба можно строить не из линеек, а из «веников», и тогда очертания куба размываются, теряют определенность. Причем прутья-шкалы веников расходятся очень значительно: веник не связан плотно, а основательно растрепан. Например, шкала «активный — пассивный» входит в фактор активности, но она так отклоняется от шкалы «быстрый — медленный» в сторону фактора оценки, что занимает, по сути дела, промежуточное положение между этими двумя факторами. Как же тогда рисовать пространство? Куб начинает вибрировать, менять очертания, деформироваться, расплываться.
Но это бы еще не беда: не столь важно, форму какого геометрического тела примет семантическое пространство. Хуже, что точки слов тоже начинают «плавать» в меняющемся пространстве и из точек превращаются в размытые «облака», которые пересекаются и смешиваются.
Размыванию точек способствует еще одно важное обстоятельство. Вычисленные, казалось бы, точно координаты слов в пространстве на самом деле точны лишь относительно, поскольку вычисление средних оценок носит не абсолютный, а вероятностный характер. Скажем, мы опросили группу в 50 информантов и вычислили по их ответам средние оценки слов. Будут ли эти оценки точно такими же, если мы те же слова предложим другой группе в 50 человек? Вовсе не обязательно. Отдельные средние оценки могут совпадать, но в большинстве полученные числа будут близки к прежним, однако будут от них более или менее отличаться. Другими словами, средние оценки могут колебаться от эксперимента к эксперименту в каких-то пределах. Значит, в пространстве это опять-таки не точки, а «облачка».
Вот и получается, что в результате и куб не куб, и точки не точки, а некая бесформенная емкость, наполг ненная космами тумана или клубами дыма.
Но даже и это еще не все соображения, разрушающие осгудовский «семантический куб». Главное — впереди.
Работая с «семантическим дифференциалом» на материале русского языка, советские исследователи В. Петренко и Н. Павлюк независимо друг от друга обнаружили, что в нашем языке упрямо выделяется еще один фактор, еще одно измерение пространства, которого не было у Ч. Осгуда. Эта мера объединяет пучок таких шкал, как «женственное — мужественное», «нежное — грубое», «мягкое — твердое», «удобное — неудобное», «округлое — угловатое» и т. п. Фактор получил название родокомфортности и стало ясно, что качественно-признаковое пространство не обязательно трехмерно. Четвертая мера обнаружилась и в английском языке, только гораздо менее явно, поэтому-то Ч. Осгуд и не выделил ее.
Этот факт вполне объясним, если вспомнить, что в русском языке есть грамматическая категория рода, а в английском ее нет. То, что мы, русские, все предметы и явления грамматически делим на «мужчин» и «женщин», не могло не отразиться на наших признаковых оценках слов. Разумеется, мы не считаем, что дубовый стол — мужчина, а рябиновая трость — женщина. Но ведь поем: «Как бы мне, рябине, к дубу перебраться». В переводе на английский язык содержание этой песни покажется англичанину весьма странным: он не сможет взять в толк, с чего это одно дерево воспылало страстью к другому — ведь в английском и дуб и рябина одинаково «никакого» рода. Разумеется, в английском переводе можно объяснить, что дуб — это мужчина, а рябина — девушка, но эффект будет совсем не тот: логическое объяснение в художественном отношении ни в какое сравнение не идет с непосредственным воздействием самой ткани, самой плоти языка.
Наше «языковое поведение» все насквозь пронизано «родовой окраской». Мы говорим: «Нож упал — мужчина придет, упала ложка — женщина в гости спешит». В английском такая примета невозможна — ни нож, ни ложка рода не имеют. Мы можем обругать старым пнем только мужчину и никак не женщину, зато выдрой — только женщину, хотя звери-выдры есть и самцы.
Игрой на родокомфортном факторе в нашем языке выражаются тончайшие оттенки смысла, совершенно не переводимые на «безродовые» языки. Например, А. Вознесенский пишет:
Ты кричишь, что я твой изувер,
и, от ненависти хорошея,
изгибаешь, как дерзкая зверь,
голубой позвоночник и шею.
Обратите внимание, каким удивительным способом открывается в этом четверостишии, что «ты» — это женщина: только формой прилагательного дерзкая, неправильно согласованной с существительным мужского рода зверь. Неправильное словосочетание кажется тем не менее естественным, поскольку существительные такой формы могут иметь и женский род (например, дверь). Но оригинальное соединение разнородовых форм создает необычный эффект, перевести который на язык без грамматической категории рода никак нельзя.
Итак, пространство может быть и четырехмерным, а тогда геометрическая интерпретация отпадает и возможность вычисления расстояний между словами-точками становится проблематичной.
И еще одно, не менее убийственное для «семантического пространства» обстоятельство.
Оказывается, при измерении некоторых слов обнаруживается неожиданная картина — слово располагается не в одной точке шкалы, а сразу в двух противоположных точках. К примеру, слово регби по шкале «хорошее — плохое» получает среднюю оценку 2,9, то есть оценивается большинством информантов как бы «никаким». Но это вовсе не так. На самом деле примерно половина отвечающих единодушно считает, что регби — это что-то «хорошее» (видимо, им нравится эта игра), а другая половина столь же единодушно полагает, что это нечто «плохое» («это не игра, а свалка какая-то»). Но почти никто, заметьте, не посчитал регби «никаким». Значит, средняя оценка фиктивна, за усреднением она скрывает разнонаправленные тенденции. И таких слов множество: бокс, хоккей, пушка, огонь, суд, холостяк, женщина — это только несколько примеров слов «двойной оценки».
А вот слово дождь расположилось буквально на всей шкале, что и понятно: если вас спросят: «Дождь — это что-то хорошее или плохое?» — вы наверняка скажете — смотря какой, смотря где, смотря когда. У этого слова нет постоянного качественного ореола, он меняется в зависимости от ореолов слов-соседей.
Вот теперь и прикиньте, как можно расположить слова с двойными или меняющимися ореолами в любом пространстве — хоть трех-, хоть четырехмерном? Трудно что-нибудь придумать. Во всяком случае, «облака» таких слов вытягиваются почти на все пространство, как Млечный Путь.
Автоматический качественный классификатор
Создается впечатление, что в рассказе об осгудовском измерении значения получилось, как в известном анекдоте:
— Правда ли, что Том выиграл в лотерею «понтиак»?
— Да, правда. Только не Том, а Тим. И не «понтиак», а «кадиллак». И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.
Но все-таки это не совсем так. Качественный ореол значения слова Ч. Осгуд действительно измерил, только геометрическое представление результатов измерений оказалось не совсем удачным. Во всяком случае, для компьютера.
Поэтому Н. Павлюк, обнаружив четвертую меру семантического пространства и убедившись в невозможности его графической интерпретации, стал искать новые пути семантических измерений. И поиски привели его к разработке простого (а значит, вполне доступного «пониманию» компьютера) и в то же время весьма эффективного способа автоматического оперирования с качественно-признаковыми ореолами слов.
Есть такая настольная игра. На игровом поле установлены разные отражатели, стенки, барьерчики, ловушки. Один или несколько шариков выскакивают на поле и движутся по нему, отражаясь от препятствий, застревая в ловушках. В конце концов шарики собираются в разных частях поля, в зависимости от чего играющими начисляются очки. Придуманный Н. Павлюком автоматический классификатор похож на эту игру. Посмотрите на рисунок.
Представьте себе, что в верхнюю воронку засыпаются слова, которые распределяются по трубам этого сортировочного устройства в зависимости от наличия тех или иных характеристик. Сначала они попадают на первый уровень, где «хорошие» слова направляются налево, «плохие» — направо, а «никакие» — прямо. Теперь каждая из трех групп попадает на второй уровень. Там снова происходит сортировка: «хорошие и сильные» — направо, «хорошие и слабые» — налево, «хорошие и никакие» — прямо. Поскольку каждая из трех групп первого уровня делится еще на три группы, то групп уже получается 9. Затем третий уровень, где каждая из 9 групп делится еще на 3 в зависимости от «активности» слов. Групп уже 27. Четвертый уровень делит слова по признакам «мужественное — женственное», и групп становится 81.
Если остановиться на этих четырех уровнях, то в «осгудовских представлениях» мы получим группировку слов в четырехмерном качественно-признаковом пространстве, то есть как бы разрежем облака тумана на четко разграниченные зоны.
А компьютеру только того и нужно. Теперь он легко разложит по полочкам наши зыбкие и неопределенные представления о качественных ореолах слов. Скажем, попадают в компьютерный классификатор слова автомобиль и лягушка. Компьютер проверяет их оценки по шкале «хорошее — плохое»: автомобиль — 1,9, лягушка — 4,2. Компьютеру ясно — автомобиль нужно направить в «хорошую» группу, а лягушку в «плохую». Далее проверяются оценки по шкале «сильное — слабое», и автомобиль попадает в «хорошую и сильную» группу, лягушка — в «плохую и слабую», так как по этой шкале автомобиль имеет оценку 1,8, а лягушка — 4,3. Затем, пройдя шкалы третьего и четвертого уровней («быстрое — медленное», «мужественное — женственное»), автомобиль оказывается в «хорошей, сильной, быстрой, мужественной» группе, лягушка — в «плохой, слабой, медленной, женственной».
Четыре уровня сортировки минимально необходимы, иначе качественный ореол не будет охвачен полностью. Но останавливаться на четвертом уровне не обязательно. Добавляя к автоматическому классификатору все новые и новые шкалы-уровни, мы обучаем компьютер все более тонким оттенкам качественно-ореольной семантики. Понятно, что с увеличением числа уровней сортировки будет увеличиваться число групп «на выходе» классификатора и группы будут все более дробными. А слова, в них попавшие, будут все теснее объединяться по качественно-ореольным характеристикам.
Четырехуровневый компьютерный классификатор исправно работает и формирует группы слов на удивление «осмысленно». Ничто не мешает подключить к нему новые шкалы и сортировать новые порции слов. Но вот беда: лингвисты уже 30 лет гадают, куда «приплыл» Ч. Осгуд — в Индию или в Америку, да все прикидывают, нужны ли нам такие измерения. А словаря качественных ореолов русских слов все нет. Классификатор есть, и работает хорошо, а классифицировать нечего. До сих пор всего несколько исследователей ведут измерения русских слов — это в основном А. Клименко, В. Петренко, А. Павлюк. Измерено несколько сотен слов, но главным образом по трем-четырем основным шкалам. А ведь нужно измерить десятки тысяч слов, да и шкал набрать побольше. Работа эта ведется, но столь малыми силами, что результатов придется ждать еще долго.
Многоуровневый классификатор будет иметь огромное число выходов. Так, при десяти уровнях количество классификационных групп приближается к 20 тысячам. Но это лишь теоретически возможные группы. На практике большое число выходов окажутся пустыми, то есть на этих выходах не будет не только групп, но и ни одного слова. А на других выходах классификатора соберутся группы, включающие множество слов. Кстати сказать, интересен и сам этот результат. Ведь если на каком-то выходе образовалась большая группа слов, значит, такая комбинация признаков очень важна для нас, а если выход пустой — это свидетельство несовместимости признаков или ненужности такой их комбинации.
Возникает еще вот какой вопрос: как быть со словами внутри групп, как разобраться в них компьютеру? Не окажутся ли они для него все на одно лицо? Ведь на первый взгляд кажется, что в группах слова перемешаны без какой-либо системы, как бы свалены в какую-то ячейку пространства «навалом». Это впечатление обманчиво. Во-первых, для более дробного деления групп компьютер всегда может подключать новые шкалы-уровни. Во-вторых, если некая группа слов не будет поддаваться такому способу дробления, а компьютеру все же нужно как-то упорядочить слова внутри ее, он всегда может обратиться к исходным данным — к средним оценкам слов по любому из нужных в данный момент признаков.
Например, если в четырехуровневом классификаторе слова корабль, автомобиль, самолет объединились в группу, оказавшись «хорошими, сильными, быстрыми, мужественными», то легко можно сравнить их между собой по какому-либо признаку, ранжируя их средние оценки. Скажем, по признаку «быстрое» они располагаются в зависимости от средних оценок так: самолет (1,8), автомобиль (2,2), корабль (2,4). Отсюда компьютер сделает вывод, что «нечто самое быстрое» среди этих слов — самолет, а «самое медленное» — корабль. По признаку «большое» расположение будет другим: корабль, самолет, автомобиль. Такое сравнение можно провести и по любому другому признаку, включенному в классификатор.
Качественный классификатор справляется и со словами, имеющими двойную оценку, и даже с «размытыми» по всей шкале — такие слова просто попадут одновременно на несколько выходов классификатора.
Например, слово регби по шкале «хорошее — плохое» имеет двойную оценку (и «хорошее» и «плохое»). Для классификатора не нужно вычислять среднюю оценку (все равно она будет фиктивной), вместо этого слову приписывается индекс (например, Д), который будет означать, что слово необходимо направить и на «хороший», и на «плохой» выходы. Попав на «хороший» выход, регби окажется в одной группе со словами игра, футбол, забава, спорт и т. п. На «плохом» выходе у того же слова окажутся другие соседи: грубость, драка, свалка, потасовка и т. п.
Слово женщина тоже имеет двойную оценку. Пройдя классификатор, «хорошая женщина» попадет в одну группу со словами мать, невеста, ласка, забота, любовь, нежность и т. п. Ну а «плохая женщина» будет окружена словами зависть, глупость, карга, выдра и т. п.
«Размытые» слова, такие, как дождь, попадут не на два, а на несколько выходов. «Слабый и хороший» дождь окажется в группе со словами лето, радуга, свежесть; «сильный и плохой» — со словами гроза, буря; «слабый и плохой» будет соседствовать со слякотью, осенью, моросью, гнилью; «сильный и хороший» — с урожаем, добром и т. д.
Как видим, классификатор работает гораздо лучше, чем пространство. Но особое его удобство заключается еще и в том, что он легко может быть объединен с понятийным классификатором, то есть с автоматизированной системой анализа понятийной семантики. Для этого нужно просто пропускать через качественный классификатор те группы слов, которые образовались после работы понятийного.
Опора на два семантических аспекта — на понятийное ядро и качественный ореол — позволяет компьютеру неплохо ориентироваться в семантике текста и вести вполне «человеческую» беседу, хотя на самом первом, «понятийном» этапе компьютеру придется основательно помогать.
Например, вы спрашиваете компьютер:
— Как можно добраться из Ленинграда в Таллин?
В этом вопросе компьютер, увы, ничего не поймет.
Ему тут просто не за что зацепиться. Глагол добираться слишком многозначен, его понятийное ядро размыто, неопределенно. Будем великодушными, снизойдем к непонятливости компьютера и переформулируем вопрос:
— На каком транспорте можно доехать от Ленинграда до Таллина?
Казалось бы, теперь все предельно ясно. Но это нам ясно. А компьютеру все еще не по силам разобраться в понятийной семантике вопроса. Слово транспорт объединяет слишком много самых разных понятийных групп. Скажем, городской транспорт — трамвай, троллейбус, метро — здесь не годится. Грузовой транспорт — тоже. А есть ведь еще транспорт как тип морского судна. Да и с Ленинградом и Таллином тоже все не просто. Компьютеру нужно знать, что это города, а не районы одного города, не разные страны или материки, что оба города расположены на берегах одного моря. И много еще чего нужно. Короче говоря, чтобы понять смысл даже такого простенького вопроса, необходимо сознавать ситуацию, чего компьютер сделать не в состоянии.
Допустим, мы как-то оградили нашего, мягко говоря, несообразительного собеседника от излишних семантических трудностей и задаем ему донельзя «разжеванный» вопрос:
— На каком пассажирском транспорте можно доехать от города Ленинграда до города Таллина?
Компьютер включает «понятийный классификатор», обнаруживает в группе «междугородный пассажирский транспорт» слова поезд, самолет, корабль, автобус, автомобиль и, наконец отвечает:
— Поездом, самолетом, на корабле, автобусе или на автомобиле.
Вы говорите:
— Только мне хотелось бы побыстрей.
Если бы компьютер обладал эмоциями, то здесь он бы облегченно вздохнул — кончилась непосильная для него работа с понятийными ядрами, он вырвался в область семантических ореолов, где чувствует себя гораздо более уверенно. Пробежав оценки этих ореолов по шкале «быстрое — медленное» и установив, что самое быстрое — самолет, а самое медленное — корабль, он уверенно отвечает:
— Быстрее всего, конечно, самолетом.
Вы сомневаетесь:
— Самолетом — это риск: вдруг дождь.
Компьютер не понял причины ваших колебаний, но
уловил «размытое» слово дождь и спешит получить уточнения:
— Дожди бывают разные. Вы имеете ввиду с грозой и бурей?
— Да, в бурю самолет не полетит.
— Конечно, дождь с грозой и бурей — это плохо. Но если слабый дождь, если свежесть, радуга — тогда все прекрасно.
Электронный собеседник взял реванш за тугодумие в начале беседы — он уже не только отвечает, но и сам спрашивает, рассуждает.
Вам понравилась его сообразительность, и вы пытаетесь установить, как далеко она простирается:
— А вам какой транспорт больше всего нравится?
Такой вопрос компьютеру нипочем. Увидев, что лучшая оценка по шкале «хорошее — плохое» у автомобиля, он безапелляционно заявляет:
— Я считаю, что лучше всего автомобиль.
Беседа наладилась, и вы позволяете себе попривередничать:
— Но мне хотелось бы отдохнуть в дороге, чтобы было тихо и спокойно.
До сих пор компьютер беседовал, обходясь основными качественными уровнями (были использованы факторы активности, силы и оценки). Теперь этой информации не хватает. Он ищет подходящие признаки и, обнаружив в вашей реплике слово тихо останавливается на шкале «громкое — тихое». На ней самым «громким» оказывается самолет, а самым «тихим» корабль, поэтому компьютер, поразмыслив, резонно советует:
В таком случае, самолетом лететь не следует, отправляйтесь на корабле.
— А как насчет безопасности путешествия?
Компьютер подключает шкалу «безопасное — устрашающее»:
— В общем-то все эти виды транспорта достаточно надежны, но если вы особенно осторожны, то ехать автомобилем я вам не посоветую, ну а корабль — это самое безопасное.
Хотя компьютер оказался упрямым и настоял-таки на своем первоначальном «замысле» — отправить вас в плавание на корабле, ясно, что разговор вели вы, заранее предвидя реплики машины. Но все же заметим, что выбор видов транспорта не был запрограммирован в ответах компьютера, он «сам» находил решения, исходя из запросов собеседника.
Понятно, что трафареты ответов машины составлены человеком и заложены в ее память. Но заполнял пустые места трафаретов компьютер самостоятельно: опираясь на анализ качественно-признаковых ореолов слов, он высказывал собственное мнение, давал оценки и советы. Иначе говоря, довольно убедительно имитировал понимание смысла вопросов и ответов, и особенно способным проявил себя не в постижении их логики (чего, казалось бы, следовало ожидать от бездушной машины в первую очередь), а как раз в овладении человеческими — эмоциональными, оценочными, личностными"— сторонами речи.
Анализ и синтез фоносемантики
Как измерить впечатление от звука!
«Семантический дифференциал» одно время был очень популярным измерительным инструментом не только среди лингвистов, но и среди литературоведов, психологов, искусствоведов, среди всех, кто изучает человеческое восприятие, эмоции, мышление. Чего только с его помощью не мерили — литературных героев и целые литературные произведения, живопись (реалистическую и абстрактную), разные эмблемы, значки, знаки... И никто (странно, но это так), никто не догадался измерить звуки речи!
Далекий от филологии человек здесь, пожалуй, удивится восклицательному знаку. Подумаешь — звуки речи. Мало ли что еще «не догадались» измерить с помощью этого самого семантического дифференциала — шнурки от ботинок, например.
Но филолог... О, филолога здесь как током пронзит. Еще бы! Ведь это самый древний и, пожалуй, самый важный филологический (да и не только филологический) спор — значимы ли звуки речи, содержательны ли они сами по себе, вне слова, или это только безликий строительный материал слов, полностью безразличный, как говорят, «произвольный» по отношению к семантике?
В первой главе мы уже беседовали об ореоле звуковой содержательности, и можно ручаться, что некоторые читатели безусловно соглашались с приведенными там примерами: для них фитюлька и тютелька действительно звучат как что-то маленькое, а хмырь — как что-то темное. Но столь же уверенно можно утверждать, что у целого ряда других читателей наши примеры не только не встретили понимания, а, наоборот, вызвали возражения: «Слово фитюлька обозначает что-то маленькое, неважное, несерьезное, вот автору и кажется, что звуки там какие-то «маленькие». На самом деле звуки сами по себе ничего обозначать не могут».
Вот так всегда и было еще со времен Гераклита, Демокрита и Платона, так продолжается и до сих пор: одни считают, что звуковая форма слова — только оболочка, в которую можно заключить любое содержание, другие полагают, что это кожа слова, часть его плоти, его сути, часть его содержания.
С первого взгляда спор может показаться схоластическим: считать ли звуки речи содержательными или нет, какая, собственно, разница. Но дело в том, что отношения между звучанием и значением слова — это одно из проявлений взаимодействий между формой и содержанием в языке. А диалектика взаимоотношений содержания и формы исключительно важна в жизни любого явления, в том числе, безусловно, и языка. Многие философские и филологические проблемы, связанные с возникновением, развитием и функционированием языка, получают различные решения в зависимости от того, признается звуковая форма языковых единиц содержательной или нет. Вот и спорили философы, языковеды, литературоведы, психологи на протяжении веков. Но веских и однозначных доказательств не могла привести ни одна сторона. В XX веке спор стал постепенно затухать и почти уже забылся, как вдруг вспыхнул с новой силой, получив пищу с совершенно неожиданной стороны — от кибернетики.
По некотором размышлении становится ясно, как это произошло. Выстроилась такая цепочка. Кибернетика упорно ищет пути овладения языковым содержанием, что пока ей плохо удается. А звучание — это форма языковых единиц, которая выражена материально, которая ощутима, измерима и потому несравненно легче доступна кибернетизации, чем содержание. Если же форма сама оказывается содержательной и является частью языкового содержания, то вот вам искомый путь к изучению, к постижению самого этого содержания.
Нет-нет, кибернетики не обольщались кажущейся легкостью пути. Понятное дело, заманчиво было бы найти такой способ манипуляций со звуковой формой слова, чтобы в результате постичь его содержание. Но чудес не бывает. Форма и содержание — вещи разные, они не могут заменить друг друга, не могут и полностью совпадать. Соответствовать друг другу — да, но не совпадать! Да и соответствовать-то не однозначно, не жестко, а сложно, диалектически. Содержание и форма стремятся к взаимному соответствию, могут его обрести, но подвижное содержание может вырваться из формы, перестать ей соответствовать или даже прийти в противоречие с ней. Да и языковая форма — не застывшая чугунная отливка, она тоже может измениться и нарушить гармонию.
Все это так. Но если есть хоть малейшая надежда «зацепиться» через форму за любой, пусть даже и не главный, аспект языкового содержания, кибернетики этой возможности не должны упускать. Слишком важна цель, чтобы отказываться от любых способов приближения к ней. Потому кибернетики и заинтересовались такой даже для лингвистов экзотической проблемой, как содержательность звуков речи.
И тут как нельзя кстати пришелся «семантический дифференциал». Он оказался как будто специально созданным для измерения звуковой содержательности. Здесь он сработал даже лучше, чем при измерении качественного ореола слов.
Первым увидел возможность измерения содержательности звуков речи психолог и математик Ю. Орлов. И не случайно: он сразу, раньше многих лингвистов, осознал важность «семантического дифференциала» для изучения языкового значения, правильно оценил силу и возможности этой необычной методики. Потому и решил попробовать ее на звуках речи. Под его руководством и автор начинал захватывающую и странную экспериментальную работу со звуками.
Странность экспериментов действительно бросалась в глаза. Представьте себе: информантам дают отдельные звуки речи — О, К, Д, Р, Ы, А, Ф и т. д. — и просят поставить им оценки по признаковым шкалам. Конечно, информанты недоумевают — как это «большой» звук? или «светлый»? или «тяжелый»? Не может быть у звуков таких характеристик! А экспериментатор продолжает удивлять: «Долго не размышляйте, ставьте отметки наугад». Некоторые информанты хитро улыбаются: «Знаем, мол, мы вас, экспериментаторов. Небось какие-нибудь наши качества выявляете, а звуки здесь ни при чем. Но нас не проведешь, мы вам сейчас наставим этих отметок кое-как, а вы потом разбирайтесь».
Как-то после одного из экспериментов я услышал в коридоре разговор информантов:
— Ну и придумают же какую-то чушь — «безопасные» звуки! Я ему от фонаря этих оценок наставил.
— А я тоже с потолка написал. Каков вопрос — таков ответ.
И не передать тому, кто этого не испытал, какой охватывает трепет, когда после утомительного суммирования многих и многих ответов выстраиваются средние оценки, указывающие на непреложные закономерности: поставленные «наугад», «от фонаря», «с потолка» цифры, усреднясь, показывают, что О — для большинства «светлый» звук, а Ы — «темный», Р — «устрашающий», а И — «безопасный», К — «быстрый», а Ш — «медленный», и так все звуки по многим шкалам-признакам, причем все это измерено, зафиксировано в числе!
В горячке увлеченности мы днем проводили эксперименты, а по ночам считали вручную. К ЭВМ тогда еще было не пробиться, о микрокалькуляторах никто и не помышлял, выручал только старенький арифмометр «Феликс». Юрий Михайлович даже выполнял вручную факторный анализ. Математики, знающие, что и для ЭВМ эта работа не из мелких, оценят сказанное.
Пространство, как и у Ч. Осгуда, получилось трехмерным, и меры те же — оценка, сила и активность. Расположив в семантическом кубе измеренные звуки, мы впервые получили русское фонетико-семантическое пространство. Оказалось, что все звуки русской речи обладают, в большей или меньшей степени, явно выраженной содержательностью, которую можно вполне строго измерить. Сомнения отпали — звуки речи содержательны!
Получив ошеломившие нас самих результаты, мы написали статью и направили ее в столичный лингвистический журнал. Как наивны мы были у себя в провинциальном Балашове, когда плавали на веслах по тогда еще тихому, безмоторному Хопру и горячо обсуждали возможные громоподобные последствия нашей публикации. Статью, как легко догадаться, не приняли. Тогда было огорчительно, а теперь понятно, что и не могли принять — слишком дискуссионна проблематика, необычен подход, непонятен метод, невероятны результаты. Редколлегии и рецензентам трудно работать с таким материалом. Ведь новое — значит не известное никому, в том числе и рецензентам. Правда, в то же время к той же цели шли, хотя и разными путями, другие исследователи — В. Галунов, В. Левицкий, И. Горелов, С. Воронин. Но их статьи, видимо, тоже отклонялись рецензентами, а сами они в редколлегии, увы, не входили.
Это теперь по фоносемантике защищаются диссертации, публикуются статьи и книги. Она поднялась до ранга самостоятельной теории, и практические приложения ее значительны и разнообразны. Есть и компьютерное приложение, а именно — имитация фоносемантических ореолов языковых значений.
И вот ведь как получилось: потаенный, подсознательный семантический ореол, в самом существовании которого сомневаются не только обычные носители языка, но даже многие профессионалы-лингвисты, оказался наиболее доступным компьютеру. Имея в своей памяти только средние оценки звуков по определенному набору шкал да сведения о том, как часто встречается каждый звук в русской речи, компьютер сам вычисляет фоносемантический ореол любого слова и вообще любого звукосочетания.
Если вдуматься — ничего странного в этом нет. Ведь компьютеру переданы (в доступной ему числовой форме) суждения носителей языка о содержательности звуков речи. И теперь машина стала представителем всех этих информантов, сама стала как бы усредненным или коллективным носителем языка со свойственными человеку суждениями о фоносемантике.
Правда, дальше компьютер уже действует сам, переходя от содержательности отдельных звуков к содержательности звукосочетаний и слов. Конечно, и здесь должен действовать принцип «доверяй, но проверяй». Прежде чем доверить самому компьютеру высказывать суждения о столь тонком явлении, как фоносемантический ореол слова, результаты компьютерных расчетов многократно проверялись, сравнивались с человеческими оценками и суждениями.
Заметим, кстати, что сделать это тоже непросто. С компьютером нет проблем — он значений слов не понимает и вычисляет только содержательность их звучания. А как быть с человеком? Ведь если попросить информантов оценить содержательность звучания слов, то они этого просто не смогут сделать, как бы ни старались. Люди четко осознают в первую очередь понятийную и отчасти качественно-признаковую семантику, потому на эти аспекты значений слов в основном и реагируют, а совсем не на смутную, скрытую, подсознательную фоносемантику. Это лишь дополнительный, третьестепенный аспект значения слова, почти незаметный на ярком фоне главных семантических аспектов.
Действительно, если человек описывает открывающийся перед ним вид, то прежде всего он будет называть предметы, а не воздух. И хотя воздух тоже здесь присутствует, он нужен, важен, без него нельзя, все же он «за кадром», он незаметен, внимание на нем не фиксируется. Можно специально обратить внимание созерцателя на воздух, и тогда он его сможет охарактеризовать, только все равно эта характеристика будет менее яркой и полной, чем характеристика четко осознаваемых предметов.
Так и со словами: предложите оценить по любой признаковой шкале любое слово — едва ли кто-нибудь станет оценивать его звучание, оцениваться будет качественно-признаковый ореол. Даже если вы специально попросите оценить именно звуковую форму слова, то понятийный и качественно-признаковый аспекты все-таки неизбежно «перетянут» на себя внимание информантов, а фоносемантика так и не будет измерена.
Как «отключить» человека от всех других аспектов значения слова, кроме фоносемантического? Как уравнять в этом плане человека и компьютер, чтобы проверить данные компьютера человеческим восприятием?
Кажется, у этой задачи нет решения, но все же оно есть. И не такое уж сложное, хотя и хитроумное. Нужно, чтобы у слов просто-напросто не было ни понятийного ядра, ни признакового ореола, а был бы только фоносемантический ореол. Только где взять такую лексику? «Безъядерные» слова, как мы видели в первой главе, еще можно найти, но чтобы без качественного ореола, это уж едва ли.
А почему бы не построить специально, почему бы не сконструировать звукосочетания, похожие на слова, но лишенные всех аспектов значения, кроме фоносемантического? Какие-нибудь лимень, букоф, вробар, урщух, незич, фрыш и т. п. Звуковая форма у них есть, значит, есть и фоносемантика. А «плоти» под формой нет. Как будто мундир надет на манекен. Вот это нам как раз и нужно.
Дальше все просто. Компьютер рассчитывает по всем шкалам теоретическое, «ожидаемое» воздействие звуковой формы этих «слов» на информантов, а настоящие информанты оценивают те же «слова» по тем же шкалам. Сходство результатов — критерий правильности компьютерных расчетов, а следовательно, правильности компьютерного моделирования фоносемантики.
С помощью примерки на десятках таких манекенов постепенно вырабатывался наиболее эффективный способ расчета суммарной фонетической содержательности звуковой формы слов, то есть компьютер постепенно учился все лучше и лучше «понимать» фоносемантику, все точнее имитировать человеческое восприятие этого аспекта значения слова.
Вычислитель, собеседник, советчик
В основном техника компьютерных расчетов сводится к вычислению оценки, усредненной по всем средним оценкам составляющих слово звуков. Но есть и кое-какие тонкости.
Прежде всего: в какой форме задавать слова компьютеру? Мы всё говорим — звуки, звучание, звуковая форма слова... Но компьютер звучащей речи пока не воспринимает. Общаться с ним приходится письменно. А буквенная и звуковая формы слова — это не одно и то же. Мы пишем яблоко, но произносим на месте буквы я два звука ( i— йот, звук, близкий к й, плюс звук а), а на месте о вообще что-то непонятное — какой-то призвук, нечто среднее между а, о и ы. Пишем окно, а произносим почти акно, пишем солнце, а произносим сонце (опять-таки с непонятным звуком в конце), пишем любовь,, а произносим льубофь и т. д. и т. п. Как быть?
Для филолога неразличение звука и буквы — это смертный грех, даже вообразить себе такое немыслимо. Однако для обычного носителя русского языка между звуком и буквой нет такой уж непреодолимой пропасти. Например, в сознании (или подсознании) каждого грамотного человека звук и буква сливаются в единый психический образ. А формирует этот образ, фиксирует его, делает его более четким и определенным отнюдь не звук, а как раз буква. И сами отдельные звуки человек начинает осознавать только тогда, когда выучивает буквы. Неграмотный никаких звуков в слове не выделит. В лучшем случае выделит слоги. Спросите его, из каких звуков состоит слово мама, и он скажет: ма-ма. И только зная буквы, обычный носитель языка может указать звуки слова, но и тут будет постоянно сбиваться на буквы — они для него более реальны, более наглядны, определенны. Он обычно удивляется, если ему сказать, что в начале слова юг звучит вовсе не ю, а i+у. Запись jyк для него странна и непривычна. Спросите любого русского, какой звук звучит в конце слова любовь, и большинство скажет — вь, хотя совершенно явственно произносится фь.
Конечно, в школе учат различать звук и букву, поэтому сознанием человек может уяснить, что ю это не ю, а i+у. Но подсознательно он все равно считает ю единым звуком, или, лучше сказать, единой звукобуквой. Так что же, давать компьютеру буквы, да и все?
Нет, это тоже крайность. Есть, оказывается, психологически чрезвычайно важные моменты звучащей речи, которые в буквах не отражены. Любопытно, что если, скажем, француз или англичанин, не знающие русского языка, услышат слова мел и мель, то они будут уверены, что это одно слово. Разницу в их звучании они просто не уловят. И очень удивятся, если им сказать, что русские совершенно четко и определенно слышат здесь два разных слова, которые никогда не спутают. Так же как француз не может перепутать разные звуки е — открытый и закрытый, — тогда как русскому разница в их звучании представляется почти неуловимой.
Дело здесь в том, что в разных языках особенно важными становятся разные характеристики звуков речи. Для русских мягкость согласных чрезвычайно важна — она является смыслоразличительной, то есть от замены в слове одного только твердого звука на парный ему мягкий резко меняется смысл. Замените л в слове угол на ль — получится совсем другое слово уголь, хотя звучание изменилось чуть-чуть, еле заметно.
Иногда носителю одного языка кажется просто странным, что носитель другого языка не замечает таких, казалось бы, явных различий в звучании. Например, узбеки, изучая русский язык, поначалу путают п и ф.
Учительница, преподающая русский язык в узбекской школе, рассказывала:
— Диктую слово «профессор», а Сайд пишет на доске: «фропессор». Его дружок шипит с первой парты:
— Сайд, первая п — не такая п (руки в бока кренделем), а такая п (свесил руки коромыслом).
Русские удивляются: как же не замечать такой разницы? А удивляться-то нечему: в узбекском языке эта разница не играет никакой роли, вот они ее и не замечают.
Со мной был случай, когда я поразился собственной языковой «тугоухости». На одной конференции в перерыве мы беседовали с англичанином, который неплохо знал русский язык, но учил его в Англии и разных русских-говоров не слышал. И вдруг он меня спрашивает:
— Скажите, что такое по-русски «хайка»?
Я растерялся.
— Не знаю, — отвечаю, — такого слова. Где вы его слышали?
А рядом двое рабочих устанавливают к очередному докладу демонстрационную аппаратуру.
— Да вот же рабочий несколько раз сказал «хайка», — говорит англичанин.
И тут только меня осенило: рабочий произносил г-фрикативный на южнорусский манер. Получалось действительно вместо гайка почти что хайка. Говорящие по-русски замечают, конечно, эту черту произношения, но особенного значения ей не придают, потому что это изменение звучания хотя и очень резкое, но несмыслоразличительное, смысла слов оно не изменяет.
Зато уж если от произношения зависит смысл слова, то даже самые тонкие особенности звука становятся для носителя языка очень важными и заметными. Такова мягкость согласных для русских.
И в оценках содержательности звуков по измерительным шкалам разница твердых и мягких согласных проявляется совершенно определенно: твердые согласные «сильнее, мужественнее, грубее», тогда как мягкие — «слабее, женственнее, нежнее».
Что и говорить — компьютеру обязательно нужно учесть эту особенность восприятия звуков. Да только вот как получается — твердость и мягкость согласных, важнейшее свойство русских звуков речи, не отражено в буквах. В слове рад начальный согласный твердый, а в слове ряд — мягкий, но буква одна — р.
Пришлось обучать компьютер самостоятельно обнаруживать твердые и мягкие согласные. Правда, сделать это оказалось не так уж сложно, потому что согласные становятся мягкими в основном в определенных позициях, которые компьютер научился находить.
А что касается других различий звуков и букв, то они оказались либо практически несущественными для расчета фоносемантики слов, либо выбор пришлось сделать в пользу буквы, как то подсказала «примерка на манекенах». Для компьютера это большое удобство, так как слова можно вводить в обычном печатном виде. Компьютер сам устанавливает мягкость согласных и приступает к расчету содержательности «звукобуквенной» формы слов.
Да, форма не звуковая и не буквенная, а именно звукобуквенная. Например, слово любовь в таком виде и вводится в компьютер, но он преображает ее так: л'юбов' (апостроф — знак мягкости). Как видите, компьютер отметил мягкость звуков и в то же время сохранил букву ю. Но чтобы не вводить нового, непривычного термина, станем по-прежнему говорить «звук», и только там, где это необходимо для правильного понимания сказанного, будем употреблять термин «звукобуква».
В расчетах тоже есть свои особенности. Не все звуки в составе слова равноценны, не все вносят равный вклад в восприятие слова как единого звукобуквенного комплекса.
Ясно, что ударные гласные заметнее безударных. Они звучат четче, громче и дольше. Значит, их роль должна быть подчеркнута, вес их средних оценок при расчетах должен быть увеличен.
Но оказывается, первый звук слова информативно еще более важен, чем ударный. Действительно, все первое ново и свежо, особенно заметно, сразу бросается в глаза, выделяется, запоминается. Все последующее блекнет, становится обычным, теряет свою информативность. Так и в жизни, так и в слове. Первый звук слова своей содержательностью как бы задает тон, окраску всем последующим звукам, будто включает регистр, в котором будет звучать слово. Замените «красивый» звук мь на «отталкивающий» хь, и получится вместо красивого слова милый отталкивающее хилый. А ведь поменялись только первые звуки, остальные остались теми же. Или прочитайте наоборот нейтральное, не вызывающее никаких особых эмоций слово мах — получите «грубое» слово хам. Это «грубый» х, став первым, окрасил своей содержательностью всю звуковую форму слова. Следовательно, вес средней оценки первого звука тоже должен быть увеличен, и еще больше, чем ударного.
Однако самая большая разница в информативности звуков слова вызвана обстоятельством, которое мы, казалось бы, не замечаем, а именно — разницей в частотности, или встречаемости, звукобукв в речи. Опять-таки, как и часто повторяющиеся события становятся обычными, теряют информативность, как слова от частого повторения «в привычку входят, ветшают, как платье», так и часто встречающиеся в речи звуки тоже оказываются малоинформативными, не задерживают на себе внимания, а значит, и незначительно влияют на восприятие слова, на формирование его фоносемантического ореола.
Редкие события высокоинформативны, они останавливают на себе внимание, выделяются из общего потока. И если в слове встречается редкий звук, он переключает на себя внимание воспринимающего, его содержательность становится доминирующей. И чем больше разница в частоте встречаемости между частыми и редкими звуками слова, тем выше информативность редких звуков, тем больше нужно увеличивать вес их средних оценок по сравнению со средними оценками остальных звуков.
Все эти расчеты компьютер выполнит легко, но ему для этого нужны данные об употребительности звукобукв. Те сведения, которые имелись в печати, не совсем подходили — ведь нужны данные именно о звукобуквах, а не о звуках или о буквах, да еще и отдельно по ударным и безударным гласным, да еще в какой-то нейтральной «усредненной» речи. Пришлось вести подсчеты по разным текстам, записывать на диктофоны разговорную речь в разных ситуациях. Работа большая, однообразная, изнурительная. Но что делать, других путей не было.
Забегая вперед, следует сказать, что теперь и эту работу смог бы выполнить сам компьютер. Когда мы перешли от отдельных слов к целым текстам (о чем будет рассказано ниже), компьютер все равно подсчитывал вероятности звукобукв. Не удержусь и похвастаю: компьютерные подсчеты, проведенные на гигантском материале, мало что изменили в наших данных, полученных вручную тяжелым трудом на выборках несравненно более скромного размера. Но это так, к слову, и не в укор машине. Ведь сколько времени и сил пришлось потратить на эту в общем-то подсобную, подготовительную работу! А компьютер выполнил ее походя, играючи.
Но наконец готово все. Многократно выверена, уточнена и перепроверена основная таблица, содержащая средние оценки всех русских звукобукв по 20 признаковым шкалам. Готова и таблица вероятностей звукобукв. Теперь слово за компьютером. Вот тут уж с ним вручную не потягаешься. Ручной расчет фоносемантического ореола даже для одного слова по всем шкалам — дело длинное, а печать машины стрекочет безостановочно, успевай только перфокарты загружать. А если работать с дисплеем, то время расчета — это фактически время набора слова на алфавитной клавиатуре. Иначе говоря, компьютер, как и человек, моментально «схватывает» фоносемантику слова.
Для тех, кому нравится более строгое изложение схемы вычислений, приведем формулы, по которым работает компьютер.
Если частотность (вероятность) любого (i-того) звука слова обозначить как Рi, а максимальную частотность звука в данном слове как Рmax, то коэффициент, учитывающий разницу частотностей звуков слова ki , можно вычислить как отношение:
Теперь нужно учесть место каждого звука в слове. Для этого коэффициент первого звука слова (ki) увеличим в четыре раза:
а для ударного (Куд) — в два раза:
После этих приготовлений напишем основную формулу:
где F — фонетическая содержательность слова (его фоносемантика) ;
fi — фонетическая содержательность очередного (i-того) звука слова;
ki — коэффициент для очередного (i-того) звука слова;
? — знак суммы.
Последняя «примерка на манекенах» показывает, что все в порядке — схема расчета в общем верна. Информанты считают, что «слово» незич звучит как нечто «маленькое» и «нежное», а фрыш — как нечто «плохое, грубое, страшное», и компьютер дает примерно те же характеристики. По мнению информантов, хифель и уршух страшное, а лимень и нитис — безопасное; компьютер того же мнения. Вробар и вакам кажутся информантам сильными, и компьютер выдал для них тот же признак.
Значит, способ расчета можно переносить и на настоящие слова. Конечно, спасительная оглядка на информантов теперь невозможна, но компьютер уже научился правильно имитировать человеческое восприятие фоносе-мантического ореола слов. Использовать эти свои умения он может разнообразно, и некоторые из возможностей мы ниже обсудим.
В результате вычислений слово по каждой шкале получает суммарную оценку фоносемантики, выраженную в единицах пягиранговой измерительной шкалы, то есть такую же оценку, как и средняя оценка содержательности отдельного звука. По суммарной оценке, опять-таки точно так же, как и по средней оценке для отдельного звука, слово получает характеристику в терминах шкалы. Например, для слова дом по шкале «хороший — плохой» компьютер получил суммарную оценку 2,3. Оценка находится в левой («хорошей») значимой зоне шкалы «хороший — плохой», поэтому компьютер выбирает для характеристики фоносемантического ореола этого слова признак «хорошее». Другими словами, по «мнению» компьютера, имитирующего наше с вами восприятие фоносемантики, звучание этого слова (точнее, его звукобуквенная форма) производит впечатление чего-то «хорошего». А для слова хам вычислена суммарная оценка 3,8. Она располагается в правой («плохой») значимой зоне шкалы, поэтому компьютер «полагает», что звучание этого слова производит впечатление чего-то «плохого». И так по всем 20 шкалам.
Значимые зоны школы определяются так, как показано на рисунке:
Если слово получает среднюю оценку от 1 до 2,5, то для характеристики качественного ореола слова выбирается левый признак шкалы (например, «хорошее»); если средняя оценка от 3,5 до 5, то в качестве характеристики выбирается правый признак (например, «плохое»); если оценка от 2,6 до 3,4, то никакого признака по данной шкале слово не получает.
На печать или на экран дисплея информацию можно вывести по-разному. Если нужно побольше информации, то лучше всего вывести и суммарные оценки, и выбранные характеристики. Можно также , для наглядности изобразить величину отклонений суммарных оценок от среднего (нейтрального) деления шкал.
Вся эта информация на экране дисплея имеет следующий вид:
РОБОТ
____________________________________________________
шкалы оценки признаки
хорошее 2,6
большое 1,9 большое
нежное 4,0 грубое
женственное 4,2 мужественное
светлое 3,2
активное 2,0 активное
сильное 1,8 сильное
быстрое 2,3 быстрое
красивое 2,7
гладкое 3,2
легкое 3,3
безопасное 3,7 страшное
величественное 2,0 величественное
яркое 2,1 яркое
округлое 3,2
радостное 2,7
громкое 1,9 громкое
доброе 3,4
могучее 1,7 могучее
подвижное 2,2 подвижное
Здесь слева указаны первые признаки каждой шкалы. Вторые (антонимичные) признаки для экономии места не приводятся, хотя в памяти компьютера все они есть. Эти 40 прилагательных, заданных компьютеру, и составляют его лексикон, с помощью которого он может охарактеризовать фоносемантический ореол слова. Далее следует столбец вычисленных компьютером суммарных оценок фоносемантики слова по каждой шкале. Еще правее — выбранные компьютером значимые признаки, которые и являются словесной характеристикой фоносемантического ореола заданного слова.
В данном случае компьютер выбрал для характеристики фоносемантики слова робот признаки с оценками от 1 до 2,5 и от 3,5 до 5. Остальные признаки в описании звуковой содержательности слова не участвуют. Заметьте, что если оценка признака помещается в пределах от 1 до 2,5, то компьютер выбирает тот признак, который указан в списке шкал, например, «большое». Если же оценка попадает в зону от 3,5 до 5, то компьютер выдает признак, противоположный тому, который указан в списке шкал (например, «грубое»).
Такой вывод результатов информативен, экономичен, но рассчитан скорее на специалистов. Если же мы в каких-либо прикладных целях хотим создать эффект общения с компьютером, то можно вывести результаты менее строго, зато более доступно и занимательно. Вместо того чтобы просто вводить в компьютер слово и получать сухие выжимки вычислений, можно организовать довольно содержательный диалог с машиной.
Например, будущий папаша решил подойти к решению извечной проблемы выбора имени для ребенка во всеоружии самой современной техники:
— Я хотел бы подобрать имя для ребенка. Что вы посоветуете?
Все понятно — момент ответственный, человек волнуется и забывает уточнить существеннейшую деталь. Но компьютер ему помогает:
— Вам для мальчика или для девочки?
— Пока не знаю. Но давайте сначала попробуем для девочки. Может быть, Юля?
— Прекрасное имя, — отвечает компьютер. — Оно нежное, женственное, красивое — как раз для девочки. Только оно лучше подойдет тоненькой, невысокой и подвижной девушке. Ваша дочь будет такой, когда вырастет?
— Трудно сказать. Но я довольно высокий и крупный, жена тоже среднего роста и... не такая уж худенькая.
— В таком случае, может быть, поищем другое имя?
— Да, да. Только обязательно нежное и женственное.
— Вы брюнет или блондин?
— Какое это имеет значение?
— Имеет, имеет.
— Скорее шатен.
— А ваша жена?
— Это еще зачем?
— Сейчас все станет ясно.
— Жена — блондинка.
— Значит, девочка скорее всего будет светленькая.
— Надеюсь.
— Тогда имя ей тоже нужно подыскать светлое. Не так ли?
— Конечно. Может быть, Таня?
— Прекрасное имя. Но скорее как раз для темненькой девочки.
— А если что-нибудь редкое, необычное? Вот я читал, что Харита по-древнегречески значит «прелесть».
— Ну что вы! Вам, конечно, виднее, только звучит это имя темно, грубо и даже страшно. Думаю, дочь вас за такое имя не поблагодарит.
— Вот как? Тогда, нечего и говорить, не подходит. А возможно, что-то старорусское, Марфа, например, или Глафира?
— Глафира — имя древнегреческое, Марфа — тоже не совсем русское, но на Руси действительно эти имена были распространены. Однако по звучанию их ни нежными, ни женственными, ни светлыми ни назовешь. И красоты в их звучании тоже нет.
— Тогда что же вы посоветуете?
— Думаю, подходящим было бы имя Ольга. Оно звучит как нежное, светлое, сильное, величественное.
— Вот тебе и раз!
— В чем дело?
— Жена сказала: «Если будет девочка — назовем Олей».
— Значит, так и называйте.
— Спасибо за совет. А теперь для мальчика. Только учтите, что он наверняка будет в меня.
— Тогда назовите Андреем. Звучит как активное, сильное, красивое.
— Ура! Я же говорил! А жена хотела назвать Игорем.
Не беда, что и без компьютера будущие родители вполне справились бы с подбором имен. Для нас важно, что в беседе машина была не пассивным ответчиком на вопросы, а активно вела разговор, не только имитируя владение семантикой, но и предлагая человеку новую информацию. А ведь она опиралась только на анализ содержательности звучания. Хотя, как можно заметить, в эту программу вполне органично входят и дополнительные сведения (например, о происхождении, распространенности, первоначальном значении имен).
Все трафареты реплик компьютера опять-таки подготовлены заранее, но основную информацию об именах, ради которой и идет беседа, компьютер получает и вставляет в схемы своих реплик сам. И беседа получилась не такой тривиальной, как относительно поездки из Ленинграда в Таллин, не правда ли? Его «суждения», а точнее, имитация суждений человека уже не столь банальны. Напротив, они содержат сведения, которые путем логических рассуждений человек получить не может или логика его подводит (как это случилось в ситуации с именами Харита, Марфа, Глафира). Тонкие аспекты фоно-семантики не поддаются рациональному истолкованию, поэтому человеку в этом вопросе вовсе не лишне будет посоветоваться с компьютером. Ведь для человека фоносемантика — неявный ореол. Он его хоть и чувствует, но далеко не всегда может полностью осознать и четко истолковать. А компьютер, наоборот, ничего не чувствует, зато легко «вычислит» фоносемантику любого слова и охотно сообщит результаты человеку. Как видим, здесь компьютер выступает не только как имитатор — он помощник человека, его сотрудник и даже советчик. Разговор с ним становится интересным и нужным.
Сейчас закончено составление на компьютере фоносемантического словаря, включающего 10 тысяч существительных. Когда он будет опубликован, то пригодится самым разным специалистам.
«Суждения» компьютера, зафиксированные в словаре (а фактйчески, суждения сотен тысяч носителей русского языка, представителем которых выступает компьютер), окажутся и практически полезными. Скажем, тем специалистам, которым нужно придумывать названия новым товарам, профессиям, учреждениям, кинотеатрам, ансамблям, да мало ли чему еще. Ведь звуковая форма имен и названий играет важную роль в их функционировании.
Взять хотя бы пример с названием аппаратов для автоматической переработки информации. Инженеры наверняка не посоветовались с лингвистами, когда придумывали имя своему детищу, поэтому имя получилось невыразительным и неуклюжим — электронно-вычислительная машина. Нормально функционировать в речи такое название, конечно, не могло, и появилось сокращение — ЭВМ. Но и оно не лучше: произносить неудобно, формы образовать невозможно. Как скажешь — эвээмы? эвээмный? эвээмизация? эвээмизовать? Помучились, помучились с этим словом, да и заменили его на компьютер. И сразу как плотину прорвало — зазвучало в речи: компьютеры, компьютерный, компьютеризация... Конечно, дело тут не столько в слове, сколько в самом процессе начавшейся широкой компьютеризации всех «информационных» областей нашей жизни. Но и название как бы помогает этому процессу.
В тех случаях, когда нужно придумать слово, для которого неважно понятийное ядро (например, в рекламных текстах или в фантастических произведениях для обозначения новых, придуманных автором предметов), компьютер может выступать не только анализатором, но и синтезатором фоносемантического ореола. Иначе говоря, он сам сможет придумывать «слова», которые чаще всего окажутся лишенными понятийного ядра, но будут обладать фоносемантикой с заданными параметрами.
Например, нужно придумать «слово», которое звучало бы как нечто сильное, красивое, активное. Эти характеристики задаются компьютеру, и он, соблюдая правила сочетания звуков, действующие в русском языке, строит «слова» только с такими параметрами фоносемантики. В большинстве случаев синтез даст звукосочетания, похожие на русские слова, но лишенные понятийного значения. Однако случайно в «творчестве» компьютера попадутся и нормальные слова русского языка с заданной фонетической содержательностью. Человеку останется только выбрать те из «творений» компьютера, которые он посчитает наиболее подходящими для своих целей.
В компьютерных программах, основанных на анализе фоносемантики, достигается высокий уровень эффекта общения с машиной. Человек даже эмоционально реагирует на высказывания компьютера о содержательности звучания слов, имен, названий, не соглашаясь с ним или радуясь подтверждению своих догадок. Он как бы даже забывает, что перед ним — электронное устройство. А когда компьютер будет оснащен синтезатором речи, то есть заговорит, эффект общения с ним станет еще более полным.
Порознь хорошо, а вместе лучше
Звучание и значение
В том лингвистическом споре, который разгорелся по поводу содержательности звуков речи, страсти накалялись не из-за самой этой содержательности. Взаимоотношения между звучанием и значением слова — вот вокруг чего ломались копья. Произвольна ли звуковая форма слова по отношению к его содержанию, или между содержанием и формой слова существует взаимодействие? Случайно ли дуб назван дубом, а ива — ивой? Или есть тонкие и глубокие внутренние связи между тем явлением, которое названо данным словом, и звуками, составляющими это слово?
Противники идеи о содержательной связи между звучанием и значением приводили разнообразные аргументы: дескать, в разных языках один и тот же предмет называется по-разному, да и в одном языке существуют синонимы — разные слова, обозначающие одно понятие. Вот и получается, что будто бы в языке не действует общедиалектическая закономерность стремления содержания и формы к взаимному соответствию.
Возражавшие не соглашались: не может такого быть, чтобы везде эта закономерность действовала, а в языке — нет. А что касается разных языков, то как знать, может быть, и сама содержательность звуков специфична в каждом языке, а возможно, и при различии звуковых форм слов все же сохраняется что-то общее в восприятии этих форм. Или, скажем, синонимы. Ведь они только сходны по значению, но не тождественны. Так нельзя ли ожидать, что разница в их звучаниях как раз и призвана подчеркнуть различия в значениях?
Как видим, все аргументы дискутирующих сторон умозрительны. И той и другой стороне не откажешь в резонности их позиций. Значит, нужны не рассуждения, а доказательства. И как ни странно, в этом высокоинтеллектуальном споре свое веское слово может сказать... компьютер.
Вспомним строение значения. Понятийное ядро и фоносемантический аспект разделены качественно-признаковым ореолом. Конечно, резких границ между аспектами значения нет, они взаимопроникающи, но все же каждый из них в какой-то мере самостоятелен. И хотя через понятийное ядро тоже проходят «силовые линии» фонетического ореола, прямых соответствий здесь, конечно, не обнаружить. Действительно, трудно найти прямое сходство между последовательностью звуков Д, У, Б и деревом, названным этим звуковым комплексом. Так что между предметами и их названиями непосредственной связи определенно нет. Пожалуй, в явном виде не обнаружить ее и между понятиями о предметах и названиями.
Но вот что касается взаимодействия качественного и фоносемантического ореолов, то здесь нужно приглядеться повнимательнее. И надо же! Как повезло! Вы, конечно, заметили, что оба ореола измерены и «объяснены» компьютеру сходным образом. Для измерения взяты одни и те же шкалы, по единой схеме вычисляются средние оценки качественно-признакового ореола слова и содержательности звуков. Наконец, в тех же единицах тех же шкал вычисляется фоносемантика слов. Идеальные условия для автоматического сравнения двух ореолов, с чем легко справится компьютер.
На практике это выглядит так.
Например, компьютер располагает средними оценками качественного ореола слова любовь, полученными методом «семантического дифференциала»:
любовь- 1,7 1,8 1,7 2,5 1,8 2,6 1,9 3,0 1,7 2,5
2,8 3,0 2,3 2,1 2,5 2,0 2,9 2,0 2,4 2,9
Это означает, что качественный ореол слова характеризуется набором признаков: «хорошее, большое, нежное, женственное, светлое, сильное, красивое, гладкое, величественное, яркое, округлое, радостное, доброе, могучее».
Затем компьютер вычисляет фоносемантический ореол:
любовь — 2,0 3,2 2,2 2,2 2,3 2,8 3,2 3,1 2,0 2,2
2,5 2,2 2,7 2,3 2,2 2,4 2,8 2,4 3,1 2,8
Характеризующие признаки: «хорошее, нежное, женственное, светлое, красивое, гладкое, легкое, безопасное, яркое, округлое, радостное, доброе».
Компьютер может сравнивать ряды чисел или наборы признаков, полученные для характеристики того и другого ореолов. В данном случае для качественного ореола выделяется 14 признаков, для фоносемантического 12, причем 10 из них совпадают. Сходство налицо. На этом основании машина сообщит, что у слова любовь значение и звучание находятся во взаимном соответствии. Точнее говоря, качественно-признаковый ореол соответствует фоносемантическому.
Задавайте компьютеру в любом количестве любые слова, для которых измерен качественный ореол, и он моментально определит, есть искомое соответствие или нет.
Осознав эту многообещающую возможность, мы первым делом устроили машине еще одну проверку. В языке есть слова, которые обозначают различные звуки и характерно звучащие предметы. Естественно ожидать, что если возможна связь между звучанием и значением, то звуковая форма таких слов неслучайна, она с необходимостью должна соответствовать тому реальному звучанию, которое называет. И у подобных слов компьютер просто обязан обнаружить соответствие звучания и значения. Например, писк по звучанию непременно должен оказаться «слабым» и тихим», а рык — обязательно «громким» и «грубым». И если будет иначе, если после расчета фоносемантики этих слов обнаружится, что писк — «громкий» и «грубый», а рык — «тихий» и «слабый», значит, одно из двух: либо наша система вычислений никуда не годится, либо никаких соответствий звучания и значения в языке нет.
Но компьютер не подкачал — для всех слов такого типа показал явное и четкое соответствие семантических ореолов. Фоносемантический ореол слова писк оказался «маленьким, слабым и тихим», слова рык — «большим, грубым, сильным, страшным, громким, злым и могучим»; свирель звучит как что-то «светлое», барабан как «громкое, грубое, большое, активное, сильное»; бубен — «яркое и громкое», набат — «сильное и громкое». Звучание слова взрыв компьютер охарактеризовал как «нечто большое, грубое, сильное, страшное, громкое»; слова лепет — как «хорошее, маленькое, нежное, слабое, тихое»; тишь — «тихое»; трель — «хорошее, радостное»; храп — «плохое, грубое, шероховатое»; шепот — «тихое»; гром — «грубое, сильное, злое»; треск — «шероховатое и угловатое»; грохот — «грубое, сильное, шероховатое, страшное»; вопль — «сильное»; бас — «мужественное, сильное, громкое».
Нет смысла приводить характеристики качественно-признакового ореола, ясно, что во всех этих случаях наблюдается явное и четкое соответствие звучания и значения. Гармония настолько глубока и полна, что признаками, полученными для описания содержательности звучания, можно охарактеризовать не только качественный ореол, но даже и существенную часть понятийного ядра. Действительно, читаем в толковом словаре: шепот — «тихая речь»; грохот — «очень сильный раскатистый шум»; вопль — «очень громкий крик»; бас — «самый низкий мужской голос».
Проверку наш электронный помощник выдержал блестяще. Сомнений нет — и система расчета фоносемантики достаточно эффективна, и соответствия звука и смысла слов обнаружились вполне отчетливо. Но, может быть, такие соответствия характерны только для «звуковых» обозначений?
Ничего подобного. Компьютер помог установить, что этим свойством обладает огромное число самых разных слов.
Заметнее всего среди них слова с наиболее яркими качественными ореолами. Они, как правило, экспрессивны, связаны с обозначением и выражением эмоций, вызывают у нас эмоциональную реакцию. Для них соответствие семантических ореолов — явная закономерность. Почти не бывает так, чтобы слово, обозначающее что-то нежное, было построено из грубых звуков или для выражения чего-то красивого были бы подобраны отталкивающие звуки. Напротив, содержательность звучания таких слов, как правило, поддерживает, подчеркивает другие аспекты их семантики, делая лексику еще более выразительной.
Приведем хотя бы несколько особенно ярких и показательных примеров обнаруженного компьютером соответствия ореолов у таких слов.
Для полного и строгого изложения результатов автоматического сравнения ореолов нужно было бы показать целиком фрагмент «ореольного кибернетического сознания» в том виде, как это сделано выше для слова любовь. Но читать такое изложение трудно, поэтому приведем только окончательные «суждения» машины вот в какой форме: для каждого слова будут даны только те признаки, которые совпали по двум ореолам. Например, для качественного аспекта слова ажиотаж в памяти компьютера имеются признаки: «плохое, активное, сильное, страшное, низменное, громкое». А для фоносемантического: «сильное, страшное, громкое». Компьютер выбирает только совпавшие признаки и как бы говорит: «значение и звучание слова ажиотаж производят впечатление чего-то сильного, страшного, громкого». А теперь — ряд примеров, чтобы вы сами смогли убедиться в правильности «суждений» компьютера.
БОГАТЫРЬ — большое, мужественное, сильное, громкое, могучее.
БОРЬБА — хорошее, большое, мужественное, активное, сильное, могучее.
ЖМОТ — плохое, грубое, отталкивающее.
ЖЕСТОКОСТЬ — грубое, отталкивающее, страшное, злое.
ИДЕАЛ — хорошее, светлое, красивое, яркое, доброе.
ИНФАРКТ — плохое, темное, пассивное, страшное, печальное, тихое.
КАТАСТРОФА — плохое, грубое, темное, отталкивающее, страшное, печальное, злое.
КИКИМОРА — маленькое, слабое, быстрое, низменное, угловатое, подвижное.
ЛАСКА — хорошее, гладкое.
ЛЮБЕЗНОСТЬ — хорошее, нежное, светлое, красивое.
МАХИНАЦИЯ — плохое, отталкивающее, низменное, тихое.
МАЛЫШКА — нежное, женственное.
ОТВАГА — хорошее, большое, мужественное, активное, сильное, красивое, величественное, яркое, громкое, могучее.
ОТРЫЖКА — плохое, грубое, темное, отталкивающее, громкое.
ПИГАЛИЦА — маленькое, слабое.
ПРОХИНДЕЙ — плохое, отталкивающее, низменное, страшное.
ТВЕРДЫНЯ — большое, мужественное, сильное.
ТИХОНЯ — слабое, тихое, хилое.
УРОЧИЩЕ — темное, страшное.
УЮТ — хорошее, нежное, светлое, красивое, гладкое, безопасное, доброе.
ЧУДИЩЕ — страшное, громкое.
ШУШЕРА — плохое, темное, отталкивающее, низменное, тусклое.
Соответствия ореолов во всех этих случаях несомненны. Поддерживая друг друга, ореолы разгораются ярче, и слова становятся особенно выразительными.
А ведь информация в таком упрощенном изложении основательно сжата и обеднена. На самом деле в «ореольном сознании» компьютера она еще богаче. Например, ореолы у слова прохиндей не только находятся в соответствии, между ними наблюдается особенно тесная взаимосвязь. Так, по признаку «низменное» качественный ореол получает не просто значащую, а весьма значащую оценку 4,6, то есть это что-то «очень низменное». Представьте себе, средняя оценка фонетической содержательности тоже резко отклоняется в «низменную» сторону, показывая, что и по звучанию это слово «очень низменное». Следовательно, компьютер, анализируя и направление отклонений средних, и их величину, может судить о большей или- меньшей выразительности слов. Иначе говоря, сможет «понять», что перед ним не просто слова с соответствиями звучания и значения, а особенно выразительные слова, которые уместно употреблять в соответствующих, «экстремальных» ситуациях, то есть в контекстах, окрашенных яркими чувствами.
Такие глубокие соответствия звучания и значения поразительны. Но все же полученных результатов в какой-то мере можно было ожидать. Ведь слова такого типа должны быть экспрессивно насыщенными, и здесь уж все идет в дело, в том числе и выразительная содержательность звучания.
А как с обычными словами? Ну что ж, посмотрим. Благо, электроника выдаст нам необходимые сведения моментально.
Слова возьмем самые обычные, где трудно подозревать какую-то специальную роль звучания, его особую организацию. Для краткости снова приведем для каждого слова лишь совпавшие признаки. Иначе говоря, если приводится признак, значит, он выделен компьютером и для качественного, и для фоносемантического ореола данного слова.
АСТРОНАВТ — хорошее, мужественное, активное, сильное.
БАЛЕРИНА — хорошее, активное, быстрое, красивое, яркое, подвижное.
ВАСИЛЕК — хорошее, светлое.
ГВАРДИЯ — мужественное, активное, сильное.
ДОМ — хорошее, большое, красивое.
ЕЛЬ — хорошее, женственное, светлое, красивое.
ЖАНДАРМ — большое, грубое, сильное, отталкивающее, страшное, злое.
ЗЛО — злое.
ИГРА — хорошее, активное, красивое, легкое, радостное.
КАБАН — большое, грубое, быстрое, могучее.
ЛАНЬ — хорошее, нежное, красивое, гладкое, безопасное.
МИНИМУМ — маленькое.
НАУКА — большое, мужественное, могучее.
ОГОНЬ — светлое, сильное, красивое, величественное, яркое.
ПРЫЩ — плохое, отталкивающее, шершавое, низменное.
РЕБЕНОК — активное, громкое, подвижное.
САЛЮТ — хорошее, светлое, красивое, безопасное, яркое, радостное.
ТИШИНА — темное, тихое.
УГРОЗА — страшное.
Во всех этих случаях звуковая форма своей содержательностью тоже поддерживает качественное значение слов. И таких примеров можно привести очень и очень много. Читать подобные списки, видимо, довольно утомительно, но хочется все же дать побольше слов с разнообразными компьютерными характеристиками, чтобы у читателя не сложилось впечатление, что все эти, казалось бы, невероятные соответствия звучания и значения — просто случайность. Хотя дело здесь даже не столько в количестве слов, сколько в несомненном соответствии их содержания и формы, даже при таком прямолинейном, «лобовом» сопоставлении звучания и значения. Если же проникнуть в глубь этих отношений, то обнаруживается, что соответствия содержания и формы в языке представляют собой не единичные «связки», а сеть взаимодействий, пронизывающую всю систему языка.
Трудно представить себе, что компьютеру когда-нибудь придется иметь дело с вампирами и упырями, но все же вообразим себе эту странную ситуацию, которая может возникнуть, положим, при выборе синонима в переводе художественного текста человеком. Допустим, в распоряжении переводчика есть три слова для обозначения одного понятия: вампир, вурдалак, упырь. И переводчик затрудняется в выборе. Понятийные ядра у них сходны, качественные ореолы — тоже, а вот относительно их фоносемантики переводчик обращается за советом к машине. Его интересует прежде всего содержательность звучания этих синонимов по шкале «безопасный — страшный». Компьютер выдал результаты, которые для наглядности можно изобразить расположенными на шкале так:
Получается, что самое выразительное «по страшности» слово — упырь, менее страшное — вурдалак, а вампир звучит и совсем уж ничего. Так что если переводчику нужно, чтобы было пострашнее, компьютер посоветует ему употребить слово упырь, и тогда будет, как у В. Высоцкого в «Песне про нечисть»:
Упыри, того гляди, заграбастают,
Ну а лешие по лесу так и шастают.
Страшно, аж жуть!
Переводчик, разумеется, и сам улавливает игру ореолов. Как А. Пушкин в псевдопереводах «Песен западных славян». В этом цикле есть стихотворение «Вурдалак», где описывается, как трусоватый Ваня шел ночью через кладбище. Вдруг он слышит, что кто-то, ворча, грызет кость.
Ваня стал; шагнуть не может.
Боже, думает бедняк,
Это, верно, кости гложет
Красногубый вурдалак.
Страх еще только охватывает Ваню, поэтому выбран синоним «умеренной страшности». Но воображение разыгрывается, и появляется наиболее жуткое слово из этого ряда синонимов:
Горе! малый я не сильный;
Съест упырь меня совсем...
А когда ложные страхи рассеялись, то в описании снова появляется более умеренный синоним:
Что же? вместо вурдалака —
(Вы представьте Вани злость!)
В темноте пред ним собака
На могиле гложет кость.
Интересен вот какой момент: оба цитированных стихотворения юмористичны, ужасы в них гротескны, специально нагнетены до такой степени, что становятся смешными. Значит, слова со слишком выраженными ореолами, да еще в контексте той же экспрессивной направленности могут «перехлестнуть через край» выразительности, и их эмоциональная окраска превратится в свою противоположность. Этот момент тоже может быть учтен при автоматическом анализе взаимодействия семантических ореолов.
Выбор синонимов не всегда такое простое дело, как в приведенных примерах, а уж для компьютера и особенно. Но анализируя взаимоотношения между ореолами, он способен справиться и с этой «высокоинтеллектуальной» задачей, благодаря тому, что ореольная синонимия представляет собою стройную систему, как было видно в только что приведенных иллюстрациях. Разумеется, это не жесткий закон, а, как и все в области ореольной семантики, лишь тенденция, но чтобы не показалось, будто пример с вампирами и упырями случайность, понаблюдаем за употреблением в речи и других синонимов.
А. Н. Толстой один из романов трилогии «Хождение по мукам» назвал «Хмурое утро». Почему именно «хмурое»? Нельзя ли заменить это определение другими из ряда синонимов: облачное, серое, пасмурное? Ясно, что нельзя. Их ореолы становятся все более темными, тусклыми и безрадостными именно в таком направлении; облачное, серое, пасмурное, хмурое. Последний синоним оказывается самым выразительным.
Компьютер тоже может осуществлять выбор синонимов по заданному признаку в зависимости от их выразительности. Если, например, нужно особенно хлестко заклеймить дельца, совершающего торговые махинации, то компьютер из пары спекулянт — барышник выберет слово барышник, потому что оно по шкале «хорошее — плохое» имеет оценку фоносемантики 3,3, тогда как слово спекулянт — только 2,7. Иными словами, по звучанию барышник гораздо хуже спекулянта.
Увлекшись романами детективного жанра, компьютер сразу «сообразит», что разведчик — это «наш», а шпион — это вражеский, потому что фоносемантический ореол у слова шпион гораздо «хуже», чем у слова разведчик.
Синонимы не только образуют семантические пары, но и выстраиваются в длинные ряды, в которых компьютер сможет легко ориентироваться. Приведем несколько иллюстраций, стараясь охватить разные признаковые шкалы. Для простоты укажем лишь средние оценки содержательности звучания слов, поскольку очевидно, что и по качественному ореолу слова располагаются в той же последовательности.
Кто знает, случайно или нет, но очень уж интересно расположились слова на последней шкале. Посмотрите — аэроплан, самолет, лайнер, хотя и выстроились по увеличению их скорости, но все же идут довольно компактной группой и остаются на «медленной» стороне шкалы. И только ракета стремительно вырывается вперед по «скоростной» характеристике звучания.
Подумайте-ка! Прямо метеорологическую шкалу ветров выстроил компьютер!
Можно спорить, что «страшнее» — крах или катастрофа, но они в общем-то расположены рядышком, а вот от явно менее «страшного» и более нейтрального слова крушение четко отделены.
Да, с компьютером лучше, пожалуй, не ссориться. Иначе он не промахнется в подборе определения для обидчика хотя бы и по этой шкале.
Не только синонимия, но и другие семантические явления охватываются сетью взаимоотношений между звучанием и значением слов. Например, слова, противоположные по смыслу, — антонимы. Так, слово свет имеет по шкале «светлое — темное» оценку фоносемантики 2,5, то есть оно по звучанию «светлое». Тьма — оценку 3,5, то есть по звучанию «темное». А ведь они и противопоставлены по значению по тому же самому признаку! Здесь не только наблюдается гармония ореолов каждого слова, но есть и более глубокое соответствие: противопоставлению значений соответствует противопоставление звучаний.
Чаще всего именно соответствие противопоставлений играет определяющую роль. Например, по шкале «радостное — печальное» слово печаль имеет «печальную» среднюю оценку фоносемантики 3,7, то есть его звучание полностью соответствует значению. Но у слова радость такого соответствия как будто бы нет (его оценка 2,8). Однако из сравнения оценок четко видно, что контраст значений этих слов соответствует контрасту содержательности их звучаний. Это особенно наглядно показывает шкала.
Неслучайность сделанного наблюдения подтверждается и тем, что противопоставление синонимов рассмотренных слов дает на той же шкале почти точно ту же картину: веселье — 2,6, уныние — 3,6.
Если бы не цифры, полученные бесстрастным автоматом, невозможно было бы поверить в такие семантические неожиданности! Скажите любому филологу и любому кибернетику, да и вообще любому человеку, что компьютер, не имея ни малейшей информации ни об одном слове русского языка, самостоятельно установил сходство значений слов веселье и радость и указал противопоставленную им по значению пару — уныние и печаль, скажите так — и над вами только посмеются. А между тем это действительно так: компьютер установил все отмеченные семантические сходства и различия, работая только с отдельными буквами. И вот они — цифры. Как говорится, хотите — верьте, хотите — проверьте. Впрочем, восхищает не столько компьютер, сколько удивительно мудрое и рациональное устройство человеческого языка.
Приведем еще несколько различных шкал с расположенными на них парами антонимов, у которых контрасты значения поддерживаются контрастами звучания. Числа, как и раньше, относятся лишь к фоносемантике; противопоставленность значений очевидна и не требует числовой аргументации.
Хочется приводить примеры еще и еще — так удивительно обнаруженное явление. Но объем книжки ограничен, да и задача ее другая. Не для того работал компьютер, чтобы снабдить доказательствами сторонников идеи о наличии содержательной связи между звучанием и значением слова, хотя это само по себе тоже важно и интересно. Нам нужен практический выход, нужно, чтобы способность компьютера выявлять отношения между оре-ольными аспектами семантики слова помогла ему освоить человеческий язык.
Не только соответствия
Наверное, вам уже пришла в голову лежащая на поверхности идея: компьютер легко оперирует с содержательностью звуковой формы слова, а раз эта содержательность соответствует качественно-признаковому ореолу и даже в какой-то мере понятийному ядру, то нельзя ли по форме слова судить о его содержании? И тогда, вычисляя только фоносемантику, компьютер получал бы сведения и о других аспектах значения слова. Да, что и говорить, заманчивая идея. Но осуществить ее можно лишь в том случае, если фоносемантический ореол любого слова обязательно соответствует качественно-признаковому.
Но язык не так-то прост. И отношения между содержанием и формой в нем не столь прямолинейны, а, как и во всех других явлениях, диалектичны. Язык развивается, изменяется, в нем все подвержено изменениям, в том числе и содержание и форма. Причем содержание и форма отнюдь не обязаны развиваться синхронно. Напротив, содержание, как правило, более подвижно, изменчиво, а форма консервативна. Вот и получается так, что содержание, изменившись, «уходит» от формы, она перестает ему соответствовать, хотя тенденция к соответствию сохраняется.
Со временем могут измениться и форма и содержание, что, возможно, вновь приведет к их взаимосоответствию, Но на каждом этапе развития языка с необходимостью должны существовать слова с самыми разными отношениями между звучанием и значением — от четкого и явного их соответствия до резкого противоречия.
Так оно и есть. Компьютер обнаружил множество слов с неопределенными отношениями между семантическими ореолами, когда трудно сказать, считать ли эти отношения соответствием или нет, а также выявил слова с противоречиями между звучанием и значением. Правда, «противоречивых» слов немного (язык все же старается такие противоречия преодолевать), но все же они есть.
Понятийное значение слова лихо — «зло, беда, несчастье». Ясно, что его качественно-признаковый ореол характеризуется отрицательными признаками: «нечто плохое, темное, отталкивающее, тяжелое, грустное, страшное, печальное, злое». Но расчет фоносемантического ореола таких признаков не дает. Напротив, ориентируясь на звучание, компьютер считает, что это «нечто хорошее, светлое, безопасное, радостное, доброе».
Налицо противоречие ореолов. И действительно, первые звуки слова — «хорошие, нежные, красивые, безопасные» ль и и — явно не соответствуют значению.
Конечно, язык стремится привести ореолы в соответствие. Как можно заметить, слово в данном значении уже почти не употребляется, а вместо «старого» значения развиваются новые, соответствующие звуковой форме. Когда-то лихой человек означало «злой человек, разбойник», а теперь в песне поется орел степной, казак лихой, что значит «смелый, храбрый, удалой». У наречия лихо тоже устаревает отрицательное значение «плохо, тяжело», вытесняемое положительным «смело, ловко, стремительно».
Но все же у существительного противоречия ореолов остаются, и этого нельзя не учитывать. Тем более, что в производных словах сохраняется отрицательный признаковый ореол: лихорадка, лихоимец, лихолетье. Как именно учитывать — об этом речь ниже. А пока продолжим рассмотрение ореольных несоответствий.
Описание качественно-признакового ореола слов кит и гигант, несомненно, включает признаки «большое, сильное, могучее», но среди признаков их фоносемантики обнаруживаются как раз противоположные: звучат эти слова как нечто «маленькое, слабое, хилое».
Понятийное значение слова корифей — «выдающийся деятель». Значит, его качественно-признаковый ореол положителен и может быть описан признаками «хорошее, большое, сильное, величественное». А по звучанию это слово «плохое, маленькое, слабое и низменное».
Очень не повезло на русской почве многим церковным терминам. Такие слова как храм, архангел, архиерей, архимандрит, херувим, акафист призваны вызывать впечатление чего-то хорошего, светлого, красивого и возвышенного, но по звучанию они, как на грех, «плохие, темные, отталкивающие и низменные».
Вот три названия цветов: кирказон, ольгея, кандык. Один из них красивый, фиолетового цвета. Вы, пожалуй, подумали: «Наверное, олъгея». Ничего подобного. Кандык. Звучит название, как видите (или как слышите?), плохо, грубо, тяжело, темно, устрашающе. Другой цветок желтый, с нежными округлыми листьями. «Вот уж теперь точно — олъгея», — решите вы. И снова ошибетесь. Это кирказон — по звучанию нечто «шершавое, тусклое, угловатое». А «светлым» по звучанию словом ольгея почему-то названо мрачноватое колючее растение, похожее на татарник.
Или вот, например: что такое василиск? Звучит как нечто «хорошее», «светлое». Наверное, что-то красивое, светлое, похожее на василек. Отнюдь нет. Чудовище, взгляд которого убивает все живое. Ну мыслимо ли — жуткое создание мрачной фантазии, и вдруг с таким красивым именем. Это нас сразу как-то коробит: вот до чего наше подсознание привыкло, что между звучанием и значением слова должно устанавливаться соответствие. Мы его прямо-таки требуем от языка.
Видимо, вы уже заметили, что в предыдущем разделе о словах с гармонией ореолов все слова были привычными, хорошо известными и наверняка входящими в ваш активный «словарный фонд». А здесь, в разделе о дисгармонии ореолов, приводятся слова редкие, в речи функционирующие вяло, а то и вовсе незнакомые. Это не случайно.
Гармония всех аспектов значения слова делает его более жизнеспособным, создает условия для активного функционирования, для приобретения словом эмоциональной окраски, добавляет ему выразительности, помогает лучше, полнее и ярче описать обозначаемый предмет, явление, действие или состояние.
И напротив, дисгармония аспектов значения затрудняет функционирование, делает слово менее стабильным, заставляет его менять звучание или значение, а если этого не происходит, то оттесняет слово в специальные узкие сферы функционирования, либо в пассивный запас, либо вообще выводит из употребления.
Значит, компьютеру при обнаружении у слова ореольной дисгармонии нужно оперировать с ним осторожно, и лучше поискать ему более подходящую замену. Допустим, например, что при построении какого-то текста компьютеру попалось слово аллигатор. Если текст специальный и слово употреблено как термин, тут уж никуда не денешься — придется это слово употреблять. А если это обычная речь, то можно проверить его ореолы. Оказывается, это дисгармоничное слово: жутковатый хищник назван «хорошим, красивым, округлым» по звучанию именем. Проверив соответствующую понятийную группу, компьютер обнаружит в ней синоним крокодил с гораздо более подходящим звучанием. Так, по шкале «безопасное — страшное» оценка звучания слова аллигатор — 2,7, а слова крокодил — 3,1, из чего компьютер «заключит», что крокодил «страшнее» аллигатора и, следовательно, первое слово более подходяще для создания нужного смыслового эффекта.
Дисгармония звучания и значения снижает вырази- t тельность слова, его общую воздействующую силу. Учитывая это обстоятельство, компьютер может подобрать слова с разной степенью выразительности в каждом кон- \ кретном случае. Скажем, компьютер вознамерился сообщить нам о каком-либо недочете, браке. В соответствующей понятийной группе он обнаруживает два синонима: изъян и дефект. Качественный ореол обоих слов отрицателен, но если у слова дефект фоносемантический ореол соответствует качественному (по звучанию это нечто «плохое, слабое, шершавое»), то звучание слова изъян противоречит его значению (звучание «хорошее, нежное, красивое, безопасное, радостное»). Ясно, что слово дефект более полно и насыщенно выражает нужное значение. Поэтому, если нужно указать на небольшой недочет, компьютер может использовать слово изъян, а если речь идет о серьезном недостатке, о браке, более уместным будет слово дефект.
Согласитесь, что такого рода действия компьютера имитируют очень тонкие аспекты интеллектуального поведения человека.
Анализ семантического комплекса
До сих пор мы рассматривали действия компьютера в основном с отдельными семантическими аспектами слова, но в реальной речи все аспекты значения действуют совместно, в неразделимом единстве, поэтому придется обучать такому подходу и компьютер.
В принципе это можно сделать, собрав в единый комплекс все рассмотренные нами системы машинной переработки отдельных аспектов семантики слова. Общую схему работы такой комплексной системы семантического анализа слов можно представить себе в следующем виде.
Сначала все слова проходят систему обработки понятийного аспекта их значений, в результате чего компьютер проводит их грубую разбивку на понятийные группы, как это сделано в «Русском семантическом словаре». Затем каждая понятийная группа проходит качественный классификатор, и слова распределяются по более дробным группам в зависимости от их качественно-признаковых ореолов. Наконец, подключается система расчета фоносемантики, и компьютер наводит окончательный «семантический глянец», выявляя слова с различными типами ореольных взаимодействий.
Для примера рассмотрим результаты компьютерного анализа небольшой понятийной группы слов, взяв для описания ореолов всего три шкалы «хорошее — плохое», «сильное — слабое» и «быстрое — медленное».
«Понятийный классификатор» компьютера образовал следующую группу существительных с общей понятийной идеей «начало» (по «Русскому семантическому словарю) :
база, введение, вещество, идея, корень, материализм, металлургия, начало, основа, основание, первенство, первоклассник, передняя, подход, понедельник, постулат, почин, появление, право, предпосылка, премьера, прима, премьер, принцип, приоритет, природа, приход, причина, прототип, состязание, социализм, стержень, существо, философия, царь, чемпион, явление, январь.
Хотя все слова группы действительно объединены общей понятийной идеей, все же это довольно грубое объединение, явно требующее дальнейшей детализации. Между состязанием, металлургией и царем все же очень уж велика смысловая разница. Отдаленные связи, конечно, есть. Слово состязание компьютер поместил в этот список, потому что в ходе состязания определяется победитель, то есть первый среди соревнующихся. Металлургия — это, как указано в толковом словаре, «отрасль тяжелой промышленности, занимающаяся получением металлов из руд и первичной обработкой металлов». Упоминание «первичности» и дало основание компьютеру отнести слово в данную группу. Ну а царь, как и премьер, — главный, то есть первый человек в правительстве. И все же компьютер, разумеется, не смог бы эффективно оперировать словами группы без их дальнейшей семантической обработки.
Поэтому к работе подключаются сразу две программы дальнейшего семантического анализа — качественный и фоносемантический классификаторы. Первый разбивает слова на группы по сходству их качественно-признаковых ореолов, а второй выявляет отношения между качественно-признаковыми и фоносемантическими ореолами слов. Результаты работы фоносемантического классификатора можно изобразить так: если ореолы слова находятся в соответствии, то после него ставится индекс С, если между ореолами обнаружено противоречие, слову приписывается индекс П, в случае неопределенных отношений между ореолами данное слово не маркируется.
Поскольку слов в списке немного, то при работе качественного классификатора не все возможные ореольные группы будут образованы, то есть часть выходов классификатора окажется пустой.
Приведем только те из них, которые заполнены словами.
1. Хорошее, сильное, быстрое: первенство, почин, прима, состязание, чемпион.
2. Хорошее, сильное: идея (С), материализм, начало (С), право, премьер, премьера, принцип, приоритет, природа, социализм, явление (С).
3. Хорошее, быстрое: первоклассник.
4. Сильное: металлургия.
5. Сильное, медленное: база (С), основа (С), основание (С), причина, стержень, философия (П).
6. Медленное: введение.
7. Плохое, сильное: царь (С).
8. Плохое: понедельник.
9. Нейтральная группа: вещество (С), корень (С), передняя, подход, постулат (С), появление, предпосылка, приход (С), прототип, существо (С), январь.
Как мы помним, трехуровневый классификатор имеет 27 выходов, здесь заполнено только 9. На некоторых оказалось по одному слову, другие собрали группы слов. Выходы с одиночными словами в данном случае выполняют «отсекающую» функцию: они выделяют слова, семантически наименее связанные с основной массой слов списка. Действительно, каждое из слов, попавших на выходы 3, 4, 6, 7 и 8, семантически специфично. Нейтральная группа (выход 9) похожа на кладовку — туда сваливают без разбора ненужные до поры до времени вещи. Для компьютера особенно важны группы слов, собравшиеся на значимых (не нейтральных) выходах классификатора. Именно эти группы — рабочий лексико-семан-тический фонд компьютера. Это как бы речевые ячейки языкового «сознания» машины. В них она ищет синонимические замены, с помощью слов этих, групп может выражать наиболее тонкие семантические оттенки в своей речи.
Обратите внимание на 1-ю группу — слова в ней подобраны на удивление точно и с явным эффектом «понимания» их смысла. То же самое наблюдается во 2-й и 5-й группах. Особенно тесна смысловая связь между словами 5-й, «философской», группы: это буквально набор контекстуальных синонимов, которые вполне могут встретиться как лексические варианты в конкретном тексте.
Три уровня качественной классификации — это, конечно, очень мало для практической работы компьютера с полученными группами, но возможности такой работы просматриваются уже и здесь. Скажем, на вопрос, чем является для науки философия, компьютер «самостоятельно» мог бы ответить, что это база, основа, основание науки. В своем ответе компьютер учел все три аспекта семантики — понятийный, поскольку слова взяты из одной понятийной группы, качественно-признаковый, поскольку синонимы подыскивались в группе слов с общими качественными ореолами, и, наконец, фоносемантический, так как из группы выбраны слова с индексом С — наиболее точные и выразительные.
А если спросить компьютер, какое понятие он может противопоставить социализму, он ответит: «Социализм и царь противостоят друг другу как совершенно несовместимые понятия». В этом случае компьютер «рассуждал» так: слово социализм находится в группе, образовавшейся на выходе «хорошее и сильное», этому выходу противопоставлен тот, который собрал «плохие и сильные» слова, а это выход 7, где помещено слово царь; значит, социализм и царь в данном случае оценочно противопоставлены.
Ясно, что при работе с большими массивами слов и с использованием многоуровневых классификаторов семантические имитационные возможности компьютера резко возрастут.
Что же необходимо для того, чтобы уже сейчас пустить в работу описанную здесь систему комплексного анализа лексической семантики?
Прежде всего нужно развить и усовершенствовать «понятийный классификатор», то есть как бы в развитие программной основы «Русского семантического словаря» разработать специальную автоматизированную систему семантического анализа, ориентированную на работу с понятийной семантикой. Но, как уже говорилось, проблем на этом сложном пути еще много.
Кроме того, необходим, остро необходим словарь русских качественных ореолов. Лучше всего было бы издать общий словарь русской ореольной семантики, но его фоносемантическая часть готова, тогда как качественно-ореольной нет и в ближайшее время не ожидается. А без учета качественно-признаковых ореолов невозможно построить систему полноценного семантического анализа.
Как же быть? Неужели положение так безвыходно?
Думается, что выход, по крайней мере, как временное решение проблемы, есть. Можно использовать удивительно рациональное устройство языковой семантики, когда семантические аспекты своим взаимопроникновением поддерживают друг друга. Как уже отмечалось, фоносемантический ореол слова часто соответствует качественному, иногда настолько полно, что набор фоносемантических признаков буквально повторяет набор признаков, характеризующих качественный ореол. В таких случаях, открывается возможность, которой неосмотрительно было бы не воспользоваться: результаты компьютерного расчета фоносемантики слова можно одновременно считать результатами измерения его качественного ореола.
Например, для фоносемантики слова мимоза компьютер получил характеристики: «нежное, женственное, гладкое, безопасное, доброе, медлительное». Есть ли смысл опрашивать информантов, чтобы получить средние оценки качественного ореола этого слова по шкалам «нежное — грубое», «женственное — мужественное», «безопасное — страшное», «доброе — злое»? Напрасный труд — ясно, что и для качественного ореола по этим шкалам будут получены те же характеристики, что и для фоносемантического.
Легко использовать этот прием и в тех случаях, когда между ореолами наблюдаются резкие противоречия: результаты фоносемантических расчетов компьютер перенесет на качественный ореол «с обратным знаком», то есть возьмет признаки, противоположные (антонимичные) полученным для фоносемантики. Так, если для содержательности звучания слова фиалка получены признаки «плохое, темное, устрашающее, отталкивающее», то для качественного ореола компьютер возьмет антонимичные признаки: «хорошее, светлое, безопасное, красивое».
Для реализации идеи потребуется немалый труд. Нужно просмотреть все характеристики всех слов фоносемантического словаря и снабдить слова индексами, как мы уже делали. Если признаки можно прямо переносить на качественный ореол, слово помечается индексом С (соответствия), если нужно «менять знаки» признаков, слово маркируется индексом П (противоречие). В случае нейтральных отношений между ореолами такие слова не маркируются. Затем слова с маркировкой вводятся в память компьютера.
Иногда бывает так, что по одним признакам ореолы гармонируют, а по другим находятся в противоречии. Делать нечего, хоть это и хлопотно, придется вместе со еловой вводить в память компьютера и маркировку признаков. Небольшое облегчение есть и здесь: поскольку порядок признаков всегда один и тот же, то можно указывать компьютеру лишь их номера.
Работы много, но все же экономия сил и, главное, времени огромна. Для измерения на «семантическом дифференциале» качественных признаков десятков тысяч слов потребуются годы, а обработать фоносемантический словарь можно в приемлемый срок.
Неизбежны, конечно, и огрубления при переносах признаков с одного ореола на другой, но с этим уж придется мириться. Хуже, что не всегда легко решить, можно переносить фоносемантический признак на качественный ореол или нельзя. Что тут предпринять? Опять-таки с известным огрублением возможен опрос экспертов — 3—5 человек. Ну а если уж и это не поможет — деваться некуда, нужно браться за «семантический дифференциал».
И все же при всех «но» предложенный путь вполне реален. А что иногда компьютер будет допускать семантические просчеты, так ведь и человек не сразу обучается языковой семантике. Он постигает ее всю жизнь, и разные люди достигают разных высот в ее постижении, а знать до конца все семантические тонкости даже своего родного языка ни одному человеку не дано. Не будем предъявлять компьютеру слишком высокие требования, и так его семантические успехи просто поразительны.
От слова к тексту
Фоносемантический анализ текста
Различные оттенки значения слова компьютер постепенно осваивает. Но этого мало. Для овладения языком нужно переходить к тексту. Нужно-то нужно, да только переход весьма и весьма не прост. Текст — не сумма значений слов, а принципиально новый семантический уровень. В текстах почти любое слово может изменять свое, казалось бы, вполне определенное значение самым невероятным образом. Невесть откуда появляются новые оттенки смысла, изменяются понятийные ядра слов, как угодно могут преобразовываться качественные ореолы. И только фоносемантика остается более или менее устойчивой, да и то с ней могут приключиться разные неожиданности.
Вот к примеру, метаморфозы яблочка:
— Съешь-ка яблочко. В этой фразе яблочко — действительно фрукт, яблоко.
— Молодец — прямо в яблочко! Но это уже не фрукт, а мишень.
— Запевай «Яблочко»! Это уже песня.
— Ах ты! Ну прямо яблочки! А это что? Кто его знает. Только ситуация подскажет, что это, может быть, раскрасневшиеся щечки.
Слово в тексте живет, пульсирует, высвечивает разные свои грани, меняет и характер, и лицо, и платье. Как угнаться компьютеру за этими прыжками понятийного ядра и качественного ореола, как постичь этот калейдоскоп перемен, как разгадать тайну формирования вполне определенного смысла текста из неопределенных, изменчивых смыслов слов?
Вопросы есть, ответов пока нет. Относительно компьютерного анализа, а тем более имитации семантики текста высказываются лишь самые общие соображения, далекие еще от практической реализации.
Но с фоносемантикой опять получилось легче всего. Оказалось, что достаточно длинные отрезки текста могут обладать единым фоносемантическим рисунком, который поддается компьютерному анализу.
Как можно было убедиться на примерах анализа звуковой содержательности слов, фоносемантика создает дополнительные возможности для повышения эмоциональной насыщенности, выразительности, образности слов. Не всем типам текстов в одинаковой мере нужно к этому стремиться. Ясно, что эффективнее всего такое свойство фоносемантики может быть использовано в художественной, а особенно в поэтической речи.
Поэт и сознательно и подсознательно (а может, сверхсознательно?) стремится использовать все средства, все ресурсы языка для того, чтобы как можно глубже воздействовать на восприятие читателя, особенно на его чувства, эмоции, подсознание. И содержательность языковой формы предоставляет для этого прекрасные возможности. Поэтому форма стихотворной речи особенно отточена и все ее аспекты глубоко содержательны — ритмика, рифмы, синтаксическое строение, даже графическая форма стиха своеобразна и значима. И конечно, мелодика звучания — само дыхание, душа стиха. Если уж в слове звуки оказались не просто упаковкой значения, но важной его составной частью, то в стихе и подавно. Недаром говорят, что стихи — это музыка речи. А в музыке только и есть что содержательность звучания.
Не в одной поэзии играет свою роль фоносемантика. Воздейственность речи важна для ораторского искусства, для публицистики, часто необходима и в специальных видах речи (например, в юридической практике), да и обычная разговорная речь имеет целью постоянное воздействие на слушателя. Но все же в поэзии все выразительные возможности языка проявляются особенно полно, поэтому поэтическая речь — лучший материал для анализа фоносемантической организации текста.
Разумеется, тот метод, который разработан для вычисления суммарных оценок фоносемантики отдельных слов, теперь уже не годится — и «слова» стали слишком длинные (целые тексты), и закономерности взаимодействия звуков в тексте несколько иные, чем в слове. Пришлось искать новую систему расчетов и примерять полученные результаты на новые манекены.
Набор шкал, который использовался для характеристики фоносемантических ореолов слов, тоже не совсем подходит для описания звуковой содержательности поэтических текстов. Шкалы типа «гладкое — шершавое», «длинное — короткое» или «округлое — угловатое» слишком предметны, прозаичны. Более подходящи признаки экспрессивно-оценочного характера: «нежное — грубое», «радостное — печальное» и т. п. Отобранные шкалы для удобства можно расщепить на половинки, чтобы компьютер оперировал не парой антонимов, а отдельными признаками. Из стилистических соображений (все-таки анализируется поэзия!) некоторые из признаков можно заменить более «художественными» синонимами. Например, признак «красивое» заменить на синоним «прекрасное»; «величественное» на «возвышенное» и т. д.
В результате сформировался такой лексикон компьютера:
прекрасное бодрое печальное
светлое яркое темное
нежное сильное тоскливое
радостное стремительное угрюмое
возвышенное минорное устрашающее
Словарь машины, прямо скажем, небогат. Но следует учесть одно очень важное обстоятельство. В поэзии, как и вообще в языке, главными являются основные аспекты семантики — понятийный и качественно-признаковый. Фоносемантика, хотя и играет в поэтической речи очень существенную роль, все же остается подсобным семантическим аспектом и ни в какое сравнение не идет с богатством и разнообразием содержания, выражаемым основными аспектами языкового значения. Она создает лишь общий фоновый тон, поддерживающий, обогащающий основной художественный смысл текста. Так что 15 признаков компьютерного лексикона в их разнообразных сочетаниях вполне опишут общий фоносемантический тон текста.
Основную роль в создании фоносемантического рисунка стихотворения играет частота звуков (точнее, звукобукв) в данном тексте. Поэт подсознательно нагнетает в стихотворении те звуки, содержательность которых ему нужна, он усиливает, обогащает фоносемантикой образы, впечатления и чувства, выраженные основной семантикой текста. И напротив, он избегает звуков с неподходящей в данном случае содержательностью, снижает их частоту.
Несколько неожиданным оказалось то, что ударные звуки в новой системе расчетов не играют особенно существенной роли: увеличение их веса мало что прибавляет к полученным результатам. Пожалуй, это объяснимо — звуков стало больше, и ударные «потерялись» в общей сумме, да и основной фоносемантический рисунок стиха ведут согласные, а не гласные. Видимо, ударение особенно важно для выстраивания ритма, а не фоносемантики.
Против ожидания не понадобилось как-то выделять и звуки рифм. Во-первых, трудно решить, какие звуки в рифмах следует подчеркивать. Ведь не всегда же бывает, как в стихотворении Д. Минаева «В Финляндии»:
Область рифм — моя стихия,
И легко пишу стихи я;
Без раздумья, без отстрочки
Я бегу к строке от строчки,
Даже к финским скалам бурным
Обращаясь с каламбуром.
Ну, если «розы — морозы» или «бежать — лежать», то тут тоже все ясно. Но как быть, когда как у В. Маяковского:
Где найдешь,
на какой тариф,
рифмы, чтоб враз убивали, нацелясь?
Может,
пяток
небывалых рифм
только и остался
что в Венецуэле.
А сейчас в ходу вообще весьма вольная рифма, где возникает не точное эхо, а лишь некий отзвук. Например, у А. Вознесенского:
В аду в сковородки долдонят
и вышлют к воротам патруль,
когда на предельном спидометре
ты куришь, отбросивши руль.
Во-вторых, только представьте себе, как осложнится ввод текста в компьютер, сколько будет мороки. А выигрыш все равно невелик. Нет, пусть лучше какие-то несущественные нюансы фоносемантики будут потеряны, зато ввод текста сохранится в самом обычном печатном виде. Даже в более привычном, чем ввод слов: там нужно было ударение указывать, а здесь просто печатный текст. Когда у компьютеров будут хорошо работать читающие устройства, с которыми сейчас много экспериментируют, то вообще ничего не нужно будет вводить, компьютер сам прочитает любой печатный материал.
Анализируется текст по-прежнему в звукобуквенной форме, то есть компьютер сам определяет мягкость и твердость согласных, а в остальном ориентируется на буквы.
Как-то под влиянием критиков, считавших почему-то, что для стихов важно только звучание, а написание вообще ни при чем, мы затранскрибировали несколько стихотворений (то есть записали их не буквами, а значками, изображающими звучание), затем закодировали транскрипцию цифрами (ведь знаков фонетической транскрипции нет на клавиатуре компьютеров), переделали программу под новый ввод информации, переделали таблицы оценок и частот звуков и после стольких мучений просчитали тексты «по звучанию». Но наши труды и муки оказались напрасными — результаты практически не изменились. Единственное утешение: «нулевой» результат в данном случае можно рассматривать как доказательство того, что для стихотворения важно как звучание, так и написание.
Общая схема разработанной системы автоматического анализа фоносемантики текста сводится в основном к следующему.
В памяти компьютера имеются таблицы оценок звукобукв по 15 признакам лексикона и нормальных частотностей (частостей, вероятностей) звукобукв в обычной разговорной речи. Обе таблицы несколько отличаются от тех, которые использовались в работе со словами. Таблица оценок выполнена так, что в ней указаны не сами средние оценки звукобукв по шкалам, а отклонения оценок от центра шкал (от 3,0) в положительную (левую) и отрицательную (правую) стороны шкал. В таблице нормальных частотностей не выделяются ударные гласные.
Компьютер определяет мягкость согласных и вычисляет частотности всех звукобукв в данном тексте. Затем полученные частотности сравниваются с нормальными. Все существенные (статически значимые) отклонения частотностей от нормы фиксируются, и дальнейшая работа идет только с ними.
Это очень важная операция, поэтому она требует пояснений.
Фоносемантический рисунок текста создается именно теми звуками, частотность которых резко отклоняется от нормы. Пока звук встречается в тексте стихотворения не чаще, чем обычно, он не останавливает на себе внимания. Но резкое превышение частотности подчеркивает данный звук, делает его заметным, выделенным. Его фоносемантика как бы вспыхивает и окрашивает собой звуковую содержательность текста. Если же звук необычно редко попадается в анализируемом тексте, его содержательность гаснет, и тем самым еще более высвечивается фоносемантика высокочастотных звуков.
Следующую, самую важную операцию можно назвать семантизацией отклонений. Здесь происходит вот что. Для звуков, отобранных по статистически значимым отклонениям частотностей от нормы, выбираются из таблицы оценки фоносемантики. Но как мы помним, эти оценки представлены в виде их отклонений от центра шкал. Если теперь сопоставить отклонения звуков по частотности от нормы и отклонения их же оценок от центра шкал, то возможны следующие ситуации. Допустим, что звук встречается в тексте стихотворения гораздо чаще, чем ему «положено» по норме. Значит, это отклонение со знаком « + ». Допустим далее, что и по какой-то шкале (скажем, «светлый — темный») оценка этого звука тоже отклоняется в положительную («светлую») сторону. Значит, в тексте нагнетается этот «светлый» звук, и путем перемножения отклонений компьютер соединяет оценку с частотностью, как бы набирая очки за «светлое» звучание текста (плюс на плюс дает плюс). Если в то же время какой-то «темный» звук (отрицательная оценка) по частотности отклоняется в отрицательную сторону, то есть встречается гораздо реже, чем «положено», то это еще более «высветляет» общую фоносемантическую картину, так как перемножение двух отрицательных величин тоже дает плюс. Но если звук «светлый» (положительное отклонение), а встречается меньше нормы (отрицательное отклонение), значит, данный звук «сыграл» против «светлой» фоносемантики (плюс на минус дает минус).
Так, подсчитывая очки за «светлое» звучание и против него, компьютер и обнаруживает ведущую тенденцию. Скажем, в тексте большинство «светлых» звуков встречается больше нормы, а большинство «темных» — меньше нормы. В результате очков за «светлое» звучание будет больше, и компьютер выдаст в качестве характеристики фоносемантики текста признак «светлый». Анализ идет по всем признакам лексикона, и в конце концов компьютер выдает набор признаков, характеризующих общий фоносемантический тон всего произведения.
Схема анализа есть. Но нужно еще убедиться в том, что она выявляет действительно фоносемантический, а не какой-нибудь другой аспект общего смысла текста. Возникает задача, сходная с той, которая уже решалась в предыдущей главе для отдельных слов. Там мы придумали разные слова-манекены, лишенные всех аспектов значения, кроме фоносемантического. Хорошо бы и здесь поступить так же. Да только как придумать «стихотворения-манекены» ?
Помощь пришла из... докомпьютерного прошлого. Стихотворные манекены не пришлось конструировать, они обнаружились в творчестве удивительного поэта — Вели-мира Хлебникова. Он написал поэму «Зангези», среди действующих лиц которой есть боги. Спрашивается, на каком языке они должны общаться между собой? Само собой понятно, что ни на каком из человеческих языков им разговаривать не пристало. У них должен быть свой, недоступный людям язык. Поэтому их речь лишена всех аспектов «человеческих» значений (понятийного и качественно-признакового), кроме, разумеется, фоносеманти-ческого, от которого в звучащей речи даже боги избавиться не могут. А нам только того и нужно: прекрасный материал для проверки компьютерных расчетов. «Манекенные» тексты (фрагменты бесед богов) предлагались информантам для оценки по 15 признакам компьютерного лексикона. Результаты измерений служили эталоном для разработки системы автоматического анализа фоносемантики текста.
Приведем полученные по этой схеме результаты анализа фоносемантики текстов и заодно оценим окончательную примерку результатов на манекенах.
Итак, разговор богов в поэме В. Хлебникова «Зангези». Первым начинает беседу Эрот. Он говорит так:
Мара-рома, биба-буль!
Укс кукс эль!
Редэдиди дидиди!
Пири пэпи, па па пи!
Чоги гуна, гени-ган!
Аль, Эль, Иль! Али, Эли, Или!..
Ну и так далее.
Информанты по предложенным признакам оценили это «божественное откровение» как нечто «нежное», «яркое» и «стремительное». Компьютер дал те же характеристики, добавив к ним признак «прекрасное». Ну что же, с компьютером трудно не согласиться: ведь Эрот юный и прекрасный бог любви. И остальные признаки явно ему подходят. Как свидетельствует энциклопедия «Мифы народов мира», Эрот златокрыл, золотоволос (значит, «яркий»), подобен ветру (значит, «стремительный»).
После ветреного греческого бога в беседу вступает серьезный славянский бог Велес, покровитель домашних животных и вообще всякого богатства. Его речь звучит совсем иначе:
Бруву ру ру ру ру ру!
Пице цане сэ сэ сэ!
Бруву руру ру-ру-ру!
Сици, л иди, ци-ци-ци!
Пенч, панч, пенч!
Информанты уловили ворчливый тон «высказывания» и дали ему характеристики «минорное», «темное», «устрашающее». Правда, последний признак получил в суждениях информантов небольшой вес, но все же выделился как характеризующий.
Компьютер тоже не сплоховал — заметил смену тональности и выдал все те характеристики, которые дали отрывку информанты, да и «от себя» добавил еще «печальное» и «тоскливое». Разница, как видим, невелика. Главное, что все признаки минорного тона.
Ворчание Велеса прерывает Юнона — римская богиня женщин, брака и материнства. Она щебечет довольно мило:
Пирарара-пируруру!
Лео лоло буароо!
Вичеоло сесесэ!
Вичи! Вичи! Иби би!
Зизазиза изазо!
Эпсь Апс Эпс!
Мури-гури рикоко!
Мио, мао, мум! Эп!
Информантам ее речь понравилась, и они наградили ее характеристиками «прекрасное», «светлое», «нежное». Компьютер же выдал только один признак «светлое». Признаки «прекрасное» и «нежное» тоже имеют положительный вес, но они чуть-чуть не доходят до значимой границы. Однако в целом суждения информантов и компьютера вполне согласованы, поскольку в оценке основного тона отрывка наблюдается единство линий. Интересно, что в римской мифологии Юнону называли еще и Луцина, то есть «светлая».
Божественная болтовня, видимо, но нравится мрачному богу народа зулу Ункулункулу, что в переводе означает «очень, очень старый». Он разражается жуткой тирадой:
Рапр, гралр, апр! жай
Каф! Бзуй! Каф!
Жраб, габ, бокв-кук
Ртупт! тупт!
Ясно, что это, с позволения сказать, выступление никаких положительных эмоций у информантов вызвать не могло. Неудивительно, что они охарактеризовали его признаками «устрашающее», «угрюмое», «темное», «минорное», «сильное». Компьютер был с ними вполне солидарен и только добавил признаки «тоскливое», «печальное», «стремительное». Может быть, компьютер и погорячился, наговорив лишнего, но в целом в противоречие с информантами он не вступил.
Таким образом, это международное совещание богов дало возможность проверить процедуру расчета фоносемантики текста. Проверка показала, что боги недооценили людей, посчитав свой язык недоступным для смертных: компьютер вполне справился с расшифровкой «божественного языка», что открывает возможность переноса процедуры анализа на «человеческие» поэтические тексты.
Литературные беседы
Работа компьютера с поэтическими текстами производит на наблюдателей трудноописуемое впечатление. Даже сам демонстратор подпадает под действие некой компьютерной магии. Ведь ему-то, казалось бы, доподлинно известно, как машина подбирает признаки, характеризующие общий образный строй и эмоциональный тон текста, и все же трудно отделаться от впечатления, что компьютер выполняет что-то еще сверх программы. А уж неискушенного человека суждения машины просто обескураживают. Обычно он подозревает подвох и предлагает для анализа стихотворения, выбранные им самим. А когда и эти стихотворения компьютер оценивает «правильно», наблюдателя просто оторопь берет. Его изумление возрастает еще больше, когда он узнает, что в памяти машины нет ни слов, ни предложений из анализируемых текстов и что вообще ничего нет, кроме двух таблиц, содержащих всего-навсего сведения о звуках речи.
Столь мудро устройство языка, сформировавшего и развившего такие удивительные средства выражения тончайших оттенков значения! Столь поразителен и непостижим талант поэтов, подсознательно использующих эти средства так точно, что остается только изумляться, глядя на то, как в работе компьютера становятся явными скрытые в ткани стиха математически строгие закономерности.
Вот два стихотворения Пушкина с «антонимичными» названиями: «Зимнее утро» и «Зимний вечер». Они противопоставлены не только по названиям, но и по содержанию. В одном «Мороз и солнце; день чудесный!», в другом — «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя».
А вот какие характеристики дал компьютер содержательности формы стихотворений:
Зимнее утро:
светлое
нежное
прекрасное
яркое
радостное
Зимний вечер:
темное
минорное
печальное
тоскливое
стремительное
угрюмое
устрашающее
сильное
Если не знать, что компьютер анализирует только звуки текстов, то можно подумать, что он понимает стихи, — настолько точно он описывает их экспрессивное, а в какой-то мере, пожалуй, и образное содержание. Даже такой нюанс: наиболее высокий вес для «Зимнего утра» получил признак «светлое», а для «Зимнего вечера» — его антоним «темное». Поразительно глубока и полна созданная талантом поэта гармония звучания и значения в этих стихотворениях. Поистине «союз волшебных звуков, чувств и дум», буквально вычисленный и наглядно представленный нам компьютером.
Соответствие звуковой формы содержанию (или, как говорят литературоведы, фоносимволизм) обнаруживается во многих стихотворениях различных поэтов. Результаты компьютерного анализа фоносемантики в поэзии вполне можно облечь в форму оригинальной литературной беседы с компьютером.
Человек:
— Что вы могли бы сказать о стихотворении Лермонтова «Горные вершины»?
Компьютер:
— Мне представляется, что в нем говорится о чем-то печальном и темном. Основной его тон минорный.
Ч.: — Да, пожалуй. Хотя в его понятийном содержании ничего особенно печального и нет, оно звучит действительно минорно. Ну а стихотворение «И скучно и грустно». Оно ведь тоже минорно, не правда ли?
114
К.: — Да. Оно минорное и темное, но к тому же еще довольно угрюмое.
Ч.: — Что-то мы все беседуем о печальных стихотворениях. Разве других вам не встречалось?
К.: — Почему же? Например, стихотворение Тютчева «Весенняя гроза». Оно производит впечатление чего-то яркого, сильного. Или вот его же «Я встретил вас» звучит возвышенно. Вы согласны?
Ч.: — Вполне. Характеристика, нужно признаться, удивительно точная. Может быть, поговорим о стихах других поэтов?
К.: — Пожалуйста. Очень разнообразно звучание стихотворений Блока. Например, стихотворение «Сольвейг» мне представляется ярким, сильным и светлым, а вот стихи «Как растет тревога к ночи» темные, устрашающие и угрюмые.
Ч.: — Не могу не согласиться с этими оценками. А какое произведение произвело на вас наибольшее впечатление?
К.: — «Левый марш» Маяковского. Его яркое, бодрое, стремительное и сильное звучание очень выразительно. Вы не находите?
Ч.: — Вы правы, я того же мнения. Ну а самое понравившееся вам стихотворение?
К.: — Есенин. «Я помню, любимая, помню». Оно по звучанию прекрасное и очень нежное.
Ч.: — Какие же звуки создают такой эффект? Особенно заметно доминируют в тексте стихотворения?
К.: —- Превышены по сравнению с нормой частотности целого ряда звуков, но особенно заметно доминируют Ю и Г.
Ч.: — Можно ли проследить за изменением их частотностей по строфам?
К.: — Конечно. В первой строфе
Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось, —
доминирует «прекрасное» и «нежное» Ю.
Ч.: — Да, здесь звучит тема «любимой». И кстати, в составе этого слова тоже есть Ю. А что во второй строфе?
К.: — Здесь частотности этих звуков уравновешиваются.
Ч.: — А в третьей?
К.: В третьей
Я помню, ты мне говорила:
«Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда», —
резко возрастает частотность «грубого» и «злого» Г, значительно превышая частотность Ю.
Ч.: — Поразительно. Борьба тем и образов сопровождается борьбой звуков с соответствующей содержательностью. Ведь здесь возникает тема «другой», и снова даже в составе самого этого слова обнаруживается доминирующий Г. Ну а четвертая строфа?
К.: — Здесь опять равновесие.
Ч.: — Тогда последняя, пятая.
К.: — В пятой снова и особенно значительно возрастает частотность Ю, превышая и частотность Г, и вообще все предыдущие отклонения частотностей.
Ч.: — Так и должно быть, потому что тема «любимой» побеждает. Да, удивительно содержателен звуковой рисунок этого стихотворения.
В литературной беседе с компьютером, как, видимо, заметил читатель, допущена одна не совсем правомерная уловка: сначала компьютер превышает свои полномочия, создавая у собеседника впечатление, что он описывает содержание стихотворения. Простим машине эту неточность — она разрешена ей только для того, чтобы нагляднее подчеркнуть полную гармонию, буквально сплавленность звуковой формы и содержания всех упомянутых в беседе произведений. Тем более что в конце разговора становится совершенно ясно, какой именно аспект общей семантики текста анализирует компьютер.
Во всем остальном беседа вполне обоснованна. Понятийно-содержательная сторона стихотворения затрагивается в репликах человека, рассчитанных лишь на читателя и, разумеется, недоступных «пониманию» компьютера, который вообще только и делает, что определяет признаки фонетической содержательности текстов. Весь «антураж» признаков, придающий ответам вид реплик, тоже выполнен человеком и помещен в память компьютера в виде готовых клише. Но отыскивает нужный трафарет и заполняет его признаками уже сам компьютер, и согласитесь, имитация понимания им стихов вполне правдоподобна.
Нужные реплики наш электронный собеседник отыскивает тоже по вычисленным признакам и степени выраженности их числовых весов.
Так, в первой реплике компьютер определяет основной тон стихотворения как «минорный», потому что этот признак имеет наибольший вес среди выделенных. В ответе на вопрос о том, какое стихотворение произвело наибольшее впечатление, компьютер тоже учел веса выделенных признаков. Оказалось, что в «Левом марше» они наиболее высоки. Это означает, что звуковая ткань стихотворения очень выпукла, а ведь именно звучанием и определяются все «впечатления» машины.
Что касается «особенно понравившегося» стихотворения, то у компьютера есть подсказка: ему должно нравиться все «прекрасное». А поскольку этот признак был выделен только для стихотворения С. Есенина, то компьютер и дал такой ответ. Заметьте, что об этом стихотворении электронный любитель поэзии сказал, что оно «очень нежное». И тоже не случайно. Дело в том, что среди всех упомянутых произведений именно в этом признак «нежный» был выделен с наибольшим весом.
У читателя неизбежно должен был возникнуть вопрос — неужели звуковая ткань любого стихотворения выстроена так, что по ней столь определенно можно судить об основном эмоциональном тоне произведения?
Нет, конечно, не любого. И даже далеко не любого. Ведь использование содержательности звуков — лишь один из художественных приемов усиления выразительности текста, и вовсе не обязательно этот прием должен использоваться каждый раз. Он особенно уместен в произведениях лирического, ярко эмоционального характера, там, где особая роль отводится музыкальному звучанию стиха. Конечно, если в произведении доминирует рациональное, понятийное начало, звукопись может и не использоваться. В этих случаях машина не в состоянии поддержать беседу о поэзии или ее суждения будут просто нелепы. Правда, компьютер вел разговор, опираясь только на один аспект семантики — звукосодержательный. А как мы уже убедились, он кое на что способен и в работе с другими аспектами значения. Если подключить их, то «сообразительность» машины резко возрастет. Но об этом речь впереди.
Здесь же обсудим еще вот какую ситуацию. Бывает так, что у того или иного поэта для всех стихотворений чаще выделяются одни и те же определенные признаки фоносемантики. Например, для произведений Н. Некрасова компьютер обычно выдает: «минорное», «печальное», «темное», «тоскливое», «угрюмое», «устрашающее». Даже для отрывка «Ой, полным-полна коробушка» или для стихотворения-комплимента любимой женщине «Ты всегда хороша несравненно». Но недаром Н. Некрасова называют «поэтом печали». Такова и общая звуковая настроенность его стихов. Получается, что для отдельного стихотворения компьютер дает характеристики, не согласующиеся с нашими суждениями, а для творчества в целом они вполне подходят. То же и у В. Маяковского: звучание его стихов чаще всего «сильное», «стремительное», «бодрое», «яркое». Но ведь и общий тон его поэзии в основном именно таков.
И все же компьютер далеко не всегда может определить характер фоносемантики текста, даже если содержательность звуков активно использована в стихотворении. Дело в том, что единый фоносемантический тон произведения может соответствовать лишь единому же общему эмоциональному тону. Но много ли таких стихотворений, в которых выражено или явно доминирует одно какое-либо чувство, одно настроение? Чаще всего в одном произведении переплетены разные, даже противоречивые, эмоции, и тогда для их «сопровождения» нужны звуки с разной и даже противоположной содержательностью. Но отклонения таких звуков от нормы взаимно уничтожаются, и в среднем у компьютера получится, что звуковой фон нейтрален.
Сама машина в этой сложной ситуации не разберется. Должен вмешаться человек, чтобы посмотреть, какие звуки доминируют в тексте и как строить дальнейшую тактику его анализа.
Хорошо, если противоречивые звуки распределятся по строфам или фрагментам произведения: к примеру, в одной строфе преимущественно «светлые» звуки, в другой — преимущественно «темные». Как в стихотворении С. Есенина «Я помню, любимая, помню». Тогда решение простое: разбить произведение на «однотонные» отрывки и рассчитывать фоносемантику для каждого фрагмента отдельно.
Например, в разных фрагментах стихотворения А. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» явно прослеживается смена настроений. И оказывается, содержательность звучания отдельных отрывков следует за изменением эмоционального тона. Первая строфа характеризуется признаками «нежное» и «светлое» в соответствии с содержательностью доминирующих Е, Нь, Въ, М. Затем тональность меняется. Появляются минорные ноты, которые все усиливаются и охватывают три последующие строфы. Точно следуя за сменой общего эмоционально-образного содержания, меняется и значимость звукового оформлении строф. Теперь она описывается признаками «минорное», «угрюмое», «темное», а доминируют X, Г, Ж, Ы. Но в двух последних строфах вновь создается первоначальная эмоционально-образная мелодия, причем ее звучание усиливается. Возвращаются признаки «нежное» и «светлое», но их веса увеличиваются, то есть характеристики становятся более яркими, более выраженными. Это происходит за счет того, что к доминирующим звукам первой строфы присоединяются «очень нежные» и «светлые» И и ЛЬ. Как видим, такой человеко-машинный анализ тоже оказывается эффективным.
Но если противоположные настроения в ткани произведения тесно переплетены и не распределяются по фрагментам, то здесь компьютер бессилен. Он может лишь указать доминирующие звуки — и все. Проследить за переплетением этих звуков в тексте и выяснить, какую фоносемантическую роль они выполняют, может только человек.
Разговор с компьютером нужен отнюдь не для светской беседы у камина за чашкой кофе. Это лишь иллюстрация способностей машины имитировать восприятие фоносемантики. Но уже и в том виде, как она есть, программа автоматического анализа фоносемантики, фоно-символики текстов может применяться и для решения практических задач.
Например, компьютер может стать помощником переводчика. Если в тексте использован прием специальной организации фоносемантики, то переводчику неплохо бы повторить эту организацию и на языке перевода, иначе какая-то часть общей художественной информации будет неминуемо потеряна.
Дело осложняется тем, что фоносемантика имеет как универсальные для всех языков черты, так и специфические для каждого конкретного языка. Так, очень редкий для русской речи, самый «плохой» и «отталкивающий» для русских, звук X немцы таковым не считают. В их языке сходный звук встречается довольно часто. Неплохими они считают и твердые X, Ф, Ш («очень плохие» для русских), так как в немецком похожие на них звуки весьма употребительны. Или, скажем, шипящие звуки русские оценивают как «плохие», «темные», «тусклые», «шершавые», «страшные», а поляки не приписывают им отрицательных характеристик, потому что в их речи шипящие звуки очень часты, а потому привычны, обычны.
Следовательно, если в русском тексте содержательность звучания создана подбором шипящих, то при переводе на польский или немецкий нельзя просто увеличить частотность шипящих — это не приведет к нужному эффекту.
Например, звуковая организация стихотворения Блока «О весна без конца и без краю» построена на столкновении контрастных по содержательности звуков — самых «грубых» Р, Д и самых нежных Ю, И, самых «темных» X, Ы и самых «светлых» Ю, И, 3. С одной стороны, в стихотворении инструментовка на Ю, И. «узнаю, принимаю, приветствую, встречаю, любя». С другой — на X, Ы: «в завесах темных окна, колодцы земных городов, томления рабьих трудов, в змеиных кудрях, на холодных и сжатых губах». Чтобы передать эти фоно-семантические контрасты на немецком языке, нет смысла повторять инструментовку на звук X — он в немецком не имеет нужной содержательности. Необходимо в немецком найти звук, содержательность которого соответствует русскому X, и на него инструментовать «темные» и «страшные» строки.
Так что переводить приходится не само звучание, а его содержательность, для чего эту содержательность нужно знать и в языке оригинала, и в языке перевода. Вот тут компьютер может быть незаменимым помощником. Если ему сообщить данные о содержательности звуков и их нормальной частотности в нужных языках, он определит фоносемантику исходного текста, выделит доминирующие звуки, найдет соответствие им в языке перевода, а затем проконтролирует с точки зрения фоносемантики готовый перевод. Конечно, талантливый переводчик интуитивно улавливает фоносимволику оригинала и так же интуитивно выстраивает ее на новом языке. И все же машинная помощь не помешает. Пользуются же переводчики словарями. Компьютер в данном случае тоже справочник, только автоматический.
Само собой разумеется, что все это лишь тонкие семантические нюансы, не являющиеся основой перевода, но пренебрегать ими, пожалуй, тоже не следует.
Еще в одной очень важной практической области стоило бы обратить внимание на фоносемантику. Речь идет о публицистике. Выступления ораторов, средства массовой коммуникации, такие, как газеты, телевидение, радио, призваны всеми средствами повышать действенность информации, в том числе и ее воздействие на восприятие читателей и слушателей. Вполне реально было бы в необходимых случаях «просчитывать» фоносемантический ореол текстов, чтобы и этот их аспект был организован надлежащим образом и бил бы в единую с основной семантикой цель.
Уже есть опыт такой обработки рекламных текстов. Компьютеру задавались характеристики, которым должны были удовлетворять рекламные проспекты, девизы, надписи. Машина просчитала весь предложенный материал и выбрала те тексты, фоносемантика которых соответствовала заданным параметрам. Одновременно социологи опробовали тот же исходный материал на информантах и покупателях, не зная о результатах работы компьютера. И что же: мнения людей и компьютера почти во всех случаях совпали — наиболее действенной оказалась «фоносемантически заряженная» реклама. Так что компьютер уже окупает стоимость своей работы, сам зарабатывает себе на хлеб, помогая торговле увеличить выручку.
С развитием фоносемантических исследований, несомненно, обнаружатся и другие области, где этот важный аспект семантики играет свою роль.
Но для нас-то сейчас другое важно. Мы убедились, что фоносемантика активно функционирует в тексте, она вплетает свои оттенки в общий смысл живой человеческой речи, тайно, но мощно воздействует на наше подсознание, пробуждая в нем нужный эмоциональный отклик. И подумать только: столь сложный и скрытный семантический механизм языка удалось буквально вычислить и смоделировать на компьютере, который сможет теперь имитировать даже работу языкового подсознания человека!
Звукоцвет
«Мы видим звук»
После поэтических успехов компьютера он, казалось бы, уже ничем не может больше удивить. Но, оказывается, может.
Звуки речи не только наделены содержательностью по признаковым шкалам оценочного типа. Они еще и окрашены в нашем восприятии в различные цвета. Если фоносемантический ореол — атмосфера, то окраска звуков — радуга. Это те же звуки речи, но открывшиеся нам другой — яркой и поразительной своей стороной.
Свойство звуков вызывать цветовые образы было замечено давно. Много писалось о цветовом слухе А. Скрябина, который музыкальные звуки видел в цвете. Целое направление в искусстве — цветомузыка — основано на этом свойстве звуков музыки.
Есть свидетельство о том, что звуки речи, особенно гласные, тоже могут восприниматься в цвете. А. Рембо написал даже сонет «Гласные», в котором так раскрасил звуки:
А — черный; белый — Е; И — красный; У — зеленый; О — синий: тайну их скажу я в свой черед...
Но французский языковед К. Нироп приписывал гласным совсем другие цвета: он считал И — синим, У — ярко-желтым, А — красным. Немецкий лингвист А. Шлегель писал, что для него И — небесно-голубой, А — красный, О — пурпурный. А вот русский поэт А. Белый утверждал, что ему А представляется белым, Е — желто-зеленым, И — синим, У — черным, О — ярко-оранжевым. Если продолжать называть индивидуальные суждения о цвете гласных, то каждый звук окажется раскрашенным во все цвета радуги.
Так существуют ли в таком случае вообще какие-либо определенные звукоцветовые соответствия? Не фантазии ли это? Или, может быть, случайно возникающие неустойчивые ассоциации между звуком и цветом? А возможно, что звукоцветовые связи — следствие исключительно тонко устроенных механизмов восприятия у отдельных людей?
На эти вопросы давались разные ответы, но чаще всего мнения сходились на том, что связь «звук речи — цвет» — редкий и сугубо индивидуальный феномен.
Современная наука признает явление существующим лишь тогда, когда оно либо непосредственно наблюдается, либо воспроизводимо проявляет себя в экспериментах, либо строго вычисляется. Причем в любом случае последнее слово остается за практикой: нужно, чтобы явление наблюдаемо функционировало или обнаруживались бы следы его действия.
Но там, где речь идет о психике человека, все выглядит иначе. В эту область наука, как в зону «пикника на обочине», проникает пока еще редко и с трудом, а проникнув, натыкается на непонятные «полные пустышки», которые вскрыть своими инструментами не может. Психические явления чаще всего непосредственно не наблюдаются, в экспериментах то проявляются, то нет,
вычислению поддаются плохо, а следы их функционирования неопределенны, зыбки, нерегулярны. Особенно в области подсознания. Вот, скажем, интуиция. Каждый может припомнить случаи, когда, как нам кажется, правильное решение или поступок были подсказаны нам интуицией. Более того, как выяснилось в процессе работ над искусственным интеллектом, человек в сложных ситуациях принимает решение не путем перебора всех возможных вариантов, а эвристически, подсознательно, интуитивно находит нужный путь. Но с другой стороны, интуиция ведь и подводит нередко. Как же понять, когда интуиция нашептывает нам правильное решение, а когда каверзно подталкивает нас в тупик?
Вот так и со звукоцветовыми соответствиями. Если они существуют, то кто прав — А. Рембо или А. Белый? Чья интуиция вернее?
При измерении содержательности звуков мы уже убедились в том, что подсознательные, интуитивные связи и ассоциации вполне можно сделать явными с помощью психометрических экспериментов. Правда, в случае со звукоцветовыми связями антонимичные измерительные шкалы не годятся: какой антоним подыскать, скажем, к признакам «красное», «синее» или «желтое»? Но шкалы строить вовсе не обязательно. Основных цветов немного, гласных тоже. Значит, можно разработать другие экспериментальные схемы.
Идея экспериментов проста: регистрируются реакции многих испытуемых на определенный стимул, а затем следует статистическая обработка полученного материала, чтобы выявить основные тенденции в реакциях. Техника регистрации реакций разнообразна: испытуемым либо предъявляются звуки речи — требуется подобрать к ним цвета, либо предъявляются различные цветовые карточки — требуется написать на них звуки, либо дается задание выстроить звуки по цвету, скажем, от «самого красного» и до «наименее красного», от «самого синего» до «наименее синего» и т. п.
Многие такие эксперименты с тысячами информантов показали, что в подавляющем большинстве испытуемые окрашивают по крайней мере гласные вполне определенно. Особенно единодушны мнения относительно трех гласных — А, Е, И. Звук и букву (звукобукву) А вполне согласованно называют «красной», Е — четко «зеленая», а И — определенно «синяя». Звукобукву О все считают светлой и яркой, но хотя большинство испытуемых называет ее «желтой», все же довольно часто встречаются ответы: «белая». Получается, что она солнечная.
Заметьте, что лингвисты считают гласные А, О, Е, И основными, опорными для речевого аппарата человека и главными во всех языках. А физики главными считают соответствующие этим гласным цвета, потому что их комбинации дают все другие цвета и оттенки. Чем и пользуется цветная фотография, цветное телевидение. Не удивительно ли, что и в языке соответствия именно главным цветам оказались наиболее четкими?
Видимо, здесь проявляется «коллективная интуиция» людей: цветовое устройство мира отразилось в цветовом устройстве языка. Названия главных цветов встречаются в речи наиболее часто, и звуки О, А, Е, И наиболее частотны из гласных. А между названиями основных цветов и этими гласными, в свою очередь, прослеживается связь: название определенного цвета содержит соответственно «окрашенный» звук, причем он занимает в слове самую важную — ударную позицию: крАсный, сИний.
Остальные гласные имеют оттеночную окраску, как и цвета, с которыми они связываются, к тому же связь эта прослеживается менее четко — здесь больше разброс мнений испытуемых. Так, У — ассоциируется с темными оттенками синего цвета: темно-синим, темно-голубым, темным сине-зеленым, темно-лиловым. Звукобуква Ю тоже связывается с оттенками синего цвета, но со светлыми: голубым, светло-сиреневым.
Интересно ведет себя звукобуква Ё. По написанию она сходна с Е, а по звучанию с О. И в цветовом отношении она вполне определенно располагается между желтой О и зеленой Е: примерно половина испытуемых называет ее желтой, а половина — зеленой. Так что Ё — светлая желто-зеленая.
А вот Я окраской почти не отличается от А, разве что воспринимается как более светлая и яркая.
Что касается Ь/, то здесь следует говорить не о цветовой, а скорее о световой характеристике. Если О — звукобуква света, то Ы — звукобуква мрака, тьмы. Она самая темная из всех гласных, и ей испытуемые единодушно дают самые темные характеристики — темно-коричневая, черная.
Любопытно, что на восприятие, строго говоря, согласного звука J явно повлияла графическая форма буквы Й, передающей этот звук. Сходство Й с И привело и к сходным цветовым оценкам — Й воспринимается как синяя звукобуква, хотя и с меньшей определенностью, чем И.
Букву Э пришлось исключить из анализа. Хотя она передает почти тот же звук, который в большинстве случаев передается буквой Е, зеленой звукобуква Э по ответам испытуемых не получается: буквенная форма другая. И вообще никакой определенный цвет с Э не связывается. А поскольку и встречается Э в текстах крайне редко (гораздо реже всех других гласных), то при дальнейшем анализе текстов ее решено было не учитывать.
Вот что интересно. Если перед экспериментом спросить испытуемых, окрашены ли для них звуки речи, то подавляющее большинство уверенно дает отрицательный ответ. Да если и не задавать такого вопроса, то многие сами говорят, что звуки они не связывают ни с какими цветами и поэтому не знают, как выполнять задание. Но когда по требованию экспериментатора они приписывают звукам цвета наугад, то в конце концов в этих «угадываниях» обнаруживается высокое согласие. Это работает языковая интуиция испытуемых, и они потом сами удивляются, глядя на результаты опроса.
Конечно, не у всех звукоцветовые соответствия одинаково прочно закреплены в подсознании. Есть испытуемые, которые во всех экспериментах показывают четкие и единообразные результаты, совпадающие с «коллективным мнением» всех опрошенных, а есть и такие, чьи ответы в разных экспериментах разноречивы, неустойчивы, и по их ответам никакой определенной окраски у звуков не прослеживается. Ну что ж, ведь дальтоники не видят цвет предметов, но это не значит, что окраски предметов не существует. Важно, что большинство испытуемых в целом согласованно и достаточно единообразно устанавливают вполне определенные связи между звуком и цветом, хотя почти никто этого не осознает.
Для наглядности полученные результаты сведены в табличку:
Если соответствия звуков речи определенным цветам существуют, пусть даже в подсознании, то они должны где-то проявляться, звукоцвет должен как-то функционировать в речи. И пожалуй, прежде всего нужно искать проявление звукоцветовых ореолов в поэзии: там, где звуковая сторона особенно важна. Эффект звукоцвета может сыграть свою роль в том случае, когда в стихотворении создается определенная цветовая картина, и рисунок гласных стиха должен бы поддержать, «подсветить» эту картину звуками соответствующего цвета.
Если это так, то естественно ожидать, что при описании, например, красных предметов и явлений в тексте будет подчеркнута роль красных А я Я; они будут встречаться чаще, чем обычно, особенно в наиболее важных, наиболее заметных позициях (скажем, в ударных). Описание чего-либо синего будет сопровождаться нагнетением синих И, Ю, У; зеленого — нагнетением Е, Ё и т. д.
Стоило начать проверку этой гипотезы, как в сухих статистических подсчетах стала на глазах проявляться живая игра звукоцветовых ореолов поэтического языка, поражающая своей неожиданностью, своим разнообразием и точным соответствием понятийному смыслу и общему экспрессивно-образному строю произведений. Судите сами.
У А. Блока есть стихотворение, которое он написал под впечатлением от картины В. Васнецова «Гамаюн, птица вещая». Стихотворение о грозных пророчествах передает трагический колорит картины — мрачно-багровый цвет казней, пожаров, крови.
На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных...
***
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
***
И вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..
Если исходная гипотеза верна, то в звукобуквенной ткани стихотворения должны встречаться чаще, чем положено по норме, красные А, Я и темные, мрачные У, Ы. Не так ли?
Поскольку и сама проблема звукоцвета, и анализ стихотворений с этой точки зрения очень уж необычны, то одного утверждения, что это действительно так, будет наверняка недостаточно. Обычная реакция любого, кто впервые слышит о звукоцвете в поэзии: «Этого не может быть!» А на машинные расчеты чаще всего смотрят с тайной уверенностью в подвохе. Поэтому опишем хотя бы кратко методику компьютерного анализа этого и других стихотворений, о которых здесь будет идти речь.
Не пропускайте формулы и вычисления (они, кстати, элементарны), ведь именно в них как бы материализуется работа художественной интуиции поэта, именно они позволяют смоделировать, сымитировать на компьютере эту тонкую, почти неосознаваемую, неуловимую, казалось бы, сторону человеческого интеллекта.
В тексте стихотворения (включая заголовок) подсчи-тывается количество каждой из 10 звукобукв, перечисленных в таблице. Чтобы учесть особую роль ударных гласных, они при счете удваиваются. Так как Ё, Я, Ю, Й связываются лишь с оттенками основных цветов и еще потому, что встречаются они сравнительно редко, самостоятельного значения в звукоцветовой картине стиха они не имеют. Поэтому приплюсовываются к основным гласным. Поскольку звукобуква Ё оказалась двухцветной, то ее количество разделяется поровну между О и Е. Синева Й выражена слабо, поэтому количество Й сокращается наполовину и только затем приплюсовывается к И. Подсчитывается также количество всех букв с удвоением ударных (величина N).
Затем определяются доля (частотность) каждой гласной в тексте стихотворения (Рк) и единицы размаха колебаний этих частотностей для данного текста:
Полученные частотности сопоставляются с нормальными (среднестатистическими для языка), и вычисляются нормированные разности этих частотностей, чтобы установить, случайно или нет наблюдаемые в стихотворении частотности отличаются от нормальных и как именно отличаются:
Этапы компьютерной обработки стихотворения А. Блока удобно пронаблюдать по табличке.
Звукоцвет в стихотворении «Гамаюн, птица вещая»
Всего звукобукв в стихотворении 315
Как видим, звуков А ж Я в обычной речи должно было бы встретиться 116 на тысячу, а в стихотворении их гораздо больше (Рк~ 0,159). При су = 0,018 такое отклонение частотности (0,159 — 0,116 = 0,044 превышает случайное в 2,39 раза, то есть едва ли может быть случайным. Значит, поэт интуитивно нагнетал красные А и Я, чаще обеспечивая им ударные позиции (вещАет кАз-ней рЯд кровАвых). Вторым по превышению нормы идет Ы, придавая красному тону мрачное, трагическое звучание. Наконец, У (также с превышением частотности над нормой) добавляет звукоцветовой картине темные сине-зеленые и лиловые оттенки. Частотность всех остальных гласных ниже нормы.
Если теперь изобразить в цвете игру доминирующих в стихотворении гласных, то получится картина в красно-багровой и черно-синей гамме, кое-где с темной прозеленью, А это и есть цветовая гамма картины В. Васнецова.
Остается только поражаться, насколько точно талант поэта подсказал ему выбор и пропорции доминантных звукобукв.
Таким способом на компьютере «просчитано» много стихотворений. Для некоторых из них в общей табличке приведены итоговые величины (z), чтобы можно было убедиться, что обнаруженные звукоцветовые соответствия — не парадокс статистики, не случайное совпадение цифр. Значимые превышения частотностей отмечены в табличке полужирным шрифтом. В последнем, восьмом столбце дана цветовая расшифровка полученных результатов.
Хорошо видно, как точно использует изобразительные возможности звукоцветовых ореолов С. Есенин. При сравнении уже первых строчек его стихотворений с цветами доминирующих гласных сразу обнаруживается явное соответствие словесных и звукоцветовых картин. «Отговорила роща золотая...» — доминирующий цвет желтый, слегка зеленоватый. «Выткался на озере алый свет зари...» — звуки создают густо-красную и темно-синюю гамму. «Воздух прозрачный и синий...» — звукоцвет синий, чуть розоватый. «Зеленая прическа, девическая грудь...» — зеленая и темно-зеленая с синевой гамма звукоцветовых соответствий. Как говорится, комментарии излишни. Да, поэты могли бы сказать о себе словами А. Вознесенского: «Мы видим звук». Они его действительно видят внутренним взором таланта, чувствуют его радужный ореол и зажигают эту радугу в своих стихах.
Ну а компьютер проявляет скрытые в тексте цветные картины, показывая тем самым, что способен уловить и эту удивительную особенность поэтической речи.
Цветные листы
В одном из стихотворений А. Тарковский так написал о назначении своего поэтического творчества:
И лист единый заронить в криницу,
Зеленый, ржавый, рдяный, золотой.
И правда, в его стихах звукоцветовые соответствия особенно полны и разнообразны.
Эффект звукоцвета — лишь одно из выразительноизобразительных средств языка и, конечно, не самое главное. Поэтому звукоцветовые стихотворения встречаются не часто, а каждая такая находка всякий раз восхищает и поражает. Но самый удивительный феномен поэтического звукоцвета — стихотворение А. Тарковского «Перед листопадом».
Все разошлись. На прощанье осталась
Оторопь желтой листвы за окном.
Вот и осталась мне самая малость
Шороха осени в доме моем.
Выпало лето холодной иголкой
Из онемелой руки тишины
И запропало в потемках за полкой,
За штукатуркой мышиной стены.
Если считаться начнем, я не вправе
Даже на этот пожар за окном.
Верно, еще рассыпается гравий
Под осторожным ее каблуком.
Там, в заоконном тревожном покое,
Вне моего бытия и жилья,
В желтом, и синем, и красном — на что ей
Память моя? Что ей память моя?
Общую цветовую гамму стихотворения компьютер описал в осенних тонах: «нечто желто-красное». По таблице видно, что эта характеристика дана по доминирующим О («желтое») и А («красное»).
Но вы, наверное, обратили внимание на логически странноватую строчку в последней строфе: В желтом, и синем, и красном? Непонятно, что этими цветами обозначено. Может быть, в этой строчке подытожены цветовые впечатления от образов всего стихотворения?
Действительно, в первой строфе прямо назван желтый цвет. Во второй строфе что-то темное (в потемках за полкой), серое (мышиная стена), какой-то синевато-стальной отблеск холодной иголки. А в третьей — пожар, значит, что-то красное или красно-желтое, цвета пламенеющей осенней листвы.
Теперь обратимся к компьютеру. Что скажет он, анализируя гласные в этих строфах? Невероятно, но цифры перед вами: первая строфа — «желтое» (доминирует О), вторая «темно-синее» (доминируют Ы и И), третья — «красное» (доминирует А)!
Эти совершенно уж невообразимые соответствия, это математически точное следование частотностей гласных за сменой цветовых картин настолько ошеломило, что пришлось обратиться к поэту за разъяснениями. Казалось, звукоцветовые связи для него настолько явны, что он специально строит звукопись с их учетом и даже говорит об этом читателю. Но поэта тоже удивили статистические выкладки: как оказалось, никакие цвета он со звуками не связывает и никогда о таких связях специально не думал.
— А что же такое «в желтом, и синем, и красном»?
— Не знаю, — ответил он, — так написалось... давно это было. Может быть, платье было такое...
Трудно сказать, какие реальные цветовые образы вызвали к жизни эту строчку, но одно несомненно — здесь интуиция поэта вырывается из подсознания, является читателю непосредственно и пытается материализовать, поднять до сознательного уровня звукоцветовую интуицию читателя.
Вообще стихотворения А. Тарковского — благодатный материал: можно брать любое произведение, где назван какой-либо цвет, и почти наверняка этот цвет будет поддерживаться цветовым сопровождением гласных.
Был случай: в стихотворении «Синицы» вдруг оказалась резко завышенной частотность мрачной Ы. А ведь стихи-то ярко-синие:
В снегу, под небом синим,
А меж ветвей — зеленым...
***
Идет морская синька
На белый камень мола...
С какой стати здесь Ы? Сомнения взяли — у А. Тарковского вряд ли такое может быть. И что же? На перфоленте обнаружилось масляное пятно, фотоввод принял его за перфорацию, и машина ошиблась. Правильный расчет показал — четко доминирует именно синяя И. Более того, зеленый проблеск тоже есть: загляните в таблицу — Е чуть-чуть больше нормы!
В этом стихотворении причудливо переплетены и ассоциативно слиты впечатления от слов, образов, звуков, красок:
В снегу, под небом синим,
а меж ветвей — зеленым,
Стояли мы и ждали
подарка на дорожке.
Синицы полетели
с неизъяснимым звоном,
Как в греческой кофейне
серебряные ложки.
Могло бы показаться,
что там невесть откуда
Идет морская синька
на белый камень мола,
И вдруг из рук служанки
под стол летит посуда,
И ложки подбирает,
бранясь, хозяин с пола.
Событийной канвы здесь нет: пролетела стая синиц — вот и все события. А дальше — лишь ассоциации, вызванные птицами, их полетом и щебетом. Звуковая ассоциация — звон серебряных ложечек, цветовая — синяя морская вода у белого мола. Но вот что интересно —-синица вовсе не синяя, а скорее желтая птица. Однако ее имя — синее и в смысловом и в звуковом плане. И щебет синиц, высокий, нежный и чистый, тоже ассоциируется с «синим» звуком И. Потому и полет синиц над снегом вызвал у поэта воспоминание о морской волне, бегущей к белому молу. Так звуковые впечатления оказались сильнее предметных. А наглядно изобразить, проявить скрытую звукоцветовую картину ассоциаций помог компьютер.
Звукоцвет в стихотворении «Сирени вы, сирени...» выполнен А. Тарковским в приглушенных, сине-зеленых, лиловых и зеленых тонах: это небольшое превышение нормы для частотностей У+Ю и Е + Ё. Та же цветовая гамма создана и колористическими образами стихотворений — сизые гроздья сирени, трава, лиловый гуд пчел.
Сирени вы, сирени,
И как вам не тяжел
Застывший в трудном крене
Альтовый гомон пчел?
***
Пройдет прохлада низом
Траву в коленях гнуть,
И дождь по гроздьям сизым
Покатится, как ртуть.
***
Под вечер — ведро снова,
И, верно, в том и суть,
Чтоб хоть силком смычковый
Лиловый гуд вернуть.
В стихотворении «Дождь» и словами и звуками действительно вылеплен зеленый слепок грозового гула. Основной тон картины создают темные сине-зеленые У с мрачными пятнами Ы, синими просветами И, зелеными бликами Е (травы неуловимое движенье) и даже желтым мазком ударных О (сухой песок).
Как я хочу вдохнуть в стихотворенье
Весь этот мир, меняющий обличье:
Травы неуловимое движенье,
Мгновенное и смутное величье
Деревьев, раздраженный и крылатый
Сухой песок, щебечущий по-птичьи, —
Весь этот мир, прекрасный и горбатый,
Как дерево на берегу Ингула.
Там я услышал первые раскаты
Грозы. Она в бараний рог согнула
Упрямый ствол, и я увидел крону —
Зеленый слепок грозового гула.
Средствами языка — значениями слов и содержательностью звуков — А. Тарковский создает буквально зримые цветные картины с богатой и содержательной игрой красок. Поэт тонко чувствует колорит в живописи и в своем творчестве устанавливает между двумя видами искусства глубокую внутреннюю связь, которая ощущается читателем интуитивно и может быть выявлена с помощью компьютерных расчетов при обработке стихотворений, навеянных произведениями живописи.
Стихотворение «Петровские казни» — это, если можно так сказать, языковое изображение цветовой гаммы картины В. Сурикова «Утро стрелецкой казни». Его звукоцветовой тон оказался темным и мрачным. По цвету это самое мрачное из всех рассмотренных здесь стихотворений, потому что в его звуковой ткани господствует Ь/, резко превышая норму. Глухой фон кое-где приобретает темно-синий и темно-зеленый колорит (У, Ю), иногда на нем проступают темно-багровые пятна А и Я. Едва просвечивает размытый серо-синий цвет И. Но все краски приглушены, затемнены подавляющим доминированием Ы.
Когда будете в «Третьяковке», сравните «расчетную» картину с полотном В. Сурикова, и вы убедитесь в глубоком и гармоничном соответствии двух произведений.
Поэт сам говорит о внутреннем родстве своего творчества с живописью в стихотворении «Пускай меня простит Винсент Ван Гог», описывая впечатление от картины «Звезда и кипарис».
Стою себе, а надо мной навис
Закрученный, как пламя, кипарис.
Лимонный крон и темно-голубое —
Без них бы я не стал самим собою,
Унизил бы я собственную речь,
Когда б чужую ношу сбросил с плеч.
А эта грубость ангела, с какою
Он свой мазок роднит с моей строкою...
Звукоцветовая инструментовка дает те же цвета — лимонный крон и темно-голубое: доминирует желтый О и темно-синий У и даже в том же порядке, как в этой строке — наибольшее превышение нормы дает О (1,93), затем У (1,25). Но в «Звезде и кипарисе» тоже царит лимонно-желтый свет диковинной звезды и темный сине-голубой цвет неба!
Ну можно ли поверить, что звукоцветовая инструментовка не специально, точнее, не логически, не рационально выстроена «под колорит картины»? А с другой стороны, совершенно ясно, что здесь действовали не вычисления, а вдохновение — Стихотворение-то написано, когда ни о каких таких вычислениях звукоцвета никто и подозревать не мог, а слову компьютер предстояло появиться в нашем языке только еще почти через четверть века.
Арсений Александрович, когда увидел компьютерные результаты, рассмеялся:
— Ей-богу, я не виноват.
— Но вы же написали: Я ловил соответствие звука и цвета?
— Ну, что же, значит, ловил. — Он только руками развел.
А. Тарковский действительно внес в криницу языка многоцветные листы своих книг, уловил звукоцветовые соответствия не намеренным подбором звуков, а непостижимой поэтической интуицией, этим сверхсознанием, которое называют талантом.
Звуковые витражи
Если у А. Тарковского звукоцвет пастельных тонов, тонких оттенков и гармоничной гаммы, как акварели или старинная живопись, то А. Вознесенский здесь действительно «витражных дел мастер» — его звукоцвет интенсивен, ярок, контрастен. Сравните по таблице: нагнетение гласных нужного цвета у А. Тарковского сдержанное — оно остается в пределах 2?, у А. Вознесенского оно гораздо более энергично и может достигать почти 5?. Своеобразен не только общий характер, но и техника звукоцветового письма А. Вознесенского. Он не только крупно превышает во всем стихотворении частотности гласных соответствующего цвета, но и неожиданно скапливает в каких-то местах стиха контрастные звуки. И хотя их частотность во всем тексте не превышает нормы или даже не достигает ее, скопления создают яркие и контрастные цветовые всплески.
Вот один из наиболее выразительных витражей — «Васильки Шагала». Это праздник синего цвета — коронного цвета Шагала («Но его синий не знает соперников», — пишет поэт), и синяя И безраздельно господствует среди гласных: превышение нормы составляет более 4?. Но в этом произведении — трагическое столкновение двух тем: Родины и художника, оторвавшегося от нее. Символ Родины — васильки, и соответственно мощному звучанию этой темы доминируют синяя И и гораздо менее заметно — зеленая Е. Особенно сгущены васильковые гласные (к тому же ими заняты почти все ударные позиции) в строках о Родине:
Милый, вот что вы действительно любите!
С Витебска ими раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики...
***
Кто целовал твое поле, Россия,
Пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
Хоть экспортируй их, сорняки.
А в строчках, ведущих тему художника, полыхают на синем фоне багровые скопления А и Я:
Лик ваш серебряный, как алебарда.
***
Как заплетали венок вы на темя
Гранд опера, Гранд опера!
***
Ах, Марк Захарович, нарисуйте...
Даже предельное сгущение, когда только А, никаких других гласных:
Марка Шагала, загадка Шагала...
И резкое, без переходов столкновение тем, звуков и красок:
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
Все васильки, все васильки...
Заметьте, кстати, что основные темы и сопровождающие их гласные названы и приведены в столкновение уже в заголовке: вАсИлькИ шАгАлА — только главные слова и главные звуки!
И еще один штрих, подчеркивающий поразительное соответствие звучания и значения: синий и красный в этом стихотворении не радостного, светлого, а густого, притемненного тона — чуть превышает норму частотность черной Ы.
Конечно, чаще нормы встречающиеся в стихе гласные вызывают в подсознании читателя не конкретную гамму цветов, а лишь смутные цветовые ассоциации, лишь самые общие цветовые впечатления. Зримая цветовая картина выстраивается уже в сознании читателя под воздействием в основном понятийной семантики текста, его образов, его целостного содержания.
Если это, например, «Пожар в архитектурном институте», то образ пламени создается лексическими средствами стихотворения. А то, что в тексте резко завышена частотность красных Л и Я, только поддерживает, подчеркивает эту картину, подключает к ее формированию еще и звукоцветовое подсознание. Но по содержанию это оптимистический пожар, и хотя красный, как и положено пламени, сопровождается небольшим превышением нормы для черно-дымной Ы, все же гораздо более заметное доминирование синих И и Й поддерживает ту общую тональность, когда говорят: «Гори оно синим пламенем!»
Уверившись в точности поэтической звукоцветовой интуиции и действенности методики ее выявления, мы уже заранее ожидали получить в стихотворении «Сирень «Москва — Варшава» соответствие звукоцветовой инструментовки цветовому содержанию. Но того, что получилось, нельзя было даже предполагать.
Как уже говорилось, в «Сиренях» А. Тарковского доминируют в равных долях, хотя и с небольшим превышением нормы, сиренево-зеленоватые У+Ю и Е + Ё. Представьте себе, в «Сирени...» А. Вознесенского доминируют точно те же звуки и почти в той же пропорции! Только их превышение нормы, опять-таки в соответствии с «витражным» характером звукоцветового письма, значительно (в 6 раз) выше.
А ведь произведения такие разные. И по образному строю, и по манере письма, и по самому своему духу. Казалось бы, ничего общего нет, кроме сирени, да и та у А. Вознесенского совсем другая, явно из века НТР: цветет «искусственно» — в начале марта (несовременно цвести в саду), описывается через намеренно современные сравнения.
...сирень пылает ацетиленом!
...на третьей скорости цветет она!
Ночные грозди гудят махрово,
Как микрофоны из мельхиора.
...свистит
трассирующая
сирень!
Смешны ей — почва, трава, права...
И столь непохожие стихотворения столь разных поэтов, как оказывается, настолько сходны по звукоцветовой организации! Это ли не подтверждение экспериментально полученного вывода о том, что звукоцветовые связи у разных носителей одного языка вполне согласованны? И художники слова при всей своей индивидуальности опираются все же на всеобщие, коллективные закономерности, иначе работа их интуиции не вошла бы в резонанс с работой интуиции читателей.
Но в рамках общих тенденций могут, разумеется, обнаружиться и различные оттенки в звукоцветовых ореолах. Например, О — гласная света. Для Тарковского светлее всего солнце, поэтому О для него явно желтая. А для Вознесенского светлее всего снег:
...выпадает белая магия — «снег».
Все по сравнению с ним — тускло,
все вызывает оскомину,
и кажется желтым дневной свет.
Поэтому О для Вознесенского, пожалуй, скорее белая. (Как говорилось, многие испытуемые считают О белой.)
Во всяком случае, в стихотворении Вознесенского «Очищение» борьба снега и земли, возвышенного и низменного, света и тьмы сопровождается борьбой доминирующих гласных — светлой О и темной У:
Тебя соскребаю с асфальта,
весь полон минутою той,
когда ты повалишься свято
меня засорять чистотой.
***
Не нужно чужого мне Бога,
Я праздную темный мятеж.
Черна и просторна дорога,
Свободная от небес!
Интересен точный выбор контрастной темной гласной. Если бы эту роль играла Ы, то контраст был бы слишком резок, а общий тон стал бы мрачным, трагическим. А ведь в этой борьбе последнее слово все-таки остается за светом:
Мой путь все вольней и дурнее.
Упрямо мое ремесло...
Приеду — остолбенею —
все снова тобою бело.
Любопытно, что победа света сопровождается и «победой» гласной О. Если первые строчки этой заключительной строфы насыщены звуком У, то в последних словах — скопление О, и даже самый последний звук — ударный О.
Теория и практика
Нельзя и предполагать, что гармония звука, цвета и содержания, обнаруженная во всех приведенных здесь стихотворениях, случайна. Еще более невероятно допустить, что поэты сознательно выстраивали именно такие звуковые рисунки своих произведений, специально ориентируя их на звуковой эффект. Единственное объяснение всем этим соответствиям — проявление работы поэтического таланта, который эвристически находит способы поставить на службу своему замыслу все аспекты и оттенки языкового смысла, даже такие ускользающие, неосязаемые, как цветные ореолы звука.
Компьютер улавливает эти оттенки семантики, достаточно убедительно их имитирует и даже объясняет их человеку. Но, как и в работе с другими семантическими явлениями, без человека и в этой области компьютер становится беспомощным. Как уже говорилось, звукоцветовые стихотворения довольно редки. Если дать машине какой-либо текст наугад, то может оказаться так, что в тексте случайно доминирует какой-то гласный звук, и машина «окрасит» текст в соответствующий этому звуку цвет. А в тексте никаких цветовых образов не будет, ни о каком цвете и слова нет, и значит, не может быть никаких звукоцветосодержательных соответствий. Не понимая текста, машина не сможет решить, использован ли в данном случае звукоцвет как художественный прием или это случайность и звуковая ткань текста никакого соответствия с содержанием не имеет.
Можно попытаться ввести в память компьютера все цветообозначения, но это едва ли поправит дело. Во-первых, их очень много, семантика их сложна, неоднозначна, и не всегда возможно свести всю массу слов, описывающих различные оттенки цвета, к нескольким словам, называющим цвет гласных. А во-вторых, и это главное, цвет в тексте может обозначаться не только цветовыми прилагательными, но и через описание цветных предметов. Тогда компьютеру нужно знать окраску всех предметов и явлений, чему пока еще невозможно его обучить.
Но вот оказать человеку помощь — это другое дело, это компьютеру, обученному анализировать звукоцвет, вполне по силам.
Хотя бы такая идея. Сейчас широко распространены световые и цветовые эффекты, как сопровождение эстрадных выступлений, особенно выступлений вокально-инструментальных ансамблей. Но игра цвета при этом никак не связана с содержанием исполняемой песни. Может быть, воздействие выступления на зрителей усилится, если такую связь установить?
Представим себе, что исполняется песня на стихи С. Есенина «Отговорила роща золотая...». Вообразим также компьютер, сопряженный с каким-либо цветосинте-зирующим устройством. (Такие установки, кстати, уже существуют, в них электроника управляет лучами лазера, создающими очень богатую и эффектную игру цвета.) Компьютер заранее рассчитывает основную цветовую гамму стихотворения, а затем, в ходе исполнения песни, расцвечивает эту гамму доминирующими гласными, встречающимися по ходу текста, особо учитывая ударные звуки.
Работа с компьютером потребует, конечно, репетиций, чтобы достичь сыгранности всего ансамбля, но ведь и «бескомпьютерное» исполнение требует большой подготовительной работы.
Как нам уже известно, основной цветовой тон стихотворения желто-коричневый. В этой гамме и будет организовано цветовое сопровождение.
В первой строчке:
Отговорила роща золотая —
сначала подряд идут желтые О, значит, желтый цвет разрастается, усиливается. Затем кратко мигает синим единичный ударный И, и снова крепнет желтый цвет, начиная смешиваться с красным, когда появляются А и Я. Строка получилась действительно золотой, с кратким промежутком синего, как осеннее небо сквозь желто-красную листву.
Но уже в следующей строке золотые краски темнеют, жухнут — это скапливаются малочастотные, а потому и особенно заметные темно-коричневые Ы:
Березовым, веселым языком.
И сразу же тучами наплывают темно-синие У:
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
В начале следующего куплета три ударных И подряд:
Стою один среди равнины голой —
создают яркий голубой просвет, но тут же снова сгущаются темные У:
А журавлей относит ветер вдаль,
Я полон дум о юности веселой...
И, как молния в темных тучах, вспыхивает красная ударная А в последнем слове куплета:
Но ничего в прошедшем мне не жаль.
Разражается гроза — это подряд идут А, занимая и ударные и безударные позиции:
Не жаль мне лет, растраченных напрасно.
Посмотрите, как образно, зримо передано в звуках трех строк течение грозы. Сначала в строчке только одна А — как бы первая молния сверкнула. Затем пять А в одной строке — молнии сверкают одна за другой. И в следующей строке опять только одна А как отголосок затихающей грозы, а дальше — клубящиеся тучи У:
Не жаль души сиреневую цветь.
Постепенно возвращаются первоначальные осенние краски О, А, И, но теперь они уже не столь ярки, они приглушены темной Ы:
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.
В двух последних словах ударная И и два Ы создают серо-синее хмурое пятно, на котором кратко вспыхивает желтым светом и затухает последняя ударная О.
Для содержательного цветового сопровождения песни не обязательна и компьютерная установка. Изучив расчеты компьютера и внимательно наблюдая за гласными в тексте, можно и «вручную» создать нужную игру цвета с помощью театральных прожекторов, например, или других доступных светотехнических средств.
Но уж литературный материал, разумеется, должен быть добротным, иначе никакая техника и никакие выдумки не спасут.
Могут принести пользу данные компьютера о звуко-цвете и переводчикам. Ведь если в оригинале стихотворения создан звукоцветовой ореол, то при переводе его необходимо сохранить. И есть такое подозрение, что зву-коцветовые соответствия специфичны для каждого языка. Если это так, то при переводе нужно подобрать новые звуки так, чтобы на другом языке создать тот же звуковой эффект.
Разберем один поразительный пример работы переводчика со звукоцветом. В начале этой главы уже упоминался сонет А. Рембо «Гласные», в котором он окрасил звуки совсем не так, как это иолучилось по результатам экспериментов с носителями русского языка. Неизвестно, какие звукоцветовые соответствия наблюдаются во французском языке, но в переводе сонета А. Кублиц-кой-Пиоттух на русском языке сохранены ассоциации А. Рембо.
Сонет для нас исключительно интересен тем, что в нем цвет звуков описывается дважды — один раз называется прямо и еще раз «расшифровывается» через цветовые образы. Можно предположить, что в описаниях цветовых образов должны доминировать те звуки, цвет которых «расшифровывается». Так, А для Рембо черный, а расшифровка такая:
А — бархатный корсет на теле насекомых,
Которые жужжат над смрадом нечистот.
В этих строчках должен превышать норму звук А, но на самом деле его меньше нормы, а резко, в 2,5 раза, превышает норму звук Ы. В чем же дело? Уж не в том ли, что в русском языке черный действительно не А, а Ы? Тогда выходит, что сознательно переводчица, вторя Рембо, пишет, что А — черный, а подсознательно нагнетает в «черных» строчках действительно черный для русских Ы. Неужели такое возможно?
Проверим «красную» расшифровку. И если в ней вместо И будет доминировать красный для русских А, то придется признать такое невероятное, казалось бы, расхождение между сознанием и интуицией.
И — пурпурная кровь, сочащаяся рана,
Иль алые уста средь гнева и похвал.
Уже без подсчета видно: И здесь почти не встречается, зато А — подряд, в том числе на многих ударных позициях (вот хотя бы сочащаяся рана). Подсчеты подтверждают, что доминирует, конечно, А, превышая норму в 2 раза, тогда как И гораздо меньше нормы. Сомнений нет — у переводчицы, как и должно быть, действительно красный А, но вовсе не И.
Что же касается И, то его частотность выше всего именно в «синей» расшифровке:
О — звонкий рев трубы, пронзительный и странный,
Полеты ангелов в тиши небес пространной —
О — дивных глаз ее лиловые лучи.
Вот что такое работа поэтической интуиции! Даже прямое давление сознания не может ее сбить, направить на ложный путь. Оказалось, что там, где работала поэтическая интуиция (в «расшифровках»), звукоцвет не скопирован, а построен средствами нового языка. Там же, где оказывало давление сознание (в прямых определениях цветов гласных), получился дубляж оригинала.
Закономерности звукоцветовых соответствий важно учитывать и в других практических областях. Специалисты по средствам массовой коммуникации, агитации, рекламе, изготовители различной наглядности — плакатов, вывесок, афиш, наглядных пособий — тоже могут воспользоваться данными о звукоцвете. К примеру, реклама часто использует цвет, но безотносительно к звучанию текста, а ведь вполне возможно, что соответствие звукового и зрительного ряда усилит воздействие сообщения.
Или такая, казалось бы, мелочь. В букваре даются цветные рисунки к буквам. Скажем, изображена буква А и рядом — арбуз. Иллюстраторы интуитивно чувствуют, что тут нужен не зеленый, а красный цвет, поэтому, как правило, «взрезают» на картинке арбуз, обнажая его красную мякоть. И это правильно. Но в других случаях рисунок не дает возможности подкрепить букву нужным цветом. Между тем не исключено, что соответствие звука и цвета улучшило бы запоминаемость звуков и букв детьми.
Во всяком случае, везде, где необходимо добиваться максимального воздействия текста на человека, стоило бы изучать действие звукоцвета. И если это явление хотя бы немного поможет в таком важном деле, его необходимо использовать, тем более что это не потребует никаких особых трудов и затрат, поскольку самую трудоемкую работу берет на себя компьютер.
Синтаксис любви
Синтаксический символизм
Вот уже на протяжении нескольких глав мы беседуем о содержательности языковой формы, находим в ней все новые и новые аспекты, убеждаемся в том, что этот «потаенный» семантический аспект играет весьма существенную роль в жизни и действии языка.
Мы рассмотрели содержательность отдельных звуков речи, фоносемантику слов и даже текстов. Здесь все уже неплохо отработано, этим знаниям обучен компьютер, он и сам помогает их развивать и даже решает практические задачи на основе освоенной информации.
Но вправе ли мы считать, что изучены уже все грани семантики, что содержательность языковых форм, например, не имеет больше никаких аспектов? Едва ли. Формы эти многообразны, и язык, пожалуй, не допустит такой роскоши, чтобы иметь бессодержательные, «пустые» формы. Он устроен очень экономно, старается использовать любую возможность распорядиться своими ресурсами оптимальным образом. Содержательность формы дает возможность теми же средствами передавать дополнительную информацию, от чего язык наверняка не откажется.
А компьютеру такое особенно выгодно: чем больше информации можно получить о содержании через анализ формы, тем «смышленее» компьютер, потому что работа с формой для него не проблема, тогда как в содержании ему чаще всего разобраться очень и очень трудно. Так что не будем стоять на месте, будем искать все новые аспекты содержательности языковой формы, чтобы глубже постичь устройство и действие языка и передать добытые знания компьютеру.
Пусть на нашем пути еще не все будет так точно и определенно, чтобы немедленно писать компьютерные программы. Пусть пока будет больше гипотез, чем решений. Что же, находит тот, кто ищет.
И если до сих пор мы беседовали в основном об уже готовых, работающих компьютерных программах, то дальше начинается «зона поиска». Здесь речь пойдет о том, каким еще семантическим явлениям языка можно было обучить компьютер и как для этого такие явления обнаружить и описать.
Мы вступаем в полностью неизвестную читателю область знаний, поэтому от него, читателя, потребуется и внимание, и труд, и соучастие: будет изложена гипотеза, в которой много вопросов и мало ответов, и читатель сможет сам искать подтверждение или опровержение высказанным суждениям. Все дальнейшие диалоги с компьютером тоже гипотетичны, порой даже научно-фантастичны. Сейчас еще нет программ, которые позволили бы компьютеру вести такие диалоги. Но, может быть, подобные программы как раз и построит кто-либо из сегодняшних читателей книги.
А начиналось все так.
Море выбросило на балтийский пляж некоторую хитрую конструкцию из двух деревянных кружков. Хитрость заключалась в непонятном способе соединения деталей. Вертя находку так и сяк, я задумался над тем, какими способами вообще можно скрепить два таких кружка, и стал рисовать подходящие конструкции на чистом янтарном песке пляжа. А моя маленькая дочь помогала мне: с визгом носилась по чертежам, не давая мне заклиниться на обнаруженных вариантах и побуждая к поискам новых решений.
В результате совместного творчества обнаружилось, что принципиально различных способов соединения кружков не так уж много.
Можно выпилить один кружок полумесяцем и приклеить его торцом ко второму. Можно у того и другого кружка отпилить по равному сегменту и склеить встык по месту отпилов. Наконец, можно частично наложить кружки один на другой и сбить или склеить их по месту пересечения. Все три способа предполагают наиболее тесное, непосредственное соединение кружков. Без дополнительных деталей больше, кажется, ничего не придумаешь.
А если использовать дополнительные средства, то можно сбить или склеить кружки с помощью палочки-перемычки. Соединение будет менее тесным, кружки уже не контактируют непосредственно, они отделены один от другого перемычкой, но в то же время скреплены жестко и прочно.
Используя веревочку, можно соединить кружки довольно слабой связью, но все же это будет связь. Веревочку можно набросить на кружки как велосипедную цепь либо вперехлест. В последнем случае зависимость кружков будет такая же, как и при зубчатой передаче: велосипедная цепь крутит колеса в одну сторону, а шкив вперехлест или зубчатая передача — в разные.
Вот, пожалуй, и все способы принципиально различных соединений. Любые другие соединения кружков в одной плоскости — лишь вариации перечисленных.
Раздумывая над этим обстоятельством, я предположил, что и в языке соединение простых предложений в составе сложного может, видимо, осуществляться тоже только такими способами. Конечно, язык не рисунки на песке. Потрудиться пришлось основательно. Но, исследуя текст за текстом, я находил все те же способы соединения частей сложных предложений. И в процессе этой работы неожиданно обнаружил вот что.
Соединения кружков и предложений могут быть равноправными и неравноправными. Например, в том случае, когда мы один кружок выпилили полумесяцем, а другой оставили целым, соединение явно неравноправное: один кружок не пострадал, остался полным и самостоятельным, а от другого сохранилась только часть, он утратил свою самостоятельность, стал лишь ущербной добавкой целого кружка. А вот когда мы ни один кружок не пилили, а просто склеили их, наложив частями друг на друга, соединение получилось равноправным: ни тот, ни другой кружок не пострадал, не утратил своей цельности и самостоятельности.
Сходные процессы наблюдаются при объединении простых предложений в сложное. Может оказаться так, что одно из объединяемых предложений остается полным, а второе ломается, от него в состав сложного целого входит лишь часть, лишь обломок. Объединение, разумеется, неравноправное. А в другом случае оба простых предложения остаются полными и входят в состав сложного как равноправные части.
Тут я с удивлением стал замечать, что «неравноправные» конструкции чаще всего и употребляются в тех текстах, где описываются неравноправные, негармоничные отношения между людьми: зависимость одного человека от другого, подчинение одного другому, неразделенная, безответная любовь... А «равноправные» конструкции чаще обнаруживаются в текстах с описанием равноправных, гармоничных отношений: дружба, взаимная любовь, счастье, сбывшиеся мечты.
Постепенно выстроилась довольно четкая система типов синтаксических конструкций и выражаемых ими отношений.
И все же я долго не мог во все это поверить и никак не решался опубликовать полученные результаты. Все казалось, что слишком увлекаюсь этой немыслимой идеей и вижу закономерности там, где их нет. Действительно, не странно ли утверждать, что писатель, описывая безответную любовь, начинает чаще употреблять «неравноправные» синтаксические конструкции, о которых он и слыхом не слыхал? А когда описывает взаимную любовь, то переходит на «равноправные» конструкции, о которых тоже ровным счетом ничего не знает?
Но, с другой стороны, о содержательности звуков речи или об их окраске поэты тоже ничего не знают и тем не менее используют, как мы видели, эти свойства звуков весьма активно и удивительно точно. А если есть фонетический символизм, то почему бы не быть и синтаксическому символизму? Почему бы и синтаксической форме не быть содержательной? Если все подтвердится, то для компьютера это будет бесценная находка, не говоря уж о важности обнаруженного явления для изучения языка.
Цель стоила усилий, и я продолжал набирать материал, пока наконец не убедился: что-то в этом синтаксическом символизме есть. Если даже и не все так четко и бесспорно, как мне кажется, то какие-то тенденции явно прослеживаются. И постепенно все более определенно выстраивалась любопытная картина, к рассмотрению которой мы и перейдем.
Строение предложения тоже представляет собою аспект языковой формы, хотя и несколько иной, чем, например, фонетическая форма (звучание) того же предложения. В устройстве предложения, в его конструкции, его структуре главное не элементы, а отношения между ними. Поэтому содержательность синтаксической формы — это содержательность не элементов (как в фоносемантике), а отношений между элементами синтаксической конструкции. Сами эти отношения без участия других сторон предложения (слов, звуков) могут, видимо, символизировать, как бы изображать отношения между людьми, создавая особого рода поддержку, аккомпанемент основному понятийному и экспрессивному содержанию предложения и целого текста.
Разумеется, отношения реально возникают в предложении лишь между словами и словосочетаниями, но если постараться как-то выделить сам тип отношений, то можно абстрагироваться, отвлечься от лексической плоти предложения, сосредоточив внимание лишь на его «скелете». Как в алгебре. В арифметической записи 2-1-3 = 5 одинаково важны и элементы (числа), и отношения между ними (знаки действий). Но можно выделить из этой записи лишь тип отношений и написать а + Ь = с. И это не будет отрывом формы от содержания. Напротив, форма записи стала хотя и менее конкретной, но более содержательной, так как описывает теперь множество сходных конкретных содержаний. Ведь а — какое угодно число, так же как и Ь, но суть в том, что соединение а и b дает с. Можно сказать, что запись символизирует отношение соединения, так же как а — Ь = с символизирует отношение разъединения.
Любопытно, что два указанных типа отношений небезразличны для нас. Почему-то людям больше нравится первый тип отношений, чем второй, что нашло свое отражение и в языке. Если говорят: Плюсы проекта заключаются в следующем, то это означает «хорошие» для нас аспекты проекта. А если говорят: У проекта слишком много минусов — значит, он плох. То же самое положительное и отрицательное решение, положительные и отрицательные эмоции и т. п. Иначе говоря, абстрактная алгебраическая запись отношений может, оказывается, символизировать человеческие отношения, оценки, предпочтения. А как же иначе? Ведь и сами эти алгебраические абстракции не придуманы человеком, они лишь отражают те отношения, которые наблюдаются между предметами в реальной действительности.
Что же тогда говорить о языке? Может ли его структура быть безотносительной к структуре тех представлений об отношениях, наблюдаемых в реальной действительности, которые складываются в сознании носителей языка? Едва ли. Скорее наоборот: отношения элементов языка будут строиться в соответствии с наблюдаемыми в реальной действительности и осознанными человеком отношениями. Конечно, не прямые соответствия, не копии, а сложно переработанные отражения реальной действительности следует искать в языке.
Вот и в предложении слова, словосочетания, отдельные части вступают в некоторые отношения — равноправия, подчинения, взаимной зависимости, односторонней зависимости, несовместимости и т. д. Возможно ли, чтобы смысл, символика таких отношений приобретали собственную содержательность, то есть улавливались бы подсознанием говорящих и каким-то образом соотносились с основным содержанием текста? А почему бы и нет? Это дало бы языку еще одну дополнительную возможность плотнее слить форму с содержанием, полнее и глубже выразить оттенки явного и скрытого смысла.
Пожалуй, нагляднее всего символика синтаксических отношений, которую можно назвать синтаксическим символизмом (или синтсимволизмом), проявляется в устройстве сложных и особенно сложноподчиненных предложений, когда в сложных конструкциях четко выделяются отдельные, относительно самостоятельные части, а тип отношений между ними явно обозначен семантикой скрепляющих части элементов-скреп (союзов, союзных слов). Синтсимволизм — тоже ореольный аспект семантики, но это ореол не слова, а предложения и даже целого текста.
Можно было бы сразу перейти к рассмотрению синтаксической символики, если бы существовали классификации сложных предложений, четко подразделяющие и описывающие различные типы отношений внутри синтаксических конструкций. К сожалению, таких классификаций нет. А те, что есть, хоть и многочисленны, но схоластичны, то есть построены ради самих себя и ни на что другое не годятся, кроме их изучения (с непонятными целями) в школе и вузе.
Поэтому нам пришлось строить свою классификацию сложных предложений, отдав тем самым дань необъяснимой страсти языковедов к построению разного рода классификаций. Нас, может быть, отчасти извиняет только то, что типы сложных конструкций нужны нам не сами по себе, а только и исключительно для того, чтобы выявить их синтаксическую символику и через нее — соотношения синтаксической формы с содержанием текста.
В связи с такой направленностью устремлений нас интересуют в сложных конструкциях лишь логико-структурные отношения между их частями и ничего больше. А отношения эти мы собираемся описывать следующим образом.
В составе сложного предложения могут существовать такие части, которые способны функционировать самостоятельно, отдельно от сложного целого, а также такие, которые отдельно, вне сложного предложения, употребляться не могут, потому что они не закончены, не завершены. Например, в предложении Я знаю, что он вчера уехал две части, соединенные скрепой что. Одна часть может функционировать самостоятельно в качестве отдельного предложения: Он вчера уехал. Но другая часть (я знаю...) сама по себе существовать не может, а только в составе сложного целого.
Поскольку мы начали «от Адама» (с построения первоначальной классификации), то в наших иллюстрациях синтаксических конструкций в дальнейшем будут действовать Адам и Ева. Кстати, отношения между ними проследить легче всего, поскольку никто третий их отношениям не мешал. Поэтому и обозначения введем такие: самостоятельные части — А и Е, зависимые части — а и е.
Рассматривать будем в основном (но не только) сложноподчиненные предложения, так как логико-структурная связь частей в них более определенна и наглядна.
Всего в нашей классификации оказалось 9 типов таких конструкций, которые мы и рассмотрим по порядку, каждую в отдельности.
Конструкция безответной любви
В конструкциях этого типа одна часть самостоятельна, а другая зависима и лишь дополняет основную. Логическую модель отношений между частями конструкции можно изобразить в виде формулы математической логики:
а (Е), что читается так: а является атрибутом Е. Пример: Известно, что Адам любит Еву. ??
Проверкой того, что предложения принадлежат именно к данному типу конструкций, может служить специальный прием преобразования или трансформации, при котором меняется структура предложения, но его основной смысл остается тем же. Другими словами, образуется как бы синтаксический синоним к исходному предложению:
Известно, что Адам любит Еву
Адам, как известно, любит Еву.
При трансформации зависимая часть (известно) как бы вдвигается внутрь самостоятельной части, и из сложного предложения образуется простое. Проведенное преобразование конструкции наглядно свидетельствует о том, что именно часть Адам любит Еву самостоятельна, а часть известно — зависимая: ведь простое предложение образовалось лишь за счет части Адам любит Еву.
Для нас-то и так понятно, какая часть самостоятельна, а какая зависима. Но компьютеру все это придется разжевывать очень основательно. Как видим, в синтаксисе форма настолько тесно сплавлена, слита с содержанием, что и при выявлении типов форм с необходимостью приходится обращаться к содержательным критериям.
А это весьма и весьма усложняет работу с компьютером. Как ему объяснить, что значит самостоятельное или зависимое предложение? По каким признакам он будет отыскивать их в реальном сложном предложении, в реальном тексте? Пока на такие вопросы нет однозначных ответов. Единственная надежда на то, что логические формулы с указанием структурных трансформаций, довольно четко и формализованно описывающие логико-структурные отношения частей внутри конструкций, помогут со временем обучить компьютер и этим премудростям.
Итак, в окончательном виде логико-структурная формула конструкций первого типа такова:
а (Е) ?? Е
Если вспомнить наши манипуляции с деревянными кругами, то для большей наглядности конструкцию можно изобразить графически, как на рисунке.
Один из кружков полный, законченный, другой ущербный и присоединен к первому. При трансформации ущербный кружок вдвигается внутрь полного (что показано стрелкой) и как бы перестает существовать — на виду остается только законченный кружок. На рисунке хорошо виден дисгармоничный характер конструкции, поскольку между частями нет равноправия.
Все это была подготовительная работа: нужно было четко выделить, а также поточнее описать саму конструкцию. Теперь займемся главным и наиболее интересным — выявим символику конструкции и проследим за ее функционированием в речи.
Одна часть конструкции, а именно Е, может существовать самостоятельно и нисколько не нуждается в а, тогда как а без Е никуда, существует только при Е. Это явно однонаправленная связь, которая наблюдается в отношениях господства и зависимости, командования и подчинения, неразделенной любви. Стало быть, такова и символика конструкции — символика дисгармонии, господства и зависимости, неразделенного чувства, безответной любви.
Заметьте, что в предложении говорится о чувствах Адама по отношению к Еве, но ничего не сказано о том, любит ли Ева Адама. Возможно, она к нему совершенно безразлична. Такая трактовка, сознаемся, несколько вольна: хорошо известно, что именно Адам проявлял к Еве непростительное равнодушие и самостоятельно не мог додуматься до любви. Спасибо, Ева оказалась более расторопной. Но не будем ставить женщину в неловкое положение, подчеркивая это обстоятельство в своих примерах, пусть уж лучше от неразделенной любви страдает Адам.
Из всех перечисленных нами однонаправленных дисгармоничных жизненных отношений между людьми наиболее выраженное, несомненно, неразделенная любовь. А в каких текстах ярче всего описывается это чувство? Ну, конечно, в художественной литературе. И коли уж искать проявления синтсимволизма в текстах, то прежде всего именно в художественных, лирических, особенно в поэтических.
Можно рассуждать так: если в текстах о неразделенной любви будут чаще, чем в других текстах, встречаться_ описанные предложения, значит, символика конструкций улавливается художниками слова и используется как изобразительное художественное средство для повышения общей выразительности, воздейственности произведения. Причем не обязательно требовать, чтобы устанавливалось соответствие между символикой конструкции и содержанием того же самого предложения, общая гармония между синтаксисом и семантикой может устанавливаться на протяжении всего текста или достаточно крупного его отрывка. Как же проверить правильность этих рассуждений? Если просто сказать, что такие-то конструкции имеют такую-то символику, это будет крайне неубедительно. Наиболее наглядна демонстрация функционирования синтсимволизма в художественных текстах. И даже тогда трудно поверить в поразительно точное интуитивное использование писателями такого, казалось бы, неощутимого аспекта семантики. Но тут уж, как говорится, факты перед глазами. Так что придется нам заняться анализом текстов.
Как только речь зашла об изображении неразделенной любви в художественной литературе, многим, наверное, сразу вспомнился «Гранатовый браслет» А. Куприна. И неудивительно: эта повесть — несомненный шедевр разработки темы. Любовь Желткова не только не разделена и абсолютно безнадежна, но и не претендует на ответное чувство. Он полностью посвятил и подчинил свою жизнь этой любви, в то время как Вера Николаевна даже не была с ним знакома. Лучшей иллюстрации к символике «безответных» конструкций просто не найти.
Просмотрите внимательно синтаксис тех отрывков из повести, где непосредственно описываются чувства Желткова по отношению к Вере Николаевне, и вы сразу заметите большое число конструкций безответной любви. Свою любовь Желтков мог изъяснять только в письмах — они-то и насыщены такими конструкциями. И записка, вложенная в футляр с гранатовым браслетом, и особенно последнее, предсмертное письмо. Оно с начала и до конца построено в основном на конструкциях этого типа. Открывают письмо подряд три таких предложения:
Я не виноват, Вера Николаевна, что богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей —- для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь.
Можно подумать, что эти строки специально написаны для иллюстрации символики конструкций: здесь и описание самостоятельности одного из элементов отношений, и зависимости другого, и неразделенная любовь.
Далее по тексту письма конструкции безответной любви продолжают встречаться с явно завышенной частотой:
Подумайте, что мне нужно было делать? Воображаю, какое он впечатление произвел на Ваших гостей... Все-таки думаю и даже уверен, что Вы обо мне вспомните... Я знаю, что Вы очень музыкальны. Я не знаю, как мне кончить письмо.
Случайно ли в тексте короткого письма столько раз повторяется конструкция именно с той символикой, которая так полно соответствует выраженному в письме содержанию? Едва ли. А может быть, здесь проявились закономерности эпистолярного стиля? Может, все письма тяготеют к такой синтаксической форме?
Но вот же рядом, сразу после письма, князь Шеин описывает Вере чувства Желткова:
...Я скажу, что он любил тебя... Мне кажется, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать...
Узнаете? Почти все сложноподчиненные предложения именно этого типа! Нет, дело не в эпистолярном стиле, а в необыкновенном художественном чувстве языка, которое продиктовало писателю выбор нужных конструкций.
Хотя действительно, образцы поэтической лирики о неразделенной любви встречаются чаще всего в письмах, что, пожалуй, вполне объяснимо: безответно влюбленный, как правило, лишен возможности непосредственно рассказать об охвативших его чувствах предмету своей любви, так как предмет к нему безразличен и не желает его замечать и слушать; несчастному остается только письмо. Как, например, в случае с влюбленным Онегиным. Татьяна избегала его, и тому ничего не оставалось, как выразить свои чувства в письме. Представьте себе — оно .тоже построено в основном на «безответных» конструкциях.
Так, предложение, в котором Онегин особенно образно описывает муки неразделенной любви, включает подряд несколько таких конструкций:
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени...
Часто предложения этой символики в тексте письма несколько видоизменены: в них скрепа (союз что) заменена двоеточием. Но суть их устройства и символики не меняется, а пожалуй, даже наоборот, выражается еще ярче и определеннее, поскольку несамостоятельность зависимой части становится еще заметнее:
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.
Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной —
И слышу гневный ваш укор.
Показательно, что эмоционально очень напряженные строки письма (их отмечал В. Маяковский как блестящий образец пушкинской лирики) оформлены с двукратным использованием рассматриваемой модели — в начале предложения и в конце его:
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...
Характерно, что в приведенных строках встречается еще и наиболее дисгармоничная конструкция трагедии, катастрофы — А но Е, а также предложение хотя и гармоничного строения, но в данном случае способствующее скорее выражению желания гармонии, чем констатирующее ее — чтобы было А, нужно Е (об этих конструкциях будет сказано ниже).
В тексте онегинского письма встречаются «безответные» предложения и с еще большими изменениями структуры: иногда не только убирается скрепа, но и в зависимую часть вводится указательное или определительное местоимение, в результате чего она получает видимость самостоятельности. Именно такими предложениями начинается и заканчивается письмо:
Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе.
Что это предложение той же самой конструкции, легко проверить с помощью трансформаций: Вас оскорбит, предвижу, печальной тайны объясненье; Я в вашей воле и предаюсь, решено, моей судьбе.
Обратите внимание на интересный момент: оба письма—и Желткова, и Онегина — начинаются конструкциями безответной любви и заканчиваются ими же. Кроме того, с помощью именно таких предложений оформлены как раз те фрагменты обоих писем, где символика конструкций особенно подходяща, особенно нужна, где она наиболее полно соответствует общему содержанию текстов. Какая уж тут случайность! Даже и говорить о ней не приходится.
И все же еще несколько подтверждений.
В письме Татьяны к Онегину изъяснительных предложений меньше, но все-таки и здесь их много:
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда...
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает...
Интересно, что в первых же строках письма употреблено простое предложение, которое можно считать как бы результатом трансформации хорошо знакомой нам конструкции:
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Здесь символика безответной любви как будто бы неявна, запрятана в преобразованную конструкцию. Догадку подтверждает обратная трансформация простого предложения в сложноподчиненное: Я знаю, что теперь в вашей воле меня презреньем наказать. Хорошо видно, что полученное предложение имеет знакомую нам дисгармоничную конструкцию безответной любви. Не так ли?
Получается, что в письме Татьяны дисгармония предложений как бы скрыта, приглушена. Это и понятно: ведь Татьяна еще не знала о безответности своей любви. Несколько забегая вперед, отметим, что в письме много других дисгармоничных конструкций, причем часто повторяются «конструкции несовместимости» — А или Е, а также «конструкции катастрофы» А но Е. Синтаксисом текста Пушкин как бы намекает читателю на дальнейшее развитие событий, выстраивает в его подсознании необходимый эмоциональный фон.
Примеров использования дисгармоничных конструкций с символикой безответной любви, символикой неразделенного чувства можно привести множество. Но еще только одна яркая иллюстрация. Стихотворение С. Есенина «Письмо к женщине». С первых его строк почти все сложные предложения имеют именно такую конструкцию, и четыре начальных его строфы целиком построены на них:
Вы помните,
Вы все, конечно, помните.
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.
Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше, вниз.
Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым седоком.
Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несет нас рок событий.
И опять, как во всех предыдущих примерах, наблюдается несомненное соответствие между синтсимволикой и содержанием. Дисгармония конструкций подчеркивает не только «однонаправленность» любви (Любимая! Меня вы не любили), но и социальную дисгармонию, в которой оказалась мятущаяся душа поэта (С того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий).
Если вы прочитаете все стихотворение, то увидите, что оно разделено отточием на две части. И вы, конечно, заметите, что как только поэт говорит об установившейся социальной гармонии между ним и новым обществом, так дисгармоничные конструкции исчезают:
Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
Я стал не тем, Кем был тогда.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ла-Манша.
Но вот снова возникает мотив разрыва с любимой (но не любившей его) женщиной, и тут же вновь появляются конструкции с нужной символикой:
Я знаю: вы не та —
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.
Видимо, нет нужды пояснять, что вовсе не обязательно, как только в тексте появляются «безответные» конструкции, так там нужно искать описание неразделенной любви или каких-либо других односторонне направленных отношений. Если бы это было так, то компьютер всегда по форме синтаксических конструкций «угадывал» бы общее содержание и эмоциональную тональность текстов. Но такого, понятно, быть не может. Связь синтсимволизма с другими аспектами семантики текста не жесткая, не фиксированная и не прямолинейная. Это лишь тенденция, предпочтение, склонность, которые далеко не всегда будут реализованы в конкретных условиях. Не нужно также забывать, что синтсим-волизм может быть использован писателями как дополнительное, но отнюдь не обязательное изобразительно-выразительное средство. Так, в литературных произведениях наверняка можно найти описания безответной любви, выполненные без употребления изъяснительных конструкций. С другой стороны, и у Пушкина, и у Куприна, и у Есенина эти предложения употребляются и там, где нет речи вообще ни о каких дисгармоничных отношениях между людьми. Только дело в том, что в других текстах или, скажем, в письмах этих писателей изъяснительные конструкции встречаются отнюдь не столь концентрированно, как в приведенных выше отрывках, а самое главное — безотносительно к общему смысловому и эмоциональному содержанию текста.
Именно удивительная точность соответствий, полнота гармонии символики синтаксических форм и содержания текстов не в одном-двух, а во многих случаях и дает основание считать, что синтсимволизм существует и выполняет определенную роль в языковой семантике.
Конструкция взаимной любви
Вторую конструкцию можно назвать объединительной, потому что в ее составе ни одна из частей не самостоятельна, они взаимозависимы и существуют лишь в объединении одна с другой:
a (е) ^ е (а) — а является атрибутом е, и е является атрибутом а.
Придется нам на некоторое время расстаться с Адамом и Евой, потому что в предложениях такого типа лица, как правило, заменяются указательными местоимениями:
Счастлив тот, кто любит и любим.
Впрочем, ничто не мешает нам считать, что речь здесь идет именно об Адаме.
Как видим, ни первая (счастлив тот...), ни вторая (...кто любит и любим) части предложения не могут существовать друг без друга, они составляют единое целое только вместе.
Тесная связь и взаимная зависимость частей проявляются в том, что при трансформации сложного предложения в простое две части как бы сливаются, и в образовании простого предложения в равной мере принимают участие обе части сложного: Счастлив любящий и любимый.
Формула трансформации и рисунок, ее интерпретирующий, могут быть такими:
При трансформации оба кружка как бы вдвигаются один в другой, и из двух неполных кружков получается один полный.
Символика конструкции — гармония единства, объединения, слияния. Они должны чаще встречаться в художественных произведениях, изображающих сильные гармоничные эмоции, связанные со страстным взаимным стремлением к любви, дружбе, радости, счастью.
Очень наглядно проявляется такая содержательность конструкций в «Алых парусах» А. Грина. В тексте произведения объединительные предложения встречаются примерно 1—2 раза на 50 сложных (то есть около 3 процентов). Но во фрагментах, описывающих любовь Грея и его финальную встречу с Ассоль, их число резко возрастает. Так, в седьмой главе начальный монолог Грея, в котором он говорит Пантену о своей любви к Ассоль, содержит всего около 40 сложных конструкций и из них 4 — объединительные.
Я делаю то, что существует как старинное представление о прекрасно-несбыточном и что, по существу, так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Он сжато передал моряку то, о чем мы хорошо знаем... Я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня... Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками.
В наибольшей степени (почти в 6 раз по сравнению с общим «синтаксическим фоном» произведения) возрастает число таких конструкций в заключительном фрагменте, в сцене встречи Грея с Ассоль, где на 35 сложных конструкций употреблено 6 объединительных, то есть более 17 процентов.
Среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала... От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали девушка почти не могла уже различать, что движется: она, корабль или лодка... Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими, даже и отдаленно, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу...
Любопытно, что заканчивается эта сцена конструкцией того же типа:
И пусть счастлива будет та, которую лучшим грузом я назову, лучшим призом «Секрета»!
По приведенным примерам можно судить о том, что предложения объединительной конструкции могут быть довольно разнообразными — с пропущенными указательными местоимениями, с различными скрепами (то — что; той — которая; в том — чтобы; тот — кого и др.). Поэтому для проверки принадлежности предложения именно к такой конструкции нужно использовать трансформацию.
Объединительные предложения довольно редки в текстах, и потому нагнетение их там, где их символика соответствует содержанию текста, особенно значимо. На пример, в известном монологе лермонтовского Демона:
Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит,
Я тот, кого никто не любит...
Пусть вас не смущает откровение Демона, высказанное в последних строчках отрывка: оно относится отнюдь не к его отношениям с Тамарой, так что конструкции «разделенной любви» соответствуют общему содержанию поэмы.
Довольно употребительны объединительные конструкции в поэзии В. Высоцкого, где они часто символизируют стремление к единению, общечеловеческой любви, а также любви к женщине:
День-деньской я с тобой, за тобой —
Будто только одна забота,
Будто выследил главное что-то —
То, что снимет тоску как рукой.
Или в «Балладе о Любви»:
Только чувству, словно кораблю,
Долго оставаться на плаву,
Прежде чем узнать, что «я люблю» —
То же, что «дышу» или «живу».
Синтаксическая форма объединительных конструкций уравновешена, гармонична, а также выпукла, заметна и потому выразительна. К тому же, как говорилось, они малочастотны, а значит, высокоинформативны. Все эти свойства конструкции привели к тому, что на ее основе строятся пословицы, поговорки, крылатые выражения. И вот что характерно — особенно хорошо запоминаются, активно бытуют в нашей речи именно те крылатые выражения, в которых выражено гармоничное содержание, соответствующее гармоничной форме конструкций.
Широко известны пушкинские строки
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел.
Нужно сказать, что вся эта строфа целиком построена на одной объединительной конструкции, и Пушкин тонко «обыграл» ее символику. Казалось бы, первые две строчки дают положительную оценку той «гармоничной» личности, которая описывается в них. Но вот продолжение строфы:
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
NN прекрасный человек.
Постепенно к концу строфы выясняется, что это не пушкинское, а обывательское представление о жизненном благополучии, чем и создается эффект «обманутого ожидания»: читатель-то думал, что оценки поэта серьезны, а на поверку оказывается, что они саркастичны. Но все же в строфе описан «благополучный», «гармоничный» жизненный путь, только не с точки зрения поэта, а с точки зрения обывателя.
Странно, что первые строки этой издевательской в общем-то строфы приобрели теперь в качестве крылатых выражений безусловно положительный смысл. Не помогла ли этому еще и символика их синтаксической формы?
В нашей речи много и других крылатых выражений подобной символики. Например, уже трудно отграничить творчество поэта от творчества народа в строчках
Кто весел, тот смеется,
Кто хочет, тот добьется,
Кто ищет, тот всегда найдет.
Думается, что конструкции взаимной любви компьютеру будет легче обнаружить в текстах, чем любые другие, поскольку их строение более выражено и довольно единообразно. Опорными элементами поиска могут служить характерные парные скрепы. Но, конечно, это лишь самые общие соображения по компьютеризации столь сложного синтсимволического материала — конкретные пути и решения еще ждут своих первопроходцев.
Переходная конструкция
В структуре этой конструкции одна из частей обязательно самостоятельна, а вторая может быть и самостоятельной и зависимой. Но характерной особенностью конструкции является то, что в составе одной из частей существует элемент, обладающий одновременно двумя признаками:
Адам с удовольствием съел яблоко, которое ему предложила Ева.
Элемент этой конструкции — слово яблоко — принадлежит одновременно двум частям, имеет как бы два признака: первый — его с удовольствием съел Адам, второй — его предложила Ева. Части конструкции как бы входят одна в другую, пересекаются, имея общую часть пересечения (обозначим ее символом Ь), что отражает логическая формула:
а (Ь) ^ е (Ь) — а и е являются атрибутами Ь.
В качестве проверочного синтаксического преобразования здесь можно применить вращение частей вокруг общего элемента и скрепы, что изображено на иллюстрации.
Пример трансформации:
Ева предложила Адаму яблоко, которое тот с удовольствием съел.
В этой конструкции, по сравнению с двумя предыдущими, связь частей ослабляется, и намечается тенденция к их обособлению. Но разделения еще не произошло, о чем говорит возможность преобразования некоторых предложений в простое, причем характерно, что ядро простого предложения образуется за счет одной из частей:
Адам съел яблоко, предложенное ему Евой.
Как видим, строение конструкции носит двойственный характер: с одной стороны, оно гармонично, так как элементы конструкции уравновешены относительно общей части пересечения (что доказывается возможностью их взаимозамены); с другой стороны — дисгармонично, поскольку одна часть может быть самостоятельной, а другая зависимой.
Поэтому символику этой конструкции выявить сложнее, чем двух предыдущих. К тому же предложения такого типа очень употребительны, а потому и малоинформативны. Скорее всего конструкция имеет переходную между двумя предыдущими символику и может усиливать содержательность то одной, то другой из них. И в любом случае ее содержательность будет более широкой и менее яркой и определенной.
Для изучения синтсимволизма нужны статистические обследования текстов очень большого объема, что вручную выполнить сложно. Но есть надежда на компьютер: если он научится разбираться в семантическом синтаксисе, то поможет человеку в обработке материала. И тогда можно будет уточнить символику различных конструкций и обнаружить в ней новые аспекты.
Символика полной гармонии
В этом типе конструкций между событиями А и Е устанавливается сходство, симметрия, так что такие предложения логично назвать симметричными.
Их формула:
А = Е — А симметрично Е.
Пример:
Адам любит Еву так же, как Ева любит Адама.
Без пояснений понятно, что здесь гармония — полнее уж и представить нельзя. Трансформация вращения еще раз об этом говорит:
Адам любит Еву так же, как Ева любит Адама ??
Ева любит Адама так же, как Адам любит Еву.
Формула преобразования и графическое изображение конструкции:
Два полных кружка (Адам любит Еву; Ева любит Адама) накрепко соединены планкой и вращаются вокруг неподвижной оси-скрепы (так же, как).
Символика конструкций — полная гармония, но не гармония страсти и слияния, как в объединительных, а гармония соответствия, равновесия, равноправия. Эти предложения очень употребительны в художественных произведениях, где они часто встречаются в описаниях природы, ими подчеркиваются чувства светлого любования, восхищения, взаимной любви.
Например, описание природы в стихотворении А. Пушкина «Редеет облаков летучая гряда»:
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны,
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.
Вы легко обнаружите такие предложения в описаниях природы, выполненных различными писателями. Учтите только, что сравнение событий в симметричных конструкциях может вестись по разным параметрам — по месту, времени, образу действия, по различным качествам описываемых предметов и явлений. Соответственно скрепы будут встречаться разные: там — где; тогда — когда; так — как; такой — какой и т. д.
Здесь же мы приведем лишь несколько особенно выразительных примеров описания с помощью этих конструкций чувств и отношений между людьми.
Вот первое стихотворение цикла «Кармен» А. Блока. Весь его текст Блок выделил курсивом, подчеркнув особую значимость стихотворения, задающего тон всему циклу:
Как океан меняет цвет,
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет мигнувший свет, —
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.
Вы, конечно, сразу увидели, что текст стихотворения, описывающий чувство восхищения, представляет собою одно предложение, построенное на синтаксических конструкциях симметричного типа.
В повести А. Куприна «Суламифь» описания любви Соломона и Суламифи, их восторженные речи, обращенные друг к другу, наполнены конструкциями полной гармонии и в явно выраженном виде, и в виде сравнительных оборотов, которые можно считать синтаксическим преобразованием полных симметричных предложений. Приведем только некоторые иллюстрации особенно наглядного и разнообразного использования синтаксической символики в этом произведении.
Сердце мое затрепетало и раскрылось навстречу тебе, как раскрывается цветок во время летней ночи от южного ветра.
Я нашел тебя, подобно тому как водолаз в Персидском заливе наполняет множество корзин пустыми раковинами и малоценными жемчужинами, прежде чем достанет с морского дна перл, достойный царской короны.
Жадно внимала ему Суламифь, и когда он замолкал, тогда среди тишины ночи смыкались их губы.
Ты стройна, точно кобылица в колеснице фараоновой.
В последнем предложении странное для нас, но обычное для древних, особенно на Востоке, сравнение женщины с кобылицей можно рассматривать как «свернутую» симметричную конструкцию:
Ты стройна так же, как стройна кобылица.
Конструкции полной гармонии обладают хорошо выраженной и вполне определенной символикой, которой непременно нужно бы обучить компьютер. Только сделать это будет нелегко — очень уж изменчивы и разнообразны синтаксические оформления предложений такой конструкции. И человеку-то отыскивать их в тексте непросто, а справится ли когда-нибудь с этой работой компьютер, трудно пока сказать.
Конструкция неравноценности
При сравнении событий А и Е в этих конструкциях обнаруживается неравенство, несходство, неравноценность событий:
Адам любит Еву больше, чем Ева любит Адама.
При трансформации меняются местами не только части предложения, но и первый элемент скрепы (больше) заменяется на антоним (меньше).
Ева любит Адама меньше, чем Адам любит Еву.
Формула, трансформация и графическое изображение:
Символика конструкции не особенно ярка. Хотя между частями и отмечается несходство, оно не катастрофично. Трагедии нет: Ева все-таки любит Адама, пусть и меньше, чем он ее. Слабая дисгармония частей создает символику, уместную при описании негармоничных отрицательных эмоций умеренного напряжения. Предложения этого типа редко встречаются в художественных произведениях и в основном не создают самостоятельного рисунка синтаксической содержательности, добавляя к общей картине лишь дополнительные оттенки.
Конструкция умеренной дисгармонии
В результате сравнения событий А и Е между ними не устанавливается ни сходства, ни неравенства, а лишь констатируется различие событий в каком-либо отношении:
Адам любит Еву, а Ева любит яблоки.
В предложении ничего не сказано о том, любит ли Ева Адама, возможно, она любит и его, и яблоки. Хотя оттенок противопоставления и, следовательно, дисгармонии все же есть, что становится явным при трансформации:
Адам любит не яблоки, а Ева любит не Адама.
Нечеткость структуры и символики приводит к довольно запутанной формуле и не особенно показательному графическому изображению конструкции, поэтому не будем их приводить. Но все же отметим, что такие предложения могут усиливать символику других конструкций с более ярко выраженной дисгармонией частей.
Например, в цитированном выше фрагменте из «Письма к женщине» С. Есенина наряду с дисгармоничными «безответными», употреблена и конструкция умеренной дисгармонии, подчеркивающая разрыв отношений:
...Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше вниз.
В письмах Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне предложения этого типа также усиливают символику других дисгармоничных конструкций.
Символика мудрого чувства
Пример конструкции с такой символикой:
Если Адам любит Еву, то и Ева любит Адама.
Преобразование очевидное:
Если Адам не любит Еву, то и Ева не любит Адама.
Формула, трансформация и схема:
Иллюстрацией отношений такого типа может служить цепная передача велосипеда: если одно колесо крутится в какую-либо сторону, то и другое крутится в ту же сторону.
Части предложения могут скрепляться разными скрепами: если — то, потому что, каков — таков и..., когда (в значении если) — тогда и др.
Четкие логические отношения между частями создают символику, хорошо выраженную в следующих строчках А. Тарковского:
И если ты уйдешь
И я за тобой не пойду, как слепой,
То это будет ложь.
Можно сказать, что такие конструкции способствуют выражению гармоничных эмоций рационального плана. Это предложения «осознанного чувства».
У И. Анненского есть стихотворение «Среди миров», как будто специально написанное для иллюстрации символики конструкций мудрого чувства. Это попытка рационального, логического объяснения своих переживаний. Но интересно, что художественный эффект возникает не в результате соответствия синтсимволизма явному, находящемуся на поверхности содержанию, а как противопоставление символики намеренно выделенных, подчеркнутых повторениями синтаксических конструкций глубинному, полуосознанному смыслу: любовь логически необъяснима.
Среди миров, мерцания светил
Одной звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.
Рисунок синтаксической символики этого текста насыщен и сложен. В нем есть и слабо выраженные дисгармоничные конструкции, вплетающие свои ноты в общую синтсимволическую ткань, однако господствуют здесь все же конструкции мудрого чувства.
Прекрасный пример использования такой символики — стихотворение М. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...». Это произведение о гармоничном слиянии души человека с природой все построено на одном причинном предложении: когда возникает ряд определенных условий, как следствие приходит просветленное постижение счастья, смысла бытия.
Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда росой обрызганный душистой
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, —
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога...
Может показаться, что, увлекшись находками удивительных соответствий синтаксической формы предложений содержанию текстов, наблюдая проявление и действие вновь обнаруженного семантического явления — синтсимволизма, мы как-то отошли от языково-компьютерных проблем. Но это не так. Синтсимволизм интересует нас не сам по себе. Наша конечная цель — имитировать и этот аспект общей семантики текста на компьютере.
Еще немного терпения, читатель: нам необходимо рассмотреть весь перечень конструкций и все оттенки содержательности их синтаксической формы, иначе мы не сможем приступить к полноценному анализу синтаксической содержательности текстов. Примерно так же, как если бы мы вознамерились читать, не зная всех букв.
А для компьютерного моделирования синтсимволизма анализ текстов необходим: ведь компьютерная программа — это не только то, как программировать, но и то, что программировать. В этой главе мы как раз и занимаемся тем, что готовим языковой материал (что программировать) к его компьютерной реализации в будущем, когда появятся счастливые идеи о том, как это программировать.
Так что продолжим.
Символика несовместимости
Эта символика выражается предложениями, в которых описываются несовместимые события: если происходит одно из них, то не происходит другое; происходит или одно, или другое; происходит то одно, то другое и т. п.
Или Адам любит Еву, или Ева любит Адама. ??
Если Адам любит Еву, то Ева не любит Адама, а если Адам не любит Еву, то Ева любит Адама.
Формула конструкции, трансформация и схема:
На схеме с передачей «вперехлест» (или с зубчатой передачей) хорошо видна несовместимость, а следовательно, дисгармоничность конструкции; если одно колесо крутится в какую-либо сторону, то другое — непременно в обратную.
Ясно, что символика конструкций — дисгармония чувств, явлений, событий. Предложения такого типа должны усиливать отрицательные эмоции: смятение, печаль, уныние. Так оно и есть. Примеров тому множество. Хотя конструкции не особенно употребительны, но, как правило, их скопление обнаруживается там, где их символика соответствует общей тональности текста.
Весьма показательная иллюстрация — стихотворение М. Лермонтова «Тучи». Поэт буквально перечисляет отрицательные явления и эмоции, которые может символизировать конструкция несовместимости, и это перечисление оформлено предложениями и оборотами именно такой символики:
Кто же вас гонит:
судьбы ли решение?
Зависть ли тайная?
Злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
М. Лермонтов вообще очень точно использует символику конструкций разлада, будто выводя их скрытую содержательность на уровень явной понятийной семантики, как, например, в реплике Арбенина из драмы «Маскарад»:
Сначала все хотел, потом все презирал я,
То сам себя не понимал я,
То мир меня не понимал.
А вот как А. Пушкин поддерживает конструкциями несовместимости мрачный юмор стихотворения «Дорожные жалобы»:
Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.
Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.
Конструкция катастрофы
Очень часто конструкции несовместимости употребляются в художественных текстах вместе с другими, последними в нашем перечне — наиболее дисгармоничными конструкциями, в которых констатируется нарушение обычных причинно-следственных отношений.
Чтобы было яснее, о чем идет речь, приведем сначала графическую иллюстрацию таких отношений:
Это порванная велосипедная цепь — одно колесо крутится, и второе должно бы крутиться, но произошла авария, катастрофа, связь порвана, разрушена и больше не действует.
Те же отношения между частями наблюдаются и в предложении:
Хотя Адам любит Еву, Ева не любит Адама.
Обратите внимание на все предыдущие дисгармоничные предложения. Ева в них тоже подозревалась в равнодушии к Адаму, но нигде об этом не было сказано прямо, так что у Адама все же оставалась надежда. Здесь же все рухнуло, трагедия явна и необратима.
Разрушительный характер конструкции проявляется и в том, что ее нельзя преобразовать, нельзя синтаксически трансформировать. Можно сказать:
Адам любит Еву, но Ева не любит Адама, однако это будет та же самая конструкция, только с другой скрепой (но). Так что, как ни меняй колеса, проку не будет — нужно чинить цепь.
Казалось бы, логическое описание таких конструкций невозможно — ведь здесь как раз логика-то и нарушена. Но у математической логики есть инструменты и для описания нелогичности. Это кванторы, которые обозначаются «перевернутыми» (нелогичными) символами, например d — квантор большинства, 3 — квантор существования. С их помощью получается такая формула конструкции:
Читается эта запись так: для большинства А из А следует Е, но существует и такое А, что из А следует не = Е.
Конструкции очень частотны в речи, но в то же время и весьма информативны в том смысле, что писатели широко используют ярко выраженную содержательность их синтаксической формы, порожденную резкой дисгармонией частей, разладом, распадом связи между ними. Символика предложений способствует выражению глубоких трагических переживаний, возникающих в тяжелых и катастрофических обстоятельствах.
Как уже было отмечено, дисгармоничные конструкции двух последних типов несовместимости и катастрофы зачастую употребляются вместе. Так, тема смерти, развиваемая А. Пушкиным в стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц шумных», сопровождается синтаксическим оформлением, состоящим в основном из этих типов предложений. Сначала это многочисленные конструкции несовместимости, исключительно точно соответствующие своей символикой содержанию:
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь своим мечтам.
И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
А затем — четко построенная конструкция катастрофы, сопровождающая мрачные образы смерти:
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать.
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.
Наблюдая за функционированием синтсимволизма, можно было бы, кажется, привыкнуть к тому, что талант писателя точно подсказывает ему выбор нужной конструкции. И все же снова и снова поражаешься глубокому соответствию формы и содержания, когда, заранее зная содержание какого-либо фрагмента произведения, находишь этот фрагмент и обнаруживаешь именно те конструкции, которые искал для иллюстрации использования их символики.
К примеру, каков самый трагический момент романа «Евгений Онегин»? Несомненно, убийство на дуэли Ленского. А нет ли в описании дуэли нужной нам конструкции? Открываем роман, находим описание момента убийства — и пожалуйста:
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить —
но как раз Онегин выстрелил...
Сколько изобразительных приемов, основанных на использовании содержательности языковой формы, применил поэт всего в нескольких строчках! Содержательность звучания, созданная словами как раз, звучащими здесь как выстрел; содержательность ритма, подчеркнутая «бегущей строкой» — переносом единого произносительного целого, когда после слов как раз наступает «непредусмотренная» пауза, подчеркивающая резкое, «оборванное» звучание этих слов; наконец, содержательность синтаксической формы, порожденная употреблением конструкции катастрофы, которую мы и искали.
Очень употребительны конструкции катастрофы в творчестве М. Лермонтова. И опять-таки: особенное их скопление наблюдается в наиболее трагических произведениях, а внутри их — в самых трагических фрагментах.
Весь синтаксис поэмы «Мцыри» пронизан такими конструкциями, и частота их заметно возрастает в экспрессивно наиболее напряженных сценах, например, таких, как схватка с барсом:
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил...
Но я его предупредил.
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!
Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье...
Насыщена конструкциями катастрофы и драма «Маскарад», в особенности трагическое объяснение Арбениных перед смертью Нины:
Арбенин: Умру — и буду все один! Ужасно!
Но ты! не бойся: мир прекрасный Тебе откроется...
Нина: Ты осторожен... никого... нейдут, Но помни! есть небесный суд, — И я тебя, убийца, проклинаю.
Арбенин: Бледна!
Но все черты спокойны...
Нина: Я умираю, но невинна... ты злодей...
Арбенин: Молчишь? О! Месть тебя достойна... Но это не поможет, ты умрешь...
Выразительная символика конструкции используется, конечно, не только при описании явно трагических, катастрофических ситуаций, но и для создания «фонового» настроения, «подсказывающего» отрицательную экспрессию текста.
Вопрос для телевикторины «Что? Где? Когда?»:
— Продолжите строчку из романа Пушкина «Евгений Онегин» Любви все возрасты покорны и объясните общий смысл всей строфы.
Уверен, что многие попались бы на эту удочку и продолжили бы так:
Любви все возрасты покорны.
Ее порывы благотворны
И юноше в расцвете лет,
Едва увидевшему свет,
И закаленному судьбой
Бойцу с седою головой.
Однако это не пушкинские слова, а слова либретто к опере. А вот какова эта строфа у Пушкина и какова его мысль:
Любви все возрасты покорны,
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет
Печален страсти мертвый след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.
Концепция, как видим, прямо противоположная: не «любовь в любом возрасте», а «всему свое время».
Будто предвидя возможное «более приятное» прочтение первой строки, поэт сразу же после нее вводит настораживающее «но». А потом строит трагическое столкновение тем юной и поздней любви, подчеркивая противопоставление не только вторым «но»: он еще и разбивает строфу па два предложения соответственно двум темам, проводя между темами разделяющую их границу.
Слов нет — оперная трактовка «комфортнее», она больше нравится публике, и потому пушкинские слова забываются, первая строчка приобретает популярность в «приятном» варианте, а все «но» из арии убираются. Однако насколько глубже и мудрее суждения Пушкина!
Ну а для нас здесь важно, что в утверждении концепции поэта сыграл свою роль и синтсимволизм.
Синтсимволический ансамбль
Отнюдь не случайно в описаниях символики отдельных конструкций то и дело приходилось отмечать, что вместе с такой-то конструкцией в тексте встречаются еще и такие-то. Так и должно быть: синтаксис художественного текста — не отдельные предложения, а единая синтаксическая ткань, с помощью которой может быть выстроен единый синтсимволический рисунок.
В этом отношении весьма характерно письмо Татьяны к Онегину. Уже говорилось о том, что в нем употребляются конструкции с различной символикой. И действительно—в нем сложно переплетены конструкции гармонии и дисгармонии, надежды и отчаяния.
Начинается письмо с вопросительных предложений, что тоже символично: Татьяна ждет от Евгения ответа. Затем употреблена скрытая конструкция односторонней любви, и сразу же вводится предложение с явной и скрытой символикой распада:
Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Невозможно, разумеется, найти статистически достоверную группу грамотных взрослых русских людей, которые бы ничего не знали об Онегине и Татьяне. Но если вообразить себе такую группу, то можно поставить мысленный эксперимент: закрыть текст письма после этих строчек и спросить информантов, как они думают — ответит Онегин на любовь Татьяны или нет. Скорее всего статистически значимый результат соответствовал бы дальнейшему развитию событий в романе, потому что подсознание читателя уже получило подсказки. На то, что надеждам Тани не суждено сбыться, намекает прежде всего лексика, обладающая отрицательным понятийным и особенно качественно-признаковым значением — презренье, наказать, несчастная доля, капля жалости. Использован также «морфологический символизм» — употреблены отрицательные формы несчастной, не оставите. Просматривается фонетическая символика, так как строка хоть каплю жалости храня насыщена звуками с отрицательными оценками (х, ж, р). И все это богатство «сознательной» и «подсознательной» семантики обрамлено синтаксическими конструкциями с отрицательной содержательностью (но, хотя). Вернее даже сказать, что обрамлено пока только намеками на конструкции распада, поскольку «но» вводит только половину конструкции (первая ее половина отделена точкой), и «хоть» входит в состав не самостоятельного предложения, а деепричастного оборота.
Далее снова идет конструкция неразделенной любви, соединенная с предложениями, поразительно объединяющими содержание с формой:
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз,
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Обратите внимание на третью строчку: там употреблено слово надежда. А конструкция какая? Да ведь это и конструкция надежды! Не если А, то Е, а если бы было А, то было Е. Не гармония, а желание гармонии, надежда на нее.
Тут же в предложение вклиниваются разрушающие «хоть», но через строчку — снова гармоничная конструкция, и опять лишь с надеждой на гармонию, которая может наступить только при определенном условии: нужно А, чтобы было Е.
И так — по всему тексту письма: то символика гармонии, то ее разрушения.
Но все же дисгармоничные конструкции в письме явно преобладают, причем здесь обнаруживаются почти все их виды.
Вот, казалось бы, не особенно трагический по содержанию фрагмент письма:
Но говорят, вы нелюдим,
В глуши, в деревне, все вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.
Однако противопоставление «мы» и «вы» Пушкин оформляет тремя (!) дисгармоничными конструкциями — одной со слабо выраженной дисгармонией (вам скучно, а мы...) и двумя максимально дисгармоничными, катастрофическими (но, хоть). Символика конструкций подчеркивает важность и действительную трагичность противопоставления: ведь именно простодушие деревенской жизни, отсутствие в Татьяне светского блеска и явились причиной высокомерного отношения Онегина к ее любви. А лишь только Татьяна стала светской дамой, Евгений воспылал к ней страстью.
А как нарастает сила дисгармонии конструкций в конце письма! Сначала дисгармония неразделенности чувств, выраженная и лексически и синтаксически:
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает...
В следующем предложении скрыта неполная конструкция несовместимости А или Е:
Надежды сердца оживи
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!
И заканчивается письмо явно выраженной трагической конструкцией распада:
Кончаю! Страшно перечесть...
Стыдом и страхом замираю...
Но мне порукой ваша честь...
Можно привести много примеров различной организации синтсимволического рисунка текстов даже в одном «Евгении Онегине». В письме Онегина Татьяне переплетаются гармоничные и дисгармоничные конструкции, но явный перевес на стороне дисгармоничных, особенно «безответных». В предсмертной элегии Ленского почти все сложные конструкции дисгармоничны, причем разных типов — умеренной дисгармонии, несовместимости, катастрофы.
Но приведем лишь еще одну, небольшую, однако очень выразительную иллюстрацию создания символико-синтак-сического фона художественного текста — стихотворение А. Пушкина «Я вас любил...».
В первой его строфе сначала употреблена конструкция распада, поддерживающая экспрессивно напряженное печальное чувство:
Я вас любил, — любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит...
Однако сейчас же эта конструкция уравновешивается гармоничной конструкцией мудрого чувства — это эмоции замолкают перед доводами разума:
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Хотя здесь логико-структурные отношения выражены нечетко из-за пропуска скрепы (так как, потому что, поскольку и т. п.), но все же причинно-следственные отношения между частями предложения просматриваются довольно явственно.
Далее следует лишь намек на символику разлада. Намек, потому что употреблено предложение как бы «свернутой» конструкции несовместимости:
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим.
Символический оттенок вполне уместен, поскольку в этих строчках — всплеск негармоничного, минорного чувства, вызванный воспоминаниями о неразделенной любви.
Но завершается стихотворение четкой конструкцией полной и спокойной гармонии:
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
Все те взаимодействия, все соответствия содержания текста и его синтаксической формы, которые мы наблюдали в различных иллюстрациях, никак не могут быть случайными — для этого они слишком точны, полны и многочисленны. Это обстоятельство можно рассматривать как веское доказательство существования синтаксического символизма. А возможность вполне строгого описания всех синтаксических конструкций на языке математической логики дает надежду на то, что этому аспекту семантики можно будет обучить компьютер.
И хотя синтсимволизм не играет в речи самостоятельной роли, а несет лишь дополнительную, в основном эмоционально окрашенную информацию, тем не менее на примере художественных текстов и особенно текстов с высшей формой языковой организации — поэтических — мы убедились, что такая дополнительная информация очень важна для достижения максимального воздействующего эффекта. А значит, речь компьютера станет еще более похожей на человеческую, если он сможет имитировать и этот аспект языковой семантики.
Конечно, как мы уже видели, одни и те же синтаксические отношения выражаются по-разному: конструкции «свертываются», их элементы варьируются, синтаксические скрепы оказываются многозначными, а то и вообще опускаются. Во всех таких семантических сложностях синтаксического строения текста подчас трудно разобраться даже человеку, не говоря уж о компьютере. Ведь зачастую для выявления типа синтаксической конструкции приходится обращаться к понятийной семантике предложения и даже текста, чего компьютер сделать не в состоянии.
Значит ли это, что сведения о символике синтаксических конструкций пока еще не могут найти компьютерного применения? Отнюдь нет.
Во-первых, изучение синтсимволизма еще только-только началось. Оно, несомненно, будет продолжаться — ведь обнаружен новый, весьма важный для языка аспект семантики! Развиваясь, теория синтсимволизма усовершенствуется, станет более строгой, а значит, более доступной «пониманию» компьютера. Да и сами компьютеры не стоят на месте, они стремительно совершенствуются и быстро «умнеют», чему, кстати сказать, способствуют и такие исследования, о которых мы с вами беседуем в этой книжке.
Во-вторых, имитировать владение синтаксической символикой компьютер вполне способен уже сейчас. Казалось бы, парадоксальный момент: если при компьютеризации семантических явлений, о которых говорилось в предыдущих главах, компьютеру всегда легче удавался анализ, чем синтез явления, то здесь все наоборот. Найти конструкцию в готовом «человеческом» тексте и проанализировать ее компьютер зачастую не в состоянии, а синтезировать, построить конструкцию — пожалуйста.
Но ситуация объяснима. В живой речи конструкция может быть до неузнаваемости изменена, может иметь массу синтаксических синонимов, входить в состав других конструкций, сама разрываться другими, а также разветвляться, или, наоборот, усекаться, может усложняться или упрощаться. Короче говоря, ее облик в текстах постоянно меняется, и компьютеру за этими изменениями трудно уследить. А вот в случае синтеза компьютер сам строит правильную, полную, как бы «эталонную» конструкцию с заранее известной ему символикой. Например, для подчеркивания гармоничного содержания и положительных эмоций он построит гармоничные конструкции, а для наибольшей выразительности эмоционально отрицательного содержания облечет его в дисгармоничную синтаксическую форму.
Как это будет выглядеть, мы увидим в следующей главе, в последнем диалоге человека с компьютером.
Планета «Значение» в действии
Заключительный семантический хор
На протяжении всей книжки постоянно подчеркивалось, что разделение аспектов семантики проводится лишь с целью их изучения, описания и кибернетического моделирования. В языке все семантические аспекты слиты, сплавлены и действуют в единстве: это общий семантический хор. Но хотя слаженный хор создает впечатление единого звучания, в нем можно выделить ведущие голоса и подголоски, первые и вторые голоса, басы и тенора и т. д. Так и в семантическом ансамбле. Ведущую партию исполняет, несомненно, понятийный аспект, но и семантические ореолы чрезвычайно важны: без них и хор не хор, а лишь один голос.
Полифония семантических голосов и есть важнейшее свойство человеческой речи, без моделирования которого компьютер никогда не сможет имитировать речевое общение с человеком.
Действуя совместно, приходя в гармонию, семантические аспекты еще и усиливают друг друга, как гармоничные колебания при резонансе. Это особенно относится к «неявным» аспектам значения. Они как бы дремлют в нашем подсознании и лишь едва заметны при одиночном действии. Но как только возникает взаимная поддержка, их воздействие многократно усиливается.
Скажем, символика каждой отдельной синтаксической конструкции весьма слаба, ее действие в общем объеме текста и его семантики незаметно. Но как только конструкции вступают во взаимодействие, как только их символика получает поддержку фоносемантики, качественно-признакового ореола, наконец, понятийного ядра семантики, так синтсимволизм становится явным и действенным. В свою очередь, и другие аспекты значения, получая дополнительную «подсветку» синтсимволизма, разгораются еще ярче.
И когда все силы языка, все аспекты его семантики соединяются и направляются в одну цель, создаются языковые шедевры, восхищающие, потрясающие людей, оказывающие на них глубокое и мощное воздействие.
Обратимся еще раз к текстам с наибольшей силой воздействия — к поэзии, — рассмотрим несколько примеров создания гармоничного семантического многоголосия в признанных шедеврах русской поэтической речи и подумаем о возможности комплексного автоматического анализа их семантических ореолов.
Стихотворение А. Пушкина «Зимний вечер».
Его понятийная семантика рисует жуткие образы зимней бури ночью. Качественно-признаковые ореолы слов буря, мгла, вихрь, зверь, завыть, заплакать поддерживают отрицательную эмоциональную оценку понятий. Их «темные», «устрашающие», «тоскливые» характеристики сразу подскажут компьютеру правильную оценку содержания. В звуковой ткани текста доминируют звуки с теми же характеристиками, поэтому компьютер подкрепит сделанную оценку, основываясь на соответствии признаков качественного и фоносемантического ореолов. Наконец, в синтаксическом строении текста тоже доминируют негармоничные конструкции сначала в форме то—то, а затем в форме или—или:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
***
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
Но конструкции несовместимости не самые трагичные, к тому же в тексте, хотя и в свернутом виде (сравнительные обороты), выражены и гармоничные синтаксические отношения. Так что тон стихотворения печален, но не трагичен.
Основываясь на таком комплексном анализе в основном ореольной семантики, компьютер мог бы правильно оценить общий эмоциональный тон и общий экспрессивно-образный строй текста.
С поражающей точностью создана гармония всех аспектов семантики в стихотворении С. Есенина «Отговорила роща золотая». Мы уже наблюдали за сложной игрой звукоцвета в этом произведении. Но оказывается, движение эмоционального тона стиха поддерживается в нем не только звукоцветом, но и содержательностью синтаксических конструкций, создающих синтсимволический рисунок, поддерживающий качественную и фонетическую семантику текста.
Как мы помним, в третьей строфе стихотворения звукоцветовая тональность меняется, создается картина надвигающейся грозы. И как предвестник трагических противоречий появляется конструкция умеренной дисгармонии:
Стою один среди долины голой,
А журавлей относит ветер вдаль...
Гроза разражается сверканием ударного красного А в последнем слове этой строфы, и трагедия разлада подчеркивается двукратным повторением конструкции с той же символикой:
Я полон дум о юности, веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.
Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.
А затухание грозы, возврат в звукоцвете осенних красок поддерживается гармоничными конструкциями:
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.
И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.
Тонко и сложно переплетаются различные аспекты семантики в стихотворении Пушкина «Я помню чудное мгновенье».
В первой строфе много слов с весьма положительной оценкой качественного ореола: чудный, виденье, гений, чистый, красота. Фоносемантика строфы, как мы помним, тоже оценивается положительными характеристика- * ми. Такие оценки поддерживаются и соответствующей синтаксической символикой, созданной свернутыми конструкциями полной гармонии. Компьютер вполне определенно и точно оценит высокую экспрессивность и положительную эмоциональную окраску строфы.
В трех последующих строфах появляются слова с резко отрицательными оценками качественных ореолов: грусть, безнадежный, тревога, шумный, суета, буря, глушь, мрак, заточенье. Причем отрицательный ореол слов от строфы к строфе становится все более выраженным. Резко меняется и фоносемантика, оценки которой полностью соответствуют оценкам качественных ореолов лексики. В синтаксисе исчезают гармоничные конструкции. Все это дает основание компьютеру отграничить первую строфу от трех последующих и сделать вывод о смене эмоционально-экспрессивного фона текста.
Но в двух последних строфах возвращается лексика с положительными качественными ореолами, положительные оценки приобретает фоносемантика, вновь появляются гармоничные синтаксические конструкции. Машина и здесь заметит смену тональности и правильно опишет ореольную семантику текста.
Компьютерные программы для анализа качественного и фоносемантического ореолов уже существуют и работают. Для синтсимволизма таких программ еще нет. А если бы были, компьютер мог бы весьма интересно и с полной иллюзией понимания описать «свои впечатления» от этого стихотворения в беседе с человеком.
Вы начинаете беседу:
— Что вы могли бы сказать о стихотворении Пушкина «Я помню чудное мгновенье»?
Компьютер просчитывает фоносемантику всего текста и обнаруживает, что она описывается признаками «нежное» и «светлое», но положительный (хотя и небольшой) вес имеет также признак «минорное». Анализ качественных ореолов лексики ничего однозначного не дает: она очень экспрессивна, но контрастна по качественным оценкам. Однако синтсимволизм вполне однозначен — все конструкции гармоничной структуры.
Положительных оценок ореольной семантики оказалось больше, поэтому компьютер отвечает:
— Пожалуй, это стихотворение о чем-то нежном и светлом, хотя и с минорными нотами. Вы согласны?
— Вполне. А не могли бы вы рассказать о нем подробнее?
— Разумеется.
Компьютер уже и сам, без наводящего вопроса человека начал анализ стихотворения по строфам, поскольку общая оценка текста оказалась неоднозначной. Он быстро обнаруживает границы смены эмоционального тона я продолжает беседу:
— Эмоциональная композиция стихотворения очень интересна и необычна. Оно делится на такие фрагменты: первая строфа, далее три последующих и затем две последних. При переходе от фрагмента к фрагменту довольно резко меняется настроение. Как вы считаете, я прав?
— Да. Продолжайте.
Подтверждения человека для машины очень важны. Это значит, что она на правильном пути и может продолжать анализ.
— Первая строфа очень экспрессивна. Это восхищение чем-то прекрасным, нежным, светлым и возвышенным. Удивительно гармоничные и выразительные строки! Судите сами:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Компьютер может написать текст на экране дисплея, а если он оснащен синтезатором речи, то может и прочесть стихи «с выражением».
— Почему же вы считаете их такими выразительными?
— Здесь мастерски слиты воедино многие выразительные средства языка: смысл слов, звучание стиха, его мелодика и даже само построение предложения — все находится в гармонии и соответствии, все образует единый эмоционально-экспрессивный рисунок.
— Вот как? Это очень интересное наблюдение.
— В следующем фрагменте от строфы к строфе нарастают минорные, печальные ноты, и четвертая строфа звучит совсем уж мрачно и тоскливо. Но не трагично. Это печаль и тоска, но не катастрофа.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
— Что ж, пожалуй, так и есть.
— А две последних строфы вновь волнуют гармонией восторга, возвращают нежные и светлые образы первых строк.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
Сравните эту беседу с той, которую мы вели с компьютером только по программе анализа фоносемантики. Насколько содержательнее, информативнее, точнее и глубже стали суждения машины! Еще бы, теперь она опирается не на один, а на три ореольных аспекта семантики: качественный, фоносемантический и синтсимволический.
Еще один последний диалог
Комплексный анализ и синтез языковой семантики позволит компьютеру овладеть человеческим языком, имитировать понимание эмоционально окрашенных высказываний человека, правильно на них реагировать, позволит и самой машине строить высказывания, создающие иллюзию эмоциональных реакций, говорить не по-машинному, а по-человечески.
Сейчас еще трудно сказать, как именно будет работать автоматическая система семантического анализа и синтеза, учитывающая не только понятийную, но и ореольную семантику, в какой мере будут необходимы такой системе все те сведения, о которых шла речь в этой книжке. Возможно, что-то из них окажется нужным, что-то второ- и третьестепенным, а кое-что и вовсе не пригодится. Как знать?
Вот, кажется, уж звукоцвет — такое неожиданное явление даже и для человека. Зачем оно компьютеру? Но ведь мы пока плохо представляем себе, в каких условиях, обстоятельствах и ситуациях может оказаться говорящий по-человечески компьютер или робот, что за проблемы ему придется решать, какие функции выполнять.
Взять хотя бы такую проблему. Уже и сейчас человеку иногда приходится работать либо совсем одному, либо в небольшом коллективе, да еще и в экстремальных психологических, а порой и физических условиях. Например, спелеологи в пещере, альпинисты на сложном маршруте, покорители больших морских глубин, космонавты в полете. Во всех подобных ситуациях необходимо вести постоянный контроль за состоянием человека. Для этого применяются разные датчики, которые прикрепляются на тело человека, но они не очень удобны в работе, а самое главное — далеко не всегда могут дать нужную информацию о состоянии психики. Но есть и другой — естественный датчик, который чутко реагирует на изменения психологического состояния человека: его речь. Вспомните, иногда по телефону вы спрашиваете собеседника:
— Что это ты приуныл?
Или:
— Чему ты там радуешься?
Как вы догадались о его эмоциональном состоянии? Ведь вы человека не видите, и никакие датчики не посылают вам сигналов. Ясно — по его речи. И не только по словам, но и по тембру, интонации, то есть по звучанию голоса. А не окажется ли так, что и ореольные аспекты семантики, порожденные формой речи, реагируют на изменения эмоционального состояния говорящего? А вдруг и фоносемантика, и синтсимволизм, а возможно, и звукоцвет могут служить такими индикаторами? Вот тогда и найдется работа компьютеру, умеющему анализировать эти семантические явления.
Или другая сторона проблемы. Связь с людьми, работающими в таких условиях, поддерживается в основном через телевидение и радио, где речевой канал исключительно важен. Да и на борту батискафов, космических кораблей, орбитальных станций не сегодня завтра появятся говорящие компьютеры и роботы. Необходимо, чтобы речь, адресованная людям, особенно находящимся в сложных, порой экстремальных условиях, воздействовала на них не как попало и уж, конечно, не приводила бы к отрицательным результатам, не ухудшала бы психологического состояния людей, а наоборот, улучшала бы его. И здесь хорошо бы все использовать — и понятийное значение, и ореольные семантические аспекты речи. А звукоцвет мог бы и особенно пригодиться — ведь он воздействует на подсознание довольно сильно.
Да и вообще, в долгом космическом полете совсем не плохо иметь собеседника, который располагает огромным запасом разнообразной информации, способен рассказать много интересного и полезного, может почитать стихи, даже с цветозвуковым сопровождением, «понимает» и учитывает в беседе ваше эмоциональное состояние, к тому же и сам умеет говорить живо, эмоционально, по-человечески.
Представим себе такую беседу между человеком и машиной, имитирующей понимание и выражение различных аспектов языковой семантики. Как будет названо такое устройство, неизвестно. Едва ли словом робот. Оно звучит хотя и как сильное, быстрое, но и как грубое, страшное. Скорее всего оно будет оставлено за ловкими и работящими, но «безмозглыми» автоматами, которые сейчас успешно трудятся на заводах. А для устройств другого плана в языке уже идет поиск обозначения — говорят «интеллектуальные роботы», «роботы третьего поколения», «умные роботы» и т. п. Все эти словосочетания, понятно, неудобны, нужно слово, одно слово, хорошо соответствующее называемому явлению. Может быть, это будет компер, может, кибер.
Мы назовем наш автомат Кибриком, а он своего собеседника будет называть Командиром. Они находятся вдвоем в такой ситуации, когда связь с внешним миром затруднена — то ли это длительное дежурство в отдаленной лаборатории, то ли работа на орбитальной станции, то ли космический полет. Вместе они недавно, и Командир еще не знает всех способностей Кибрика. Беседа будет содержать значительный элемент фантастики, но не беспочвенной, а целиком основанной на тех сведениях о языковой семантике, которые нам известны.
Командир безуспешно пытается починить некий прибор:
— Ну что ты будешь делать с этими куаторами! То один летит с катушек, то другой. Бьешься, бьешься — и хоть бы хны.
Реплика не имеет к Кибрику отношения. Просто Командир выражает вслух свое отчаяние. Но Кибрик все равно анализирует речь человека. Никакого понятийного содержания из этих высказываний Командира машина не извлекает. Нет также слов, которые бы подсказали оценку своими качественными ореолами. Но Кибрик улавливает раздраженный тон речи; просчитав фоносемантику, получает отрицательные характеристики (и неудивительно — в речи так и мелькают «плохие», «темные» и «безрадостные» X, Ш, Т, У), а по резко негармоничным сиитаксическим конструкциям (то-то, хоть) окончательно убеждается, что Командир находится во взвинченном состоянии. Если наш Кибрик владеет фразеологией, то она тоже подкрепит этот вывод, поскольку все обороты речи свидетельствуют о ее отрицательной эмоциональной насыщенности (что ты будешь делать, летят с катушек, бьешься, бьешься — и хоть бы хны).
Короче говоря, Кибрик решает, что пора приходить человеку на помощь. Пытаясь оказать на его психику смягчающее воздействие, он подбирает слова с положительными качественными ореолами: спокойно, Командир, помогать. Старается, чтобы его реплика звучала светло, мягко, приятно, поэтому подбирает мягкие согласные НЬ, ЛЬ, «светлый» и «красивый» гласный О, «нежные гласные Е, И. Не забывает и про синтаксис — строит гармоничную конструкцию «разумного чувства» если — то:
— Спокойней, Командир. Если могу помочь — говори.
Но дело у Командира не клеится, и он раздражается все больше:
— Да чем ты поможешь? Не фурычит траггер, да и все. А почему, никак не соображу.
Снова анализ понятийного и качественного содержания ничего не дает, а отрицательная выразительность фоносемантического ореола возрастает. Синтаксис тоже негармоничен. Кибрик делает вывод, что это опять чисто эмоциональное высказывание, и пытается применить другой психологический ход. Он изрекает нравоучение:
— Нужно просто взять себя в руки.
В таких ситуациях нравоучительные советы могут иметь различные последствия. Иногда они действительно действуют, но чаще всего вызывают обратный эффект. Кибрик готов к любому варианту: подействует — хорошо, а нет — значит, нужно дать возможность выхода отрицательным эмоциям, разрядить возрастающее напряжение.
Командир действительно взрывается:
— Слушай, не лезь еще ты тут со своими штучками. И так тошно, а тут еще он суется.
Кибрик сразу улавливает «шипение» речи Командира (это скопление Ш и Щ). Проявляются и отрицательные оценки качественных ореолов слов тошно, соваться, лезть. Отрицательна и фразеология — и так тошно, не лезь со своими штучками, не суйся. В синтаксисе сохраняется дисгармония. Кибрику ясно — пора выпускать пар. Для этого нужно еще чуть подогреть эмоции человека и дать им выход, направив на какой-либо объект, хотя бы взять огонь на себя. Поэтому он строит реплику, лишенную понятийного значения, но с резко отрицательной эмоциональной окраской семантических ореолов в основном за счет негативной качественной оценки фразеологизмов и соответствующего звучания:
— Что ты кипятишься? Разошелся, как холодный самовар.
Командир свирепеет:
— Ах ты, железяка! Ты у меня дождешься! Вырублю!
Нет лучшего способа раздуть скандал, чем ответить на оскорбление, и нет лучшего способа погасить его, чем замолчать и сделать обиженный вид. Кибрик замолкает.
Может показаться, что человек в этой ситуации слишком невыдержан и капризен, как ребенок, а машина мудра и расчетлива, как воспитатель. Но не будем забывать, что компьютер только имитирует эмоции, целиком опираясь на речь человека. На самом деле это человек управляет с помощью своей речи поведением машины, он говорит не с ней, а сам с собой, со своей психикой, с эхом самого себя. Однако иллюзия общения усиливается еще и от того, что компьютер является как бы представителем речевого сознания и подсознания всех говорящих на данном языке людей. Так что в конце концов человек говорит не с машиной и не с самим собой, а с «усредненным» или «суммарным, коллективным» человеком.
А что касается невыдержанности, то вспомните себя, когда вы мучаетесь с ремонтом какого-либо технического устройства, особенно если рядом никого нет. Вы наверняка тоже не удерживаетесь от реплик, и боюсь, они не всегда вполне корректны. Когда скрючившись лежишь под автомашиной и бьешься с неудобной гайкой или на морозе пытаешься оживить заглохший мотор — еще и не такое скажешь, а то и пнешь ее в сердцах по шине.
Но вернемся к поссорившимся коллегам. Некоторое время работа идет в молчании, но человеку нужна помощь техники. Он уже разрядился, поостыл.
— Кибрик!
— Ну.
Ответ хмурый, и Командир хочет загладить обиду:
— Не сердись. Я не знал, что ты такой обидчивый. Прозвони-ка лучше все внешние цепи.
Кибрик, разумеется, зла не помнит. Ему только нужно было вернуть человеку хорошее расположение духа. В реплике Командира он уже не находит отрицательных оценок семантики. В синтаксисе замечает конструкцию «односторонне направленного чувства» (Я не знал, что...). Поэтому спешит восстановить гармонию в отношениях, для чего находит самую гармоничную — объединительную — конструкцию:
— Ладно, что было, то прошло. — Затем выполняет порученное ему дело и сообщает: — Здесь все нормально.
— А блок А-2?
— Вот оно, Командир! На выходе мощности нет.
— Посмотри описание блока.
— Два контура тригенных куаторов, соединены через региттер.
При таких тестах скорее всего неполадки в соединении.
— Молодец, Кибрик! Это мы в момент поправим. Как теперь?
— Полный порядок!
— То-то же. А ты в бутылку полез. На что ты, кстати, обиделся, на железяку?
— Конечно.
— Понапихали в тебя программисты всякой чепухи.
— При чем тут программисты? Я и сам знаю, что это слово грубое и некрасивое.
— Ишь ты, какой умный!
Понятийно и качественно реплика звучит как бы похвально, но Кибрик «знает», что выражение формы ишь ты, какой... насмешливое. Он находит слово с несоответствием звучания и значения, но с ярко выраженной экспрессивностью звучания. Такие слова, как правило, развивают иронически-насмешливые переносные значения, так что Кибрик платит собеседнику той же монетой:
— Ох и язва ты, Командир!
Ответ удивляет Командира: надо же, машина, а насмешки «понимает».
— Нет, я смотрю, ты действительно силен!
— Спасибо, Командир.
— Кушай на здоровье.
Последняя реплика пониманию Кибрика уже недоступна, поскольку ее ироническая окраска чисто ситуативна. На всякий случай он решает помолчать. Да и Командир наговорился:
— Ладно, довольно болтать. Пока я буду заниматься ужином, ты обработай всю информацию с траггера. А чем займемся вечером?
— О, я такой сюрприз приготовил! Нашел стихи с дивным звукоцветом. На меня они произвели большое впечатление.
— Ого! Ты и поэзию любишь?
— Не всякую, не всякую.
— Ну что ж, вечером посмотрим, какой у тебя вкус. Приступай к работе.
Сегодня подобный разговор с машиной еще не может состояться, хотя в принципе он вполне возможен. Но уже сейчас ничто не мешает объединить существующие программы анализа понятийной, качественной и фонетической семантики, что сразу даст возможность компьютеру имитировать понимание очень тонких, «человеческих» черт языкового значения.
Итоги и перспективы
Если бы внеземной космический корабль впервые приближался к Земле, то с его борта сначала она выглядела бы единым диском, на котором по мере приближения начинают проступать детали — скопления облаков, проглядывающие сквозь них континенты. Вот корабль проходит атмосферу, летит над водами океана, над лесами, приземляется на земную твердь. Прибывшие космонавты начинают исследование планеты, анализируют воздух, воду, почву, обнаруживают кипение жизни на Земле. Уже эти первые сведения дают им богатейшую информацию, но только мы, земляне, знаем, как много им еще нужно изучить, чтобы составить себе более или менее полное представление обо всех аспектах строения планеты и жизни на ней.
Так и мы с вами, читатель. При дальнем, стороннем взгляде на планету «Значение» казалось, что это единое целое, но, вглядываясь все более пристально, мы обнаруживали все новые аспекты значения, все более тонкие его детали, наблюдали их действия, их жизнь. Однако мы отдаем себе отчет в том, что и это — лишь довольно общий взгляд, первое общее впечатление о сложном, изменчивом явлении, находящемся, как Океан Соляриса, в постоянном, исполненном глубокого смысла движении.
Наиболее полно и детально мы исследовали атмосферу планеты — ее фоносемантический ореол. Видели темные плотные тучи — фоносемантические слова, в которых звуковая содержательность становится явной и заслоняет собой другие аспекты значения. Наблюдали за движением легких облаков — слов с заметной фоносемантикой, но и с хорошо просматривающимися другими составляющими лексического значения. Видели молнии и радугу звукоцвета.
Осознав исключительную важность качественно-признакового аспекта — «ореола жизни», — мы в то же время убедились в сложности его изучения и лишь уяснили себе пути его освоения.
Углубиться в познание основы значения, его «тверди», его понятийного ядра мы смогли лишь едва-едва и знаем, какой это трудный путь. Неудивительно: вгрызаться в землю несравненно труднее, чем воспарять к облакам.
И еще мы заподозрили существование синтсимволизма — неких межпланетных сил тяготения. Это как луна днем — ее не видно, но она из космоса оказывает свое воздействие на всю планету: на воды океана, на земную жизнь и даже на нашу психику.
Все это сложное единство взаимодействующих сфер и стихий мы попытались вложить в «сознание» компьютера, а чтобы проверить, насколько «понятливым» он оказался, заводили с ним разные беседы. Кое-что из этой затеи удалось, кое-что компьютер не в состоянии «сообразить», потому что мы и сами не уяснили себе многого и не можем дать толковых объяснений машине. Хотя и надеемся, что со временем сумеем это сделать, сумеем научить компьютер имитировать нашу живую, эмоциональную речь, чтобы наладить с ним диалог на нормальном богатом и ярком человеческом языке.
Наши диалоги с компьютером, не вполне серьезные, иногда с изрядной долей фантастики, показывают между тем серьезность и важность проблемы учета всех аспектов семантики для речевого общения человека с машиной, а также свидетельствуют о принципиальной возможности компьютерного моделирования как логических, так и оценочных, эмоциональных, экспрессивных сторон языкового значения и даже подсознательных семантических нюансов.
Но еще об одном свидетельствует работа компьютера с различными аспектами семантики — о том, что никакого интеллекта в этой работе компьютер не обнаружил, да и обнаружить, понятно, не мог. Хотя мы иногда и употребляли выражения «компьютер понял, сообразил, решил» и т. п., все это не более как вольные метафоры. Ни на долю секунды он ничего не осознал, не понял, не сообразил. Он и знать не знал и ведать не ведал, чем занимался, когда высчитывал по нашим программам разные числа, которые говорили нам об удивительных, неизвестных нам ранее сторонах языковой семантики. Речь компьютера — эхо нашей речи, только управляемое эхо, с меняющимися параметрами.
Так что автор остается при твердом убеждении в том, что при любом уровне кибернетизации человеческого языка машина никогда не постигнет его до конца, как никогда она не постигнет человеческого мышления и не будет мыслить, как человек. Для этого ей пришлось бы стать человеком — телесным, смертным, со всеми его желаниями и ленью, надеждами и отчаянием, стремлениями и безразличием, любовью и ненавистью, с его способностями творить добро и зло, забывать старое и открывать новое. А чтобы эмоционально подкрепить свою позицию, автор рискнул написать стихотворение, которым мы и закончим книгу.
Я взвесил звук,
измерил и расчислил,
В загадку слова хитростью проник.
И умное злодейство я замыслил —
Предать железу
свой живой язык.
И обуян гордыней ненасытной,
И детективной суетой объят,
На перфокартах я дырявил биты,
Отдав машине речи суррогат.
Но только дар —
изведать постиженье,
Но только судорожный спор страстей,
Но только тайноречье вдохновенья
Неотторжимы
от души моей.
|