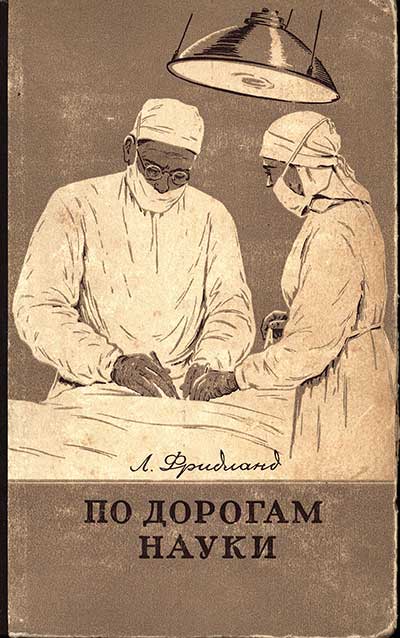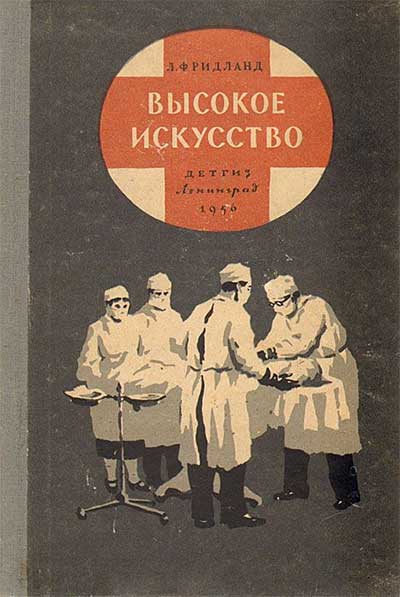Сохранить как TXT:
doroga-medicina-1954.txt
+ Текст книги 1956 г. того же автора «Высокое искусство» (о хирургии):
iskus-medicina-1956.txt
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КНИГИ «ПО ДОРОГАМ НАУКИ»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие 3
Глава первая. Ампула жизни 11
Глава вторая. Обманутая смерть 57
Глава третья. Борьба за время 78
Глава четвертая. Искусство восстановления 98
Глава пятая. Осада сердца 123
Глава шестая. Борьба со старостью 155
Глава седьмая. Стимуляторы жизни 186
Глава восьмая. Микробы против микробов 214
Глава девятая. Когда мозг спит 250
Глава десятая. Перед победой 283
Глава одиннадцатая. Найденные связи 330
Глава двенадцатая. Высокое давление 398
Заключение 444
«...наша страна с ее революционными навыками и традициями, с ее борьбой против косности и застоя мысли, представляет наиболее благоприятную обстановку для расцвета наук».
И. В. Сталин.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В этой книге речь идет об открытиях медицинской науки.
О Замечательны успехи, которыми советские исследователи обогатили медицину — науку о болезнях человека и способах борьбы с ними. Исключительно благоприятные условия работы, в которые поставлены советской властью ученые нашей страны, позволили нашим физиологам, биохимикам, биологам, нашим исследователям дать в руки врачей новые и мощные средства для предупреждения и лечения заболеваний.
Что такое болезнь? Человек здоров, пока в его организме нормально совершаются все физиологические процессы — процессы дыхания, пищеварения, кровообращения, обмен веществ и нервно-психические процессы. Болезнь есть нарушение правильного течения этих процессов.
В нашей книге рассказывается о том, какими новыми способами восстанавливаются, если не все, то многие нарушения жизнедеятельности организма; рассказывается о том, кто и как в наше время сумел открыть эти новые способы.
Эти открытия не являются результатом случайности, непредвиденности, неожиданности? Нет. Они подготовлены всем ходом развития науки.
Путь, по которому идет исследователь к открытию, неровный и тяжелый путь. Достижение желанной цели требует долгих лет упорной работы, настойчивости, неустанных усилий, сопровождающихся сомнениями, неудачами, подчас глубокими разочарованиями. Зачастую мысль ученого упирается в препятствия, кажущиеся непреодолимыми.
Если обратиться к истории медицины, то можно увидеть, что новаторы почти всегда сталкивались не только с трудностями самой проблемы. Очень часто они наталкивались также и на сопротивление людей, на сопротивление других ученых. Немалых трудов стоило новаторам науки преодолеть и устарелые реакционные взгляды, живучие предрассудки, например, религиозные. Многие из ученых становились жертвами капиталистической конкуренции. В качестве разительного примера можно привести историю открытия хлороформа.
Сто лет назад медицина дала человечеству это чудесное средство для борьбы с болью. Но первые врачи, которые пользовались хлороформом при операциях, не только встречали упорное сопротивление со стороны коллег, боявшихся уменьшения своих доходов, но и едва не попали под суд «за покушение на божественную волю», так как они обезболивали роды, а «бог назначил человеку рождаться в муках».
Преодолевая скептицизм, недоверие, а порой и насмешки многих людей науки того времени, шел к своим открытиям Пастер. На ученых диспутах его доводы и доказательства не раз ожесточенно оспаривались, а каждая неудача в опытах вызывала укоры и даже издевательства.
Фагоцитарная теория иммунитета, созданная Мечниковым и занявшая прочное место в медицине, встретила в свое время резкую оппозицию со стороны многих ученых. Против взглядов Мечникова выступил, например, такой крупный микробиолог, как Роберт Кох, объявивший вначале труды Мечникова ошибочными.
Советские исследователи тоже иногда сталкивались не только с трудностями, возникающими в процессе самой работы, но и с отрицательным отношением, с непониманием их со стороны отдельных ученых. Однако все новое, передовое, прогрессивное в нашей стране получает заслуженное признание. Ведь советские исследователи работают в условиях, совершенно отличных от тех, в которых находятся ученые в капиталистических государствах.
В СССР правительство не жалеет средств для развития передовой науки, которая ставит перед собой задачи улучшения жизни людей, облегчения их труда, поднятия культурного уровня населения, охраны его здоровья. Деятели науки окружены у нас заботой и любовью народа. Именно в нашей стране прозвучали слова Иосифа Виссарионовича Сталина, обращенные к людям науки: «Смелее экспериментируйте... Мы вас поддержим».
Поэтому советским ученым неизмеримо легче работать, чем ученым в странах капитала. Естественно, это обеспечивает нашим исследователям успехи в преодолении препятствий, которые стоят на пути к овладению законами мертвой и живой природы. Людям науки, в том числе и медицинской, в нашей стране неизмеримо легче выполнять стоящие перед ними задачи.
По-новому поставлен у нас вопрос о борьбе с причинами болезней. Роли среды, социально-бытовой обстановки отведено настоящее место.
Общеизвестно, что, например, возбудителем туберкулеза является микроб — так называемая палочка Коха. Но далеко не каждый человек, в организм которого проникла палочка Коха, заболевает туберкулезом. Можно почти безошибочно сказать, что если человек находится в плохих жилищных условиях: живет в сырости, тесноте, духоте, если питается он недостаточно, а работу выполняет тяжелую, выматывающую силы, если труд такого человека не охраняется законодательством, то он легко становится жертвой туберкулеза и других болезней. Наоборот, при удовлетворительных жилищных условиях, при нормальном отдыхе после нормального рабочего дня, при достаточном питании опасность заболеть туберкулезом ничтожна.
То же самое относится и ко многим другим заболеваниям. Так, например, при длительном пребывании в сыром, лишенном солнечного света помещении легко возникают заболевания суставов, так называемые ревматические заболевания, болезни дыхательных путей; изнурительный труд, психическая угнетенность приводят к появлению болезней кровеносных сосудов, сердца. Следствием неправильного питания являются болезненные изменения в желудке, кишечнике, печени.
Непрерывное улучшение материально-бытовых условий жизни и повышение культурного уровня трудящихся являются в нашей стране основой успеха в борьбе с болезнями.
Вот почему в Советском Союзе из года в год уменьшается число детских заболеваний, снижается детская смертность и смертность вообще. Исчезли эпидемии брюшного, сыпного и возвратного тифов, холеры и некоторых других заразных болезней. Все меньше и меньше становится детей-рахитиков, удлиняется средняя продолжительность жизни. Число жертв туберкулеза падает.
Эти успехи могли быть достигнуты только после Великой Октябрьской социалистической революции, обеспечившей невиданный рост материального благосостояния народа и подъем культурного уровня трудящихся масс.
Противоположность между трудом умственным и физическим в нашей стране сглаживается, устранена эксплуатация человека человеком. Нашей Конституцией узаконены права на труд и отдых. Создана огромная сеть оздоровительных учреждений, курортов, санаториев, домов отдыха, предназначенных для самых широких масс трудящихся.
Чтобы изучить явления, связанные с болезнью, необходимо знать, как протекают процессы жизни в нормальном организме. Другими словами, надо знать законы, управляющие биологическими и, особенно, физиологическими процессами. Только опираясь на точное понимание физиологических функций в здоровом организме, можно успешно бороться с их нарушением.
Известно, что в создании биологической науки, науки о развитии живых существ, огромную роль сыграло учение Дарвина об изменчивости и наследственности. Дарвин доказал, что изменения в организме происходят не в результате действия каких-то особых неизвестных внутренних сил, а под влиянием внешних причин, внешней среды.
Великий русский ученый Иван Михайлович Сеченов указывал, что организм необходимо рассматривать в единстве с условиями его жизни. Если знать эти условия, то можно, управляя факторами внешней среды, влиять в желаемом направлении на развитие и жизнь организма. Ставя живое существо в те или иные условия, можно менять происходящие в нем процессы, укреплять их или нарушать, т. е. вызывать болезни.
Зависимость организма от условий внешнего мира хорошо понимали лучшие передовые врачи и прежнего времени. Знаменитый русский клиницист Сергей Петрович Боткин давал следующее определение болезни: «Болезнь — это реакция организма на вредно действующее на него влияние среды».
Другой виднейший терапевт конца прошлого века Алексей Александрович Остроумов определял болезнь почти теми же словами: «Болезнь — это нарушение нормальной жизни человека условиями его существования в среде».
Отсюда совершенно ясно, что в медицине нельзя подходить к решению вопроса о том или ином состоянии организма в отрыве от условий той среды, в которой он живет. Нельзя изучать физиологию и патологию человеческого организма вне связи со средой и социальными особенностями коллектива. Только учитывая обстановку, окружающую организм, можно научиться изменять течение болезни.
Первым исследователем, открывшим механизм действия внешнего мира на организм, и прежде всего путем воздействия на большие полушария головного мозга, был великий ученый Иван Петрович Павлов. Найденные им законы, управляющие работой мозга, образование так называемых условных рефлексов, явления возбуждения, торможения условных рефлексов, иррадиации, концентрации, индукции, создали совершенно новую науку о животном организме, о сложном взаимодействии его с окружающей средой.
Вместе с тем труды Павлова закладывают новые, подлинно научные основы современной лечебной и профилактической медицины.
Гениальное учение Павлова об условных рефлексах показало, что все процессы, происходящие в организме, подчиняются центральной нервной системе, что деятельность головного мозга оказывает решающее воздействие как на нормальные функции органов и тканей, так и на патологически измененные функции.
Такое понимание условий, в которых начинается, развивается и заканчивается болезнь, устраняет прежнее воззрение на заболевание как на изолированное, очаговое поражение того или иного органа. Болезненные процессы в организме, представляющем собой, благодаря объединяющей деятельности центральной нервной системы, единое целое, естественно связаны с жизнедеятельностью всех органов и, особенно, с функцией больших полушарий головного мозга.
Успех всех открытий в медицине становится понятным только в том случае, если допустить, что на новые лечебные методы и средства, применяемые для борьбы с болезнью, дает благоприятную реакцию, в первую очередь, центральная нервная система. И так происходит, надо полагать, даже тогда, когда сам исследователь не учитывает или не видит этого обстоятельства.
Павловское учение об условных рефлексах, развитое его учениками, прочно ввело в медицину идею нервизма, идею о решающей роли нервной системы во всех нормальных и патологических процессах, происходящих в организме.
В зарубежной медицине еще сохраняются взгляды, утверждающие, что некоторые болезни родителей должны обязательно появляться у детей и что такую наследственность предотвратить невозможно. Точно так же довольно широко распространено мнение, что если под влиянием внешних факторов в организме возникнут новые свойства, новые признаки, улучшающие состояние, жизнеспособность тканей, то такие приобретенные признаки являются случайными и не передаются по наследству.
На чем основано подобное нелепое утверждение? На ложном учении о том, что живой организм будто бы состоит из двух совершенно различных частей: из зародышевых клеток, или идиоплазмы, и из тела — сомы, или трофоплазмы. Идиоплазма есть как бы хранитель «наследственных свойств». Наследственно передаются только те признаки, которые заключены в этом «веществе наследственности», в идиоплазме. Приобретенные признаки, вызванные изменениями в теле, в соме, наследственно не передаются. На идиоплазму же внешние факторы не действуют.
Это антинаучное течение в биологии связано с именами буржуазных реакционных ученых — Менделя, Моргана и Вейсмана.
Замечательный русский биолог И. В. Мичурин целиком опроверг антидарвиновские воззрения Менделя, Моргана, Вейсмана и их последователей. Он показал, что в мире живых существ — растительных и животных, наследственность и ее проявления зависят также и от условий жизни, что не существует «вещества наследственности», что наследственностью можно управлять, изменяя ее в нужном для человека направлении.
Наследственные свойства можно изменять, меняя условия существования организма.
К. А. Тимирязев, И. В. Мичурин, Т. Д. Лысенко внесли в теорию Дарвина дополнения, обогатившие учение об изменчивости и наследственности. Они создали советский творческий дарвинизм, не только объясняющий явления природы, но и управляющий ими в интересах социалистического общества.
Если живое существо развивается в обычной для него обстановке, то оно очень мало отличается от родителей. Если же заставить его расти в новых условиях, то тип развития получится иной, с измененной наследственностью. Усиливая одни факторы среды, ослабляя другие и комбинируя их, можно создавать по плану сорта растений, породы животных с желаемыми признаками.
Мичуринское направление в биологии оказалось очень плодотворным. Оно позволило произвести множество чудесных изменений в растительных и животных формах, переделывать растения, превращать, например, озимую пшеницу в яровую, что имеет огромное экономическое значение для нашей страны. Достаточно указать, что И. В. Мичурин вывел более 350 новых сортов плодово-ягодных растений.
Создавая зимоустойчивые виды растений, ученики Мичурина и Лысенко продвинули границу разведения овощей и фруктов на далекий север. Творческий советский дарвинизм привел к созданию высокопродуктивных пород домашних животных, обладающих повышенной выносливостью, дающих большое количество молока, жира, мяса, шерсти и т. д.
Законы мичуринской биологии являются общими и для медицины. В свете их по-новому ставятся проблемы борьбы с болезнями и их предупреждения. Мичуринская биология вооружает нас и в разрешении проблемы наследственной передачи приобретенных признаков.
Творческий советский дарвинизм открывает большие перспективы и перед микробиологией. Известны, например, такие явления как «привыкание» микробов к таким лекарствам, которые их раньше убивали. Препарат стрептомицин уничтожает так называемых менингококков, возбудителей опасного для жизни воспаления мозговых оболочек. Но если стрептомицин применять в недостаточной, неубивающей дозе, то менингококки в конце концов переносят его как безобидное средство. Создается «привыкание» к этому веществу. В дальнейшем оно может даже стать необходимым для их жизнедеятельности. Это значит, что обмен веществ у менингококков под длительным влиянием стрептомицина изменился. И они дают потомство уже с новыми свойствами. Следовательно, под действием лекарственных веществ появились микробы с новыми признаками, передающимися наследственно.
Медицина, опираясь на мичуринское учение об изменчивости и наследственности, может ставить перед собой задачу превращения опасных для здоровья микробов в безвредные. Это подтверждают и замечательные работы советских ученых-микробиологов. Они получили вакцины из живых микробов, с успехом применяющиеся для борьбы с болезнями человека и животных.
Идеи Мичурина совпадают с идеями другого русского ученого. Еще много лет назад вопрос о наследственности приобретенных признаков поднял русский физиолог Иван Петрович Павлов. По его учению, на фундаменте врожденных рефлексов вырабатывается у живых существ, у животных и у человека, огромное количество разнообразных условных рефлексов — временных связей. Они составляют всю ту сумму привычек и навыков, которые определяют поведение животного и человека.
Возникает вопрос: неизменно ли число врожденных рефлексов? Могут ли появляться новые врожденные рефлексы? Могут. Некоторые наиболее частые, наиболее постоянные условные рефлексы способны переходить в безусловные. Они становятся приобретенными признаками, передающимися наследственно. Павлов писал: «Можно принимать, что некоторые из условных, вновь образованных, рефлексов позднее наследственностью превращаются в безусловные». Отсюда следует, что те или иные наиболее полезные для организма условные рефлексы могут стать постоянными, врожденными, передающимися новым поколениям.
В июне-июле 1950 года в Москве состоялась объединенная сессия Академии Наук СССР и Академии Медицинских Наук СССР, посвященная проблемам учения Павлова. Виднейшие ученые Советского Союза обсуждали самые животрепещущие вопросы физиологии, медицины.
Сессия показала, что в нашей стране наука, основанная на животворных идеях диалектического материализма, идет вперед как нигде, ни в каком другом государстве. Ее достижения огромны.
Работы объединенной сессии, утвердившей великое значение павловских идей, несомненно повлекут за собой дальнейший могучий расцвет медицины как лечебной, так и профилактической.
В этой книге автор рассказывает о болезнях и средствах борьбы с ними, которые открыты и предложены медициной.
При чтении книги следует иметь в виду, что открытия медицинской науки могут с успехом служить для устранения человеческих недугов только в определенных социальных условиях. От социальных условий вообще зависит возможность или невозможность пользоваться в широких масштабах достижениями медицины. На примере нашей великой Родины мы можем видеть, какого высокого расцвета может достигнуть наука, освобожденная от цепей капитализма и служащая народу в его борьбе за социализм и коммунизм.
Об этом прежде всего необходимо помнить, когда мы говорим о великом значении для человечества тех открытий, которые совершила медицинская наука за время своего многовекового существования.
Глава первая. АМПУЛА ЖИЗНИ
Ни одна ткань в живом теле не вызывала такого интереса к себе, как кровь. Крови отводилось значительное место и в религиозных воззрениях, и в обрядах, и в отношениях между отдельными людьми, и в различных способах врачевания. За ней признавались какие-то особые свойства.
На протяжении многих веков отношение к крови почти не менялось. Всегда считали, что кровь обладает особенным влиянием на человеческую жизнь.
Известно, что в разных странах и в разные времена клятвы, например, а часто и договоры скреплялись кровью. Долгое время кровь обязательно входила главной составной частью в снадобья и лекарства, которые должны были действовать особенно сильно. И хотя такие факты относятся, разумеется, уже к области суеверия, тем не менее они совершенно ясно показывают, какое место занимала кровь в сознании и воображении людей.
Конечно, случайным подобное отношение к крови быть не могло. Оно возникало благодаря огромной роли, которую действительно эта особая, жидкая, красного цвета ткань играет в процессах жизни и о значении которой даже древнему человеку было легко судить.
Ведь и в самые отдаленные времена люди всегда могли наблюдать, что жизнь угасает по мере того, как вытекает из тела кровь. Чтобы понять это значение крови, не нужно быть ученым. Каждый человек видел и понимал, что означает для жизни кровь.
Отсюда и возникало глубокое благоговение перед кровью. За ней признавалась могучая сила и исключительная роль в судьбе человека.
Можно ли считать неправильным такое воззрение на кровь? Нет, оно вполне соответствовало огромнейшему значению крови для живых, и особенно для высокоорганизованных, существ.
И наука все глубже и глубже постигала всеобъемлющее значение крови. В крови, как в зеркале, отражается все, что происходит в организме. Ни одно изменение в тканях тела, ни одно нарушение биологических процессов не совершается без участия крови.
Есть болезни, притом тяжелые, которые некоторое время почти ничем себя не обнаруживают. На этой стадии их можно открыть только исследованием крови. Как пример приведем течение диабета, так называемого сахарного мочеизнурения. На протяжении довольно длительного периода это заболевание очень часто никакими характерными симптомами не проявляется. А в крови в это время уже происходят такие явления, такие изменения, которые позволяют безошибочно поставить диагноз.
Целый ряд заболеваний нельзя ни точно установить, ни определить степень их серьезности, а также нельзя узнать и об успехе лечения без проверки того, что делается в крови.
Кровь дает тончайшие реакции на болезнетворное начало, внедрившееся в организм. Они чрезвычайно важны для контроля течения патологических процессов. Теперь при лечении болезней в подавляющем большинстве случаев пользуются данными исследования крови.
Изучение крови показало ученым необыкновенно сложную картину развертывающихся в ней процессов. Кровь оказалась средой, построенной особенным образом. В ней триллионы клеток и разнородные вещества, выполняющие определенные функции, без которых организм не может ни питаться, ни защищаться от болезней.
Эти свойства крови, постепенно открытые и изученные наукой, были использованы для борьбы за человеческое здоровье.
Только одна возможность применения крови долго не давалась в руки ученых — это переливание, трансфузия крови.
Две смерти
Бородинское сражение в Отечественной войне 1812 года отличалось крайней ожесточенностью. Генералы нередко сами вели свои полки в атаку. В одном таком бою был ранен генерал Тучков.
Узнав об этом, фельдмаршал Кутузов послал своего личного врача, доктора Малахова, оказать помощь раненому, которого уже доставили на перевязочный пункт.
Малахов тотчас же поспешил к генералу. Но когда доктор увидел Тучкова, заметил резкую бледность его лица, пощупал его пульс, выслушал его сердце, то ему стало ясно, что положение раненого безнадежно. Что же, у Тучкова было такое тяжелое повреждение, при котором гибель неизбежна?
Нет, ранение генерала не было смертельным. Но осколок гранаты пробил большой кровеносный сосуд — подвздошную артерию, и вызвал огромное кровотечение. Тучков умирал не от самой раны, а от потери крови.
Доктор Малахов и другие врачи ничего в этом случае сделать не могли. Они могли только остановить кровотечение, но вернуть потерянную кровь было невозможно. Смерть была неизбежна. И, действительно, вскоре жизнь генерала оборвалась.
Есть еще один исторический пример, относящийся приблизительно к тому же времени.
В битве между французами и австрийцами при Асперне в 1808 году был тяжело ранен маршал Ланн. Ядро раздробило ему обе голени и разорвало в них кровеносные сосуды.
Получив сообщение об этом через адъютанта маршала, главный хирург французской армии, доктор Ларрей, поскакал к раненому.
Ланн еще дышал. Ларрей соскочил с коня и нагнулся над маршалом.
— Спасите его, доктор, — сказал адъютант, — употребите все ваши знания, все могущество науки. Таково повеление императора. Я должен его вам передать.
— Увы, спасти его невозможно, — сказал хирург, выпрямляясь после осмотра. — Знания и наука бессильны. Маршал потерял слишком много крови.
Ланн погиб.
Что в этих эпизодах интересно для нас, живущих не в начале XIX, а в середине XX века?
Интересен вопрос: мог бы врач теперь, в наше время, оказаться таким беспомощным перед большой потерей крови?
Случай с архитектором
Один известный ленинградский архитектор шел по улице в самом хорошем настроении. Вдруг он почувствовал себя дурно. Что-то кольнуло в животе, потемнело в глазах, дома куда-то поплыли. Он потерял сознание.
Через пять минут машина скорой помощи везла его в больницу.
Прошло еще немного времени, несколько минут, и врач приемного покоя поставил диагноз — острое желудочное кровотечение. Через двадцать минут после этого архитектор лежал на операционном столе. Дыхание его становилось все реже и реже, сердце билось все слабее и слабее.
Из отверстия в артерии, разъеденной язвенным процессом, вытекала в полость желудка кровь. А с ней уходила и жизнь.
Почему с потерей крови угасает жизнь?
Человек живет, пока живут его клетки — мельчайшие микроскопические образования, из которых состоят ткани и органы тела, — прежде всего клетки мозговых центров. Чтобы клетки жили, они должны снабжаться питательными веществами и избавляться от негодных, использованных частиц. А чтобы усваивать эти вещества, в клетки должен все время поступать кислород. Без кислорода невозможен обмен веществ.
Свежие питательные вещества и кислород доставляет к клеткам кровь. Прекращается их доставка — наступает кислородное голодание и нарушение обмена веществ в клетках. Клетки перестают работать. Если это клетки дыхательного центра в мозгу — прекращается дыхание. Если это клетки, регулирующие сердечнососудистую деятельность, — останавливается сердце.
Вот почему при большой потере крови человек умирает.
Так должен был умереть и архитектор.
Но он не умер. Через три недели архитектор был благополучно выписан из больницы.
Что же его спасло? Операция? Да, разумеется. Хирург вскрыл брюшную полость, нашел в стенке желудка кровоточащее место, удалил весь пораженный язвенным процессом участок и тщательно зашил операционную рану.
Но одной только операции было бы мало для восстановления сил архитектора. Операция не так скоро вывела бы больного из тяжелого состояния, если бы не стеклянная ампула, которую держала медсестра, стоя у головы оперируемого. Пока хирург оперировал больного, другой врач ввел в вену руки архитектора конец иглы, соединенной резиновой трубкой со стеклянной ампулой. В стеклянной ампуле находилась темнокрасная жидкость. Это была кровь.
Архитектору во время операции производили переливание крови.
По мере того, как уровень жидкости в ампуле понижался, бледность лица архитектора исчезала, губы розовели. В его тело как бы вливалась жизнь.
Эту ампулу можно было назвать «ампулой жизни».
Теперь ясно, от чего, помимо тяжелого ранения, умерли генерал Тучков и маршал Ланн. Они потеряли много крови, а врачи того времени не обладали такой ампулой жизни.
Тогда еще не умели делать переливание крови, не знали, что это возможно.
Два свойства врови
Архитектору одновременно с операцией произвели переливание крови. Без переливания крови, как мы уже говорили, даже самая блестящая операция не так скоро поставила бы его на ноги.
Жизни архитектора могла грозить еще одна опасность. У него через отверстие поврежденного сосуда ушло столько
крови, что уже возникала опасность паралича дыхательного центра и остановки деятельности сердца.
Но чужая кровь принесла питательные вещества и кислород к жизненноважным участкам организма больного и этим предотвратила смертельное осложнение. Вместе с тем она восстановила и кровяное давление в артериях, что чрезвычайно важно для работы сердечно-сосудистого аппарата.
Чужая кровь заместила собственную кровь архитектора.
Такое значение перелитой крови называется замещающим.
Но перелитая кровь может выполнять при острых желудочно-кишечных кровотечениях не только замещающую роль.
В клинику ленинградского профессора Джанелидзе в разное время доставили двадцать больных, у которых было точно установлено кровотечение. Причиной этого была язвенная болезнь — чаще всего язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки; реже — язва толстой кишки. Чтобы возместить кровопотерю, всем этим больным делали переливание крови. А затем ждали, что будет дальше. Потребуется ли вмешательство хирурга для остановки кровотечения?
Оперировать пришлось лишь одного. У остальных кровотечение больше не возобновлялось, хотя сама язва, разумеется, не исчезла и требовала дальнейшего лечения.
Что же у девятнадцати больных прекратило кровотечение?
Только переливание крови, как это ни странно.
Казалось бы, перелитая кровь создает добавочное давление на стенки сосудов, растягивает их. Следовательно, растягивается также и пострадавшая кровоточащая стенка сосуда. Другими словами, кровотечение должно было бы усилиться. На самом деле выяснилось, что перелитая кровь, наоборот, повышает сократительную способность сосудов и тем самым содействует прекращению кровотечения. Предполагают, что это есть результат возбуждающего влияния перелитой крови не только на стенки сосудов, но и на нервные центры, от которых зависит сужение кровеносных сосудов.
Таким образом, и стенка, разрушенная из-за язвы артерии или вены, если этому не мешают рубцы и спайки, тоже стягивается, суживается.
А от этого просвет разрыва в стенке уменьшается, что препятствует крови изливаться из сосуда.
Это первое. А второе и самое главное — переливание усиливает способность крови свертываться. Происходит это благодаря тому, что с кровью больному вводится сразу большое количество веществ, содержащихся в переливаемой крови и способствующих ее свертыванию. И тогда в поврежденном сосуде легче и скорее образуется прочный сгусток крови, закрывается разрыв, прекращается кровотечение.
Советский исследователь Ермоленко обстоятельно доказал подобное воздействие переливаемой крови.
Такова еще одна роль переливания — кровоостанавливающая.
Почему же тогда архитектору сделали, не выжидая ни минуты, и переливание крови и операцию?
Это нужно было потому, что он потерял слишком много крови. У него был большой разрыв артерии, очень большое кровотечение, которое угрожало его жизни. Медлить было нельзя. Нужны были одновременно и немедленно как операция, так и переливание.
Однако архитектору влили крови гораздо меньше, чем он потерял. И причины этого понятны. При значительной потере крови сердце больного ослабевает. Никоим образом нельзя давать такому сердцу сразу большую нагрузку, с которой ему трудно будет справиться: может произойти паралич сердца. Нельзя с этим не считаться. Значит, надо уменьшить вливаемую порцию крови.
Следует заметить, однако, что бывают случаи, когда все же приходится в короткий срок вливать увеличенное количество крови.
В Московском институте им. Склифосовского нашли способ предупреждать и при этом перегрузку сердца.
В клинику института однажды поступил больной с огромной опухолью почки. Оперировать его нужно было немедленно. А он был истощен, очень ослаблен болезнью. Даже опытные хирурги считали этот случай почти безнадежным. Чтобы рассчитывать здесь на какой-либо успех, следовало больного раньше предварительно укрепить, дать ему питание, а вместе с тем и усилить деятельность сердца. Без таких мероприятий нельзя было даже приступать к операции. А эти мероприятия требовали времени.
Но из-за опухоли нельзя было долго ждать.
Тогда решились на крайнюю меру: перелили больному... семь литров крови, т. е. больше полуведра.
Переливание длилось шесть суток. Днем и ночью. Капля за каплей. Это было так называемое капельное переливание.
Капельное переливание явилось тем способом, который должен был помочь пропустить через сердце больного огромную массу крови без опасности паралича сердца.
Больной получил громадное количество питательных веществ, содержавшихся в семи литрах крови. А сердце при этом не испытало перегрузки, так как переливание совершалось очень медленно и постепенно.
На седьмой день операция была удачно произведена.
Все вышло так, как предполагали хирурги.
Капельный метод, успешно применяемый советскими врачами для переливания больших количеств крови, занял достойное место в медицине.
Источник энергии
Человека, казалось, вылечили, а он все ходит по больничной палате бледный, вялый. И так уже не одну неделю.
Лечили его от воспаления тонких кишок, от так называемого энтерита. Воспаление давно прошло, однако у больного осталась слабость, быстрая утомляемость, отсутствие аппетита.
Тогда врач сделал ему переливание крови, небольшое, грамм сто пятьдесят, т. е. немного больше полстакана. И через несколько дней у больного появился живой блеск в глазах, бодрость и хорошее настроение.
В клинике кожных болезней долго лежал больной шофер. У него на правой руке были незаживающие язвы. Язвы назывались «трофическими», от греческого слова «трофэ» — питание. Это значит, что язвы вызваны и поддерживаются нарушением питания самих тканей — кожи, мышц.
Язвы у шофера не заживали уже в течение семи лет. Лечили их электро-световыми процедурами, повязками с разными дезинфицирующими и восстанавливающими лекарствами и даже рентгеновскими лучами. Но ничто не помогало.
Шоферу сделали переливание крови, сперва одно, потом другое и третье, и тоже — небольшими дозами. Болезнь пошла на убыль. Началось быстрое выздоровление. Язвы исчезли.
Зачем же этим двум больным переливали кровь? Ведь по отношению к ним не имелось обычных оснований для переливания крови? У них не было ни кровопотерь, ни кровотечений, ни вообще заметного малокровия.
Это верно. И все же переливание крови здесь было очень желательно.
Суть не в том, что больным влили кровь, а в том, что вместе с кровью им ввели и белковые вещества другого человека — белки, находившиеся в плазме чужой крови.
Особенности этого процесса надо представить себе следующим образом.
Введенные в организм чужие белки являются раздражителями, действующими прежде всего на воспринимающие элементы нервной системы. В этих элементах рефлекторно возникают импульсы, идущие через центральную нервную систему ко всем клеткам и меняющие в них течение жизненных процессов. В результате в организме происходит как бы перестройка.
А все это выражается в очень интересных явлениях.
Белки одного человека, как по своему составу, так и по строению, всегда несколько отличаются от белков другого человека. В клетках тела тоже есть белки в виде так называемых белковых коллоидов. Эти белковые частицы очень чувствительны к чужому белку, содержащемуся в плазме переливаемой крови.
Когда такой чужой белок попадает в организм больного, его собственные белковые частицы клеток как бы получают извне удар: в клетках совершается нечто вроде молекулярной встряски.
Она не проходит даром. Отживающие, как бы одряхлевшие, белковые частицы клеток, наименее стойкие, начинают выпадать внутри клеток, в так называемой протоплазме клеток. Затем они как ненужный балласт выбрасываются из клеток в кровь, оттуда поступают в почки и выносятся наружу.
Таким образом клетки освобождаются от старых задержавшихся в них частиц, вместо которых вырабатываются новые.
В результате все процессы в них ускоряются и улучшается обмен, веществ. А это, в свою очередь, улучшает общее состояние человека, укрепляет его, повышает его силы и бодрость.
Академик Богомолец и его ученики в течение ряда лет тщательно изучали все эти внутриклеточные «бури».
Такое толкование механизма действия переливаемой крови получило название теории коллоидо-клазического шока.
После доклада Богомольца на Международном конгрессе по переливанию крови его теория коллоидо-клазического шока была признана во всем мире как лучше всего объясняющая явления стимуляции, происходящие в клетках при переливаниях крови.
Четвертая роль
Один молодой человек, по профессии фотограф, рано закрыл после топки вьюшку печки и лег спать.
Соседи по квартире, почувствовав угарный запах, заподозрили неладное и постучали в комнату фотографа. Никто не ответил. Когда взломали дверь, фотограф был уже без сознания и почти без пульса. Это было отравление окисью углерода, тем газом, который образуется при неполном сгорании угля.
Скорая помощь быстро доставила угоревшего в больницу. Сознание у него попрежнему отсутствовало. Сердце билось. Врачи выпустили у пострадавшего около стакана крови, а затем влили 400 кубических сантиметров, т. е. два стакана, чужой крови. Фотограф пришел в себя, открыл глаза. Состояние его резко изменилось к лучшему.
Советскими врачами описаны многочисленные случаи лечения переливанием крови отравлений бертолетовой солью, светильным газом, фенолом, бензином, змеиным ядом, ядом тарантула, хлороформом, эфиром.
Какая же связь между переливанием крови и лечением отравления, например, окисью углерода?
Все. становится понятным, если знать, что яд, пройдя сквозь стенки дыхательных путей, всасывается и попадает в кровь. Значит,, надо успеть именно здесь его и обезвредить.
В одних случаях переливание крови разжижает яд, т. е. уменьшает его концентрацию. В других случаях свежая кровь связывает некоторое количество яда и тем самым мешает ему проникнуть в более важные органы. А при отравлении газом, например окисью углерода, происходит соединение газа с гемоглобином красных кровяных шариков. Связанный таким образом гемоглобин уже не захватывает кислорода воздуха. Может наступить гибель из-за отсутствия кислорода. Перелитая кровь приносит е собой красные кровяные шарики с нормальным, свободным гемоглобином.
Понятно также, почему фотографу предварительно выпускали кровь. Сделано это было для того, чтобы с кровью вывести из организма часть попавшего в него яда — угарного газа.
А в чем сущность так называемых инфекционных, заразных заболеваний: брюшного тифа, сыпного тифа, дизентерии, скарлатины?
Микробы-возбудители этих болезней вырабатывают вредные вещества, токсины. Токсины разносятся с кровью по организму и отравляют его.
Ясно, что переливание крови будет здесь до известной степени действовать так же, как и при отравлении ядами.
По той же причине и в случае ожога можно помочь переливанием крови.
Ведь ожог — это разрушение кожи. При разрушении, распаде кожи образуются вредные вещества. Они всасываются в кровь. Это своего рода сильное отравление. А раз отравление, значит, переливание крови будет действовать как облегчающее средство.
Такую роль крови естественно назвать обезвреживающей.
Как видите, четыре свойства крови: замещающее, кровоостанавливающее, стимулирующее, обезвреживающее, позволяют при1 менять переливание крови при самых различных заболеваниях.
Конечно, узнать все это было не так просто и легко, как может показаться. Каждый шаг вперед по пути овладения лечебной силой перелитой крови требовал и требует тщательного на блюдения и проверки.
Переливание крови — это такая обширная область в медицине, что предстоит еще много труда и усилий для ее дальнейшего изучения. Тем более, что этим стали заниматься по-настоящему не так давно, хотя думали о чудесных возможностях крови уже в самые отдаленные времена.
Немного истории
Знаменитый врач древности Гиппократ лечил душевно-больных тем, что назначал им принимать внутрь человеческую кровь, так как по его учению считалось, что в крови здоровых людей содержится и здоровая душа.
Лет 400 назад возникла теория, которая утверждала, что можно людей сделать храбрыми, великодушными. Для этого надо вливать им здоровую кровь тех, кто отважен и добр.
Французскую королеву Марию Медичи, жившую в начале XVII века, известную своей жестокостью, пугала приближающаяся старость с ее недомоганиями. Один из придворных медиков королевы предложил ей средство: пить человеческую кровь.
Папу Иннокентия VIII в конце XV века врачи лечили напитком, главной составной частью которого тоже была человеческая кровь.
Разумеется, все эти способы применения крови не могли привести ни к чему иному, как к гибели тех, у кого брали кровь. Однако указанные примеры свидетельствуют о том, что мысль о возможности овладеть целебной силой крови давно уже занимала воображение людей.
Но первое переливание крови, первая трансфузия от человека к человеку, произошло лишь в начале XIX века. Оно было сделано больному, страдавшему раком желудка, т. е. в те времена обреченному на смерть. Неудержимая рвота, нарастающая слабость и резкое исхудание указывали на приближающийся печальный исход. А врач, лечивший его, по имени Блонделль, очень интересовался вопросами переливания крови, которые иногда затрагивались в медицинских книгах, и сам производил над животными различные опыты в этом направлении..
Так как спасти больного все равно было невозможно, то врач решил применить переливание крови, хотя в те времена попытки переливания крови считались недопустимыми, противоречащими незыблемым основам медицины.
Больного перевезли в больницу. Один из служителей согласился дать ему часть своей крови. Переливание было выполнено удачно. Прошел день другой, третий, больной жил и с ним ничего плохого не происходило.
Так было произведено первое в истории переливание крови от человека к человеку. Это произошло в 1819 году.
Неприятная статистика
В чем заключалась удача этого случая? В том, что после переливания крови больной стал чувствовать себя значительно лучше, стал бодрее и крепче.
Однако сама болезнь его, рак, осталась, и улучшение долго длиться не могло. Действительно, больной вскоре умер.
Эта первая попытка показала, что переливание крови от человека к человеку не фантазия, что оно возможно и что даже у тяжелого больного она вызвала подъем сил.
Через пять лет было сделано еще одно переливание крови женщине, умиравшей от сильного кровотечения. Трансфузия спасла ее.
Оба эти случая, а затем ставшие известными еще несколько успешных переливаний воодушевили всех, кто занимался вопросами переливания крови, и послужили стимулом для дальнейшего изучения этой проблемы.
Число трансфузий в разных странах стало расти. С каждым годом увеличивалось количество людей, которых лечили переливанием крови.
Однако статистические данные показывали, что дело обстояло неблагополучно.
В 1869 году было подсчитано, что с 1819 года больным, потерявшим много крови, сделали пятьдесят семь переливаний. Из них шестнадцать окончились смертью, т. е. почти каждый третий пациент умирал.
Другой исследователь в 1873 году изучил результаты двухсот случаев переливания крови. Из них сто семьдесят шесть окончились печально, т. е. почти каждый второй случай переливания приводил к гибели. Смерть наступала при явлениях резкого ухудшения общего состояния, внезапной слабости сердца, судорог.
Таким образом, то, что должно было приносить жизнь, приносило в большинстве случаев смерть.
Врачи приходили к мрачным выводам. Они начинали бояться этой операции.
Даже те больные, которые поправлялись и потом великолепно себя чувствовали, все же в первое время после переливания испытывали много неприятного: рвоту, жар, сердцебиение, головокружение, даже беспамятство. Попадались, правда, и такие больные, у которых не обнаруживалось никаких осложнений. Но таких было мало.
В России того времени, в сороковых, пятидесятых и шестидесятых годах прошлого столетия, было произведено огромное число экспериментальных исследований и несколько десятков трансфузий. Наибольшее число их сделал доктор Коломнин — 22 переливания. И у русских врачей наблюдалось большое количество осложнений и смертельные исходы.
И ни в одной стране никто не понимал, в чем дело. Врачи искали причину зла. Каждый предлагал свое объяснение.
Некоторые утверждали, что вся беда в образовании кровяных сгустков. Значит, чтобы этого избежать, переливаемую кровь надо было предварительно дефибринировать т. е. лишить ее фибрина, от которого зависит свертывание крови.
Другие, наоборот, выступали против дефибринирования. По их мнению, во всем виноваты были белые тельца крови, лейкоциты, которые разрушаются, если фибрина нет или его мало.
Были и такие, которые полагали, что дело в почках. При переливании крови, говорили они, моча становится ядовитой, а почки не успевают выводить этот яд. Некоторые думали что осложнения вызывает воздух, попадающий в русло крови.
Крупнейшие хирурги предпочитали воздерживаться от переливаний крови.
Была в крови какая-то загадка, но ключа к этой загадке не могли отыскать.
В конце XIX века в лабораториях и клиниках многих стран охотились за этой тайной крови. И только в начале XX века она была, наконец, раскрыта.
Элементы крови
При ранении артерии или вены кровь вытекает одноцветной красной струей.
Но если кровь выпустить в стеклянный узкий сосуд и дать ей спокойно постоять, го в ней через некоторое время окажутся два слоя: верхний — светлый, жидкий; нижний — темный, густой. Происходит это потому, что плотные частицы крови осели, а жидкость осталась сверху.
Плотные частицы — это элементы крови, имеющие определенную форму, форменные элементы: красные кровяные тельца — эритроциты, белые кровяные тельца — лейкоциты и кровяные пластинки, или тромбоциты.
Жидкий слой — это плазма крови. Она слегка желтоватого цвета с янтарным оттенком. Если плазму помешать стеклянной палочкой, то из жидкости выпадут хлопья, состоящие из волокнистых нитей — нити фибрина.
Плазма без фибрина называется сывороткой.
В сыворотке содержатся питательные вещества, все, что поступает в кровь из кишечного тракта, и все, что должно выделиться наружу, что является как бы отбросами организма, например, углекислота, мочевая кислота, мочевина; кроме того, в сыворотке имеются углекислые, фосфорнокислые и хлористые соли натрия, калия, кальция.
Как видите, это очень сложная жидкость.
Сыворотка крови обладает многими свойствами. Но среди них есть одно, обнаружение которого и явилось ключом к разгадке тайны переливания крови.
Сыворотка и эритроциты
Если взять сыворотку крови человека, который, например, перенес заболевание брюшным тифом, и прилить в нее каплю жидкости, содержащей брюшнотифозные микробы, то можно заметить, что через некоторое время микробы начинают собираться в кучки, склеиваться, перестают размножаться и в конце концов погибают. Это делает сыворотка: она агглютинирует, т. е. склеивает микробы, и тем самым как бы их парализует. С такими микробами защитные силы организма уже легко справляются.
Явления агглютинации были впервые подробно изучены в девяностых годах XIX века и вызвали чрезвычайный интерес. Почти во всех бактериологических лабораториях изучали эти новые удивительные факты.
Особенно любопытными, хотя они и не были связаны с микробами, оказались следующие опыты. Была взята капля сыворотки одного человека; в нее опустили каплю крови другого человека. И вот в капле сыворотки появились комочки из склеившихся эритроцитов.
Это, разумеется, было поразительно. Ведь эритроциты — не микробы. Сыворотка могла агглютинировать микробов. Здесь же микробов не было. Сывороткой агглютинировались эритроциты.
Такое необычное явление требовало проверки. Проверку провели. Брали каплю сыворотки и опускали туда эритроциты, из пробирок с разной человеческой кровью.
Несколько препаратов дали ту же картину, которая уже была знакома: склеивание красных кровяных телец. Два препарата не дали ничего похожего. В них эритроциты нормально и равномерно распределялись по всей капле сыворотки, не склеиваясь.
Что это могло означать?
Вывод приходил сам собой: агллютинация эритроцитов сывороткой человеческой крови происходит и у многих совершенно здоровых людей. Другими словами, это есть явление нормальное, физиологическое.
Так, в 1901 году произошло открытие совершенно нового, до того времени никому не известного свойства крови.
В медицинских журналах стали появляться работы, посвященные агглютинирующим свойствам крови.
Наибольший интерес представляла статья Ландштейнера, в которой описывались наблюдения над кровью довольно большого числа людей. Статья называлась: «По поводу агглютинационных свойств нормальной человеческой крови». Эта статья повернула в значительной степени все дело переливания крови.
Исследованию подверглась кровь у двадцати двух человек; в порции крови каждого из них отделили сыворотку от эритроцитов; затем были смешаны между собой сыворотки и эритроциты разных людей. Все эти двадцать два человека были совершенно здоровые люди.
В результате проделанной работы надо было считать твердо установленным, что кровь у разных людей обладает разными свойствами, имеет свои особенности. Основной особенностью являлось следующее.
Сыворотка одних здоровых людей склеивала эритроциты некоторых других здоровых людей. Сыворотка в этих случаях словно не допускала пребывания в крови чужих эритроцитов. Это можно было назвать явлением несовместимости крови.
Но в некоторых препаратах эритроциты располагались в сыворотке совершенно свободно, не собирались в кучи, не склеивались. Сыворотка словно не возражала против пребывания в крови чужих эритроцитов. Это можно было назвать явлением совместимости крови.
В конце концов оказалось, что по свойствам крови люди делятся на три группы. Совместимой является кровь, принадлежащая хотя и разным лицам, но относящаяся к одной и той же группе. Только кровь людей одной и той же группы не дает склеивания эритроцитов.
У самой большой группы, которую назвали первой группой, оказалось еще одно интересное свойство. Мало того, что её эритроциты не склеивает ничья кровь этой же первой группы, их также не склеивает кровь ни второй, ни третьей группы.
Значит, вливание кому бы то ни было крови первой группы не будет сопровождаться агглютинацией.
Кровь первой группы — совместимая для всех групп.
Человек, у которого кровь относится к первой группе, может давать ее для переливания любому другому человеку, являясь таким образом универсальным донором (донор — это тот, кто дает свою кровь для переливания).
Для человека, у которого кровь принадлежит ко второй группе, совместимой является кровь людей второй группы и, конечно, кровь первой группы.
Для третьей группы совместимой является кровь третьей группы и опять-таки — первой.
Во всех остальных сочетаниях наступает агглютинация, склеивание.
Все это и было напечатано в статье «По поводу агглютина-ционных свойств нормальной человеческой крови».
А что означает для эритроцитов склеивание? Это — их гибель. Вслед за агглютинацией происходит растворение склеившихся эритроцитов, то, что называется гемолизом.
Если влить человеку несовместимую кровь, то после предварительного склеивания эритроцитов начнется их растворение, распад — гемолиз. Кучки склеенных эритроцитов забивают просвет кровеносных сосудов. Нарушается кровообращение. А распад эритроцитов наполняет кровь ненужными и даже вредными веществами. Тогда у человека наступает рвота, головокружение, потеря сознания, высокая температура, — все, что называется осложнениями переливания крови. Может наступить даже и смерть.
Тайна крови, тайна осложнений. — этого бича переливаний — была раскрыта.
Следует отметить, что в учение о группах крови потом пришлось внести поправку: люди по свойствам крови делятся не на три, а на четыре группы.
Сыворотка четвертой группы совсем лишена способности агглютинировать какие-либо эритроциты.
Значит, такому человеку можно влить кровь любой группы. Это есть универсальный реципиент. Реципиентом называется тот, кому вливают кровь.
Четвертая группа крови была найдена несколько позже первых трех групп.
О случайностях
Случайно ли было открытие групп крови?
Разумеется, нет. Случайность, если она и была, играла здесь совсем ничтожную роль.
В самом деле, могли ли быть обнаружены явления агглютинации эритроцитов сывороткой не в 1901 году, а положим, в 1801 году? Нет, не могли.
Изучая поведение различных микробов в сыворотке человека^ ученые заметили, что в сыворотке некоторых людей микробы стали склеиваться кучками, затем погибали.
Так ученые открыли и описали явление агглютинации микробов. Это, как мы уже сказали, произошло в девяностых годах прошлого века.
Если бы явления агглютинации не стали широко известны всем бактериологам, то никто из них, пожалуй, и не заинтересовался бы склеивающими кровь свойствами сыворотки. Они ничего не поняли бы в том, что происходило с эритроцитами в капле сыворотки.
Открытие агглютинации, микробов подготовило открытие агглютинации эритроцитов.
Но исследователи агглютинации микробов ничего не увидели бы в микроскопе, если бы за много лет до них, начиная с 1861 года по 1878 год, другие ученые не выяснили, какими микробами вызываются те или иные болезни, и не научились их окрашивать, т. е. делать их более заметными при рассмотрении в микроскоп.
Но и эти ученые ничего не сумели бы сделать, если бы до них Луи Пастер не раскрыл сущность болезней, называемых заразными. Пастер доказал, что все такие болезни вызываются болезнетворными микробами.
Вот почему в 1801 году нельзя было открыть то, что было открыто в 1901 году. Открытие совместимости и несовместимости крови обусловливалось уровнем науки того времени.
Удачное начало
Надо сказать, что в первые годы, прошедшие после опубликования работы Ландштейнера о группах крови, врачи не обратили на нее почти никакого внимания. Выводы из учения о группах крови сделали только судебно-медицинские эксперты. Им знание групп крови в некоторых случаях очень помогало.
Почему? Потому, например, что оно давало возможность сравнивать кровь убитого с кровью, найденной на одежде того человека, в котором подозревали убийцу. Если окажется, что кровь мертвеца и кровь на одежде задержанного относится к разным группам, значит, задержан не убийца. Кровь на его платье — не кровь убитого.
Так явление агглютинации стало использоваться в судебно-медицинской экспертизе.
Только спустя несколько лет начали появляться в медицинской печати сообщения о том, что при переливании необходимо исследовать кровь тех, у кого ее берут, и кровь тех, кому ее вливают, чтобы установить их принадлежность к однородным группам. Нужно производить переливание только совместимой крови. Тогда осложнения не наступают или их бывает немного.
Благодаря применению лишь совместимой крови можно пользоваться переливанием уверенно, не боясь опасностей.
Это, конечно, явилось уже настоящим успехом. Однако в переливании крови имелся еще один существенный недостаток. Плохо было то, что приходилось сшивать вену донора с веной реципиента, и тогда кровь донора прямо вливалась в кровь больного. Получалось хлопотно и долго. Кроме того, при таком тесном соединении сосудов нельзя было точно установить, сколько перелито крови.
Этот малоудобный способ называется методом прямого переливания. Им приходилось пользоваться. Когда пробовали сперва выпустить кровь донора в стеклянный сосуд, чтобы знать, сколько берется крови, а затем вводить ее с помощью шприца и иглы в вену больного, то оказывалось, что из этого ничего хорошего не выходило: кровь в стеклянной банке уже успевала свернуться. В таком виде она для переливания не годилась.
Что же было делать?
Обойтись без прямого переливания помог лимоннокислый натрий — натриевая соль лимонной кислоты, которая обладает способностью задерживать свертывание крови. Способ предотвращения свертывания крови с помощью раствора лимоннокислого натрия известен под названием нитратного метода, от латинского слова цитрус, т. е. лимон.
Теперь можно было уже выпускать кровь донора в любой стеклянный сосуд, прибавив туда лимоннокислого натрия. И можно было пользоваться ею даже спустя некоторое время, не опасаясь свертывания.
Это было уже не прямое перелйвание. Уже не требовалось сшивания сосудов. Все упростилось, все облегчилось.
Число переливаний стало быстро расти во всех странах.
Переливание крови с каждым годом все больше завоевывало признание и, наконец, в первые десятилетия XX века заняло почетное место в медицине.
Чужестранный гость
Дело происходило в Петербурге в 1913 году.
Однажды к дому на одной из центральных улиц подкатил рысак и из экипажа вышел плотный, невысокого роста человек-с проседью. Ок был нетороплив и в медлительности его чувствовалось сознание собственного достоинства.
Это был австрийский профессор Эндерлен.
В своей большой, богато обставленной квартире, умирала известная в то время певица Вяльцева. Она была больна злокачественным малокровием. Консилиум крупнейших петербургских врачей предложил для спасения больной применить новое тогда средство: переливание крови.
Родственники богатой певицы решили вызвать специалиста по переливанию крови из-за границы. А за границей знатоком переливания крови считался Эндерлен. После того как Эндерлен осмотрел больную, он также присоединился к мнению консилиума о необходимости прибегнуть к переливанию крови, которое и было им произведено в тот же день. Ассистентами у Эндерлена были два петербургских хирурга. На этой, тогда редкой, операции присутствовали еще несколько крупных врачей столицы. Донором был муж Вяльцевой.
Операцию проделали по всем правилам прямого переливания. Вену на руке больной соединили швом с лучевой артерией донора. После операции у больной появились осложнения: обморочное состояние, жар, нарушения деятельности сердца. Потом все прошло. Переливание крови, однако, не помогло. Через две недели Вяльцева умерла.
Надо здесь сразу же сказать, что смерть была вызвана не осложнениями. Теперь определенно известно, что переливание крови само по себе не спасает от злокачественной анемии. Тогда этого не знали. Но в истории с Вяльцевой есть два очень интересных и поучительных момента.
Во-первых, Эндерлен, несмотря на приписываемый ему авторитет, оказался изрядным невеждой. Он не знал, какую кровь он вливает больной — совместимую или несовместимую. До операции он не выяснил, к какой группе принадлежит кровь донора и реципиента, несмотря на то, что работы о необходимости переливать только совместимую кровь уже публиковались с 1909 года.
Во-вторых, приглашение иностранного специалиста еще раз свидетельствовало о преклонении правящих классов тогдашней России перед всем иностранным и об их пренебрежении к нашей, отечественной науке. Ведь в XIX и XX веках, даже ранее, открытия русских ученых и их передовые идеи двигали вперед науку. И по проблеме переливания крови уже издавна велась в России упорная и всесторонняя работа.
Еще в 1832 году петербургский городской акушер Вольф сделал переливание крови роженице, а после того, на протяжении десяти лет, еще четырем женщинам.
В течение почти всей своей научной деятельности профессор физиологии Московского университета Филомафитский широко занимался экспериментальным изучением проблемы переливания крови. В 1848 году вышел его большой печатный труд на эту тему. Там подробно описывалось не только история переливания крови, но и собственные опыты автора. Он даже изобрел прибор для переливания дефибринированной крови.
Почти одновременно с Филомафитским много работал над вопросом о переливании крови профессор Медико-хирургической академии Буяльский, тоже сконструировавший свой трансфузион-ный аппарат. С удивительной для своего времени проницательностью он утверждал, что «...операция переливания крови должна войти в круг необходимых практических пособий» и не только при внутренних кровотечениях, как тогда полагали все, кто занимался трансфузией, но и при потерях крови, сопровождавших «наружные раны». И хотя сам Буяльский не произвел ни одного переливания крови больным, тем не менее он угадывал великое лечебное значение трансфузий.
В 1867 году русский ученый Раутенберг предложил свое средство, которое мешало бы крови свертываться, — углекислый натрий. А в 1872 году доктор Прозоров спас человека, отравленного угарным газом. Больному, который провел шесть часов в атмосфере угарного газа, перелили кровь.
В 1883 году доктор Алексеевский сообщил в печати, что он успешно лечит переливанием крови больных общим заражением.
Упоминавшийся уже русский хирург Коломнин первый в мире применил переливание крови на поле боя. Это было во время Русско-турецкой войны 1878 года.
Творческая мысль русских ученых, как видно даже из этих кратких данных, настойчиво и пытливо работала в области переливания крови.
Но при царизме ученые России не имели благоприятных условий для своей работы. Самодержавие не было заинтересовано в развитии просвещения, в распространении знаний, так как темнота, невежество масс помогали ему эксплуатировать народ и держать его в рабском повиновении. Успехи русских исследователей мало популяризировались, оставались почти никому не известными, в то время как насаждалось раболепие перед всем иностранным.
Важная дата
В 1919 году на территории Советского государства шла ожесточенная гражданская война. Армии интервентов вторглись в пределы нашей страны. Молодое государство переживало самый тяжелый период своего существования.
Заводы и фабрики останавливались из-за отсутствия сырья и топлива. Электростанции давали свет и энергию с перебоями. Транспорт был парализован. Население городов получало ничтожный пищевой паек. Помещения университетов и институтов не отапливались. Профессора читали лекции в шубах.
В то время молодой хирург, сотрудник Военно-медицинской академии, Владимир Николаевич Шамов все свободные от лечебной работы часы проводил в холодной лаборатории за пробирками, за микроскопом, за пипетками и склянками. У всех, у кого только можно было, кто не отказывал его настойчивым просьбам, он брал по нескольку капель крови, распределял их по пробиркам и затем неутомимо вел различные наблюдения, изучая происходящие в крови явления.
Тогда уже было известно, что существуют группы крови, что положительный результат дает переливание только совместимой крови. Был найден основной фактор, делавший возможным широкое применение этого спасительного метода: однородность групп крови донора и реципиента.
Но чтобы двинуть вперед все дело переливания крови, нужно было, прежде всего, разрешить такую конкретную задачу: как устанавливать принадлежность крови больного и крови донора к той или иной группе? С чем их сверять? Где взять образцы сыворотки всех групп?
Доктор Шамов и бился над тем, чтобы получить ответы на эти вопросы.
Это было очень трудной, очень ответственной задачей, особенно сложной в суровых условиях продолжавшейся гражданской войны, в разгаре смертёльной схватки нового и старого мира. Нелегко было проводить исследование, не всегда можно было достать нужные препараты, необходимые приборы. И, вдобавок, это была еще почти не разработанная область.
И все же, несмотря на все преграды, затруднения, нехватку материалов, задача была решена. При содействии еще более молодых сотрудников Военно-медицинской академии, теперь крупных ученых, а тогда студента Петрова и аспиранта Еланского, двух таких же энтузиастов, как он сам, Шамов изготовил стандарты групп крови. В те времена это был научный подвиг.
Ну и что же? Все было сделано? Можно было приступить к широкому применению переливаний, в которых так нуждались больные? Нет, нельзя было. На пути встало неожиданное препятствие. Не было тех, кто хотел бы сдать свою кровь, не нашлось желающих стать донорами. Такое положение объяснялось многими причинами. Наиболее существенной был инстинктивный страх перед потерей крови. Дать вытечь двум стаканам или даже стакану собственной крови, этому драгоценному жизненному веществу, — не значит ли тем самым обречь себя, если не на гибель, то на длительное заболевание. Такое мнение тогда было очень распространено. К этому надо добавить, что во время гражданской войны снабжение было скудное, люди питались плохо, были истощены. При таких обстоятельствах желающих дать свою кровь для переливания не находилось. Многим вообще переливание представлялось в ту пору таинственной и весьма рискованной процедурой.
Вот почему многочисленные попытки Шамова склонить кого-либо к донорству были безуспешны.
Как раз в те дни в клинику профессора Сергея Петровича Федорова, где работал Шамов, поступила тяжело больная женщина, нуждавшаяся в операции. Операцию нельзя было надолго откладывать. От нее зависело спасение больной. Но хирурги не решались на это вмешательство.
Больная была очень истощена, ослаблена кровотечением и не выдержала бы операции, при которой также неизбежна была значительная потеря крови.
Шамову, когда он осмотрел эту изнуренную болезнью женщину, стало совершенно ясно, что если бы можно было ввести ей хоть не очень большую дозу крови, то все бы резко изменилось. Силы больной поднялись бы и тогда операция быстро принесла бы ей выздоровление.
Но для этого все должно было быть сделано без малейшего-промедления. Шамов удвоил усилия в поисках донора. Однако все было напрасно.
И вдруг, как иногда бывает, помог, точно в сказке, неожиданный случай.
В одном доме Шамов встретился с молодой девушкой, которая работала в учреждении, связанном с военными организациями. Она собиралась ехать в длительный отпуск по семейным обстоятельствам.
И счастливая мысль осенила Шамова, смотревшего на молодую, цветущую, крепкую девушку с румянцем на щеках.
Что если попросить эту девушку подарить немного крови умирающей больной? Не откажет ли она? Как объяснить ей, что она, не пострадав сама, спасет жизнь человеку.
И врач-энтузиаст в ярких красках рассказал совершенно незнакомой девушке об опасном положении больной и о том, что только кровь донора может дать возможность оперировать больную. Разумеется, если их кровь окажется совместимой.
Девушка оказалась обладающей отзывчивостью, решительностью, смелостью. Узнав о состоянии больной, она без колебаний согласилась.
Используя заготовленные им стандарты сывороток, он определил ее группу крови. С явным волнением он следил за реакцией капель крови донора и реципиента. Ему казалось, что все идет страшно медленно.
Наконец, лицо Шамова просветлело. Сыворотка оставалась прозрачной. Эритроциты больной в ней не склеились. Кровь обеих женщин оказалась совместимой.
Через три дня в клинике профессора Федорова, хорошо понимавшего, какое значение может иметь успех Шамова, было произведено переливание крови.
Еще через пять дней больную оперировали. Её состояние с момента переливания настолько улучшилось, что хирург мог спокойно приступить к операции.
Так впервые в России было сделано переливание с применением точного учета групп крови.
Эта трансфузия явилась крупнейшим научным событием.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции наука в нашей стране стала делом, близким всему народу. Советская власть создала для нее наиболее благоприятные условия.
Вместе со всеми другими научными проблемами быстро двинулась вперед и разработка проблемы переливания крови.
В 1919 году, когда Шамов сделал свое первое переливание, в Советской стране не было ни одного института по переливанию крови, ни одной станции, ни одного пункта.
А уже в 1940 году насчитывалось свыше десятка институтов и до тысячи пятисот станций и пунктов так называемой службы крови.
Большие запасы
Лимоннокислый натр предотвращает свертывание крови. Это открытие позволило собирать кровь и затем спокойно, без спешки, вливать её больным в нужном количестве, даже спустя три-че-тыре часа после получения ее у донора.
Но было бы еще лучше, если бы банка с кровью хранилась, где-нибудь в шкафу не три-четыре часа, а три-четыре дня, а то и три-четыре недели. И чтобы через три-четыре недели кровь оставалась совершенно годной для использования. Тогда можно было бы заготовлять кровь в больницах и всегда иметь ее запасы. Нужно было только найти способ сохранить кровь, найти метод, ее консервирования.
Для этого надо было выяснить все то, что происходит с кровью-при всевозможных температурных и других условиях хранения. Надо было знать, что происходит не вообще с кровью, а с каждой ее составной частью: с плазмой, сывороткой, эритроцитами, лейкоцитами, с кровяными пластинками и разными химическими веществами, находящимися в ней.
Это оказалось очень сложной задачей. Ни в одной стране,, вплоть до первой мировой войны, не рождалась даже идея консервирования крови. А если появлялись иногда рассуждения на эту тему, то они носили больше характер пожеланий или надежд*, без практических предложений.
Между тем, почти 80 лет назад, значит, задолго до открытии групп крови, задолго до введения в практику лимоннокислого-натра была высказана русским хирургом Сутугиным замечательнейшая мысль о том, что кровь можно собирать и хранить много-дней, и она будет оставаться годной для переливания.
Сутугин не ограничился одним теоретическим изложением-идеи. Он проделал в большом количестве переливания крови, которую за семь дней до того извлекли из вены. И трансфузии проходили совершенно благополучно, без осложнений.
Разумеется, эти переливания производились не на людях. Да они и не могли применяться широко к людям. Ведь 80 лет назад не знали ничего о группах крови. Не знал этого и Сутугин. Случаи отдельных удач не искупали большого числа смертельных исходов. И Сутугин не мог себе позволить рисковать жизнью больных.
Опытам с переливанием крови подвергались собаки, на которых он доказал, что хранившаяся до семи дней кровь обладает тем же оживляющим действием, как и кровь, только что выпущенная.
Как же ему удавалось консервировать кровь на такой довольно длительный срок?
Сутугин освобождал кровь от фибрина, т. е. дефибринировал ее, потом помещал ее в условия низкой температуры, до нуля градусов. И хотя все это было несовершенно и соответствовало лишь тем первым шагам, которые делала наука трансфузии крови, сама идея консервирования далеко опередила свое время. Она являлась мыслью будущего.
Лишь в 1930 году задача консервирования крови стала на твердую почву. Раньше, чем кто-либо это сделал за рубежом, совершенно самостоятельно и полноценно ее разрешили советские исследователи. В числе их прежде всего надо назвать Беленького.
Он разработал такой способ консервирования, при котором кровь не теряет своих свойств в течение четырех недель.
Способ Беленького и его помощников называется глюкозоцитратным. Из самого названия видно, что лимоннокислый нагр специальным способом связали с сахаристым веществом — глюкозой.
Другой советский исследователь, Балаховский, пошел по пути присоединения к цитрату некоторого количества физиологического раствора.
Группа сотрудников Центрального института переливания крови после многочисленных опытов составила особую жидкость, которая консервирует кровь. Эта жидкость получила название «жидкость ЦИПК».
Методов консервирования крови много. Каждый из них имеет и свои достоинства и свои недостатки. Какой же метод применять? Это зависит от тех или иных обстоятельств. Иногда хорош один метод, иногда другой.
Вопрос о наилучшем способе консервирования крови — один из серьезнейших во всей проблеме переливания крови. Недаром на недавних международных конгрессах по переливанию крови в Риме и Париже самый большой интерес вызвали доклады советских ученых, посвященные этому вопросу. Доклады содержали много новых очень важных фактов. Но особенное внимание привлекли к себе замечательные работы советских ученых, связанные с переливанием трупной крови.
Решение профессора
Представьте себе крупное лечебное учреждение в большом городе — какой-нибудь институт скорой помощи. Пройдите в приемный покой такого учреждения. Вы увидите, что здесь почти непрерывно нужна помощь врача. Помимо тех, кто нуждается в срочной операции, сюда доставляются и пострадавшие от различных катастроф — транспортных и других.
Двери приемного покоя в течение дня открываются много раз. Входят служители скорой помощи с носилками. В теле лежащих на носилках еще теплится жизнь.
Теперь представьте себе длинный хлопотливый день. Много работы приносит он и дежурному врачу, и палатным врачам отделения, и ассистентам, и профессору, руководящему всей этой работой. В такой день они почти не отходят от операционного стола. И вот поздно вечером доставляют человека, поранившего себя нечаянным выстрелом. Стенка брюшной полости у него пробита пулей. Профессор проверяет пульс. Но пульса почти нет. Произошло внутреннее кровоизлияние. Очевидно, прострелен крупный кровеносный сосуд. Кровь вытекла в брюшную полость. Требуется срочная операция, чтобы зашить ранения органов и сосудов. Но одновременно нужно немедленно произвести и переливание крови, иначе спасение невозможно.
Сделаны все распоряжения. Донор вызван и должен явиться с минуты на минуту. Консервировать кровь тогда еще не умели.
И вдруг состояние больного резко ухудшается. Больше с переливанием крови медлить нельзя. Каждая секунда решает вопрос жизни и смерти, а донора еще нет. Как быть?
И тут профессора вдруг осеняет смелая мысль. Только что привезли в приемный покой человека с тяжелыми повреждениями, сбитого ударом автомобиля. Его доставили живым, но несмотря на оказанную помощь, он скончался в приемном покое. Профессор мгновенно решает: взять кровь умершего и перелить ее раненому.
Через час все кончено: и операция сделана, и произведено переливание. У раненого появляется хороший пульс, а сердце, как ни в чем не бывало, разносит кровь, взятую у трупа, по всем уголкам тела спасенного человека.
Конечно, кровь живого и кровь мертвого были предварительно проверены на совместимость их групп.
Представив себе все это, вы поймете то, что лишь в несколько иных условиях было сделано в 1930 году в Московском институте им. Склифосовского.
Смерть на помощь жизни
В том же 1930 году состоялся четвертый съезд хирургов Украины. На нем московские хирурги сообщили уже о семи случаях переливания трупной крови. Все они дали весьма благоприятный для больных результат.
Переливание трупной крови человеку было новостью для участников съезда. Что касается самой идеи использования трупной крови, то она уже имела свою историю.
Советский ученый, уже знакомый нам профессор В. Н. Шамов, года за три до украинского съезда проделал такой опыт. Он выпустил из собаки девяносто процентов общего количества ее крови, попросту говоря, почти всю. кровь. Это было совершенно смертельно для животного. Когда собака умирала, — у нее уже угасало дыхание, толчки сердца едва прослушивались, зрачки не реагировали на свет, не сокращались, — ей ввели кровь другой собаки, которая десять часов назад была умерщвлена. И обескровленная собака воскресла, точно ей перелили обыкновенную живую кровь, взятую у живого существа, а не кровь из трупа собаки.
В Институте им. Склифоеовского знали про эти опыты Ша-мова и там впервые практически применили их к человеку.
Но ведь в трупе наступают посмертные изменения, явления разложения и распада. Кровь должна сразу же подвергаться этим изменениям. Как же можно подобную кровь безнаказанно вводить в живой человеческий организм?
Все эти опасения оказались напрасными. Проверка показала, что красные кровяные тельца трупной крови нормально выполняли функцию носителей кислорода, а белые кровяные тельца — лейкоциты, сохраняли свою фагоцитарную способность, т. е. способность передвижения, захвата и уничтожения чужеродных частиц. Плазма тоже оставалась пригодной.
Выяснилось не только это. Исследователи внезапно наткнулись даже на некоторые практические преимущества в использовании крови умерших перед кровью живых.
Так, количество крови от одного мертвого донора, если можно так назвать труп, достигает трех-четырех литров, а у живого донора берут в один раз триста-четыреста граммов. Значит, один труп заменяет восемь — десять доноров.
Но преимущества этого способа не только в количестве получаемой крови.
Однажды в клинике Института неотложной помощи оперировали больного язвой желудка. Больной был настолько истощен, что одновременно с операцией ему произвели переливание крови. Ввели ее целый литр.
Переливание сделали со всеми мерами предосторожности. П о совместимости не забыли. И все-таки больному стало не по себе: появились, хотя и в слабой форме, головная боль, побледнение и легкие судороги, т. е. то, что называется осложнениями после переливания.
Они появились оттого, что кровь для переливания взяли у нескольких доноров. Кровь взяли, разумеется, совместимую. Но ведь в крови, кроме эритроцитов и сыворотки, есть еще и фибрин, и кровяные пластинки, и белки, и мочевина, и липоиды, и углеводы, и еще множество веществ, совместимость которых, даже у людей одной и той же группы, не вполне изучена. Кровь имеет еще много тайн, пока ускользающих от человеческого наблюдения. Чем больше число доноров, тем возможнее неожиданности. Значит, все же лучше переливать кровь от одного донора, а не от нескольких. Но у здорового человека обычно можно взять до пол-литра крови — это максимум. У трупа можно взять, как мы уже говорили, до четырех литров.
Но кроме того, у трупной крови есть еще одно выгодное качество, которое заставляет иногда оказывать трупной крови предпочтение перед кровью живых.
Стабилизаторы
Во время Великой Отечественной войны потребность в переливаемой крови стала огромной. Она особенно нужна была на фронте: в полковых перевязочных пунктах, в медсанбатах, в полевых госпиталях и даже на самой передовой линии.
Ведь каждый раненый — это человек, потерявший кровь. Среди них немало таких, которых может спасти только немедленное введение крови взамен той, которая в большом количестве ушла из разорванных, простреленных, пробитых артерий и вен.
Кроме того, у раненых нередко наблюдается особое состояние, которое угрожает их жизни. Возникновение этого состояния тоже связано с изменениями, происходящими в крови, хотя крови при этом теряется не так уж много. Это состояние называется шоковым. Вся беда в том, что человека в подобном состоянии нельзя оперировать, как бы операция ни была нужна.
Шок — дословно значит удар, точнее сказать, это болевой удар по центральной нервной системе. Удар этот может быть результатом ранения пулей, осколком снаряда, мины. Кажется при шоке сердце останавливается из-за отсутствия крови. Кровь как бы еле-еле движется и словно совсем исчезает из больших артерий, вен и сердца. Она застаивается в брюшной полости, в печени, селезенке. Получается то, что носит название расстройства кровообращения. Виновата в этом нервная система, которая при ранении как бы дезорганизуется болью. При шоке нервные центры перестают нормально управлять органами тела, в том числе и сердечно-сосудистой системой.
А между тем жизнь тела требует непрестанного нормального движения крови. Кровь должна обежать весь свой путь в двадцать три секунды, а в сутки сделать свыше трех тысяч таких кругов.
Если это движение нарушается, то возникают разные неприятные явления: значительно падает кровяное давление; кровь перестает нормально разноситься по телу и снабжать все ткани, все клетки кислородом и питательными веществами; жизнь медленно
замирает, как бы тлеет слабым огоньком, грозящим вот-вот потухнуть. Все это происходит под влиянием травматического шока, т. е. шока от ушиба, от разрушения тканей. При таких условиях добавлять организму, который и без того обессилен, еше тяжесть оперативного вмешательства, недопустимо. Это значит, идти на огромный риск. Оперируемый может умереть на столе.
А операция все-таки срочно нужна. Как же быть?
Переливание крови в случае шока меняет положение.
Все начинает чудесным образом поворачиваться, как бывает при обратной съемке в кино: кровь возвращается в кровеносное русло, кровяное давление повышается, из глубины брюшных органов кровь в нарастающем количестве поступает в общий поток. Работа сердца приближается к нормальней. Все становится на свое место, жизнь восстанавливается. Вот теперь уже можно приступить к операции. Но ведь таких случаев потери крови при ранениях и таких случаев шокового состояния во время больших сражений бывает буквально сотни и тысячи. Значит, и крови для переливания требуется большое количество.
Все многочисленные институты переливания крови, их филиалы, станции и пункты заготовляли во всех городах Советского Союза спасительную темнокрасную жидкость. Советские врачи, ученые, исследователи самоотверженно боролись за выполнение благороднейшей задачи и стремились снабдить Советскую Армию этим ценнейшим лечебным средством. В стеклянных банках везли раненым жизнь.
Но это все было бы напрасным, если бы не лимоннокислый натрий и другие вещества — все эти так называемые стабилизаторы, которые не позволяют крови свертываться.
Только благодаря стабилизаторам стало возможным сохранять кровь, консервировать ее на срок от двух до четырех недель.
К сожалению, все стабилизаторы имеют один недостаток.
Несмотря на тщательный учет совместимости, применение стабилизированной крови для переливания все же нередко сопровождается осложнениями: то рвотой, то сердцебиением, то головными болями и повышением температуры. Конечно, все это происходит в меньшей степени, чем в случае несовместимости групп крови. Но и в слабой форме такие явления нежелательны. Вызываются они как самими стабилизаторами, так и солевой жидкостью, в которой растворяются стабилизаторы. И то и другое не безразлично для организма, особенно для истощенного, обескровленного.
Значит, было бы лучше всего пользоваться кровью, которая не нуждается в стабилизаторах. И вот такой кровью оказалась трупная кровь. Именно она обладает подобным преимуществом.
Обнаружили это совершенно неожиданно, спустя много времени после того, как стали ею пользоваться.
Трупную кровь перед применением нужно, разумеется, тщательно исследовать. Даже у живого человека мало только спросить, нет ли у него какой-нибудь болезни; надо его обязательно и обследовать. Значит, прежде чем перелить кровь трупа, надо предварительно проверить, не заключаются ли в ней возбудители какой-либо заразной болезни. А уже после такого контроля с трупной кровью поступали как с обычной: консервировали путем добавления стабилизатора.
И вот здесь-то наблюдательность доктора Скундиной, работавшей в институте им. Склифосовского, и привела к неожиданному открытию.
Однажды она разлила свежую кровь только что умерших в пробирки и собралась перенести их в лабораторию, чтобы исследовать. Но Скундиной помешали. Ее срочно вызвали по какому-то делу. Она оставила пробирки и вышла. Ее отсутствие продолжалось два часа. Что могло за это время произойти с кровью? За это время она должна была обязательно свернуться.
Скундина, вернувшись, не увидела никакого свертывания. Кровь в пробирках попрежнему была жидкой, без сгустков, точно ее только что влили. Подобное явление не могло не остановить на себе внимания наблюдательного ученого.
Началось изучение этого удивительного факта. И тогда выяснилось, что кровь трупа действительно не нуждается ни в каких стабилизаторах. Она может храниться до трех недель, не образовывая сгустков. А если сгустки и образовывались, как это иногда наблюдается в самом начале, в течение первых часов после смерти, то вскоре они снова превращались в жидкую кровь.
Следовательно, переливание трупной крови почти лишено всяких, даже незначительных осложнений, связанных с применением стабилизаторов. Недаром две тысячи пятьсот случаев переливания трупной крови, произведенных еще до 1940 года, и много тысяч случаев после 1940 года прошли весьма благополучно. Они дали в шесть раз меньше осложнений, чем при переливании крови, взятой от живых доноров.
Почему кровь трупа обладает свойством не свертываться? Это очень интересный вопрос. Однако исчерпывающий и точный ответ на него еще не получен.
Наиболее удовлетворительное объяснение дали наши ученые Брюхоненко и Янковский.
Свертывание крови происходит благодаря нахождению в ней особого вещества — тромбина. Когда же человек умирает, то, по мнению Брюхоненко и Янковского, из печени, селезенки, из костного мозга, особенно из легких, выделяется в кровь особый фермент. Его можно назвать антитромбином.
Этот фермент связывает тромбин. А при отсутствии свободного тромбина свертывание не может произойти. Вот почему трупная кровь не свертывается и без стабилизатора.
Конечно, это очень хорошее свойство. Однако, использовать такое ценное качество для полной замены крови живых доноров
нельзя. Дело в том, что получение трупной крови неизбежно ограничено. Кроме того, не всякая трупная кровь пригодна для лечебных целей. Кровь людей, умерших после длительной агонии, так же как и тех, кто умер от заразных заболеваний и от повреждений, сопровождавшихся размозжением крупных кровеносных сосудов, не может быть использована для переливания.
Таким образом, живой донор остается основным источником для трансфузии крови. Значит, нужны стабилизаторы.
Пересылка крови доступна в широких масштабах только благодаря стабилизаторам. И прежде всего благодаря лимоннокислому натрию.
Живая лаборатория
Уже несколько дней мастер одного завода Арсентий Михайлович Снегирев чувствовал себя неважно: одолевала слабость, болела голова, исчез аппетит, хотелось все время лежать. Температура к вечеру поднималась, хотя не высоко — градусов до 37 — 37,5.
Еще через несколько дней Арсентий Михайлович слег по-настоящему. Температура достигала 38 градусов и выше. Временами помрачалось сознание. Вскоре врачи установили, что у мастера брюшной тиф.
Болезнь тянулась уже с месяц и протекала тяжело. Появились осложнения со стороны легких, печени, суставов. Врачи применяли все средства, но улучшения не наступало. Хотя крепкий организм боролся с болезнью, однако положение ухудшалось. И вот тогда доктору Баташеву пришла в голову мысль, связанная с проблемой иммунитета. Это была интересная, очень своеобразная мысль.
Иммунитет означает невосприимчивость к той или иной болезни. Известно, что во время эпидемий заболевают не все. Есть люди, которые не заражаются, а заразившись, очень легко, почти незаметно переносят болезнь. Симптомы болезни выражены у них слабо. Это значит, что у таких людей существует иммунитет к данной болезни. Его можно назвать врожденным иммунитетом.
Человек, перенесший инфекционное заболевание, допустим, сыпной тиф, даже если болезнь протекала в тяжелой форме, в дальнейшем уже не заболеет, а если и заболеет, то в легкой форме. Человек стал невосприимчивым или маловосприимчивым к сыпному тифу. У него образовался иммунитет. Но этот иммунитет уже не врожденный, а естественно приобретенный.
Что такое вакцина? Это препарат из ослабленных или убитых микробов. Впрыскивание вакцины есть не что иное, как прививка болезни, только в ослабленной, легкой форме. Тот, кому вакцина впрыскивается, как бы переносит болезнь, после чего у него появляется иммунитет. Но это уже будет искусственно приобретенный иммунитет. Если человек, которому впрыскивали, допустим, противодизентерийную вакцину, потом заболел настоя-
щей дизентерией, то заболевание пройдет легче и закончится скорее.
Что же происходит в организме при иммунитете? В чем тут дело? Какие процессы в организме создают невосприимчивость?
Как мы уже знаем, в крови наряду с красными кровяными тельцами имеются и белые кровяные тельца, или лейкоциты. Это то же клетки, как и всякие другие, но отличающиеся подвижностью, способностью самостоятельно передвигаться. Они могут проходить сквозь стенки кровеносных сосудов и продвигаться в разных направлениях. Но двигаются лейкоциты не беспорядочно. Они направляются к тем чужеродным веществам, которые попадают в организм — будь это заноза или микроб. Лейкоциты захватывают все постороннее: если это микроб, то внутри лейкоцита он часто погибает — переваривается и уничтожается. Поэтому лейкоциты, которые уничтожают микробов, получили название фагоцитов, т. е. пожирателей клеток, от греческих слов «фаго» — пожирать и «цитос» — клетка.
Значит, невосприимчивость к болезни заключается в том, что белые кровяные тельца уничтожают возбудителей болезни, не дают им размножаться. Если лейкоциты почему-либо не уничтожают болезнетворных микробов, то отсутствует и невосприимчивость. Микробы могут размножаться, болезнь развивается.
Так объясняет сущность иммунитета фагоцитарная теория. Ее создал великий русский биолог Илья Ильич Мечников. Она имела огромное значение для успехов медицины.
Но множество фактов указывало на то, что фагоцитарная теория не всеобъемлюща, не все может объяснить.
Если взять каплю свежей сыворотки крови кролика и поместить туда бактерии сибирской язвы, то вскоре можно заметить, как они уменьшаются в числе, изменяются, а затем гибнут. Но ведь в сыворотке нет ни одного белого кровяного тельца, ни одного лейкоцита. Значит, в данном случае иммунитет, невосприимчивость кролика к сибирской язве, будет зависеть уже не от лейкоцита, а от сыворотки, от каких-то веществ, находящихся в ней. Так появилась сывороточная, или гуморальная, теория иммунитета (от слова гумор — жидкость). Но и гуморальная теория, как и фагоцитарная, не объясняет всех явлений иммунитета. В одной советской лаборатории был проделан следующий опыт. Брюшнотифозную вакцину, то-есть препарат, содержащий тифозные микробы в чрезвычайно ослабленном виде, обычно в убитом виде, впрыснули под кожу кролика. Через несколько часов определили количество защитных веществ, агглютининов, в сыворотке крови. После вакцинации их стало в два раза больше.
Затем кролику такую же вакцину ввели еще раз, но уже не под кожу, а в пространство под так называемой паутинной оболочкой головного мозга. Что произошло с агглютининами? В сыворотке крови их оказалось в пятнадцать раз больше, чем после подкожного введения вакцины.
Как понять причину такого увеличения? Надо допустить, что действие вакцины непосредственно на мозговые клетки вызвало усиление их функций. Поток нервных импульсов повлиял на те тканевые элементы тела, которые вырабатывают защитные вещества — антитела, агглютинины, антитоксины. И в результате этого у животного образовался иммунитет, во много раз более выраженный, чем при обычном введении вакцины.
Таким образом, степень невосприимчивости к болезни зависела от участия нервной системы в процессах иммунизации, з процессах образования защитных факторов организма.
Был проделан еще один очень интересный опыт.
В лапу собаки впрыснули столбнячный токсин, яд, вырабатываемый микробами, вызывающими столбняк — опасную, смертельную болезнь. У собаки развился столбняк, приведший ее к гибели. С другой собакой поступили несколько иначе. Ей тоже ввели в лапу столбнячный токсин, но одновременно туда же впрыснули и раствор новокаина.
Что произошло дальше? Прошли все сроки и никакого столбняка у животного не обнаружилось. Оно осталось здоровым.
Дело в том, что новокаин — это вещество, лишающее нервные волокна их чувствительности, их восприимчивости к раздражениям. Новокаин в том месте, куда он впрыснут, как бы выключает нервную ткань из процессов жизнедеятельности. Благодаря этому заболевание и не развилось.
Значит, без участия нервной системы не могла возникнуть реакция организма на столбнячный яд.
Все это можно понять, если допустить, что процессы иммунитета зависят от руководящего участия в них нервной системы.
Такое толкование вполне соответствует учению Павлова о ведущей роли нервной системы в организме.
Это не значит, конечно, что тем самым отпадает значение фагоцитоза или защитных веществ крови и тканей в явлениях иммунитета. И фагоциты, и антитела не представляют собой нечто независимое, самостоятельное. Их деятельность подчиняется нервной системе. И в процессах, обусловливающих сопротивление организма инфекционным заболеваниям, именно они осуществляют важнейшие функции защиты, регулируемые головным мозгом. Защитные вещества сывороток, как мы сказали, носят разные названия — антитоксины, антитела, агглютинины, опсонины. В крови человека, перенесшего болезнь и получившего иммунитет к ней, таких веществ обычно больше, чем в крови у неболевшего.
Теперь вернемся к больному мастеру. Мысль, которая пришла в голову доктору Баташеву, сводилась к тому, чтобы перелить больному кровь иммунизированного донора, т. е. донора, приоб-ревшего иммунитет к брюшному тифу.
Если донору ввести некоторое количество убитых брюшнотифозных палочек, то у него вскоре обнаружится легкое недомога-
ние, сопровождающееся даже повышением температуры. Эго — очень слабая форма болезни, с которой организм справляется без труда. Через день-два наступает нормальное состояние. Болезнь кончилась, организм победил. В крови выздоровевшего образовалось много защитных веществ. Донор стал иммунизированным.
Кровь такого донора доктор Баташев и перелил Снегиреву. Уже спустя некоторое время, можно было заметить, что в положении больного наступило улучшение. Болезнь продолжалась, но она уже потеряла свои грозные проявления.
Через три дня такое же переливание было повторено. И опять результат обрадовал врача. Больной шел к выздоровлению. Температура с каждым днем понижалась.
Спустя три недели, мастер уже сидел на кровати. А еще через неделю он готовился к выписке домой.
Доктор Баташев избавил его от опасности тяжелой затяжной болезни, от опасности осложнений, от опасности смерти.
Надо сказать, что это не исключительный случай.
21 декабря 1949 года в Ленинградском институте переливания крови открылась созванная Министерством здравоохранения РСФСР научная конференция. В плане ее работ одним из программных вопросов стояла проблема иммуно-трансфузии. И уже в первые дни участники конференции услышали очень много интересного.
С докладами выступили бактериологи, специалисты по инфекционным заболеваниям, специалисты по детским заразным болезням, специалисты по переливанию крови. С кафедры звучали голоса врачей из различных городов и областей.
С каждым выступлением становилось все яснее, что идея лечения инфекционных заболеваний с помощью переливания крови иммунизированных доноров — идея жизненная, что она уже выходит за стены лабораторий и, вероятно, вскоре займет свое место среди лечебных практических мероприятий. В лабораториях, клиниках, больницах, исследовательских учреждениях выковывается новое оружие против ряда заразных болезней.
Речь шла не об отдельных случаях. Наблюдения были проведены в большом масштабе, охватывали сотни больных детей и показали, что после переливания иммунизированной крови течение болезни, если и не всегда обрывается, то в большинстве случаев становится легче, бывает меньше осложнений, заметно ускоряется выздоровление.
Конечно, еще не все вопросы решены, есть еще много неудач даже и при брюшном тифе, при коклюше, при дизентерии, при скарлатине, не говоря уже о сыпном тифе, о тяжелых случаях малярии, паратифе. Следовательно, не надо делать слишком смелых выводов.
Однако сути дела это не меняет. Использование донора в качестве живой лаборатории, вырабатывающей лечебные противоинфекционные вещества, представляет своеобразный метод, указывающий на большие вполне обоснованные перспективы, заложенные в переливании крови. Но есть еще одна интересная сторона, которая открывается в области трансфузии.
Случай с ребенком, заболевшим так называемой ксерофтальмией, может служить подтверждением этому. Врачу, осмотревшему больного мальчика, предстояла чрезвычайно тяжелая задача. Он должен был сказать стоявшей перед ним матери его малолетнего пациента, что ее ребенок, который уже потерял зрение на правый глаз, неизбежно ослепнет и на левый.
Болезнь, как мы сказали, носила название ксерофтальмии. За этим латинским словом скрывается страшный смысл: высыхание роговой оболочки глаза, за которым обычно следует изъязвление этой оболочки и другие тяжелые последствия. Клетки чудесного и тонкого аппарата, который передает мозгу все разнообразие и все краски видимого мира, теряют влагу. В них вода не удерживается, они уплотняются, сохнут, как бы деревянеют. Разумеется, такие клетки лишаются своих свойств и становятся не пригодными для выполнения зрительной функции. Зрение гибнет.
Врач записывал в истории болезни данные осмотра ребенка. Он медленно водил пером по бумаге, стараясь оттянуть время, не решаясь открыть печальную истину матери. Она стояла перед столом и смотрела на доктора с выражением отчаяния и надежды.
И вдруг, когда врач уже открыл было рот, чтобы произнести страшные слова о слепоте, внезапная мысль мелькнула в его голове.
И он сказал матери совсем не то, что собирался сказать.
— Приведите его сегодня к нам в клинику в три часа, — сказал он. — Мы его примем и будем лечить. Не опаздывайте только.
Ровно в три часа ребенок уже занимал отведенное ему в палате место. А спустя неделю его выписали домой. Он шел по улице, уже различая людей, автобусы, дома. Мать вела его, беспредельно счастливая.
Правый, слепой глаз таким и остался. Но угроза второму глазу была устранена. Глаз уже потерял свой безжизненный вид. Ткани его приобрели нормальную упругость, если и не в полной мере, то в такой, которая свидетельствовала о бесспорности выздоровления.
Что же сделал врач? Мысль, которая внезапно мелькнула в его голове, была мыслью о переливании крови. Именно она родилась вдруг, как надежда на спасение второго глаза ребенка. Но это переливание должно было быть необычным.
Существуют особые вещества, наличие которых в пище необходимо хотя бы в ничтожных количествах. Называются они витаминами. Среди известных и изученных витаминов имеется витамин А. Он содержится в жирах и особенно его много в рыбьем жире. Он имеет близкое отношение к процессам роста. Для нас интересно сейчас то, что витамин А является также средством против ксерофтальмии.
У ребенка болезнь зашла далеко. Спасти глаз могло только быстрое прекращение процесса высыхания. А для этого требовалось введение в организм сразу огромного количества витамина.
Но как ввести ребенку подобную дозу? В чистом виде для впрыскивания в кровь или под кожу витамина А тогда еще не было. Дать в один прием колоссальную порцию рыбьего жира конечно невозможно.
Неожиданная мысль врача заключалась в том, что он придумал способ снабдить организм ребенка в тот же день огромным количеством витамина А и притом в наиболее усвояемой форме.
За два часа до переливания крови врач предложил донору выпить целый стакан рыбьего жира. Такую порцию, которую может принять только здоровый взрослый человек, донор проглотил вполне благополучно.
К моменту переливания кровь донора была перенасыщена витамином А, всосавшимся из кишечника. Это подтвердил и контрольный анализ лаборатории. Вместе с перелитой порцией крови донора в организм ребенка сразу перешла такая доза витамина А, которая оказалась вполне достаточной для необходимого целебного эффекта, для остановки ксерофтальмического процесса.
Так был спасен глаз маленького пациента.
Конечно, надо помнить, что подобный способ пригоден лишь в редких случаях. Не всегда, пройдя организм донора, тот или иной препарат появится в крови в должном и неизмененном виде. Но когда ничего другого не остается и есть только один путь — провести лекарственное вещество через донора, как через живую лабораторию, — то можно попытаться прибегнуть и к нему.
И кто знает, может быть такому методу еще предстоит большое будущее.
Путь крови
Кровь можно вливать в вену, можно вливать и в артерию. Точно так же кровь можно брать у донора из вены, а можно и из артерии.
Что лучше?
Вспомним путь крови в теле человека.
Главный двигатель в системе кровообращения — сердце. Это полый орган, величиной примерно с кулак того лица, кому сердце принадлежит. Сплошная перегородка сверху вниз делит его на две половины: правую и левую. Иногда их так и называют: правое сердце, левое сердце. Каждая половина состоит из двух частей, сообщающихся между собой: верхней — предсердия и нижней — желудочка.
Таким образом, у сердца есть правое и левое предсердия, правый и левый желудочки.
День и ночь, не останавливаясь, сердце сжимается и разжимается. Когда сердце сжимается, оно выталкивает кровь из своих желудочков.
Из левого желудочка кровь сразу попадает в аорту, самую большую артерию, а оттуда во все остальные артерии. Артерии несут кровь от сердца. По ним кровь, свежая, окисленная, яркого цвета, разносится по всему телу.
Кровь отработанная, темная, несущая углекислоту и другие клеточные отходы, по венам собирается к сердцу. Две большие полые вены вливают эту кровь в правое предсердие, а оттуда — в правый желудочек. Так заканчивается большой круг кровообращения.
Теперь отработанная кровь должна набрать кислород. Она может это сделать только в легких. Кровь из правого желудочка, как только он сожмется, мчится в легкие, а оттуда окисленная бежит в левое предсердие и затем в левый желудочек.
В левом предсердии заканчивается малый круг кровообращения.
А что делается с кровью, когда желудочки сердца разжимаются? Кровь как раз в эти моменты и переливается из предсердий в желудочки. Иначе, при следующем сжимании сердца, е желудочках было бы пусто. А тогда и сердцу, значит, нечего было бы гнать ,в аорту и артерии.
Артерии и вены соединяют между собой капилляры. Капилляры — это мельчайшие кровеносные сосуды. Их стенки состоят из одного лишь слоя клеток. Это самая тончайшая стенка: просвет капилляра необыкновенно узок. Как в старинных городках попадаются такие тесные улички, где две тележки разъехаться не могут, так и в капилляре не могут двигаться рядом два красных кровяных тельца — нехватает места. А ведь красные тельца такие крохотные, что «а кончике булавки их помещается огромное количество.
Капилляры чрезвычайно важны для жизни. Именно через их стенки передаются в клетки кислород и все питательные вещества, принесенные кровью. Каждая артерия распадается на эти капилляры и ими заканчивается.
Как же капилляры соединяются с венами? Капилляры превращаются сначала в маленькие вены, потом маленькие вены сливаются в вены все более крупные.
Артерии и вены, таким образом, составляют единую, непрерывную кровеносную систему.
Ясно, что куда бы вы ни вливали кровь, это существенного значения иметь не будет. Особенно, если вспомнить, что кровь совершает в теле полный круг по артериям и венам всего за 23 секунды. Вольете вы кровь в вену, а она через несколько секунд уже в артерии. Вольете в артерию, а она уже бежит по вене.
Почему же, однако, кровь берут из вены и вливают в вену?
Потому что вена для этих процедур более удобна. Стенки вен,
во-первых, тоньше стенок артерий. Во-вторых, они менее эластичны, менее упруги, не так ускользают из-под иглы; в стенку вены легче попасть иглой, чем в стенку артерии. А если нужно обнажить вену, выделить ее из тканей, то это тоже доступнее, чем такая же операция над артерией.
А можно ли влить кровь прямо в сердце?
Можно. Иглой прокалывают стенку грудной клетки и продвигают иглу в полость сердца. Затем к игле присоединяют трубку, идущую от банки с кровью, и производят вливание.
Делать это, разумеется, нелегко. Не каждый врач и даже не каждый хирург возьмутся за это, да и то не без опаски.
Такое переливание делают только в самых исключительных случаях, когда, например, налицо огромная кровопотеря, и вопрос жизни решается буквально минутами, а то и секундами.
Только в таких редких случаях можно пойти на переливание крови прямо в сердце.
Часть вместо целого
Однажды в больницу доставили человека, упавшего в котел с кипящей водой. У него оказались обожженными спина и ноги. Это был ожог третьей степени, очень тяжелый. Пульс едва прощупывался, сердце плохо работало.
Этому человеку сделали тотчас же переливание. Но в стею лянной «колбе жизни» была не темная жидкость, не кровь, а светлая жидкость, чуть-чуть желтоватая, янтарного оттенка. Больному перелили не кровь, а плазму крови.
При ожогах на пораженных местах образуется мною сукровицы, или, выражаясь научным языком, много серозно-слизистого отделяемого. Тело теряет много жидкости. В результате кровь в сосудах сгущается, и сердцу трудно продвигать такую сгущенную кровь.
Чтобы облегчить его работу, надо разжижить кровь. Для этого лучше всего влить только плазму или сыворотку без всей массы плотных эритроцитов и лейкоцитов.
В клинику внутренних болезней поступила больная. Лечащий врач сделал ей переливание, но опять-таки необычное. Из стеклянной колбы по трубке в вену текло что-то темное, густое. Это была масса, состоявшая из одних эритроцитов.
И в данном случае врач поступил вполне правильно. Больная страдала малокровием. У нее в крови было мало красных кровяных телец, ей нехватало эритроцитов, а плазмы было вполне достаточно.
Значит, иногда полезней переливать какую-нибудь составную часть крови — плазму, сыворотку, эритроциты, а не всю кровь целиком.
Плазма и сыворотка удобны еще тем, что при их переливании не так уж необходим учет совместимости групп. Ни плазма, ни сыворотка не содержат эритроцитов, а ведь агглютинируются несовместимой кровью именно эритроциты. Кроме того, плазма и сыворотка дольше сохраняются, чем цельная Кровь. Их можно без опасений вливать в больших количествах.
Наконец, путем обезвоживания можно получить сухую плазму и сухую сыворотку, которые можно пересылать почтой. Чтобы подготовить сухой препарат к переливанию, следует только развести его в дважды дестиллированной воде.
Советские ученые в Ленинградском институте переливания крови — Депп, Филатов, Богомолова, Шамов, Косумов, а также в Москве — Багдасаров, Дульцин, Розенберг, Балаховский, после долгих и сложных исследований нашли замечательно удобный способ изготовления сухой плазмы и сухой сыворотки, очень облегчивший их применение.
Эти ценные препараты крови принесли особенную пользу во время войны. Они шли на фронт в большом количестве.
Плазма и сыворотка называются кровозаменителями, или естественными заменителями крови. Ведь они являются естественной частью крови.
До известной степени к ним примыкает заменитель крови, предложенный ленинградским ученым И. Р. Петровым. Жидкость Петрова для трансфузии получила в период Великой Отечественной войны широкое распространение. Она состояла в основном из так называемого гипертонического раствора поваренной соли, в котором были растворены еще некоторые соли. Но самое главное — в эту жидкость добавляли кровь, полноценную донорскую кровь, но добавляли ее очень немного, всего десять процентов от общего количества вливаемого раствора.
И хотя крови добавляли немного, результат получался весьма успешный. Множество жизней советских воинов было спасено жидкостью Петрова.
Но есть и целиком искусственные заменители крови. Они носят разные названия: рингер-локковский раствор, раствор Норме, нормазоль, тутофизин, трансфузии, инфузин, коллоидный инфу-зин. Все они содержат питательные вещества, сходные по своим свойствам с питательными веществами крови.
Можно иногда использовать даже ту кровь, которая изливается, например, в брюшную полость при так называемых внутренних кровотечениях, при ранениях артерий и вен внутренних органов. Только надо эту кровь тщательно процедить сквозь стерильную марлю и профильтровать, чтобы в ней не оказалось даже мельчайших сгустков.
Разумеется, необходимо и предохранить ее от проникновения микробов.
Так наука о переливании крови стремится найти наиболее удобные способы восстановления функций кровообращения, нарушенных из-за потери крови.
Уничтожение специфичности
Как мы видим, кровезамешающих средств очень много. Но гематологи, специалисты по изучению крови, ишут все новых и новых заменителей. Почему же так велика потребность в подобных препаратах?
Объясняется это тем, что переливание крови в том или ином виде получает все большее распространение в лечебной практике. Это, естественно, требует увеличения запасов крови. Но запасы ее не безграничны. Значит, нужны кровезаменители.
Однако не всякие заменители могут считаться полноценными. Очень многие из них заменяют кровь только в незначительной степени.
Наилучшим заменителем, конечно, является сама сыворотка крови. Но брать ее, опять-таки, надо у доноров. Значит, и ее получение ограничено.
А между тем существуют колоссальнейшие, неисчерпаемые источники полноценного заменителя крови. Это сыворотка крови животных, например, коров, овец. От них можно получать сыворотку в любом количестве.
Почему же этого не делают? По очень простой причине. Человек, корова, овца, лошадь принадлежат к различным видам животного мира. Сыворотка различных представителей животного мира является несовместимой, или, как говорят в таких случаях, видовоспецифической. Выражается это в том, что сыворотка овцы или коровы склеивает красные кровяные тельца человека, вызы-| вает ряд явлений, ведущих к тяжелому состоянию организма, даже к смерти.
Вот почему все попытки переливания крови от животных человеку приводили всегда только к гибели тех, кому переливали такую кровь.
Перед наукой стояли два факта, казавшиеся исключающими друг друга. Один — наличие огромных запасов благодетельной сыворотки крови животных, второй — видовая специфичность, делавшая эти запасы не доступными для использования во врачебной практике.
Исследователи всех стран бились над тем, чтобы найти способ применения крови животных для переливания людям. Это было бы замечательной победой научной мысли.
Только в наши дни намечается решение этой трудной задачи. Очень много сделал в указанной области советский ученый Н. Г. Беленький. После ряда лет неустанного труда он добился того, что обработанная специальным способом сыворотка животных почти лишалась своих специфических, присущих ей свойств.
Чтобы проверить, действительно ли произошли изменения сыворотки в желаемом направлении, Беленький проделал множество опытов над склеиванием эритроцитов человека в полученной сыворотке. Опыты давали обнадеживающие результаты. Склеивания не происходило.
Но все это были только опыты. Они совершались в лабораториях, в пробирках с кровью и сывороткой, на стеклянных пластинках. Нужно было перейти к наблюдениям на людях.
Но какой человек согласится пойти на такой рискованный опыт? Беленький нашел такого человека. Это был — он сам. Ученый влил себе в кровь почти два стакана обработанной по его способу сыворотки коровы. Никакой отрицательной реакции не наступило, не было никаких признаков шока. Можно было подумать, что он влил себе сыворотку человеческой крови своей группы.
Таким образом, можно было считать, что видовая специфичность сыворотки, благодаря применению метода Беленького, резко ослаблялась, а может быть и уничтожалась.
После этого в ряде институтов было сделано множество переливаний подобной сыворотки при различных заболеваниях.
Особенно значительное число этих трансфузий было выполнено в Московском городском институте Скорой помощи им. Склифософекого под руководством проф. А. Арапова и результаты получились очень хорошие. Почти во всех случаях улучшалось состояние больных, которым переливали сыворотку. Важно также то, что перелитая сыворотка вызывает усиление деятельности жизненноважных органов, т. е. является стимулятором. Это уже проверено на тысячах переливаний.
Весьма интересные сведения были опубликованы в конце 1953 года проф. Ф. Угловым и Л. Звягиным из хирургической клиники первого Ленинградского мединститута. В течение последних пяти лет они произвели людям с различного рода заболеваниями и при самых тяжелых операциях почти пятьсот переливаний сыворотки Беленького. Результат вполне удовлетворил хирургов. У всех больных наступало заметное улучшение общего состояния, так же как если бы им вливали полноценную кровь. Любопытно, что и здесь у больных наблюдался тот же стимулирующий эффект после переливания.
Конечно, работы по превращению видовоспецифической сыворотки крупных сельскохозяйственных животных в видовонеспецифическую продолжаются.
Надо думать, что они приведут к цели, к полному решению проблемы. Этому поможет и улучшение способов исследования.
И тогда медицина получит в свое распоряжение огромные ресурсы высококачественного заменителя человеческой крови для спасительных переливаний.
Дальнейшие успехи
Раскрытые силой человеческого ума целебные качества крови поставлены на службу здоровья человека. Дальнейшие научные исследования обнаружили в крови множество новых ценных свойств.
Всем известна болезнь — туберкулез легких. Заключается она в том, что в дыхательные органы попадают микробы, возбудители этой болезни, и там размножаются. В тяжелых случаях начинает разрушаться легочная ткань и, что особенно важно, те отделы ее, которые выполняют функцию дыхания, — альвеолы. Вследствие этого больным нехватает воздуха, при ходьбе и движениях у них возникает чувство удушья, очень тягостное.
Чем можно помочь в таких случаях? До сих пор единственным средством являлась так называемая кислородная подушка — резиновый мешок, наполненный кислородом, который можно вдыхать через присоединенную к подушке трубку.
Не так давно было предложено делать такого рода больным переливание крови. Кровь при этом берут не обычную, а с добавленной к ней перекисью водорода.
Что же в итоге получается? Перекись водорода, как известно, содержит много кислорода. В организме этот кислород постепенно отщепляется. Пока совершается процесс отщепления, кровь в избытке насыщена кислородом.
Так компенсируется выключение из дыхания части легкого, разрушенной туберкулезом. Если это и не излечивает человека от самой болезни, то во всяком случае улучшает состояние больного, сохраняет его силы, дает пострадавшему органу возможность несколько оправиться.
Мы уже говорили выше, что у раненых наблюдается иногда особое состояние, которое чрезвычайно угрожает их жизни. Это состояние называется шоковым. Вся беда в том, что человека в подобном состоянии нельзя оперировать, как бы операция ни была нужна.
При шоке кажется, будто сердце останавливается из-за отсутствия крови. Кровь как бы еле-еле движется и словно исчезает из больших артерий, вен и сердца. Она застаивается в глубине брюшной полости, в печени, в селезенке.
Повинна в этом, как мы указывали, нервная система. При шоке нервные центры перестают нормально управлять органами тела, в том числе и сердечно-сосудистой системой. Возникают расстройства кровообращения.
Отсюда — нехватка в снабжении органов кровью. А это зависит от недостаточного снабжения их кислородом. Недостаток же кислорода влечет за собой прекращение обмена веществ, то-есть процессов питания в тканях. Вот почему шок так опасен.
Чем же можно быстро помочь возможному восстановлению обмена веществ? Введением крови, насыщенной кислородом. Значит, опять-таки нужно влить кровь с добавленной к ней перекисью водорода.
Иногда свойства крови используются в медицине и не для переливания.
К созданию очень интересного препарата привели работы еще одного сотрудника того (же института — Богомоловой. Операция, произведенная в 1949 году больному с опухолью почки, лучше всего показывает значение этого препарата.
В клинику поступил пациент, у которого в левом боку имелось резкое выпячивание. Опытному врачу не стоило большого труда определить, что выпячивание происходит из-за огромного увеличения объема почки вследствие раковой опухоли. Почка была размером с голову взрослого человека.
Что с такой почкой надо делать? Конечно, удалить ее. И чем скорее, тем лучше.
Так и поступили. Операция прошла вполне удачно.
Но можно ли было считать, что все в данном случае кончилось благополучно? Нет. Злокачественная опухоль была удалена, но возникла новая опасность — кровотечение. Как ни тщательно хирург и его ассистент перевязывали кровоточащие сосуды, кровь продолжала заливать операционное поле. Это кровоточили мельчайшие артерии и вены из так называемой забрюшинной клетчатки, из брыжейки толстой кишки, из клетчатки, покрывающей нижнюю полую вену и аорту. Ничтожные по размерам, прежде спаянные с опухолью, а при операции пересеченные, они теперь сочились кровью и грозили опасной кровопотерей. Перевязка отдельных кровоточащих сосудов не изменяла положения.
Тогда пустили в ход желтоватое вещество, похожее на губку. Им на некоторое время покрыли всю кровоточащую поверхность. А затем, как обычно после операции, закрыли рану и наложили повязку. Спустя еще некоторое, но значительно более продолжительное время хирург проверил состояние операционного поля. Все было в порядке. Кровотечение прекратилось.
Прекратило его желтоватое вещество, похожее на губку. Это была губка, состоящая из плазмы крови.
Благодаря работам Богомоловой этот препарат все шире входит в практику хирургов, как замечательное кровоостанавливающее средство, незаменимое там, где остальные способы менее удобны и более хлопотливы.
Предел потери
Однажды автомобиль скорой помощи доставил в клинику человека, у которого ногу отрезало трамваем. Другая нога тоже была сильно повреждена. Хотя прошло всего несколько минут, пока приехала машина скорой помощи, но для таких ран и этого было достаточно: кровь неудержимо лилась на землю из обеих бедренных артерий. В приемном покое пострадавшему сразу перевязали артерии и сделали переливание крови. Это не помогло. Бму вскоре повторили переливание, но опять-таки безуспешно. Он умер тут же на столе.
Почему? Ему перелили мало крови?
Нет, крови влили ему вполне достаточно. Одновременно ему вводили и необходимые лекарства, чтобы поддержать деятельность сердца. Для его спасения сделано было все.
Этот человек умер потому, что есть граница быстрой, в короткий срок, потери крови, после которой уже не помогает никакое переливание, тем более, если его не применили немедленно.
Смерть у людей наступает, если такая потеря крови составляет больше трех процентов общего веса тела. Значит, для человека, который весит, например, шестьдесят килограммов, потеря в кратчайший срок двух-трех с половиной литров крови уже гибельна, если ее быстро не заместить кровью донора.
Тем не менее сколько бы и в какой угодно короткий срок человек ни потерял крови, надо всегда применять переливание. Были случаи, когда человек терял таким образом до четырех литров крови, и его все же удавалось спасти. Граница смертельной кровопотери не одинакова для всех людей. Она индивидуальна.
Также не у всех одинаковы как способность организма вое-, станавливать свои кровопотери, так и сроки самого восстановления.
Механизм шока
Теперь следует вернуться к одному вопросу, который у нас не получил еще должного освещения. Речь идет о посттрансфузион-ном шоке, т. е. шоке, возникающем после переливания крови. Как мы знаем, в результате переливания несовместимой крови наступают тяжелые расстройства, как бы отравление организма: нарушается кровообращение, разрушаются красные кровяные тельца, наступает потеря сознания. Нередко дело кончается смертью.
Чем объясняется существование такого факта, как наличие групп крови, несовместимости крови? Разумеется, причина может быть одна, биологическая: белки сыворотки крови не у всех людей одинаковы. Их различие и создает разделение на группы, обусловливает несовместимость.
Но проблема посттрансфузионного шока заключается не в этом. В чем механизм возникновения шока? Благодаря каким процессам возникают тяжелые поражения?
Обычно возникновение посттрансфузионного шока объясняют так. Сыворотка реципиента обладает биологическим свойством разрушать эритроциты перелитой несовместимой крови донора. Продукты распада красных кровяных шариков и другие элементы несовместимой крови действуют токсически, т. е. ядовито, на клетки, органы, ткани того человека, которому влили эту кровь. Отсюда вся картина шока.
Правильно ли подобное объяснение, сторонниками которого являются главным образом зарубежные ученые?
Нет. В основе шока, наступающего при переливании несовместимой крови, лежат совсем другие процессы. Исследования советcких ученых установили настоящую причину посттранефузионных осложнений.
Интересным и весьма демонстративным явился лабораторный опыт, произведенный у собаки над селезенкой. Как известно, селезенка исключительно богата кровеносными сосудами и тесно связана со всей кровеносной системой организма. Над селезенкой собаки проделали операцию, в результате которой ее сосудистая сеть была тщательно изолирована от всей системы кровообращения. Таким образом, в селезенку не поступало и из нее не выходило ни одной капли крови.
В такую селезенку влили так называемую гетерогенную кровь, то-есть кровь животного другого вида, являющуюся для собаки несовместимой кровью. Что могло произойти после введения такой крови? Никаких осложнений, никаких явлений посттрансфузионного шока не должно было бы быть. Ведь все артерии и вены селезенки были изолированы от остальной системы кровообращения. Значит, во всем теле животного циркулировала только ее собственная кровь без всякой примеси несовместимой крови.
И все же у собаки наступил настоящий шок, точно такой, какой бывает при переливании несовместимой крови.
Почему же так произошло?
Все представляется непонятным до тех пор, пока не учитывается одно обстоятельство. Дело в том, что хотя кровеносные сосуды селезенки были изолированы от общего русла крови, но ее нервные связи со всем организмом остались ненарушенными. Нервные пути от селезенки к центральной нервной системе сохранились. В этом и заключалась разгадка посттрансфузионного шока.
Теперь становится понятным механизм наступления шока. Совершенно ясно, что кровь, вводимая при трансфузиях, действует не на клетки, органы, ткани, а, прежде всего, на окончания нервных проводников в стенках кровеносных сосудов. Совместимая перелитая кровь является нормальным раздражителем этих окончаний и вызывает в них нормальные импульсы, передающиеся в центральную нервную систему, что приводит к усилению всех физиологических процессов в организме. Вот отчего переливание крови, сделанное с учетом совместимости, благотворно.
Перелитая несовместимая кровь представляет собой необычный, ненормальный раздражитель для нервных окончаний, находящихся в стенках артерий и вен. Возникающие в них импульсы являются уже не нормальными, а патологическими. Поступление в центральную нервную систему, в головной мозг патологических импульсов резко меняет воздействие центров мозга на все жизненные процессы организма в неблагоприятную сторону. Нормальное течение всех физиологических функций нарушается.
Таков механизм возникновения и развития посттрансфузионного шока. Ведущая роль в этом, как мы видим, принадлежит
центральной нервной системе и ее высшему отделу — головному мозгу, что вполне соответствует положениям Павлова.
Только в свете учения великого Павлова о роли нервной системы в организме действие совместимой и несовместимой крови при переливании получает правильное объяснение.
Армия дружбы
В институты переливания крови приходят много женщин и мужчин. Они хотят отдать свою кровь. Это — доноры.
Донором может стать каждый здоровый человек. Разумеется, дряхлые старики для этого не подходят. Лица моложе восемнадцати — двадцати лет тоже не очень годны: у них медленно восстанавливается отданная кровь.
О наших советских донорах, особенно ленинградских периода блокады, об их самоотверженности, чувстве долга надо писать стихи и повести.
Среди ленинградцев есть доноры, которые давали кровь девяносто раз. А одна санитарка — девяносто четыре раза. И она работает и чувствует себя хорошо. Такие доноры вовсе не являлись исключением. Так, еще до Великой Отечественной войны диспетчер Крушинский дал свою кровь более 100 раз, а медицинская сестра Низяева — более 90 раз. Подобные случаи совсем не редкость.
В капиталистических странах также встречаются случаи дачи крови донорами много десятков раз. Но донорство в этих государствах вовсе не носит характера общественного служения благородной идее спасения больных. Там главным стимулом является личный материальный интерес донора.
В этом и заключается основная разница между донорством в СССР и донорством в других странах.
Почему люди становятся донорами за рубежом? В одних странах, например, в Америке, исключительно ради денег. Там донорство — профессия, дающая более или менее определенный доход.
В других странах, например в Италии, Франции, донорство часто, помимо денежного интереса, также связано с религиозными соображениями. Донорство не всегда там оплачивается, но за кровь духовенство обещает отпущение грехов. Это — религиозная плата.
В зарубежных странах о самих донорах государство и организации мало заботятся. Взятие крови — бесконтрольно. Когда однажды в Вене проверили состояние здоровья всех доноров, то оказалось, что многие доноры сами нуждались в переливании им крови.
В нашей Советской стране доноры окружены заботой и вниманием. Перед взятием «рови они тщательно обследуются в отношении не только их здоровья, но и бытовых условий.
Донорство в Америке да и в любой буржуазной стране — это эксплуатация нуждающихся, бедняков, голодных людей, чаще всего безработных или полубезработных.
Совсем иначе обстоит дело в Советском Союзе, где каждый трудящийся пользуется при надобности правом лечения переливанием крови за счет государства. И мы уже давно и полностью проводим в жизнь лозунг «Максимум пользы больному и никакого вреда донору».
Донорство у нас почетно. Награждение значком «Почетный донор» указывает на признание в советском государстве больших общественных заслуг за теми, кто отдает свою кровь больному.
В 1919 году в Советской России был один донор. Тот, кровью которого пользовался доктор Шамов для своего первого переливания. Теперь их десятки тысяч. Это целая армия дружбы и долга.
Сама организация дела переливания крови достигла в Советском Союзе небывалого размаха и совершенства. Уже цифры, относящиеся к годам до Великой Отечественной войны, красноречиво свидетельствуют об этом.
В 1932 году по всему Союзу произведено было 2433 переливания, в 1935 году — уже 22 160, в 1938 году — 100 143, а в 1940 году — 226 000.
Ни в одной стране земного шара таких цифр нет. Да в капиталистических условиях жестокой эксплуатации широких масс трудящихся и пренебрежения к состоянию здоровья населения их и не может быть.
Впервые начали широко применять консервированную кровь в 1934 году. В этом же году из 12 942 переливаний 4429, т. е. 26 процентов, были сделаны консервированной кровью; в 1938 году процент поднялся до 70, а в 1940 году — до 90. В этом году 203 333 переливания были выполнены только консервированной кровью.
Что означает такой рост применения консервированной крови? Это значит — улучшение способов консервирования, умение сохранять большие запасы крови, более совершенное обслуживание больных, большая подготовленность к требованиям борьбы за здоровье людей.
Цифры советского здравоохранения и в этой области оказались непревзойденными.
Во время Великой Отечественной войны блестящая организация дела переливания крови явилась одним из важных факторов спасения раненых воинов Советской Армии. Нигде, ни в какой армии воюющих стран не было достигнуто таких высоких результатов излечения бойцов, как у нас.
«Ампула жизни»! Она стоит в холодильном шкафу каждого госпиталя, каждой больницы, клиники, медпункта, готовая в любую минуту проявить свою могучую силу в борьбе со смертью. «Ампула жизни» никогда не пустеет. Армия дружбы заботится об этом. И ряды ее все растут.
У них и у нас
В начале XX века уже ни у кого не было никаких сомнений в том, что в переливании крови медицина приобрела могучее средство восстановления человеческого здоровья при самых разнообразных его нарушениях. Можно было ожидать поэтому, что такое великое достижение пытливой исследовательской мысли, такое завоевание науки будет применяться широко, получит максимальное распространение.
На самом же деле ничего подобного не произошло и не происходит. И в Англии, где впервые было произведено переливание крови от человека к человеку, и в Америке, и во Франции, и в Германии, и в ряде других стран переливание крови применялось и даже теперь применяется сравнительно редко, в масштабах, совершенно не соответствующих огромному значению этого замечательного лечебного метода.
Объясняется такое положение очень просто. Организация службы крови во всех государствах являлась, а в большинстве случаев является и теперь коммерческим делом.
Так, например, в Америке наибольшее число трансфузий было проделано в клинике Мейо. А клиника Мейо — это частное дорогостоящее предприятие. Вполне понятно, что широкие, мало обеспеченные слои населения пользоваться завоеваниями медицины не в состоянии. Кризисы, безработица еще более ухудшают положение. Буржуазия не заинтересована в том, чтобы тратить хотя бы часть своих капиталов на улучшение здоровья населения.
Отсюда же вытекает и другая сторона проблемы переливания крови — научная. Вопросами глубокого изучения трансфузии занимаются главным образом отдельные ученые на свой страх и риск. Поэтому страдает и отстает и исследовательская работа в данной области.
Только в одной стране дело обстояло с самого начала и обстоит в настоящее время совершенно иначе — в стране Советов. Здесь развитие учреждений, ведающих всем комплексом мероприятий, связанных с обслуживанием населения переливанием крови в целях охраны его здоровья, находится в исключительно благоприятных условиях. Переливание крови, как и вся система здравоохранения, является у нас государственным делом. Неудивительно, что именно в Советском Союзе достигнуты наибольшие успехи в организации всей службы крови.
Уже в 1926 году появился первый в мире научный центр переливания крови — Московский институт гематологии и переливания крови. Вслед за ним возникает ряд подобных же институтов почти во всех крупнейших центрах страны — Харькове, Ленинграде, Тбилиси, Минске и других городах.
Советская власть, положившая в основу своей деятельности заботу о человеке, щедро отпускает средства и на развитие дела переливания крови, и на расширение пунктов по обслуживанию населения этим видом лечебной помощи.
Как мы говорили, уже в 1941 году в Советском Союзе насчитывалось до 1500 учреждений по переливанию крови. Каждое большое лечебное заведение является базой, центром мероприятий по переливанию крови, вокруг которого развертывается и практическая работа и научная деятельность целого района. Нет ни одного населенного участка в наших республиках, даже на далеком Севере, где не имелось бы специалиста по трансфузии и где этот вид медицинской помощи не применялся бы.
В нашем государстве каждому больному переливание крови, как и всякое врачебное мероприятие, даже самое сложное, производится совершенно бесплатно, за счет правительственного бюджета.
Точно так же ни в одной стране разработка всех вопросов, связанных с изучением действия крови, не носит такого всестороннего характера, как у нас. Именно в СССР создана теория, удовлетворительно объясняющая стимулирующее воздействие перелитой крови. Впервые у нас изготовлены сухая плазма и сыворотка. Нашими учеными больше, чем всеми другими, сделано в области производства кровозамещающих жидкостей и консервации стабилизированной крови. Советские институты научно обосновали и ввели в практику использование трупной крови, понизив этим процент послетрансфузионных осложнений. В нашей стране было установлено, что кровь, получаемая при лечебных кровопусканиях, является пригодной для целей переливания. Изучение возможностей применения так называемой иногруппной, т. е. несовместимой, крови, и гетерогенной, т. е. чужеродной, взятой у животных, по-настоящему ведется только в СССР.
Все эти успехи и достижения обеспечили советской медицине ведущую роль в области переливания крови. В работу всех международных конгрессов по переливанию крови главный вклад вносили представители советской страны.
Глава вторая. ОБМАНУТАЯ СМЕРТЬ
Джульетта
В трагедии «Ромео и Джульетта» великого английского драматурга Вильяма Шекспира Джульетта — главное действующее лицо — выпила снотворное средство и заснула так глубоко, что родители приняли ее за умершую. Ей устроили пышные похороны. Тело Джульетты поместили в склеп.
Шекспир рассказал об этой смерти с такой силой, с таким чувством, что нельзя не поверить всему тому, что произошло с Джульеттой. Всему, кроме того, что заснувшего человека можно принять за мертвого и похоронить. Так могло случиться лишь в том случае, если к заснувшему не был вызван врач.
Врач сразу узнал бы, в чем дело. Он услышал бы, что бьется сердце. Очень тихо, может быть, но все же бьется. Он нащупал бы пульс, может быть, очень слабый, но все же ощутимый.
Какое бы снотворное средство Джульетта ни приняла, сердце ее остановиться не могло.
Перестань оно биться хоть на пять-шесть минут, Джульетта никогда не проснулась бы.
В пьесе Джульетту похоронили как умершую. Но в действительности при участии врача так вряд ли могло бы произойти.
Пока не остановится сердце
При одних болезнях человек спит мало. У него бессонница или плохой сон. При других — человек спит больше обычного.
Но имеется такой недуг, при котором человек спит все время. И сама болезнь внешне выражается именно сном.
Болезнь эта называется летаргическим сном. Заболевший ею погружается в особое состояние, напоминающее непробудный сон. Сколько ни тормошить летаргика — ничего не поможет. Он не проснется.
Летаргический сон может длиться день, два, три, неделю, две недели, даже месяцы.
Человек спит, но он живет. У него работает сердце, хотя и замедленно. Он дышит, но очень поверхностно, неглубоко, так, что почти не видно, как опускается и поднимается грудная клетка. Иногда дыхание может даже остановиться, но только на минуту, две. Пока бьется сердце, летаргик жив, хотя и производит полное впечатление мертвеца.
Человека в летаргическом сне надо пробовать будить хотя бы на короткий срок, чтобы дать ему пищу. Если разбудить не удается, прибегают к искусственному питанию. Если заснувшего не кормить, он погибнет от истощения.
Но даже если на некоторое время остановится сердце и прекратится дыхание, это не всегда еще означает смерть.
Когда я был студентом-медиком последнего курса, мне пришлось однажды присутствовать на операции.
У больного, художника лет тридцати пяти, правая почка была наполнена камнями, образовавшимися в результате мочекаменной болезни. Такую почку предстояло вскрыть, а камни удалить.
Операция эта длилась уже довольно продолжительное время. Вдруг хирург, известный тогда в Киеве профессор Волкович, крикнул:
— Темная кровь! Смотрите за сердцем!
У художника действительно в этот момент сердце перестало биться. Пульс исчез. Остановилось дыхание.
Немедленно прекратили дачу наркоза; приостановили операцию. Художнику впрыснули под кожу камфару и кофеин, возбуждающие деятельность сердца. Одновременно начали делать искусственное дыхание. Сердце, однако, оставалось неподвижным.
Лицо художника побледнело. Ногти на пальцах приобрели зловещий сизоватый оттенок.
Тогда хирург взял длинную тонкую иглу. Он внимательно смотрел на нее, словно обдумывая что-то очень серьезное, словно высчитывал все шансы за и против. Это продолжалось всего несколько секунд, но они показались мне бесконечно долгими. Наконец, хирург решился. Он пронзил иглой стенку грудной клетки, точным движением вел иглу в сердце и тут же впрыснул раствор адреналина. Сердце забилось раз, другой, чуть-чуть, с длинными паузами. Потом все сильнее и быстрее.
Адреналин — это сильнейший возбудитель сердечной мышцы, иногда помогающий в тех случаях, когда другие средства оказываются бессильными.
Впрыскивания в сердце заняли около трех минут. Искусственное дыхание производилось все это время безостановочно.
Послышался еле уловимый вздох. Одновременно с сердечной деятельностью возвращалось дыхание.
Еще через несколько минут операция возобновилась и была благополучно доведена до конца.
Больной, еще не очнувшийся от наркоза, лежал неподвижно, но с порозовевшим лицом. Его ногти приобрели нормальную окраску.
Я все это очень хорошо помню, ибо впервые видел, как у человека остановилось сердце и как оно снова начало биться. Две-три минуты человек был вне жизни. Еще две-три минуты, и смерть была бы неотвратимой.
Если не каждый врач, то каждый хирург наверное встречался с такими случаями.
Почему больной возвратился к жизни после того, как сердце его в течение некоторого времени было неподвижным? Как это понять?
Дело заключалось в том, что все органы больного были еще вполне жизнеспособны. Его сердце остановилось не от того, что оно износилось. Нет, оно могло бы работать еще долго и безотказно. Прекращение сердечной деятельности вызвал хлороформ. Хлороформ, поступая в организм в большом количестве, является ядом для центров дыхания, для центров регуляции сердечнососудистой деятельности, для самого сердца.
Операция иногда продолжается час, полтора и даже более. За это время хлороформ обычно не успевает вызвать в органах стойких изменений, таких, которые уже не могут исчезнуть. И если во-время заметить,что с сердцем или дыханием происходит неладное, то дело еще можно поправить.
Хирург Волкович заметил неладное по крови, по ее цвету. Он крикнул: «Кровь темная!» Кровь темнеет оттого, что в ней исчезает кислород. А кислород исчезает оттого, что кровь перестает двигаться и уже не попадает в легкие, где мог бы поступить в нее кислород воздуха. Тут надо действовать быстро, энергично. Теперь уже нельзя терять времени. Все меры должны быть пущены в ход безотлагательно.
Больному художнику производили искусственное дыхание, вводили большие дозы лекарств, которые возбуждают деятельность сердца, — камфары, кофеина.
Можно ли понять, почему камфара и кофеин не помогли? Можно. Ведь их впрыскивали под кожу. А как они могли бы попасть отсюда в сердце или в мозговой центр, управляющий работой дыхательных органов? Только с кровью. Но кровообращение у больного уже прекратилось. Значит, впрыскивание, в сущности, было бесполезным. Тогда оставалось одно: ввести лекарство прямо в сердце. Но теперь уже надо было брать лекарство очень сильное. Волкович так и сделал, использовав для этого адреналин.
Известны примеры, когда хирург вскрывал грудную клетку, обнажал остановившееся сердце и рукой массировал его. Это,
конечно, крайняя мера. Очень серьезная, доступная не каждому хирургу. Да и самые опытные хирурги на нее не всегда пойдут. Но когда ничего больше не остается, решаются и на такой шаг. Терять в подобных случаях нечего, а спасение может придти. Поэтому хирурги обязаны действовать здесь смело и решительно.
После того, как остановится сердце
Один ученый вырезал из вполне уже развившегося зародыша цыпленка маленький кусочек ткани и стал наблюдать за этим кусочком. Он лежал в тарелке с особым раствором, с так называемой питательной жидкостью. И вот этот кусочек отрезанной ткани жил. Клетки его делились. Взамен отмиравших клеток появлялись новые. Прошло много времени.
Сам цыпленок успел бы за это время вырасти, стать большой курицей, постареть и погибнуть от дряхлости. А вырезанная из него полоска ткани продолжала жить. Только время от времени меняли использованную питательную жидкость на свежую.
Так, отдельные ткани могут обладать большей продолжительностью жизни, чем целый организм.
Когда я был молодым врачом, в больнице, где я работал, умер от крупозного воспаления легких мой хороший знакомый, геолог.
Тогда еще не знали ни стрептоцида, ни сульфидина, ни пенициллина, и крупозное воспаление легких было очень опасным заболеванием.
Случилось это в Петрограде. Мать окончившегося жила в Москве. Ее вызвали телеграммой.
Геолог умер в полдень. Его мать должна была приехать утром следующего дня.
Геолог за неделю болезни не брился и сильно оброс бородой. Чтобы это не произвело на мать еще более тяжелого впечатления, я распорядился побрить умершего. А утром, когда я зашел в покойницкую больницы, на щеках и подбородке умершего лежала как бы темная кайма. За ночь опять появились волосы.
Если вырезать полоску ткани вместе с тем слоем, из которого растут волосы, и поместить ее в соответствующую питательную Среду, то волосы будут расти еще некоторое время.
Профессор Кравков, талантливый советский ученый, работал в области фармакологии, т. е. он изучал действие лекарств на человека. Большие способности экспериментатора позволили ему произвести много чрезвычайно интересных и ценных исследований, в особенности над отдельными изолированными органами.
Кравков отрезал от трупа палец, о чем мы уже говорили, и через кровеносные сосуды пальца пропускал питательную жидкость, называемую в науке ривгер-локковской.
Пропущенную через палец жидкость Кравков собирал и подвергал химическому анализу. Анализ давал поразительный результат. Из пальца вытекала не та жидкость, которую Кравков
в него вливал. В ней появились новые вещества, которых раньше не было.
Откуда же попадали в жидкость эти новые вещества? Эти вещества вырабатывались клетками тканей пальца, являлись продуктом их жизнедеятельности.
Роль жидкости заключалась в том, что она в известной степени заменяла кровь. Клетки тканей пальца извлекали из нее нужные им питательные вещества, перерабатывали их, а затем выделяли в ту же жидкость продукты своего обмена веществ.
Иначе говоря, ткани отрезанных у трупа пальцев в известной мере жили почти так же, как и живые клетки.
В лабораториях физиологов
Томский физиолог профессор Кулябко вырезал у трупа щитовидную железу, расположенную на шее человека, и проделывал с ней то же самое, что Кравков с пальцами, т. е. вливал в артерию железы под небольшим давлением рингерлокковскую жидкость. Войдя в артерию, эта жидкость обегала всю железу и вытекала из наружного отверстия вены. После этого Кулябко собирал ее и исследовал. Он обнаружил в ней присутствие гормона щитовидной железы.
Считать мертвой такую железу никак было нельзя. Она жила и продолжала вырабатывать гормон. Вместе с тем она давала наглядное доказательство того, что отдельные органы, взятые у трупа, сохраняют свою способность жить в течение более или менее продолжительного срока. Разумеется, это возможно только при соответствующих условиях, в условиях определенной среды.
Это относится также и к более сложным органам.
В лаборатории профессора Кулябко можно было видеть еще один удивительный опыт. В центре особого прибора находился : темный, кругловатый, несколько вытянутый, мясистый предмет.
В него входили стеклянные и резиновые трубки, а рядом располагался небольшой электрический моторчик. Кругловатый мясистый предмет было обыкновенное человеческое сердце.
Профессор извлек его из трупа спустя сутки после смерти человека. Через стеклянные и резиновые трубки в сосуды сердца с помощью моторчика накачивался раствор Локка, одна из разновидностей питательной жидкости. Сердце, вынутое из трупа через сутки после смерти человека, начинало биться, начинало жить.
Московские физиологи Брюхоненко и Чечулин проделали поразительный опыт. Они отделили голову собаки от туловища и заставили эту голову жить некоторое время. Голова открывала глаза, закрывала их при резком свете, снова открывала. Когда кислотой смазывали губы, голова высовывала язык и слизывала раздражавшую кислоту. На свист она навостряла уши.
Вы, конечно, уже догадываетесь, что Брюхоненко и Чечулин поддерживали жизнь головы тем, что пропускали по ее артериям и венам питательную жидкость.
Чтобы добиться удачи в таком опыте, надо очень долго и много экспериментировать, обладать огромным терпением, настойчивостью, научной изобретательностью и большими знаниями. Это очень сложный и трудный опыт, требующий тщательной подготовки, значительного навыка и хорошо сконструированной аппаратуры.
В конце концов, только после многих ошибок и неудач оба московских физиолога достигли успеха.
Их эксперимент доказал, что даже головной мозг может некоторое время работать после того, как всякое проявление жизни в нем должно было бы прекратиться.
В дальнейшем, основываясь на смелых опытах Ф. А. Андреева, эти исследователи проделали интереснейшие эксперименты с оживлением трупов животных.
Далекое путешествие
Собаку звали Буян и жила она вместе с остальными лабораторными собаками.
Это было веселое, добродушное и сильное животное. Когда появлялся профессор, собака, приветливо помахивая хвостом, встречала его радостным лаем. Профессор ласково гладил Буяна и направлялся в свой кабинет. Профессор и Буян были большими друзьями.
Однажды пришел служитель, взял Буяна за ошейник и повел в лабораторию. Вскоре собака лежала на столе, погруженная в наркозный сон. Профессор и ассистент приступили к операции.
Они готовили Буяна в далекое путешествие.
Собаке вскрыли на шее крупную артерию и выпустили из нее всю кровь. Наконец, сердце остановилось, перестало биться.
Профессор раздвинул веки Буяна. На профессора смотрел тусклый, безжизненный глаз. Собака была мертва.
Во время опыта специальные приборы непрерывно регистрировали дыхание и сердцебиение. На белой бумаге непрерывно вращающегося барабана движущаяся черная линия отмечала каждый вздох, а другая, параллельная линия — каждый толчок сердца. Сперва, до момента операции и в начале операции, черные линии поднимались и опускались, как при обычном дыхании и биении сердца. Потом подъемы и опускания становились все мельче и реже и, наконец, исчезли, превратились в сплошные ровные линии.
Таким образом, приборы подтвердили, что жизнь Буяна кончилась. Прекратилось дыхание, прекратилась деятельность сердца. Собака действительно была мертва.
Кровь, выпущенная из ее тела, однако, никуда не ушла. Не потерялось ни одного грамма. Она вся стекла по трубке в большой стеклянный сосуд, составляющий часть особого аппарата, называемого автожектором и соединенного с моторчиком.
От этого стеклянного сосуда тянулась еще одна трубка. Она заканчивалась иглой. Игла была введена в крупную вену на шее собаки. Прошло пять минут, еще одна минута, еще тридцать секунд. Труп собаки, бездыханный, неподвижно лежал на столе.
Профессор не спускал взгляда с хронометра.
Наконец, стрелка подошла к предельной черте. Теперь нельзя было терять ни секунды!
Профессор открыл кран, а затем включил моторчик. Зашипел кислород, который по третьей трубке пустили в стеклянный сосуд с кровью. Моторчик погнал из стеклянного сосуда в вену кровь, перемешанную с кислородом. Это была такая же кровь, какая получается при дыхании, после прохождения ее через легкие.
Моторчик непрерывно работал и нагнетал через вену кровь в собаку. Кровь проходила в сердце животного, оттуда распространялась по всем тканям и органам и, обежав все тело, изливалась из артерии на шее. Из нее она снова попадала в стеклянный сосуд. Здесь к ней примешивался кислород и все начиналось сызнова.
На белой бумаге регистрирующего прибора перо попрежнему чертило две ровные черные линии.
Собака лежала с остановившимся сердцем, без дыхания. Но вот пульсовая линия чуть дрогнула, немного подскочила. Через несколько секунд — опять скачок, но уже больший. Линия дыхания также почти незаметно поднялась и опустилась,
Это отмечались первые толчки сердца и первые движения грудной клетки. Через минуту собака вздохнула и легкая судорога шевельнула ее голову. Собака уже не была мертвой. К ней возвращалась жизнь. Вскоре Буян дышал нормально и сердце его билось, как обычно.
Еще через несколько минут вся аппаратура была убрана, из артерии и вены удалены иглы с их резиновыми трубками. Они уже не были нужны.
Прошло немного дней. И опять, когда профессор появлялся в лаборатории, Буян встречал его радостным лаем.
Буян не знал, что вернулся из далекого путешествия.
Раньше сказали бы, что это было путешествие в царство смерти.
Шесть минут
И Брюхоненко, и Чечулин превращали собаку в труп только на шесть минут. После этого, не теряя ни секунды, приступали к ее оживлению.
Если бы ждали еще две-три минуты, то никакими средствами собаке нельзя было бы вернуть жизнь.
Почему? Потому что в некоторых клетках наступили бы необратимые изменения.
Поясним это. Наступление смерти означает прекращение всех функций, в том числе и питания тела. Прекращается питание,
прекращается обмен веществ, нарушаются все тканевые и внутриклеточные процессы. В результате в клетках, лишенных питания, начинаются процессы разложения, распада.
Теперь, если даже возобновить «подвоз» питательных веществ, клетка не оживет. Можно сказать, что механизм, который осуществляет диссимиляцию, т. е. расщепление сложных белковых и других органических соединений, и ассимиляцию, т. е. отбор и усвоение нужных частиц, выходит из строя. Происходят необратимые изменения.
В момент смерти прекращается питание для всего тела. Но наступает ли сразу во всех клетках тела это необратимое состояние?
Нет, не сразу. Клетки одних органов более грубы, более просты, более устойчивы. В них распад начинается позже. Позже наступают необратимые изменения. Клетки других органов более хрупки, менее устойчивы. В них распад наступает скорее. Раньше наступает и необратимое состояние.
Некоторые клетки могут жить в течение некоторого времени, даже после установленной смерти человека. Таковы, например, клетки эпителия кожи, клетки, образующие волосы и ногти.
Самыми хрупкими, самыми неустойчивыми являются нервные клетки мозга, особенно коры больших полушарий. В них необратимые посмертные изменения наступают очень скоро.
Мы видели из опыта Кулябко, что клетки сердечной мышцы сохраняют жизнеспособность даже через сутки после смерти тела. Клетки же мозга погибают гораздо раньше, в сроки, определяемые не днями или часами, а минутами.
А ведь клетки центральной нервной системы управляют основными жизненными процессами в нашем организме и дыханием. Срок обратимости изменений клеток высших отделов центральной нервной системы, с момента полной остановки дыхания и кровообращения, равен в среднем всего пяти-шести минутам.
Вот почему профессор Брюхоненко и профессор Чечулин в своих опытах внимательно наблюдали за стрелкой секундомера. Они следили, чтобы посмертные изменения клеток мозга собаки не длились, после агонального периода, более шести минут. В противном случае собака ни при каких условиях не вернулась бы из своего далекого путешествия.
Не только сердце
Существует всем известная болезнь — туберкулез легких. При этой болезни, если она запущена, разрушается легочная ткань. Теперь туберкулез легких научились хорошо лечить. Но для того, чтобы с ним справиться, надо вовремя захватить болезнь. В противном случае она развивается, разрушение захватывает большие участки легочной ткани и в результате человек может умереть.
Есть болезнь, которая называется — пионефроз. У заболевшего ею разрушается ткань почки. Болезненные изменения захватывают важную часть почки — почечные клубочки и канальцы. Если эта болезнь зашла далеко в обеих почках, человек погибает.
По тяжести заболевания похожа.на туберкулез и пионефроз другая серьезнейшая болезнь, которая называется — цирроз печени. У заболевшего циррозом тоже происходит гибель одной из важных тканей организма — печеночной ткани. Если болезнь не лечить, она прогрессирует и человека ждет смерть.
Можно ли таких больных после того, как сердце остановится, вернуть к жизни? Поступить так, как поступили с Буяном? Ввести кровь, заставить сердце снова работать? Добиться того, чтобы человек начал дышать и вернулся к жизни?
Нет, никак нельзя, даже если после смерти пройдет не шесть минут, а только две. И это вполне понятно.
Чтобы такие люди жили, еще недостаточно одной работы сердца. Им надо иметь: одному — здоровые легкие, другому — здоровые почки, третьему — здоровую печень. Но дать человеку новые легкие или печень медицине пока не под силу.
Тех, кто умирает от длительных хронических болезней, ог опасных заразных болезней, вызывающих большие изменения в жизненноважных органах, вернуть к жизни невозможно. В таких случаях смерть неизбежна и неотвратима.
Врачи стремятся и у таких больных отдалить приход смерти. До последней минуты, до последнего вздоха больного врач не складывает оружия, борется с любой болезнью всеми средствами, которыми его снабжает наука.
Но если смерть наступила, миссия врача окончена.
Другое дело, если смерть застигла человека неожиданно, совершенно непредвиденно. Его здоровье не было подточено никаким длительным изнуряющим недугом. Внутренние органы не разрушены какой-либо хронической болезнью. Так может произойти иногда при операции, даже иногда и не очень тяжелой.
Во время операции наркоз, как очень редко случается, может вызвать паралич сердца и дыхания. Наступает состояние смерти. Однако, если удастся немедленно восстановить работу сердца и дыхание, то человек будет жить.
Человек пострадал при уличной катастрофе. Он ранен, потерял чрезмерное количество крови. У него остановилось сердце, но если оно снова забьется, жизнь может вернуться.
Очень часто на войне бывает опасна не сама рана, а травматический шок. При шоке резко нарушается нормальная работа вСей нервной системы, почти прекращается деятельность сердца и дыхание.
Если не избавиться от шокового состояния, наступит полная остановка сердца и дыхания, то состояние, которое обычно называется смертью.
Но если заставить сердце снова работать и в то же время устранить шок, то это будет возвращением к жизни и, может
быть, к долгой жизни, потому что все органы человека здоровы.
Над этими вопросами много думал и работал советский ученый — профессор Владимир Александрович Неговский. После многочисленных опытов над животными, проделанных на протяжении ряда лет, перед ним стали вырисовываться основные приемы оживления организма, определился метод восстановления преждевременно оборвавшейся жизни.
В годы Великой Отечественной войны профессор Неговский начал борьбу за жизнь советских воинов. Он хотел заставить смерть отступать там, где еще можцо было сохранить жизнь.
Отогнанная смерть
Во время одного из наступлений наших войск в полевой госпиталь доставили артиллериста сержанта Черепанова. Осколок немецкого снаряда пробил ему правое бедро.
Рана была очень тяжелой. Артерии, вены и нервы, проходившие по бедру, были разорваны. Пострадала и кость,
Медицинская служба в Советской Армии организована очень хорошо. Сержант был вынесен с поля боя немедленно после ранения в самый разгар сражения. Через два часа раненый сержант уже находился в полевом госпитале.
Были приняты все меры, чтобы обеспечить раненому наилучшую и быстрейшую помощь. Его обложили горячими грелками, перевязали сосуды, сделали переливание крови. Но Черепанов был в жесточайшем шоковом состоянии, в шоке третьей степени. Он лежал на операционном столе мертвенно бледный, с тусклыми, безучастными глазами, почти без пульса и без дыхания. Ему впрыскивали камфару, кофеин, адреналин, физиологический раствор... Ничто не помогло. Еле бившееся сердце сержанта остановилось совсем. Он умер.
В истории его болезни появилось заключение хирурга. Оно гласило: «Умер 8 апреля 1944 года в 19 часов 41 минуту. Смерть последовала от шока и острой кровопотери».
Эта запись должна была быть последней в биографии русского солдата Черепанова.
Но в это время в операционной появились только что узнавшие о смерти сержанта четыре человека в халатах: профессор Неговский и его помощники — Смиренская, Литвинова и Козлов.
Неговский объезжал фронтовые лечебные учреждения, чтобы на месте, во фронтовых условиях, применить свой способ борьбы со смертью. Так он приехал и в госпиталь, где только что умер Черепанов.
Профессор, учитывая значение каждой секунды, немедленно приступил к делу.
С момента остановки сердца и видимой смерти сержанта прошло две минуты. Еще через минуту все было готово. Сотрудники профессора без промедления заняли свои места. Неговский склонился над человеком, который собственно мог считаться уже трупом. В безмолвии операционной слышались только короткие распоряжения профессора.
Вы помните: сержант умер в 19 часов 41 минуту.
В 19 часов 45 минут 30 секунд появилась первая новая запись. Она содержала три слова: «Первый удар сердца».
В 19 часов 48 минут — вторая запись: «Обозначается сокращение шейной мускулатуры. Начало самостоятельного дыхания». И дальше: 19 часов 56 минут — «Дыхательное движение грудной клетки»; 20 часов — «Вздох. Первое движение диафрагмы»; 20 часов 7 минут — «Появился рефлекс роговицы глаз»; 20 часов 45 минут — «Появилось сознание»; 23 часа — «Состояние тяжелое. Спит. Легко пробуждается. Отвечает на вопросы. Жалуется, что ничего не видит. Пульс учащенный — 114 в минуту, слабого наполнения. Дыхание глубокое, ровное».
Через сутки — «Полное восстановление зрения. Может быть эвакуирован в глубокий тыл».
Нам кажется, что можно не трудиться что-либо добавлять к этим записям. Профессор Неговский отогнал смерть от постели сержанта Черепанова, вернул ему жизнь.
Секрет удачи
В чем же дело? Может быть, профессор Неговский изобрел какую-нибудь особую аппаратуру, сложный жизневосстановительный агрегат? А может быть, он пустил в ход не известный доселе препарат?
Нет, ничего такого не было.
Оборудование Неговский с собой действительно привез, но оно все умещалось в одном свертке, уложенном в небольшой чемоданчик. Это была короткая резиновая трубка и маленькие специальные мехи.
Вот и все, если не считать, конечно, рук Неговского и его помощников. И, разумеется, знаний.
Эти знания содержали в себе результат многих часов размышлений и многих лет экспериментальных исследований.
Что же все-таки сделал профессор Неговский?
Конечно, он прибегнул к искусственному дыханию, но оно применялось своеобразно. Один из его помощников производил искусственное дыхание тем, что, введя резиновую трубку непосредственно в дыхательное горло сержанта, стал мехами накачивать через трубку в легкие воздух. Делалось так для того, чтобы помочь притоку воздуха усиленным растяжением самой легочной ткани. Возникавшие при этом в самых мельчайших разветвлениях окончаний нервов легочных стенок нервные импульсы направлялись в дыхательный мозговой центр и возбуждали его к деятельности.
Одновременно с таким искусственным дыханием Неговский пользовался, конечно, и переливанием крови, но тоже своеобразным способом.
Кровь вливали не в вену, а в артерию, тоже артерию руки. И не просто вливали, а с помощью так называемого аппарата Боброва нагнетали под довольно значительным давлением. Это обстоятельство играло важную роль.
Задача, которую ставил себе профессор Неговский, заключалась в том, чтобы заставить сердце сержанта работать.
Сердце не может работать без снабжения его кровью из собственных сосудов. Сержант потерял слишком много крови. Хотя ему уже сделали раньше одно переливание крови, Неговский считал нужным повторить его, но особым способом.
Сердце скорее и лучше начнет работать, если его мышца будет быстро снабжена питанием. А для этого питательное вещество надо немедленно доставить непосредственно к самой мышце сердца.
Кровь, нагнетаемая в артерию руки, а оттуда в аорту, т. е. совершающая путь, обратный своему естественному движению, захлопывала аортальные клапаны сердца.
Следовательно, она не могла попасть в полость сердца. Закрывшиеся клапаны ее туда не пускали, вследствие чего она шла прямо в коронарные артерии, которые отходят от аорты у самой стенки сердца. Это и достигалось давлением с помощью аппарата Боброва.
Коронарные сосуды представляют собой две небольшие разветвляющиеся артерии, опоясывающие сердце; это — сеть сосудов, питающих только мышцу сердца.
Переливание трехсот граммов крови именно в артерию и обязательно под давлением нужно было произвести для того, чтобы сразу же увеличить силы сердца, дать его мышце хорошие условия питания и вызвать первые сокращения, первые биения сердца, которые позволили бы быстро подвести кровь к мозговым центрам.
Вслед за введением крови в артерию Неговский тотчас же произвел переливание еще семисот граммов крови. Теперь для переливания взяли уже вену, как обычно и делают при работающем сердце, чтобы увеличить во всей сосудистой системе количество циркулирующей крови и полностью заместить потерянную кровь.
Таким образом, первые триста граммов крови должны были в основном питать сердце, а последующие семьсот граммов заполнить кровеносное русло.
Затем Неговский применил адреналин, этот могучий возбудитель деятельности сердца и кровеносных сосудов. Но применил его тоже своеобразно и очень активно. Он добавил раствор адреналина к тем тремстам граммам крови, которые были введены прямо в коронарные артерии сердца.
Что еще сделал профессор Неговский?
Вспомним, что главная опасность, возникающая в результате остановки кровообращения, — это недостаток в крови и тканях кислорода, накопление в них вредных продуктов обмена. У сержанта Черепанова, сердце которого в течение четырех минут находилось в состоянии полной неподвижности, кислородное голодание подошло к той черте, когда возникла угроза биологической катастрофы клеток и тканей. Чем скорее начался бы «подвоз» кислорода, тем скорее устранилась бы возможность такой катастрофы.
Неговский к вливаемым в вену семистам граммам крови добавил некоторое количество перекиси водорода. Перекись водорода быстро отдает крови свой кислород. Одновременно в кровь вводился также сорокапроцентный раствор глюкозы. Глюкоза очень хорошее питательное вещество.
Вот и все, что успел сделать профессор за одиннадцать минут.
Как видите, никакого чуда не было. Были применены знания, являющиеся результатом многих лет экспериментальных исследований.
Последнее слово
4 минуты и 30 секунд длилась смерть сержанта Черепанова.
Мы помним, что 6 минут — это срок устойчивости клеток головного мозга. Начнись вмешательство Неговского на 2 — 3 минуты позже, сержант Черепанов не был бы спасен.
Значит, способ профессора Неговского должен применяться своевременно, пока не наступили явления необратимости в клетках головного мозга. Можно выразиться так: пока явления необратимости не наступили, человек еще не умер по-настоящему, хотя бы сердце его остановилось и дыхание отсутствовало.
Такая смерть называется у врачей «клинической смертью». При этом все видимые признаки смерти налицо: отсутствие дыхания, пульса, неподвижность сердца, исчезновение зрачкового рефлекса. Однако, клиническая смерть — это не биологическая смерть, так как клетки еще сохраняют жизнеспособность. Это — дорога к смерти, это первые шаги умирания.
Подлинная смерть — это биологическая смерть, выражающаяся в гибели клеток, может быть, не всех сразу, но, в первую очередь, наиболее ценных и жизненнонеобходимых, например, клеток центральной нервной системы.
Скажем точнее: способ профессора Неговского, незаменимый при наступлении агонального состояния, действителен и в ряде случаев клинической смерти.
Теперь немного статистики.
Пятьдесят четыре раза за ту свою поездку на фронт профессор Неговский становился у операционных столов с лежавшими на них неподвижными телами.
Для- пятидесяти четырех тяжело раненных бойцов Советской Армии жизнь была кончена и этого приговора медицина не могла
отменить. Сорок четыре человека из них агонизировали, десять — уже умерли. И от всех сорока четырех агонизировавших профессор Неговский отогнал холодное дыхание смерти. Они остались жить. Дальнейшее уже зависело от течения, от характера самой болезни. Двенадцать из них даже смогли через один-два дня перенести эвакуацию и были вскоре же отправлены в глубокий тыл.
У десяти клинически умерших смерть наступила только за две-три минуты до появления Неговского. Для пяти человек из этих десяти помощь профессора была безрезультатной. Клиническая смерть уже перешла в биологическую.
Надо полагать, что период обратимости клеток и тканей разных людей неодинаков, а следовательно, различны и сроки наступления необратимых явлений в клетках. Ведь эти сроки измеряются минутами, даже секундами. Для пяти человек сроки начала необратимости оказались менее шести минут.
Другие пятеро вернулись к жизни, но четверо вскоре должны были с ней расстаться; на этот раз — навсегда. Однако, это произошло не из-за бессилия метода Неговского.
Они могли бы благополучно жить, но у них были слишком тяжелые ранения. Даже хорошее сердце и прекрасное дыхание не могли спасти их при тех разрушениях, которые нанесли их внутренним органам пули и осколки.
Пятый и последний из этих десяти раненых был сержант Черепанов.
Подведем итог.
Что дает врачам метод профессора Неговского? Очень многое! Он обогащает арсенал медицины для борьбы с роковыми последствиями таких грозных опасностей, как травматический и операционный шок; для борьбы с такими явлениями, как смерть от наркоза; как смертельные, невосстановимые кровопотери; как смерть от удара электрического тока. Незаменим он и при агональных состояниях.
При клинической смерти этот метод является, в сущности, единственным средством отогнать подлинную смерть.
В дальнейшем, по мере усовершенствования метода Неговского, смерть будет отступать все чаще и чаще, освобождая каждый раз место для жизни там, где еще не наступили необратимые явления клеток.
Теперь, когда прошло несколько лет после истории оживления сержанта Черепанова, можно говорить уже не об одном, а о многих случаях возвращения к жизни людей, спасенных по способу Неговского в ряде городов Советского Союза.
Вопреки миллионам лет
Современные методы советской науки, и особенно способ Неговского, могли бы возвращать к жизни не десятки и сотни, а, быть может, тысячи жертв ранней смерти.
Решение этой благородной задачи дало бы замечательнейшие результаты. Но на пути к широкому успеху стоит одно суровое обстоятельство: шесть минут, в течение которых обратимы изменения клеток центральной нервной системы и в первую очередь коры головного мозга.
Шесть минут — это очень короткий отрезок времени.
Медицине, даже вооруженной прекрасным методом, опоздать здесь очень легко. Неудивительно, что к этим шести минутам приковано внимание исследователей. Ведь каждая лишняя минута означает возможность спасения еще множества людей, а добавочные десять — пятнадцать минут уже почти решают проблему.
Возникает вопрос: почему клетки центральной нервной системы, особенно коры больших полушарий, так нестойки? Почему быстрее всего наступает их необратимость?
Работы советских физиологов раскрыли некоторые интереснейшие детали процессов дыхания.
Сразу ли в момент умирания прекращается дыхание? Оказывается, что если проследить, как это происходит, можно увидеть ряд последовательных стадий.
Прежде всего, исчезает равномерность дыхательных движений, нарушается правильность их ритма. Дыхание становится прерывистым, затем судорожным, потом наступают отдельные толчки, чередующиеся с долгими паузами. Наконец, грудная клетка замирает, становится неподвижной.
Советские ученые, отвоевывая жизнь у смерти, обнаружили смысл этих фаз дыхания.
Известно, что в клетках живых органов, в их деятельном состоянии, возникают особые электрические токи, так называемые биотоки. Появляются они и в клетках коры мозга. Их можно обнаружить и записать при помощи чувствительных электроприборов. Но когда пришла смерть и наступил паралич дыхания, приборы ничего уже не записывают — биотоков нет. Это значит, что в коре и ближайшей к ней зоне мозга жизнь угасла. В этот момент прекращается ровное дыхание умирающего. Но дыхание не исчезает. Оно продолжается, только вместо правильного ритма, наблюдаются судорожные, прерывистые дыхательные движения.
Отсюда ясно, что прекратили деятельность клетки, имеющие отношение к регуляции дыхания и связанные с корой мозга. Но раз дыхание продолжается, значит, существуют еще клетки, управляющие дыханием. Где же они помещаются?
Сохранившийся зрачковый рефлекс, т. е. реакция зрачка на свет, покажет, что участок мозга, расположенный ниже коры больших полушарий, еще функционирует. Вот где находятся еще не погибшие клетки центров дыхания.
Только исчезновение зрачкового рефлекса будет свидетельствовать о том, что и здесь жизнь клеток мозга прекратилась. Но и после этого дыхание не остановится. Оно будет совершаться отдельными толчками, с большими паузами. Такое дыхание будет агонизирующим. Дыхание видоизменится, но не прекратится.
Это опять-таки значит, что работают еще какие-то клетки центров дыхания. Теперь уже совершенно понятно, где именно они находятся. Продолговатый мозг — вот место нахождения еще действующих клеток.
Только неподвижно застывшая грудная клетка удостоверяет, что и продолговатый мозг с его центрами прекратил свою деятельность. Смерть подошла вплотную.
Исследователи открыли не только эти стадии дыхания. Они установили, что сроки обратимости разных клеток мозга различны. Клетки центра дыхания, находящиеся в продолговатом мозгу, можно оживить не позже чем через тридцать минут, а расположенные выше, ближе к коре, через еще меньший срок — десять и даже шесть минут.
Чем это объяснить? Почему у клеток, от которых зависит функция дыхания, особенно у тех, которые тесно связаны с корой мозга, такой ничтожный по сравнению с остальными клетками организма период обратимости изменений?
Здесь открылась чрезвычайно любопытная биологическая подробность.
У всех ли живых существ имеются в развитом состоянии эти центры, находящиеся в коре головного мозга?
Нет, их можно найти только у высших млекопитающих.
Значит, эти отделы появились только на поздней стадии эволюционного развития жизни на земле, у тех видов животного мира, которые возникли относительно недавно, может быть, всего миллион или два миллиона лет назад. Они — самые молодые образования центральной нервной системы.
Вот в этом и кроется причина их необыкновенной чувствительности к вредным влияниям, причина их хрупкости, легкой увязви-мости. Может быть, у людей далекого будущего, еще через миллионы лет, устойчивость этих участков коры мозга будет иной, тогда, повидимому, и срок обратимости будет более продолжительный.
Завеса над «тайной шести минут» приподнялась.
Что же, исследователям проблемы оживления надо ждать миллионы лет, пока срок обратимости клеток центров коры удлинится на несколько минут?
Разумеется, передовая наука не может примириться с таким положением. И. В. Мичурин говорил: «Мы не можем ждать мило-. стей от природы; взять их у нее — наша задача». Советская наука, познавая объективные законы природы, активно вмешивается в течение биологических процессов, сознательно перестраивает их. Перед профессором Неговским, взгляды которого мы изложили, и перед другими, кто работает в этой области, стоит определенная проблема: уже сейчас добиться того, что возможно лишь через миллионы лет.
Имеется одно весьма интересное экспериментальное наблюдение. Известно, что причиной смерти под водой является отсутствие воздуха, т. е. отсутствие кислорода. Но потонувшую собаку легче вернуть к жизни, если она попала под воду в наркотизированном состоянии. Ее можно оживить даже после того срока, после которого погибали другие собаки, не наркотизированные.
Альпинисты на большой высоте испытывают приступы головокружения, слабости, теряют сознание. Объясняется это разреженностью воздуха, т. е. опять-таки нехваткой кислорода. Но если дать пострадавшим снотворное средство, например, люминал, то «горная болезнь» переносится гораздо легче.
Ленинградский патофизиолог профессор Всеволод Семенович Галкин открыл удивительное явление: в наркозном сне необыкновенно изменяются многие свойства организма. Наркоз позволяет клеткам жить в таких условиях, которые смертельны для клеток, находящихся в обычном состоянии.
Труды Галкина позволяют понять, например, смысл улучшения, наступающего при горной болезни от приема люминала. Снотворный препарат изменил реакцию клеток тканей на недостаток кислорода. Они стали довольствоваться меньшим его количеством. Наркотизированное животное, извлеченное из воды, удавалось спасти потому, что оно обходилось тем ничтожным количеством кислорода, которое содержалось в организме.
Эти удивительные качества наркоза, возможно, указывают на один из путей, по которому надо следовать, чтобы изменить биологический закон необратимости явлений, происходящих в клетках. Ведь смерть от остановки дыхания — это в основном тоже смерть от недостатка кислорода.
Можно допустить, пока, конечно, только очень предположительно, что в последние минуты агонии, когда все обычные врачебные средства спасения уже бессильны, применение наркоза даже в очень ограниченной дозе даст возможность сохранить в клетках минимальную жизнь. Она будет поддерживаться тем ничтожным количествам кислорода, которое находится в тканях и крови, тем количеством, при котором в нормальных условиях клетки коры головного мозга погибли бы при отсутствии поступления воздуха и остановке кровообращения.
Подобное состояние, без дыхания, без сердцебиения, будет смертью, но так называемой смертью клинической, а не биологической. И, быть может, оно протянется дольше, чем пять-шесть минут.
Гибель клеток высших отделов центральной нервной системы отодвинется. Срок их обратимости удлинится. Этот выигрыш времени уже позволит организовать возвращение к жизни клинически умерших с большими надеждами на успех.
Пытливая мысль советских исследователей, несомненно, найдет эффективные средства, использование которых принесет полную победу над преждевременной смертью.
О позиции Павлова
Итак, вполне ясно, что в процессах умирания организма и в его оживлении, в возвращении всех его функций к нормальному состоянию, главную, ведущую роль играет центральная нервная система, точнее, — кора головного мозга. Совершенно естественно поставить вопрос: в чем значение и смысл процессов, происходящих при угасании жизни и при восстановлении жизни, если их рассматривать в свете павловского учения?
Это вопрос не теоретический. Если получить на него правильный ответ, то тем самым, несомненно, откроются новые возможности для дальнейших успехов борьбы с преждевременной смертью.
Что же можно извлечь из всех имеющихся в науке данных относительно умирания и оживления организма?
Нужно считать твердо установленными два факта.
Первый: клетки коры больших полушарий головного мозга выключаются, перестают функционировать, умирают раньше всех других отделов мозга. Кора — наиболее чувствительная, наиболее хрупкая часть головного мозга, продолговатый мозг — наиболее устойчивая; он умирает позже других.
Второй факт: при оживлении организма наблюдается как бы обратное явление. Начинается оживление с восстановлением функций центров продолговатого мозга. Позже, только после того, как все остальные части головного мозга возвратились к своей деятельности, начинают работать клетки мозговой коры.
Понять смысл этих явлений можно только в свете учения Павлова.
В самом деле, что такое остановка функций коры мозга при начале умирания? Безусловно, это явление защиты. Необыкновенно чувствительные клетки коры могут выдержать тяжелые, неблагоприятные условия только в течение очень короткого срока. Чем же они могут спастись, если ухудшение обстановки, например, прекращение кровообращения, продолжается? Конечно, только тем, что раньше, чем наступит их полное истощение, их гибель, функция клеток прекратится. А как этого можно достигнуть? Остановить функцию? — Торможением.
Такое торможение и наступает уже в самом начале. Оно охраняет хрупкие клетки коры мозга от истощения в их борьбе за спасение, за жизнь.
И, действительно, мы уже знаем, что при наступлении агонального, предсмертного периода сердце еще работает, хотя и очень слабо; еще сохраняется, хотя и неравномерное, толчками, дыхание, но сознание уже отсутствует. Это значит, что функции коры мозга уже выключены торможением. Иначе неизбежно непоправимое истощение клеток. Вот в чем благодетельный смысл охранительного торможения.
Интересны отмеченные профессором Неговским некоторые факты, раньше остававшиеся непонятными и получившие объяснение только в свете павловских идей. В ряде опытов над собаками им причиняли тяжелые травмы. Если животные перед этим находились долго в возбужденном состоянии, то даже короткие сроки клинической смерти, всего лишь в 2 — 3 минуты, являлись уже гибельными для коры их мозга. Смерть наступала неотвратимо.
Также понятными теперь становятся наблюдения, касающиеся извлеченных из воды людей. Тех, которые тонули, быстро теряя сознание, или без сопротивления шли, что называется, камнем ко дну, было сравнительно легко оживить. Гораздо хуже обстояло дело с теми, кто при огромном психическом возбуждении бурно напрягал все свои силы, чтобы удержаться на воде.
Совершенно ясно, что чем меньше люди тратили мышечной и нервной энергии, тем менее истощались клетки коры головного мозга.
Такова роль торможения в фазе умирания.
Что касается фазы оживления организма, то вспомним, что сперва появляются первые признаки дыхания, первые сокращения сердца. Но и дыхательные акты и удары сердца совершаются неравномерно, толчками. Эго значит, что продолговатый мозг уже работает. Центры же коры мозга бездействуют. Торможение еще сковывает их функции. И охранительно целебный смысл этого явления понятен. Если бы кора мозга начинала работать с самого начала оживления, когда еще в организме нет нормальных условий питания и обмена, то-есть в тяжелых условиях, то это потребовало бы от хрупких, неустойчивых корковых клеток неимоверных усилий. Снова им грозило бы истощение и гибель. Продолжающееся охранительное торможение и защищает их от подобного финала. Вот почему кора мозга оживает после продолговатого мозга, после восстановления всех других отделов мозга. Только тогда, когда наступает более или менее нормальное течение физиологических процессов во всех органах, корковые клетки могут начать функционировать. Торможение снимается. Организм оживает полностью.
Таким представляется великое значение целебно-охранительного торможения, как при угасании жизни, так и при ее восстановлении. Вместе с тем здесь открываются и некоторые перспективы для активного вмешательства медицины в спор жизни с преждевременной смертью.
В самом деле, если торможение клеток мозговой коры благодетельно, то ведь можно его создавать в нужных случаях.
Эта мысль и была осуществлена сотрудниками лаборатории Неговского на людях, доставленных в клинику после уличных и других транспортных катастроф. Такие жертвы тяжелых травм погибали от ранений и кровопотерь. Их доставляли в клинику уже в состоянии агонии. Чтобы их спасти, им прежде всего делали
переливание крови. Но переливание сопровождалось еще одной процедурой: одновременно с переливанием вводили и небольшую дозу гексенала.
Гексенал, как известно, наркотизирующее средство. Оно нужно было для того, чтобы вызывать и усиливать охранительно целебное торможение.
И в большом числе случаев цель достигалась. Безнадежное состояние, агония сменялись возвращением к жизни. Это делало удлиненное гексеналом торможение клеток коры мозга.
Искусственное торможение предохраняет кору мозга и от слишком раннего оживления, которое тоже грозит опасностью истощения для хрупких клеток коры.
Однако, здесь мы встречаемся с другой опасностью. Сколько времени могут, даже при охранительном торможении, выдержать хрупкие клетки коры неблагоприятные жизненные условия, отсутствие кровоснабжения, ухудшение питания? Как было сказано, не более 5 — б минут. После этого срока изменения в клетках коры становятся необратимыми. Торможение сменяется окончательным угасанием клеток. И чем дольше длится эта фаза необратимости, тем меньше надежд на полное или частичное возвращение к жизни. Для клеток продолговатого мозга, для подкорковых центров угасание жизни тоже не должно продолжаться слишком долго. Если срок восстановления затягивается, то после него изменения тоже становятся необратимыми.
Это не только рассуждение. Проделанные в лаборатории профессора Асратяна эксперименты подтвердили правильность такого положения.
Опыты были связаны с лишением питания мозга собак. Это достигалось тем, что особым способом перехватывали, сжимали у собаки артерии, идущие в мозг. У одной собаки мозг обескровили на 20 минут. Затем кровеносные сосуды были освобождены. Нормальное кровообращение восстановилось. Что произошло с собакой? Осталась ли она живой?
Да, в течение двух месяцев, прошедших после опыта, собака продолжает жить. Но она лежит все время на боку, не может ни встать на ноги, ни ходить. Она не может даже выпрямляться. Все сложнорефлекторные акты у нее исчезли. Она похожа на таких собак, у которых удалили и кору больших полушарий мозга и так называемый средний мозг.
У другой собаки такое обескровливание продолжалось 16 минут. Эта собака могла и стоять, и ходить, и выпрямляться. Но приучить ее, например, цодходить к чашке с пищей, отзываться на кличку нельзя было. У нее пропали все так называемые условные рефлексы. Она похожа была на собаку, у которой хирургически удалили кору мозга.
Мозг третьей собаки обескровливали на 6 минут. Она становилась такой же, какой была раньше, и ничем не отличалась от собак, не подвергавшихся никаким операциям.
Таким образом, опыты блестяще подтвердили значение срока клинической смерти, наступающей в результате прекращения кровообращения из-за остановки сердечной деятельности или других причин, приводящих к необратимым разрушительным изменениям в клетках коры головного мозга.
При изучении проблемы угасания организма от преждевременной смерти и его восстановления все эти положения должны обязательно учитываться.
Так выглядят процессы, сопровождающие умирание и оживление, в свете учения Павлова. Здесь вполне применимы слова великого физиолога: «Какое обширное и плодотворное поле раскрылось бы для физиологического исследования, если бы немедленно после вызванной болезни или ввиду неминуемой смерти экспериментатор искал с полным знанием дела способ победить ту и другую».
Проблема удлинения жизни нуждается в длительном, глубоком изучении. То, что мы знаем сегодня об открытиях советской науки, вызывает уверенность в успешном достижении цели.
«Смерть есть факт, подлежащий изучению... Изучать — значит овладевать» (Горький).
Глава третья. БОРЬБА ЗА ВРЕМЯ
Как прожить тысячу лет
Примерно, в 1778 году среди врачей разных стран стало распространяться удивительное известие. На некоторое время оно привлекло к себе общее внимание и даже явилось до известной степени сенсацией. Всюду о нем говорили, возникали горячие споры.
Удивительное известие заключалось в том, что сообщалось об открытии способа, дающего возможность продлить жизнь человека до тысячи лет. И хотя в большинстве случаев врачи скептически качали головой, слушая это сообщение, однако находились и такие, которые готовы были поверить в возможность подобного открытия. Во всяком случае было точно известно, что ученым, Джоном Гентером, производятся какие-то таинственные опыты в глубоком погребе.
Через два года был опубликован трактат, в котором подробно рассказывалось об этих опытах.
Вот как была там изложена работа над проблемой удлинения жизни.
Человек начинает стареть после пятидесяти лет. Бели бы в это время удалось сильно затормозить все жизненные функции организма, все его отправления, то и старение тканей задержалось бы. Человек в таком состоянии мог бы прожить очень долго, во всяком случае, во много раз дольше, чем при нормальной работе организма.
Автор трактата после долгих размышлений пришел к заключению, что затормозить функции организма можно холодом.
Холод останавливает все процессы жизни. Известно, что замороженное мясо, например, не портится, не гниет, не разлагается,
сколько бы его ни держать на льду. Если такое мясо отогреть через полгода, год или даже более, то оно окажется свежим. Также долго и без порчи сохраняются свежие фрукты в холодильниках.
Значит, рассуждал автор трактата, то же самое можно сделать и с человеком.
Человек достиг пятидесяти лет. Теперь его следует подвергнуть замораживанию в определенных условиях, т. е. сделать так, чтобы он не умер, но чтобы и не жил. Все процессы в нем остановятся. Но ничто, ни одна ткань, ни один орган не будут у него портиться и разлагаться.
Когда пройдет сорок лет, т. е. замороженному исполнится девяносто лет, его отогреют. Он снова начнет пить, есть, спать, ходить, работать как всякий обыкновенный человек в полную меру своих сил, сохранившихся нетронутыми. Десять лет он будет жить, узнает обо всем, что совершилось за истекшие сорок лет. В десять лет он как бы проживает весь период от пятидесяти одного года до сотого года.
Кончатся десять лет, его снова заморозят. Теперь уже его не тронут девяносто лет. Но на девяносто первом году, вернее, на сто девяносто первом году он с помощью отогревания будет возвращен к жизни. По газетам и книгам он узнает, какие события произошли, пока он был недвижим. Опять десять лет он будет жить, а на одиннадцатом году его снова погрузят в ледяной сон. В этот момент ему уже исполнится двести лет. Опять он будет заморожен на девяносто лет.
Как только минует двести девяносто лет, все повторится: пробуждение, десять лет жизни, погружение в небытие.
Таким образом, путем десятикратного замораживания можно прожить тысячу лет.
Вот что было изложено в трактате об удлинении жизни.
Что же, пробовал сам автор трактата удлинить этим способом чью-нибудь жизнь? Нет, ни на себе, ни на ком другом он подобной попытки не сделал.
В конце трактата он написал, что теоретически у него все очень правильно и непогрешимо, но практически пока ничего не может получиться. В этом он сам убедился, проделав опыты на карпах.
Пять карпов, которые подверглись действию холода, действительно перестали двигаться. Они замерзли. В таком виде их продержали десять дней в леднике подвала, а затем опустили в подогретую воду. Но карпы, как были неподвижны в холоде, так и остались неподвижными в тепле. Они не вернулись к жизни.
Разумеется, раз опыты не удались на рыбах, делать попытки на людях, а тем более на самом себе, автор этой фантастической идеи уже не рискнул.
Странное явление
Мы рассказали обо всем этом потому, что, кроме естественного и неизбежного разочарования, ученый испытал еще и удивление.
Чтобы понять, отчего карпы погибли, он вскрыл их и тщательно исследовал все внутренние органы. В чем дело? Может быть кровь расширилась и разорвала кровеносные сосуды, может быть не выдержало сердце, лопнул плавательный пузырь или была повреждена печень?
Нет, автор трактата не нашел никаких нарушений. Все внутренние органы карпа были совершенно целы, без каких-либо признаков изменений.
Вот что удивило ученого.
Однажды в поле нашли труп замерзшего крестьянина. В ту зиму стояли сильные морозы. Совершенно точно установили, что замерзший пролежал в снежном поле четырнадцать суток.
Это был человек большого роста, видимо, физически крепкий.
Вскрытие производил опытнейший прозектор. Все, что он нашел ненормального в теле этого мертвеца, было отсутствие одного глаза.
Но, как выяснилось, покойный был одноглазым с детства.
Во всем остальном прозектору не к чему было придраться. Все внутренние органы были в полном порядке. Прозектор не в состоянии был сказать, отчего именно произошла смерть: от паралича сердца или остановки дыхания, от закупорки ли артерии, от прекращения работы печени или почек или еще от чего-нибудь. Никаких болезненных изменений, объяснявших смерть, в организме не обнаружилось.
Прозектор, разумеется, знал теоретически, что именно можно найти при вскрытии замерзшего человека, но ему пришлось в первый раз производить такое вскрытие и он был удивлен сохранностью тканей и органов замерзшего.
Такую же картину всегда наблюдали врачи, которым во все времена приходилось производить подобные вскрытия: никаких болезненных, патологических явлений при замерзании не обнаруживается, если, разумеется, человек раньше, до гибели от холода, уже чем-нибудь не болел. Так наблюдалось не только тогда, когда человек замерзал весь, но и тогда, когда у него подвергалась отморожению только часть тела: рука или нога, кисть, стопа или пальцы. Ни в строении тканей этих частей тела, ни в строении их клеток нельзя было даже под микроскопом заметить каких-либо изменений.
Конечно, кожа становится бледной, даже белой, нечувствительной к уколам или давлению, но и только.
Настоящие изменения начинаются лишь тогда, когда прекращается отморожение и наступает отогревание. С этого момента картина меняется- — появляются результаты действия холода:
отеки, почернение, гангрена, распад и затем некроз, т. е. отмирание тканей.
В 1812 году много французов замерзло на дорогах отступления из России. Главного хирурга наполеоновской армии Ларрея поражало то, что у тех солдат, которые не отогревались у костров, отмороженные руки и ноги казались малоповрежденными. Руки и ноги тех солдат, которые отогревались у огня, были страшными: почерневшими, распухшими, гниющими.
Как объяснил Ларрей эту разницу? Он пришел к заключению, что во всем виновато согревание у костров, дававших сильный жар. Если бы не было резкого перехода от холода к теплу, то отмороженные конечности не разрушались бы таким страшным образом.
Мнение о том, что при отогревании отмороженных в условиях тепла должны наступать большие изменения органов, прочно вошло в медицину и безраздельно господствовало в ней на протяжении всего XIX и начала XX веков.
Теория действия холода
Однажды, лет сорок назад, в одном медицинском журнале было описано странное явление, которое наблюдал хирург у человека с отмороженной левой рукой.
Пострадавшего отогрели и сделали все, что тогда полагалось делать при лечении отмороженной конечности.
Но за несколько минут до начала отогревания хирург произвел над больным маленький опыт. Он сдавил на правой, здоровой руке отмороженного плечевую артерию. Другими словами, он остановил питание кровыо здоровой руки.
Что произошло с рукой?
С нею произошло то, что происходит с любой тканью, в которой прекращается движение крови. Кожа руки приобрела белосиний оттенок, тот самый, который называется у врачей циано-тичным, синюшным. Посинение кожи было совершенно естественным явлением.
Затем хирург сделал то же самое и с артерией левой руки. Это была рука, пострадавшая от холода. И вот тут обнаружилась очень любопытная подробность. Кожа, находившаяся выше отмороженного участка, стала цианотичной, т. е. такой, какой ей и полагалось стать при сдавливании. Отмороженный участок захватывал только кисть. И вот кожа кисти не изменила своего цвета. Она осталась бело-мраморной, какою и была до сдавливания артерии, без каких-либо оттенков синюшности.
Что же все это означало? Почему правая, здоровая рука при сдавливании артерии приобретала мертвенный вид, а левая рука в отмороженном участке сохраняла ту же бело-мраморную окраску?
Объяснение этому загадочному явлению попытался дать ученый Лейк.
Что происходит при отморожении с кровеносными сосудами? Они сжимаются, их просвет суживается. Возникает спазм сосуда. Ясно, что в такие суженные сосуды кровь поступает в гораздо меньшем количестве. Поэтому при отморожении кожа резко бледнеет, приобретает бело-мраморный цвет. Это показывает, что кровь имеется, но ее очень немного.
И вот тут происходит нечто весьма интересное. Холод изменяет кровообращение и в тканях. В охлажденных клетках резко понижается обмен веществ: клетки потребляют мало питательных веществ и выделяют мало продуктов обмена. Но обмен поддерживается кислородом. Значит, таким клеткам нужно кислорода неизмеримо меньше, чем нормально работающим клеткам. Значит, им нужно и мало крови.
Когда хирург сжал артерию отмороженной руки, то ничтожное количество кислорода, которое еще проходило через сдавленный сосуд, было все же достаточно для питания клеток с их минимальным обменом. И кожа кисти осталась бело-мраморной, т. е. в ней не было синюшности, не было нехватки кислорода.
С правой рукой все обстояло иначе. Там здоровые клетки требовали обычного притока кислорода. И когда сжатая артерия перестала снабжать ткани кровью в полной мере, тотчас же появилась синюшность. Так объяснил Лейк опыт хирурга.
Почему же отмороженные руки и ноги после прекращения действия холода чернеют, отторгаются? Лейк и на этот вопрос дал свой ответ. Что совершается при отогревании? Кровь начинает приливать к отмороженному участку в большом количестве. Однако, суженные и парализованные холодом сосуды не могут вместить всю поступающую массу крови и пропускают ее сквозь свои стенки. Получается отек. Отек сдавливает клетки. Эти клетки, как мы знаем, обладают теперь пониженной жизнедеятельностью, обмен веществ в них незначителен. Такие клетки, конечно, лишены обычной стойкости, они легко- повреждаются отеком и гибнут.
Чем скорее отогревается отмороженное место, тем большая масса крови сразу притекает к этим клеткам. Значит, тем худшие условия создаются для клеток, тем легче они разрушаются. Чем медленнее идет согревание, тем больше возможностей у клеток уцелеть.
Хотя Лейк жил почти на сто лет позже Ларрея, но взгляды их по этому вопросу полностью совпадали.
Что из этого вытекало
В 1936 году мне довелось провести зиму в городе Таганроге. Жил я в доме, который находился рядом с больницей. Зима стояла холодная, для тех мест суровая.
Однажды, когда я вышел из дома, к воротам больницы подъехали сани, за которыми бежала собака. В них рядом с ружьем и ягдташем лежал чернобородый человек с обмотанными одеялом ногами, а возле него сидел другой человек и слегка поддерживал чернобородого.
Ворота открылись и пропустили сани во двор больницы. Подстрекаемый любопытством, я тоже вошел во двор, чтобы посмотреть, какого же больного привезли в больницу, в сопровождении собаки, с ружьем и ягдташем в санях.
Сани остановились у крыльца с надписью на дощечке: «Приемный покой». Спутник чернобородого скрылся в дверях и вскоре вернулся, но уже не один. Два человека в халатах, надетых поверх пальто, сопровождали его.
— Пропали ноги, — сказал чернобородый. — Скорее занесите в помещение погреться. Холодно.
Но один из тех, кто был в халате, ответил:
— Нет, в тепло нельзя. Потерпите. Будем вас здесь растирать.
С ног чернобородого сняли одеяло, сапоги, портянки. Меня поразил мраморный, чуть-чуть желтоватого оттенка цвет кожи обеих его обнажившихся голеней и стоп. Люди в халатах набрали полные пригоршни снега и, разговаривая между собой и попутно расспрашивая лежавшего, стали усердно растирать его голые ноги.
Я стоял, смотрел и слушал. Постепенно я узнал, что чернобородый — охотник. Он забрел в болотистое место; лед был непрочный, охотник провалился и промочил ноги по колено. К рассвету ударил мороз. Охотник отморозил ноги. Встретившийся крестьянин привез его в город, в больницу. Люди в халатах, растиравшие снегом отмороженные ноги охотника, были доктор и фельдшер.
— Только тереть надо полегче, Иван Петрович, — говорил фельдшеру доктор. — А то как бы пальцы не отломались. Видишь, они твердые, как ледяшки.
Охотник охал и время от времени стонущим голосом просил внести его в тепло.
— Нельзя, — отвечал доктор. — А то ноги совсем пропадут. Придется тогда их отрезать. Надо, чтобы они отошли на морозе. Ты уж потерпи.
Прошел час, может быть два. Наконец доктор прекратил растирание.
— Все, — сказал он. — Готово, отогрели.
Охотника сняли с саней и внесли в приемный покой.
Таким образом, я присутствовал при оказании первой помощи обмороженному.
Правильно ли поступили, не внеся сразу больного в тепло и оставив его на морозе?
Да, по-тогдашнему общему мнению почти всех медиков, действия таганрогского врача были совершенно правильными.
В медицинских журналах время от времени появлялись статьи видных специалистов на тему об отморожении, которые подтверждали, что быстрое отогревание вредно.
А один ученый предложил даже такую систему отогревания, которая, по его мнению, должна была давать самые прекрасные результаты. Он рекомендовал зарывать замерзших голыми в снег, так как хотя снег теплее воздуха, но не намного; затем опускать их в ванну с холодной водой так как хотя эта вода теплее снега, но тоже не намного; затем укладывать в холодную постель в холодной комнате, так как человеку при этом будет лишь чуть-чуть теплее, чем в холодной воде. Вот тогда только можно было приступать к растиранию и массажу. Конечно, это была крайность, граничившая с нелепостью, но она показывает, насколько крепко укоренился взгляд на необходимость в постепенном переходе от холода к теплу при лечении отморожений.
Подобные теоретические воззрения и привели к созданию твердо установившегося способа первой помощи обмороженным. Пострадавшего вносить в теплое помещение не позволялось. Отогревать путем растирания и массажа следовало только на холоде, во дворе или в неотапливаемом помещении.
Это и был способ медленного согревания. Им пользовались всегда и всюду, в разных странах и в разные времена, в мирную и военную пору. Он господствовал среди врачей и был широко распространен среди населения.
Вот почему привезенного в таганрогскую больницу охотника растирали во дворе и долго держали на морозе.
Врач, кроме того, боялся, чтобы не сломались отмороженные пальцы. Он, как и множество других врачей, был убежден в том, что мороз делает замерзшие ткани и органы твердыми и ломкими как стекло.
После отморожения
Каждую зиму немало людей отмораживают руки и ноги.
Спустя более или менее значительный срок после отогревания кожа отмороженных участков распухает, покрывается пузырями, чернеет. Чернеют и мышцы, лежащие под кожей. В болезненный процесс вовлекаются нередко и кости. Отмороженный участок омертвевает. Так тянется много недель, даже месяцев.
Конечно, не у всех пострадавших наблюдается одинаковая картина. Бывает, что после растирания и отогревания кожа теряет мраморный вид, отек исчезает. Жжение и болезненность прекращаются. Пальцы рук или ног снова приходят в нормальное состояние.
Столь сравнительно благополучно кончается дело лишь при отморожениях так называемой первой степени, т. е. самой легкой.
Но если появляются пузыри, большие отеки, поверхность кожи чернеет и частично некротизируется, то это уже грозит более длительным заболеванием. Даже после выздоровления ранее отмороженный орган будет давать себя знать болями, ломотой, покраснением, опуханием при охлаждении.
Это вторая степень отморожения.
К самым тяжелым повреждениям приводит третья степень отморожения, когда погибает не только верхний слой кожи, но и подкожная клетчатка, сухожилия, мышцы, кости. Все это становится черным, точно обугленным, некротизируется.
Так тянется месяцами. В конце концов омертвевшие, высохшие ткани отторгаются, отпадают, остается культя стопы или кисти.
Такова третья степень обморожения. Именно в таких случаях люди после отморожений и превращаются в калек.
Как боролись с последствиями отморожений?
Вначале этим занимались преимущественно хирурги. Они рассуждали так: отмороженная ткань почернела, значит, это место полностью омертвело. Надо его отрезать целиком до самой границы здоровой ткани; лучше даже прихватить еще и краешек здоровой ткани. Иначе говоря, надо сделать так называемую ампутацию, отсечение. А потом сшить разрез, чтобы образовалась правильная культя. На правильно зажившую культю уже не трудно надеть протез.
Так в основном и лечили обмороженных.
Был ли этот способ лечения хорошим? Казалось бы, да: способ этот и быстрый, и радикальный. На самом же деле все больше и больше появлялось сообщений о том, что эти операции приносили мало хорошего. При такой ранней ампутации, когда даже картина болезни еще недостаточно определилась, часто отрезали ткань, которая могла бы жить. А на кисти или на стопе каждый кусочек мышц, кожи, сухожилий очень ценен, потому что сохранение их может уменьшить инвалидность.
Кроме того, хирурги жаловались, что после операции ожидаемого быстрого заживления не наступало. Культя гноилась и начинала некротизироваться. Спустя некоторое время приходилось делать новую операцию: отсекать еще один участок конечности, еще кусок некротизировавшейся культи.
Бывало и так, что после второй операции делали третью. Болезнь затягивалась. Радикального и быстрого излечения не наступало.
Хирурги стали избегать этих операций. Все больше распространялось мнение, что отмороженные ткани нельзя лечить хирургически, что их надо щадить, применять тепло, электризацию, покой, словом все, что угодно, но только не нож.
На смену хирургическому, активному методу пришел выжидательный, так называемый консервативный метод.
Стали предоставлять возможность отмороженным тканям некротизироваться и постепенно превращаться в сухое, черное, мертвое, похожее на мумию вещество, которое в конце концов само отпадало, отторгалось. Так же постепенно в месте отторжения начинали образовываться грануляции, т. е. разрастания клеток здоровой ткани. Тогда появлялся рубец. Если рубец был прочный, не гноился, не изъязвлялся, то он и был поверхностью культи. Если рубец не подходил для этого, то можно было его срезать и зашить рану для создания нового, лучшего рубца.
Консервативный способ занял главное место в лечении отморожений.
Хорош ли был этот способ? Конечно. Он имел преимущества по сравнению с прежним способом. Он меньше калечил людей.
Однако он обладал не только преимуществом. И у консервативного метода были свои недостатки и притом очень крупные. Продолжительное разложение тканей отравляло и ослабляло организм, вредило таким жизненноважным органам, как печень, почки, вредно действовало на кровеносную систему, на сосуды, на сердце. Бывало и так, что из очагов гниения, в которых кишели микробы, инфекция пробиралась внутрь тела и вызывала общее заражение крови — сепсис.
Значит, и консервативный способ был не таким уж хорошим.
Но никаких других средств в борьбе с последствиями отморожений медицина не знала.
Время от времени отдельные ученые пытались улучшить тот или другой способ лечения отморожений. Но все эти попытки давали очень мало положительных результатов.
Над этими вопросами работали во Франции, Англии, Японии, Германии, Италии сотни исследователей, особенно в период первой мировой войны, когда от холода погибло много солдат не только на фронте, но и в тылу. Однако все эти исследователи не добились решения задачи.
Новое и вполне радикальное решение было найдено лишь советскими учеными.
На тихой улице
Эта тихая, небольшая улица, с чистеньким тротуаром, с нарядными, точно вымытыми деревьями, пролегает по соседству с шумным, всегда оживленным районом Финляндского вокзала. Носит она имя знаменитого русского врача Боткина. На одной стороне улицы стоят старинной постройки двухэтажные приземистые каменные дома, выкрашенные в бледнокрасный цвет. На другой стороне поднимается массивное здание в четыре этажа.
И небольшие дома и высокое здание — корпуса Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Ленинграде.
У входной двери крайней секции четырехэтажного здания можно прочесть на мраморной дощечке: «Кафедра госпитальной хирургии». Начальником этой кафедры является действительный член Академии медицинских наук СССР профессор Семен Семенович Гирголав. Здесь расположены клиники, лаборатории, кафедры.
По-разному начинается рабочий день у руководителя кафедры. В день, когда я увидел его, он слушал доклад своего помощника. Это было подробное, исчерпывающее изложение двухсот случаев течения травматического шока, опасного для жизни. Речь шла о всех деталях, всех условиях его возникновения, о влиянии на него лечебных процедур и о конечных результатах лечения. Огромный труд многих месяцев заключался в шести страницах рукописи. Они были лишь частью толстой пачки научных материалов, которые ждали авторитетного отзыва ученого. И все они представляли собой серьезные документы, исследования на различные темы, содержащие изучение грандиозного опыта, накопленного советской медициной в ходе Великой Отечественной войны. Выводы из него должны будут лечь в основу деятельности людей, занимающихся лечением болезней человека. Эту в высшей степени ответственную задачу — овладение огромным медико-санитарным опытом войны — Советское правительство поставило перед деятелями медицинской науки нашей страны.
Невысокий, плотный, седовласый человек в генеральском кителе, виднеющемся из-под белоснежного халата, слушал внимательно доклад. Потом он взял листы и стал их просматривать. Его удивительно молодые глаза сощурились за стеклами очков, словно они видели за бумагой еще что-то.
По окончании доклада предстоял обход и осмотр больных.
В этой клинике и в ее лабораториях многочисленные ученики, воодушевляемые творческими исканиями своего руководителя, ставят и решают серьезные проблемы, имеющие большое научное и практическое значение.
Но из всего того, что было достигнуто в лабораториях четырехэтажного здания на тихой, чистенькой улице, наиболее интересными и плодотворными оказались работы по борьбе с отморожениями, с последствиями длительного воздействия низкой температуры на человеческий организм.
Скрытый период
Какова температура, например, в отмороженной стопе ноги? Очень низкая? Нет, не очень, градусов десять — двадцать выше нуля. Это — температура воздуха в довольно жаркий летний ленинградский день.
Но для организма, для его тканей такая температура является очень низкой, так как нормальная температура человеческого тела 36 — 37 градусов выше нуля.
Если десяти — двадцатиградусная температура будет держаться в ткани много часов, тем более суток подряд, то эта ткань, когда ее отогреют, почернеет и начнет некротизироваться. Она погибнет.
Именно так и происходит при отморожении.
Если вырезать из стопы пластинку кожи и заморозить ее при температуре в два градуса холода, что с ней будет? Пластинка, конечно, оледенеет.
А если ее продержать в таком состоянии, допустим, три дня и затем отогреть? Пластинка почернеет, омертвеет? Оказывается, нет. Поместите ее в сосуд с питательной жидкостью, и «лежи этой пластинки кожи начнут размножаться.
Если ее пересадить кому-нибудь на кожу, она приживет и будет такою же, как и всякая нормальная жань.
Вырезанная пластинка кожи сохранила после отогревания всю свою жизнеспособность.
А находись она на отмороженной стопе, оставайся она частью организма, она погибла бы при гораздо более высокой температуре — не при двух градусах холода, а при двадцати градусах выше нуля.
Если тело кролика охладить на несколько часов до шестнадцати градусов выше нуля, кролик погибнет; его внутренние органы омертвевают при этой температуре. Но вот при одном эксперименте у кролика вырезали довольно сложный орган — подчелюстную железу, охладили ее до одного градуса выше нуля, продержав при этой температуре 32 дня. Затем эту железу отогрели и пересадили другому кролику. Она прижила и стала функционировать в организме другого кролика так, как будто ее никогда ниоткуда не извлекали и не замораживали.
Железа сохранила полностью жизнеспособность.
А в теле кролика она погибла бы при гораздо более высокой температуре.
Таким образом, перед исследователями обнаружилось важное явление. Ткань в организме и ткань, удаленная из организма, по-разному реагируют на холод. Условия, безнаказанно переносимые изолированной тканью, убивают ткань неизолированную.
Ткань в организме оказывается гораздо менее устойчивой против холода, чем жань вне организма.
Это, разумеется, очень удивительное явление. Казалось бы, все должно быть наоборот. В самом деле, ведь в организме существует целая система теплорегуляции — кровеносные сосуды, нервы, железы внутренней секреции, задача которой поддерживать температурное равновесие в теле и приходить, так сказать, на помощь там, где это равновесие нарушилось. В этих условиях выносливость тканей к охлаждению должна была бы повышаться. Между тем сотни опытов показали, что это не так.
Разгадку, видимо, надо искать в том, что ткань, составляющая часть организма, зависящая от общих биологических процессов, подчиняется определенным законам, действующим во всем организме.
Есть в химии закон, по которому все химические процессы на холоде замедляются.
В живом организме происходят сложные, биохимические процессы. Следовательно, и в отмороженном органе все биохимические процессы замедляются.
Но ведь при отморожении руки, ноги, ушей или носа все остальное тело имеет температуру 36 — 37 градусов выше нуля, т. е. нормальную.
А всюду, где существует нормальная температура, биохимические процессы протекают нормально.
Таким образом, при отморожениях в организме как бы образуются две разные области: одна с замедленной, другая с нормальной жизнедеятельностью.
Но такое двойное положение, двойная, так сказать, жизнь в одном неделимом организме долго продолжаться не может. И участки с замедленными процессами, т. е. с пониженной температурой, иными словами, отмороженные, в конце концов должны выключиться. Выключение их достигается только одним путем: они погибают.
Все это совершается в клетках еще до того, как становятся заметными болезненные изменения в тканях. С полным правом можно оказать, что при отморожениях существует период, когда повреждения тканей еще не обнаруживаются, хотя они уже имеются. Этот период надо назвать скрытым периодом отморожения.
Теперь понятно, почему врачи, отыскивая причину смерти замерзших людей или исследуя свежеотмороженные участки тела, поражались, что в них нельзя было найти никаких изменений даже под микроскопом.
В течение скрытого периода и осуществляются замедленные биохимические процессы, которые не совместимы с жизнью других частей организма.
Тайна этой несовместимости еще не раскрыта. Но непреложным остается факт, установленный множеством экспериментов и наблюдений: время при этом играет огромную роль.
Если замедление процессов устранить, то все может пройти благополучно. Чем скорее эти процессы станут нормальными, т. е. чем короче будет скрытый период, тем меньше появится потом вредных последствий.
Если это произойдет очень быстро, то останутся те изменения, которые называются отморожением первой степени.
Большая задержка даст изменения второй степени.
Еще большая задержка угрожает теми разрушениями, которые характеризуются отморожениями третьей степени.
Дальнейшее охлаждение влечет за собой самую тяжелую форму — третьей степени, которую можно даже выделить в отдельную категорию и назвать четвертой степенью отморожений.
А что произойдет при очень длительном действии холода? Область замедленных процессов будет расширяться, распространяться до тех пор, пока не захватит все тело. Тогда наступит остановка сердца, остановка дыхания, смерть. Человек замерзнет.
Таковы в самых общих чертах выводы, к которым пришли на основании многолетних работ профессор Военно-медицинской академии имени Кирова Семен Семенович Гирголав и его ученики — Арьев, Шейнис и другие.
Новые принципы
Теперь ясно определился и лечебный метод. Борьба с отморожением, первая помощь должны заключаться в быстрейшем сокращении периода замедленных процессов. Другими словами, надо начинать с возможно скорейшего возвращения пострадавшей ткани нормальной температуры, т. е. отогревание должно вестись не постепенно, а возможно более быстро.
Это значит, что как только обнаружено отморожение, пострадавшего следует сразу же вносить в теплое жилье, поместить, если удастся, в подогретую ванну и тут же приступить к растиранию и массажу.
В свете работ профессора Гирголава и его школы по-новому предстали опыты русского ученого Лапчинокого, проделанные почти 70 лет назад.
Опыты заключались в замораживании и последующем отогревании собак.
Эксперименту подвергалось 60 собак. Всех их одинаково замораживали смесью снега и соли. Этим путем достигалось значительное охлаждение организма, так что у животных прекращалось дыхание и переставало биться сердце.
Отогревание же производили разными способами.
20 собак помещались в нетопленную комнату. Здесь они, восстанавливая постепенно температуру своего тела, приходили в нормальное состояние.
Это было медленное, очень медленное согревание.
Вернулись к жизни 6 собак. 14 — погибли.
20 других собак погружали в холодную ванну. Вода была вначале холодной, в ноль градусов, затем становилась все более теплой и, наконец, почти горячей. Потом собак вынимали из воды и переносили в натопленную комнату.
Это было тоже медленное согревание, но гораздо более быстрое, чем у первой группы. Вернулись к жизни 12 собак. Погибли — 8.
Последних 20 собак сразу же погрузили в ванну с водой, нагретой до 37 градусов.
Вернулись к жизни все 20 собак. Ни одна не погибла.
Таковы были замечательные по своей убедительности эксперименты Лапчинокого.
Много лет спустя работы школы Гирголава дали столь же блестящие результаты.
Теорию Лейка о значении медленного расширения сосудов надо было признать ошибочной. Способ постепенного согревания, да еще в условиях холода, оказался несостоятельным. Представлению, которое на протяжении свыше века занимало умы врачей, советскими исследователями был нанесен крепкий удар.
На место принципа медленного согревания на холоде пришел новый принцип — быстрое согревание в тепле.
Следует, конечно, учесть еще одно важное, даже, пожалуй, важнейшее обстоятельство. Надо иметь в виду состояние нервных элементов в очаге отморожения. Быстрое отогревание скорее возвращает им нормальные функции. Тепло, являясь температурным раздражителем для воспринимающих нервных приборов, вызывает рефлекторно, через центральную нервную систему, во всех органах и тканях организма процессы, ускоряющие восстановление нормальных свойств пострадавшего от холода участка. Вот в чем, надо полагать, заключается основное значение быстрого отогревания.
Конечно, если поблизости нет теплого помещения, приходится прибегать к энергичному растиранию и на холоде. Когда у человека, находящегося, например, в поле или в лесу, вдали от жилья начинает белеть кончик носа или уха или замерзают пальцы ног, то будет совершенно неправильным ничего не предпринимать и ждать, пока встретится теплое помещение.
Еще одна ошибка
В лаборатории клиники проделали небольшой опыт: заморозили белую мышь. Для этого ее подвергли действию 17-градусного мороза и вдобавок применили хлористый этил, понизивший температуру еще на 6 градусов.
На этом морозе мышь продержали пять дней. Разумеется, она насквозь промерзла, стала холодным трупом. Затем взяли хвост мыши и согнули его в виде буквы «о». И что же? Хвост согнулся, и не сломался.
Так было доказано, что замороженная ткань и даже целые органы не становятся от холода ломкими. Предположение об их особой, стеклянной хрупкости оказалось неверным.
А между тем на протяжении десятков и сотен лет существовало мнение, что отмороженные пальцы руки или ноги, или другие части тела могут сломаться, что требуется особая осторожность при лечении отморожений. Эту легенду создавали не только неучи, невежды, мало знакомые с медициной люди. Даже крупные специалисты высказывались в пользу такого взгляда.
Так, один видный иностранный хирург прошлого века писал в своем руководстве: «Замерзшая полностью нога может быть разбита, как стеклянная». Другой крупный хирург уверял, что «при отморожении уши и кончик носа могут отламываться». Третий описывал, как надо производить массаж при отморожении,
и предупреждал: «Надо следить, чтобы не сломать отмороженную конечность».
Такая легенда переходила среди хирургов из поколения в поколение. Это имело нежелательные последствия. Страх перед повышенной хрупкостью отмороженных органов приводил к тому, что медленное отогревание, растирание, массаж производились еще медленнее, затягивались еще больше, т. е. организму причинялся добавочный вред.
Разумеется, здесь речь идет об обычных отморожениях, о температурах, при которых в действительности замерзают люди. Особая ломкость тканей, если и может появиться, то, пожалуй, лишь при температуре не меньшей, чем 80 — 90 градусов ниже нуля, что в практике отморожений не имело места. А если бы случилось кому-нибудь замерзнуть при такой весьма низкой температуре, то тут уже никакой массаж, никакое растирание не помогли бы.
Исследования Гирголава и его сотрудников показали, что рассуждения иностранных авторитетов неправильны, что растирание и массаж должны проводиться быстро, энергично, но, конечно, достаточно осторожно, без повреждения кожи, отмороженной и ослабленной, без опасности втереть в кожу болезнетворные микробы.
Так советской наукой было рассеяно еще одно ошибочное представление.
Это было новым крупным успехом в борьбе с отморожениями.
Выход наружу
Избавляло ли ткани от омертвения быстрое отогревание? Нет, и при отогревании в теплом помещении, в теплой 30 — 35-градус-ной ванне, при энергичном массаже все же наступал распад и гибель тканей.
Какая же разница между постепенным и быстрым отогреванием?
Огромная! Конечно, если человек долгое время находился под действием холода, то избавить его полностью от последствий отморожения невозможно. Но быстрое согревание, сокращая время действия холода, срок скрытого периода и замедленных биохимических процессов, уменьшает эти последствия. Было точно установлено опытами на животных, а в дальнейшем проверено и на людях, что после быстрого согревания область омертвения, или зона некроза, оказывается гораздо меньшей, чем после медленного согревания. Это значит, что там, где должна была быть вторая степень отморожения, получалась первая, вместо третьей степени — вторая, вместо четвертой — третья или даже вторая. Это значит, что часть тканей удавалось спасти от разрушения.
Вот в чем разница между двумя способами первой помощи. Таким образом введение нового способа борьбы с отморожениями надо признать большим благодеянием для пострадавших от холода.
Но первая помощь при отморожении — это хотя и значительная, но все же только часть дела. Потом наступает период лечения. Это тоже очень ответственный период, период борьбы за ликвидацию разрушений, за минимум потери тканей.
Вспомним, каким был прежде хирургический метод лечения отморожений. По этому методу ампутировали сразу всю пострадавшую часть конечности.
В чем заключалась неудача такого метода?
Его сторонники полагали, что разрушения ткани происходят только в районе отморожения, там, где наступило почернение, омертвение.
Это было ошибкой. Оказалось, что в результате длительного действия низкой температуры повреждаются кровеносные сосуды, нервные волокна, кости, мышцы далеко за пределами участка отморожения, хотя там изменения и незаметны.
Когда хирург делал разрез выше линии отморожения, он полагал, что режет здоровую ткань, которая потом создает хорошую культю. На самом же деле он резал болезненно-измененные ткани. Следовательно, хорошая культя не могла получиться.
Более того, операционная травма лишь усиливала эти изменения. Из незаметных, невидимых они становились видимыми, начиналось воспаление, нагноение.
Вот почему прежний хирургический метод был дефектным и терпел неудачу.
Неудачи выжидательного метода объяснялись тем, что он приводил к отравлению жизненноважных органов, к наводнению их громадным количеством продуктов разложения, которые всасывались из очага омертвения. Пока отмороженный участок переходил из одной стадии в другую — из влажного некроза в сухой, в так называемую мумификацию, потом в стадию отторжения, грануляции, в стадию образования культи, — все это время продукты гниения в большей или меньшей степени проникали в организм и приносили ему вред.
Вот почему выжидательный способ давал отрицательные результаты.
Что явилось бы ценным для хирургического метода? Возможность оперировать тогда, когда это было бы безопасным для соседних тканей, когда одной операцией дело и кончилось бы.
А выжидательному методу помогло бы ускорение сроков всех стадий, через которые проходит отмороженная ткань, так как одновременно с этим шло бы уменьшение количества продуктов разложения.
Клиника Гирголава и занималась решением этих вопросов. Трудно представить себе, какую большую работу проделали исследователи, когда видишь, какими сравнительно простыми приемами была решена задача, казавшаяся ученым на протяжении столетий неразрешимой. Так, например, при серьезных, тяжелых случаях отморожений (3-й и 4-й степени) огромный лечебный успех принесла некротомия.
Некротомия — это рассечение, разрез некротизированной ткани. Нож при этом разрезает кожу, подкожную клетчатку, мышцы. В омертвевшей ткани получается как бы продольная рана. Только в омертвевшей ткани! Ни кусочка здоровой ткани не должно быть задето. Разрезы поэтому начинаются, не доходя на сантиметр до здоровой ткани. Все это безболезненно, — ведь нервные волокна здесь тоже мертвы.
А если участок некроза окажется очень большим, захватит, например, три четверти стопы и даже больше, то можно часть погибших тканей не рассекать, а отсечь вместе с омертвевшими костями пальцевых фаланг.
Но к такому приему приходится прибегать лишь в самых тяжелых случаях, при обширных отморожениях.
Чаще всего нужны и достаточны только некротомии. Они приводят к блестящим результатам.
Что дают некротомии? Очень и очень многое. Они открывают выход наружу через раневую поверхность сукровице, образующейся в глубине отмороженного участка. Это в значительной мере избавляет организм от всасывания отравляющих продуктов разложения. Некротомия раскрывает во всех слоях зону некроза, мокнущую, гниющую ткань, а следовательно, ускоряет ее высыхание. Срок перехода влажной гангрены в сухую сокращается.
Если направить на разрез непрерывную струю сухого, теплого воздуха с помощью, например, электровоздушных нагревателей, то это еще более приблизит стадию мумификации, т. е. стадию, при которой уже допустимо оперативное вмешательство.
Сокращая время различных стадий, некротомия способствует также стиханию болезненных процессов, которые невидимо разыгрываются по соседству с отмороженным участком. Стихание этих процессов, с одной стороны, и быстрая мумификация омертвевшего участка, с другой, — приближают возможность ампутации, способствуют образованию крепкой работоспособной культи.
Так устраняются дефекты, делавшие порочными прежние, хирургический и консервативный, методы.
Конечно, мы рассказали здесь весьма схематично то, что на самом деле составляет довольно законченную систему лечения отморожений, подробно разработанную кафедрой профессора Гирголава. Разумеется, предстоит еще много работы, есть еще неясности, пробелы в этом учении об отморожении, в его теории и практике. Но в основном школа Гирголава не только поставила задачу, но и решила ее.
Два кита
Ранней весной 1944 года я побывал в одном из фронтовых госпиталей на Севере. Начальник госпиталя, майор медицинской службы, знакомил меня со своим учреждением. Во время осмотра
нам встретился больной, шедший по коридору, опираясь на костыль. Это был юноша высокого роста.
Начальник госпиталя оказал мне: — Этот лейтенант — командир лыжной группы разведчиков. Восемь часов провел он неподвижно в засаде, в засыпанном снегом ельнике. Оказалось, что рядом под снегом пробивался ключ. Левой ногой лейтенант попал в воду. А сырость, влажность зимой — пострашнее самого мороза. Промокшая нога отморозилась, так как переобуться в тех условиях было невозможно. Конечно, лейтенанту угрожала полная ампутация если не голени, то стопы. А он потерял всего-навсего большой палец и кусок кожи пятки. Знаете, что спасло ему ногу. Ванна и теплая комната. Когда он добрался до штаба ближайшей части, расположенной в какой-то усадьбе, там нашлось и то и другое. И, кроме того, там оказался толковый, хорошо подготовленный для лечения отморожений санинструктор. Теплая ванна, плюс хороший массаж, плюс растирание спиртом, плюс горячий чай были спасением для лейтенанта. Если бы его отогревали на холоду, как принято было прежде, лейтенант так легко не отделался бы. Теперь мы его недели через две выпишем. И выпишем прямо в часть, здоровым. А по прежним временам — он наверняка вышел бы из госпиталя без стопы.
Отделение для больных с отморожениями 3-й и 4-й степени имело своеобразный вид. В палатах было жарко. Больные на кроватях видны были только от головы до пояса, вторая, нижняя половина тела и ноги были скрыты в каких-то гротах. Стены и крыша гротов состояли из простыни, наброшенной на проволочные полуобручи и сверху накрытой одеялом. На каждой кровати имелся такой грот. Начальник госпиталя приподнял край простыни и одеяла одного грота. Оттуда пахнуло горячим воздухом. Внутри на полуобручах горели электрические лампочки. Это были суховоздушные ванны. В них подсыхали гниющие стопы отмороженных.
— Мы очень ценим эти ванны, — сказал начальник госпиталя. — Они нам чрезвычайно помогают. Все, кто здесь лежит, подверглись некротомии. Их отмертвевшие стопы покрыты разрезами. И все это — некротомия и горячий сухой воздух — сокращает нам сроки лечения. Вот посмотрите на этого больного,- — он указал на круглолицего парня лет двадцати пяти, — у него вся стопа пострадала до самого голеностопного сустава. Это один из тяжелых больных. Раньше ему пришлось бы провести в больницах год, а то и два. И вышел бы он инвалидом, с отрезанной до половины голенью. До нас он лежал в армейском госпитале месяц и у нас лежит уже полтора. А месяца через два-три мы его выпишем. К тому времени ему будет сделана ампутация. Вместо удаленной одной трети стопы будет протез, хороший, прочный протез. Боец сможет быстро ходить и даже танцевать.
Мы обошли еще две палаты с такими же больными. И всюду под закрытыми пологами гротов-ванн грелись черные, словно
обугленные стопы, рассеченные некротомией. Такие же палаты имелись и для тех, у кого были отморожены кисти, только здесь гроты были устроены так, чтобы в них можно было держать руки.
Начальник госпиталя предложил мне спуститься вниз.
— Там вы увидите таких же больных, но уже в финале, после лечений, — оказал он.
Огромный зал был разукрашен лозунгами и плакатами с пожеланиями счастливого пути. Здееь находилось до 50 выздоровевших солдат и офицеров. Некоторые опирались на костыли.
— Сегодня мы выписываем их из госпиталя, — сказал мне майор медицинской службы. — Многие из них поедут в свои части; многие получили отпуск и поедут домой отдохнуть. Все они выздоровели и нет ни одного, который лечился бы больше полугода. Есть, конечно, и негодные к дальнейшей службе в армии: это те, кто на костылях. А ведь раньше среди обмороженных было инвалидов не меньше, чем девяносто процентов. Все это сделали быстрое отогревание и некротомия. Конечно, и облучение кварцем, соллюксом, и разные укрепляющие лекарства, и хорошее питание, и лечебная физкультура, и многое другое тоже помогли. Но главное — это все же лечение по принципам школы Гирголава.
Большие заслуги
Во время Великой Отечественной войны на Карельском фронте наблюдалось необычное явление.
Необычным было то, что в армейские госпитали Карельского фронта и в госпитали фронтового тыла не поступали обмороженные, т. е. конечно, поступали, но их было так мало по сравнению с тем, что ожидалось и к чему госпитали готовились, что обмороженных словно и не было.
Почти четыре зимы многие десятки тысяч советоких солдат и офицеров вели напряженную боевую жизнь в лесах, горах, тундрах сурового Севера с его постоянными вьюгами и стужей.
Естественным было также и то, что довольно большой процент обмороженных быстро излечивался. Многие из них возвращались в строй. У этих больных или нехватало кончика пальца или имелись поверхностные рубцы, — словом то, что не мешало нести в дальнейшем боевую службу.
Другая, большая, часть не возвращалась в строй. У этих больных ущерб был серьезнее — отсутствовали части двух-трех пальцев, а то и целиком два-три пальца, рубцы были шире и глубже. Но они могли выполнять почти любую работу. Многие из них становились нестроевыми, но все же оставались способными к работе.
Полные инвалиды насчитывались лишь единицами.
Так обстояло не только на Карельском фронте, но и на всех остальных фронтах, вплоть до самых южных. В истории войн подобное положение являлось совершенно неслыханным.
В чем же было дело? Дело заключалось в том, что надежная защита воинов Советской Армии от действия мороза и борьба с отморожениями были обеспечены заботой всей страны.
Огромную роль сыграло отлично поставленное в Советской Армии дело снабжения бойцов хорошей обувью, валенками, полушубками, теплыми портянками, свитерами, в изобилии поступавшими из тыла на фронт.
А замечательные, небывалые успехи, достигнутые в госпиталях, высокий процент скорого выздоровления были заслугой нового способа лечения отморожений, созданного кафедрой Военномедицинской академии имени С. М. Кирова в Ленинграде, кафедрой, руководимой профессором Гирголавом.
Если вспомнить о тех миллионах бойцов, которые на всех линиях многотысячекилометрового фронта героически защищали свою Родину от гитлеровских полчищ и перенесли четыре военные зимы, то станет ясно, что, быть может, десятки, если не сотни тысяч людей, которых не останавливали ни стужа, ни холодные реки, ни мерзлые болота, обязаны своим излечением работам клиники Гирголава.
И в мирное время на беспредельных просторах Советского Союза, особенно в северных и средник широтах, опасности отморожений подвергается много людей.
Врачи, которые еще десять лет назад были почти беспомощны в случаях тяжелых отморожений, теперь, вооруженные новым учением, знают, что надо делать для уменьшения зла, для того, чтобы сократить некогда длинную, тягостную, мучительную процедуру лечения, почти всегда несшую опасность инвалидности.
Глава четвертая. ИСКУССТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Двести лет назад
Примерно двести лет назад один из крупных биологов того времени выкопал недалеко от своего дома небольшой пруд и поселил в нем несколько тритонов. Ученый приносил им корм и целыми днями изучал их образ жизни, повадки и инстинкты. Он завел тетрадь и записывал в нее подробности своих наблюдений. Но биолог занимался не только наблюдениями.
Он производил над тритонами эксперименты на первый взгляд очень странного и жестокого характера. Время от времени ученый вылавливал одного из тритонов и наносил ему повреждение, и не какое-нибудь пустяковое, а довольно крупное, например, отрезал лапку.
Спустя некоторое время все тритоны, обитавшие в пруду, стали объектом подобных операций биолога. У одних он отсекал лапку, у других — хвостик, у третьих — нижнюю челюсть, у четвертых — часть глаза. Многие из тритонов подвергались таким операциям по нескольку раз.
Так продолжалось в течение трех месяцев.
Что же получилось через три месяца? Надо полагать, что по истечении этого срока в пруду находились уже не обычные тритоны, а тритоны-уроды, тритоны-инвалиды. На самом деле ничего подобного не произошло. Через три месяца почти все обитатели пруда попрежнему имели нормальные конечности, челюсти, глаза. У них все восстановилось; отсеченные части заменились новыми, такой же формы и величины.
Ученый, тщательно ведший свои записи, точно подсчитал, какое количество частей он удалил у тритонов за время экспериментирования. Их оказалось... 687. И столько же их выросло у тритонов на своем месте.
То, что наблюдал биолог, было проявлением необыкновенно высокой способности организма тритонов восстанавливать свои потерянные ткани и органы.
Такое свойство организма носит название способности к регенерации.
Регенерация
Способность к регенерации проявляется у различных живых существ не в одинаковой степени.
Ящерица, если ее схватить за хвост, быстро ускользает.
В пасти врага остается только хвост. Пожертвовав хвостом, ящерица спасает свою жизнь.
Однако ящерица не долго бегает бесхвостою. Спустя некоторое время, хвост снова у нее отрастает и притом прежней величины. На протяжении жизни ящерицы так может повторяться не один раз.
У обыкновенной пресноводной гидры из любой отрезанной части вырастает целый организм. Разрежьте ее на 10—20 кусочков и из каждого образуется гидра с пищеварительной полостью, с щупальцами, окружающими ротовое отверстие.
Планария, плоский червь, обитающий в прудах и болотах, — существо более сложно организованное, чем гидра. У него есть и голова, и кишечник, и нервная система, и мышцы, и органы выделения. Если его разрезать, скажем, на 10 частей, то из каждой вырастает планария с типичной формой тела, кишечником, нервной системой, мышцами. Но этого мало. Разделите головную часть планарии продольными разрезами — образуется ряд полосок, но вскоре из каждой полоски вырастает голова. Один советский биолог получил таким способом многоголовые существа Они походили на какие-то сказочные чудовища, только сильнс уменьшенные в размерах.
У рака восстанавливается оторванная клешня. Отсеченная у головастика лапка вскоре заменяется новой целой лапкой.
У птиц не отрастает ни голова, ни лапка, но все же способность к регенерации есть и у них: поврежденный клюв, например, частично отрастает. Особенно ярко это явление выражено у утки.
Волк или лиса, настигая зайца, нередко схватывают его за кожу спины. У зайца кожа в этом месте тонкая, чрезвычайно слабо связанная с подкожным слоем. Заяц спасается тем, что оставляет в зубах у хищника часть своей шкуры. Образовавшаяся на спине рана быстро затягивается и снова покрывается шерстью.
Волосяной покров хвоста белки тоже восстанавливается необыкновенно быстро.
Все это объясняется тем, что условия существования развивают в тех или иных тканях животных большую или меньшую способность к регенерации.
Нужно отметить, что по проблеме регенерации советскими учеными проведены за последние годы интересные исследования, во многом меняющие существующие взгляды на восстановительные процессы. Заключаются эти исследования в следующем.
До сих пор принято было считать, что чем выше по своему строению организм, чем дифференцированнее его ткани и клетки, чем сложнее их биологическая роль и физиологические функции, тем меньше у такого организма способность восстанавливать потерянные ткани. Отсюда вытекало, что организм человека обладает минимальной способностью к регенерации. Взамен потерянной руки, ноги или даже пальца образуется только культя, лишенная каких бы то ни было признаков формы бывшей конечности. Регенерация у высших животных, а следовательно, и у человека преимущественно выражается в заживлении ран.
Но вот что показали опыты в этом направлении.
В гистологической лаборатории Института морфологии животных Академии наук СССР профессор А. Студитский и его сотрудники вылущением удаляли у кур бедренную кость. Таким образом куры становились калеками. Они не могли ходить. Но через некоторое время уже можно было заметить, что на месте удаленной бедренной кости начинает отрастать новая бедренная кость.
Удивительно это? Конечно. У птиц никогда раньше такое явление не наблюдалось. Потерянная кость, да еще такого большого размера никогда не восстанавливалась.
Почему же в этой гистологической лаборатории бедро птицы снова образовывалось, принимало нормальную длину и толщину, выполняло все обычные функции. Главное заключается в том, что при вылущении бедренной кости экспериментатор оставлял иа месте надкостницу.
Надкостница — это тонкая пленка, покрывающая всю кость как бы тоненьким чехлом. Оказалось, что надкостница является тем материалом, из которого растет и восстанавливается костная ткань.
Работы той же гистологической лаборатории показали, что у животных, например у кроликов, собак, могут восстанавливаться не только кости, но и мышцы. Основной опыт производился так: у кролика вырезали целиком икроножную мышцу. Затем вырезанную мышцу подвергали измельчению. Эту массу, состоящую из раздробленной мышечной ткани, помещали на то место, откуда удалена была мышца.
Через некоторое время уже можно было наблюдать образование новой мышцы, такой же, какой была отрезанная икроножная мышца. Удаленный орган восстанавливался. Животное переставало быть калекой.
Исследования профессора Студитского и его сотрудников открывают новые перспективы в области восстановления утерянных органов у высших животных и у человека.
Нужно сказать, что наряду с работами лаборатории профессора Студитского ведутся и другие чрезвычайно интересные исследования по изучению явлений регенерации у высших животных. К ним относятся экспериментальные данные, полученные профессором Хрущовым.
Пробуждающие вещества
Советский биолог, профессор В. К. Хрущов, поместил кусочек ткани, вырезанной у человека, в искусственную питательную среду. Кусочек ткани рос, увеличивался, клетки его размножались. Но вскоре рост прекратился.
Тогда профессор добавил в эту искусственную среду некоторое количество белых кровяных телец — лейкоцитов; размножение клеток кусочка ткани возобновилось.
Свойства лейкоцитов нам хорошо известны. Великий ученый Мечников, изучая их, назвал белые кровяные тельца фагоцитами, т. е. клетками, способными поглощать, переваривать чужеродные вещества. Это клетки, защищающие организм от всего вредного, угрожающего.
Теперь выяснилось, что лейкоциты обладают не только функцией уничтожения, но и функцией восстановления. Они содействуют процессам регенерации. Проходя сквозь стенки мельчайших кровеносных сосудов, лейкоциты собираются к месту ранения и здесь не только уничтожают микробов, но и выделяют особые вещества, способствующие заживлению поврежденной ткани, быстрейшему образованию рубца, т. е. они ускоряют рост числа клеток.
Вот почему профессор Хрущов добавлял к кусочку ткани некоторое количество белых кровяных телец. И, действительно, размножение клеток ткани в искусственной питательной- среде усиливалось.
Вещества, усиливающие рост, получили название трефонов.
Если любую поврежденную поверхность орошать сывороткой крови, обогащенной трефонами, трефонированной сывороткой, то рана заживет гораздо быстрее.
Работы Хрущова и других советских ученых свидетельствуют о проницательности знаменитого русского хирурга Н. И. Пирогова, который утверждал, что излившаяся в рану кровь стимулирует заживление повреждений тела. Это было свыше ста лет назад.
Теперь наука, осуществляя предвидение Пирогова, вступила на путь обнаружения веществ, а также создания условий, повышающих способность тканей к регенерации. Выяснилось, что нанесение раны уже само по себе является моментом, усиливающим регенерацию. Без повреждений восстановительная способность тканей не проявляется. Она очень слабо выражена.
Советский биолог Морозов сделал очень интересное наблюдение. Он приготовил из жидкой части крови кролика особую питательную среду и поместил в нее кусочек печени животного. Стал расти этот кусочек печени? Нет, клетки не размножались. Способность к регенерации у них была ничтожной.
Тогда Морозов взял другого кролика и произвел ему очень несложную операцию. Он отрезал край печени, но так, что животное не погибло. Спустя некоторое время, ученый из жидкой части крови этого кролика опять приготовил такую же питательную среду и опять поместил в нее кусочек прежней печени.
Теперь получилось все иначе. Ткань печени стала обнаруживать заметный рост. Ее клетки усиленно размножались.
Все отличие второй среды от первой заключалось в том, что она была изготовлена из крови оперированного кролика.
Надо допустить, следовательно, что в кровь второй среды попали вещества, выделившиеся из клеток печени в результате ее ранения. Вот эти-то вещества и стимулировали рост клеток культуры печени. Значит, их также можно отнести к трефонам.
Опыты, о которых здесь рассказано, еще только первые шаги. Но они показывают, что регенерация может быть вызвана и усилена в результате вмешательства науки. Если будут найдены вещества, дающие могучий толчок регенерации каждой ткани, то, вероятно, появится возможность восстанавливать утерянные части органов человека.
Для науки такую задачу нельзя считать непосильной. Но разумеется, это вопрос далекого будущего.
Большие перспективы открывают в этой области работы действительного члена Академии медицинских наук О. Б. Лепешин-ской, которая показала, что в заживлении ран, в образовании рубца, в росте вновь появляющейся кожи наряду с делением клеток играют значительную роль и формообразующие качества бесструктурного живого вещества поврежденных тканей.
Как ни увлекательны и многообещающи эти работы, однако от них до восстановления органов еще очень далеко. Это тоже вопрос далекого будущего.
Свойства эмбриональной ткани
Также обнадеживающими обстоятельствами в разработке проблемы регенерации органов человека являются научные события, связанные с другой областью биологии — с жизнью живых существ в эмбриональном, т. е. зародышевом, состоянии и свойствами их тканей. Исследования профессора В. В. Попова и его сотрудников в лаборатории экспериментальной эмбриологии Института морфологии животных Академии наук СССР открыли ряд удивительных явлений. Изучение тканей животных, находящихся еще в зачаточной стадии, привели к установлению фактов, которые еще недавно представлялись бы невероятными. Работы в ла-
боратории экспериментальной эмбриологии тоже были связаны с вопросами регенерации. В этом направлении и шли поставленные там опыты.
Известно, что образование зародышей живых существ начинается с деления оплодотворенной клетки. В результате непрерывного размножения клеток создается зародыш, у каждого вида животных имеющий особую форму. В дальнейшем из однородной массы клеток начинают выделяться зачатки будущих органов.
Имеет ли значение это обстоятельство? Несомненно. Оно позволяет утверждать что никаких предопределенных заранее зачатков органов в зародышевой ткани, в яйце, не существует. Кроме того, появление зачатков органов неразрывно связано с развитием зародыша. Только от процессов хода развития зародыша зависит превращение «леток в зачатки определенных органов. Уровень развития зародыша определяет дифференциацию клеток. До известного периода развития все клетки одинаковы.
Это — еще одно важное положение.
Но если все клетки вначале одинаковы, то как же потом из них получаются различные органы? Нет ли в этом утверждении ошибки? Может быть, на самом деле клетки даже на первоначальной, дозачатковой стадии развития уже различны, хотя обнаружить это не удается? Вполне логичные и законные ответы на эти вопросы дали в лаборатории лягушки.
Как уже известно, в определенный момент жизни зародыша лягушки у него намечается слой клеток будущей кожи, т. е. зачаток кожи. Таким же образом у него намечается так называемая нервная пластинка, т. е. зачаток нервной системы. Исследователи, конечно, знают, когда, на какой стадии развития появляются у зародыша лягушки зачатки органов. И вот, как раз перед самым моментом возникновения зачатков, экспериментатор вырезал кусочек ткани из того участка, где должна была образоваться нервная пластинка. Затем он перенес этот кусочек на участок будущей кожи.
Что же по мере развития зародыша выросло из пересаженного кусочка? Зачаток нервной пластинки? Нет, из него образовался зачаток кожи.
Так же точно кусочек будущего зачатка кожи пересаживали на участок, где развивается нервная пластинка. Что же выросло из этого кусочка? Зачаток нервной пластинки.
Повторные опыты с лягушками, тритонами и другими земноводными давали ту же картину. Были проделаны и более сложные эксперименты; они приводили к тем же результатам. Например, у личинки тритона срезали слой клеток, из которых развивается хрусталик глаза, и пересаживали их на слой будущей кожи. Из клеток будущего хрусталика образовались клетки зачатка кожи. И наоборот, если на место будущего хрусталика глаза помещали пластинку будущей кожи, то из нее развивался зачаток не кожи, а хрусталика.
Теперь можно сформулировать еще одно важное положение: ведущая роль в образовании органов принадлежит не врожденным свойствам клеток, а влиянию тех частей зародыша, с которыми ткань будущих зачатков тесно, соприкасается и которые являются для будущих зачатков органа их непосредственной средой.
Это значит, что пересаженная ткань зародыша, откуда бы ее ни взяли, даст тот зачаток органа, а в дальнейшем и полноценный орган, который нормально должен был в этом месте развиться.
Таков вывод из всего изложенного. Он и указывает путь, возможно самый действительный, к восстановлению органов. До известной степени даже нетрудно себе вообразить примерный ход операции. Нужно зародышевую ткань пересадить на тот участок тела животного или человека, где должен был находиться недостающий орган или где сохранился хотя бы его остаток. Раз органы обладают такой способностью влиять на зародышевую ткань, что она превращается в тот орган, на чье место она пересажена, то это обстоятельство и следует использовать для восстановления утраченной части или всего органа.
Так намечаются перспективы регенерации. Но тут же встает очень существенный вопрос. Ведь все время речь шла о зародышах, об эмбриональном периоде, о стадиях образования зачатков органов. Однако люди теряют тот или иной орган в результате ранений, травм, болезней не в зародышевом состоянии, а в детском, юношеском, зрелом возрасте. Какова же здесь возможность образования новых органов? Можно ли из культи с помощью пересадки зародышевой ткани восстановить утерянный орган?
Профессор Попов из Института морфологии животных хочет получить утвердительный ответ. В этом и заключается смелая идея ученого и его сотрудников. Она не беспочвенна. В опытах со взрослыми» лягушками уже удалось добиться успеха.
У них вырезали роговую оболочку глаза. На ее место прикрепляли пластиночку кожи, взятую у лягушечьей личинки, т. е. головастика. Через некоторое время пластинка кожи уже приобретала свойства роговицы: она утончалась, светлела, становилась прозрачной. В конце концов, никаких следов кожи у нее не оставалось. Получалась обычная роговая оболочка.
Но так происходило только тогда, когда кожу брали у головастика, до превращения его в лягушку, а сама лягушка, которой пересаживали кожу, была взрослой особью. Вот это в данных опытах и являлось главным обстоятельством.
Исследовательская мысль движется дальше — к человеку.
Лягушки, тритоны — это сравнительно просто организованные животные. Дадут ли опыты с более высокоорганизованными животными, с млекопитающими, тот же результат?
Это вопрос самый основной во всей проблеме. И, нужно сказать, что сейчас уже имеются обнадеживающие данные. Их дали опыты над мелкими млекопитающими — крысами.
Крысы брались взрослыми. У них вырезали роговицу и на место удаленной прозрачной ткани накладывали кусочек кожи, а для прочности после операции веки сшивали на несколько дней (обычно на 3 — 4 дня). Кожу для пересадки получали от зародышей, извлеченных на четырнадцатый-восемнадцатый день беременности, то есть за три-четыре дня до рождения.
Надо оказать, что опыты далеко не всегда удавались. Из каждых трех-четырех крыс только у одной пересаженная кожа теряла складки, становилась прозрачной, превращалась в роговицу. Только тридцать процентов пересадок привели к получению из зародышевой кожи безукоризненной роговой оболочки.
И все же это была огромная удача. Она показывала, что решение проблемы восстановления органов стоит на пути, который может привести к цели.
Еще одно обстоятельство может содействовать дальнейшему успеху нового метода регенерации — это консервация зародышевой кожи. Способ, предложенный сотрудником профессора Попова Т. А. Бедняковой, заключается в том, что кожу помещают в сыворотку крови и держат там при температуре 4 — 6 градусов выше нуля. Оказалось, что при этих условиях зародышевая кожа может долго храниться, не теряя своих свойств.
Значит, можно делать запасы такой кожи и всегда иметь ее под рукой в желательном количестве.
Надо полагать, что это поможет более широкой экспериментальной разработке проблемы.
Конечно, от опытов с роговицей крыс еще далеко до операций на человеке, потерявшем частично или целиком тот или иной орган. Но глубокое изучение всех законов развития и восстановления органов, а затем овладение этими законами решат задачу. Тогда восстановление органов путем пересадки зародышевой ткани, вероятно, станет обычным вмешательством.
Но это вопрос будущего. Пока же всякое разрушение органов человека, большую потерю его тканей можно, за самым малым исключением, восполнять одним только путем — хирургическим.
Этим и занимается восстановительная хирургия.
Тяжелые следы
Великая Отечественная война потребовала колоссального напряжения сил всей страны, в том числе и учреждений санитарномедицинской службы. Советская медицинская наука с честью разрешила задачи, поставленные перед нею Родиной. Благодаря особенностям советского строя, благодаря самоотверженной работе врачей и отличному оснащению медицинских учреждений всем необходимым, миллионам людей — защитникам советской Родины была сохранена жизнь.
Но у многих зыздоровевших после ранений остались значительные изменения, устранить которые было невозможно. Например, у бойца, получившего тяжелое ранение или ожог, образовался рубец значительной величины. Он стягивает лежащие под ним мышцы, что приводит нередко к искривлению туловища, сводит конечности. Это так называемая контрактура. Переломы костей нередко ведут к укорочению ног и рук. Человек может ходить, только опираясь на костыль или палку. Укороченная рука не позволяет достаточно хорошо выполнять нужную работу.
Конечно, если бы человеческий организм обладал такой же способностью к регенерации, как и организм тритонов, то ничего подобного бы не получалось. Раздробленные куски костей и размозженные куски мышц хирург удалил бы, а из их остатков в ноге отросло бы столько костной и мышечной ткани, сколько нужно для образования нормальной конечности. Ни укорочения, ни стягивания мышц рубцами не наблюдалось бы.
Но у человеческого организма нет такой способности к регенерации. У него хорошими восстановительными качествами обладает, главным образом, соединительная ткань, а ее развитие дает лишь рубец.
На помощь приходит восстановительная хирургия, которая во многих случаях избавляет пострадавшего от угрозы инвалидности.
В одну из ленинградских хирургических клиник поступил больной с давно зажившим переломом ноги, после которого получилось укорочение конечности на 18 сантиметров. На месте перелома образовалась костная мозоль. Ходить больной мог, только опираясь на костыль. И это понятно, так как вместо целой бедренной кости у него остались лишь ее сросшиеся уменьшенные две половины. Часть кости в виде мелких кусочков пришлось удалить при операции.
Чем можно помочь больному в таком положении? Как предупредить укорочение кости? Надо разъединить сросшиеся обломки и вставить между ними взятую где-нибудь, обычно из другой конечности, костную пластинку.
Но вставить кусок кости длиной в 18 сантиметров еще не значит получить хорошие результаты. Бедро должно обладать мощной опорной выносливостью, которой не имеет пересаживаемая пластинка.
И все же врачи решили удлинить ногу до естественных размеров.
Задача была такая: удлинить кость и в то же время не прибегать к пересадке костной пластинки. Но разве подобная задача выполнима?
Оказалось, что это, как ни странно, можно сделать. Есть операция, которая приводит к цели. Операция носит название — сегментарная остеотомия, т. е. рассечение кости на сегменты. Ее предложил известный советский хирург профессор Богораз. Такая операция удлиняет бедро без пересадки кости.
Операция заключается в том, что сросшуюся укороченную кость рассекают на косые части, косые сегменты; два, допустим, из верхней, два из нижней половинки. Если один из обломков имеет большую длину, то из него можно получить три сегмента. Затем, при помощи специальных аппаратов производят длительное вытяжение ноги. При вытяжении мышцы тянут за собой эти сегменты, которые скользят своими косыми поверхностями один вдоль другого. Верхний конец каждого сегмента при вытяжении является как бы продолжением нижнего конца предыдущего. Получается цепь костных кусков, почти соприкасающихся между собой. А это в результате позволяет образоваться между ними костным мозолям.
Такую операцию и сделали больному, у которого было укорочение ноги на 18 сантиметров.
Через несколько месяцев оперированный выписался из клиники. Он шел ровной, обыкновенной походкой, ступая обеими ногами по панели; костыли остались в клинике.
Прозрачная шапочка
Операция профессора Богораза — очень удачная операция. Она удивляет своим своеобразием, изобретательностью и в то же время простотой идеи. В этой операции участвуют кости, находящиеся в самой конечности. Это в известной мере облегчает задачу хирурга.
Бывает так, что человек почти совсем не может ходить или ходит с большим трудом, так как его нога потеряла подвижность. Подобные случаи нередко имеют место, например, при туберкулезном поражении тазобедренного сустава.
В этом суставе различаются суставная ямка таза и суставная головка бедра, входящая в ямку. Туберкулезная инфекция, поселившись в тканях сустава, постепенно разрушает суставную головку бедра. В сумке сустава тоже происходят болезненные изменения: сначала образуется воспалительный выпот, а потом крепкие рубцы. Рубцы спаивают наглухо весь пораженный сустав. Разумеется, движений в таком суставе нет.
Что же делать? Прежде хирурги ничего и не делали. Но советская наука решила и эту задачу. Сустав вскрывается, из него удаляются спайки и часть головки бедра, уже негодная для функции движения. На место поврежденной части головки пересаживается крепкая здоровая кость, взятая у трупа. И часто наблюдается хороший результат.
Однако, во-первых, успех бывает не всегда, а во-вторых, инфекция может перейти и на новую кость.
Вот если бы пересадить в этот тазобедренный сустав пластинку из материала, не поддающегося воздействию микробов, и в то же время не менее прочного, чем кость, то результат был бы более верным.
И хирурги нашли такой материал. Для его получения использовали достижения советской техники, создающей прочные и легкие металлы и новые органические соединения.
Например, советскими учеными найден новый материал — так называемое органическое стекло, или плексиглас. Из него отливают плоские листы, совершенно похожие на стекло по прозрачности; в то же время советский плексиглас несколько легче обыкновенного стекла, а главное гораздо прочнее его. Прочность плексигласа настолько велика, что из него даже изготовляют броню для самолетов и смотровых щелей танков. Плексиглас хорошо обтачивается, пилится, полируется, из него легко изготовить какую угодно деталь любой формы. При кипячении он не теряет своих свойств. Шестидесятиминутное пребывание в кипящей воде делает плексиглас стерильным.
Плексигласом заинтересовались советские хирурги. После целого ряда опытов оказалось, что этот материал очень удобен и для медицинских целей. Из него, например, можно сделать стерженек для операции образования носа. Если в черепе есть костный дефект, который нужно устранить, плексиглас подходит и для этого.
Очень интересная статья хабаровского профессора Дыхно была опубликована в 1948 году в журнале «Хирургия». В статье была описана операция с применением плексигласа.
В клинику профессора Дыхно поступил 17-летний юноша, который не мог ходить, потому что его правая нога была в согнутом положении, подтянута к животу и не поддавалась выпрямлению. Туберкулезный процесс тазобедренного сустава сделал юношу инвалидом. И хотя процесс уже закончился, он успел вызвать необратимые изменения.
Профессор Дыхно сделал юноше операцию. Хирург проник к тазобедренному суставу и увидел там костные сращения бедра и таза. Впадина сустава была как бы изъедена туберкулезом. Головка бедра, вследствие частичного разрушения, также потеряла свою форму.
Профессор удалил костные спайки и рубцы. Пораженные части костей тоже пришлось удалить. На месте бывшей суставной ямки таза профессор выдолбил новое углубление. Головку бедра хирург тщательно очистил от пораженного слоя; в результате этого она стала значительно тоньше. Это было плохо, так как она уже не обладала той прочностью, которую должна иметь кость, несущая на себе тяжесть туловища. Кроме того, по размеру она совершенно не подходила к выдолбленной суставной впадине. Тогда профессор Дыхно увеличил эту головку бедра до нужного размера. Он надел на нее шапочку из плексигласа. Она была точно подогнана по размеру и по форме к головке.
Через месяц оперированная нога полностью выполняла свои функции. Она свободно сгибалась и разгибалась. Ходьба стала доступной больному.
Мастерство хирурга восстановило работу сустава. Юноша был избавлен от тяжких последствий недуга.
Восстановленный путь
Осколок мины ударил сержанта в левую руку. От боли он потерял сознание. Пришел он в себя на батальонном медпункте. Левая рука у самой подмышечной ямки была перехвачена резиновым жгутом, наложенным еще на передовой.
В медсанбате приступили к операции. Раненый, находясь в состоянии наркозного сна, ничего не слышал из того, что говорили врачи. Врачи, обнажив рану, говорили о том, что им делать: ампутировать руку по верхнюю треть плеча или, несмотря ни на что, попытаться сохранить конечность.
Остановились на последнем. У раненого удалили размозженные мускулы, осколки кости, засыпали во все углубления и складки раны стрептоцид во избежание развития инфекции и наложили повязку.
Руку удалось спасти. Это было в 1944 году.
Война окончилась. Сержант жил в Ленинграде, но работать, как раньше, слесарем на заводе уже не мог. Он стал инвалидом. Рука у него уцелела, но кисть висела, как плеть. Лучевой нерв не только был перебит осколком мины, но и лишился своих волокон на протяжении почти трех сантиметров. Между концами разорванного нервного ствола образовался промежуток. Нервы кисти были лишены связи с центральной нервной системой. Поэтому кисть руки превратилась, собственно в простой придаток к туловищу, не способный ни к какой самостоятельной работе. Кисть и пальцы руки были почти неподвижны.
В 1946 году рука у него опять стала обыкновенной нормальной рукой. Кисть не висела, как плеть, а выполняла любую работу. И если бы не глубокий шрам на плече, который был виден, когда он закатывал рукав сорочки, нельзя было бы догадаться о недавнем травматическом параличе пальцев и кисти.
Что же сделали с разрывом ствола лучевого нерва? Куда исчез промежуток в три сантиметра, эта пропасть, непреодолимая для передачи нервного импульса?
Пропасть уничтожили мостиком из нервной ткани.
Конечно, такая операция очень сложна. Ведь еще несколько лет назад она казалась невыполнимой.
Советские ученые и здесь добились успеха. Особенно большое значение имели в этой области труды профессора Анохина. Он разработал технику и способы восстановления прерванной нервной связи. Им же был указан материал для этой операции. Наиболее подходящими оказались нервы теленка.
Извлеченные полосы нервных стволов теленка консервируют и сохраняют в формалине. Перед операцией такой кусок консервированного нерва отмывают от формалина, чтобы не получилось раздражения живой ткани формалином.
Сама операция заключается в том, что нужного размера полоску нерва вшивают между разошедшимися концами поврежденного нервного ствола, заполняя ею отсутствующий участок. Накладывают мостик.
И вот тут происходит удивительное явление.
Сохранившаяся часть лучевого нерва, идущая от мостика к мозгу, не потеряла своей жизнеспособности, а та часть его, которая находится ниже места повреждения и идет от мостика к пальцам, уже перестала участвовать в нервном процессе. Она стала как бы мертвым нервом. Значит, пересаженная полоска нерва является мостиком между живым и мертвым нервами. Что же у них может быть общего? Какая единая функция свойственна им? Да и сам формалинизированный мостик — разве это живая ткань? Какую жизненную роль он способен выполнять?
Подобные вопросы вполне естественны.
И, однако, соединение мертвой и живой ткани приводит к нужной цели. Нервы всей кисти от предплечья до пальцев начинают действовать. В них появляется способность вызывать сокращение мышц, и пальцам возвращается движение.
Это в самом деле удивительно, но никакого чуда здесь, конечно, нет. Факт восстановления функции всего нерва имеет научное, физиологическое объяснение.
Пересаженный мостик создал новые условия для возможной регенерации нервной ткани. Регенерирует тот конец нервного ствола, который связан с мозгом, — конец живого отрезка нерва.
Именно в его волокнах обнаруживается рост. Этот конец нервного ствола начинает удлиняться. Волокна его неуловимо медленно движутся по пути, проложенному для них мостиком, проникают в мостик, врастают в старое ложе и так же незаметно движутся все дальше и дальше к мышцам, потерявшим способность сокращаться, — к мышцам кисти, а затем и пальцев. Так, неподвижная часть конечности вновь обретает способность получать нервные импульсы и двигаться.
Проходят дни, недели, месяцы. Во всей кисти, до того почти неподвижной, застывшей и бессильной, появляется жизнь, спа-^ чала неощутимо, потом все заметней. Начинают шевелиться пальцы.
Так было и у нашего раненого.
Путешествующая кожа
Всякий дефект на теле человека неприятен. Особенно тягостны дефекты, обезображивающие лицо. При ранении может быть разорван рот, уничтожена губа или обе губы, часть зубов и десен, размозжен нос... Потом, по мере заживления, на месте разрушенной ткани образуются грубые, стягивающие рубцы.
Все эти дефекты не только удручают больного, но и затрудняют нередко отправление жизненных функций, например, питание; может быть резко нарушена речь.
Наилучший способ избавить больного от этого страдания — закрыть дефект пересаженной кожей. Если уже образовались рубцы, то их предварительно вырезают, чтобы приготовить, так сказать, площадку для пересадки.
Но где же взять пересаживаемый материал — трансплантат? Это очень существенный вопрос. Взять его рядом, тут же на лице, было бы удобно, но это значит создать новый дефект, новое обезображивание, новый рубец. При большом дефекте заимствование на лице куска кожи крупных размеров еще более нежелательно. Значит, нужно взять его с какого-нибудь другого места, где рубец будет не так заметен; например, с шеи, руки, ноги, живота. Но такая вырезанная полоока кожи погибнет, пока ее перенесут на лицо. В ней не успеют развиться и в нее не прорастут питающие ее кровеносные сосуды. Она ссохнется, начнет отмирать.
Совсем другое получится, если, во-первых, взять трансплантат с отдаленного участка кожи и, во-вторых, не отрывать его от артерий и вен, т. е. от организма.
Но разве это осуществимо?
Оказалось, что осуществимо. Такой способ пересадки, который решал бы обе задачи, был найден. Это было замечательным достижением нашей медицины. Теперь можно было вырезать кусочек кожи почти в любом месте тела и доставлять его куда угодно, не опасаясь омертвения трансплантата.
Самое интересное в том, что кусочек кожи сам может совершать путешествие от места своего естественного нахождения до места пересадки.
В чем же заключается этот способ?
В (клинику был доставлен двадцатилетний железнодорожник. Хотя он был еще молод, но у него оказалась болезнь, которая обычно встречается в пожилом возрасте. Он страдал так называемым варикозным изменением вен бедра. Варикозное — значит, мешкообразно расширенное и, в дальнейшем, склонное к изъязвлению.
В клинику железнодорожник попал из-за последствий той операции, которая была ему сделана три года назад. Тогда на правом бедре и колене у него вырезали кусок расширенной вены. Все было сделано правильно, но послеоперационная рана плохо зажила и образовалась большая язва, не поддававшаяся излечению. С этим незаживающим рубцом железнодорожника и приняли в клинику.
Врачи детально ознакомились с состоянием больного. Стало ясно, что обычные меры лечения не дали бы успеха.
Решено было вырезать рубец вместе с язвой и закрыть рану свежей кожей, т. е. прибегнуть к пересадке кожи. Рубец был значительных размеров; требовался, следовательно, и трансплантат большой величины.
Конечно, его можно было взять с другой, с левой ноги. Однако и там были расширены вены, может быть, не в такой степени, как на правой ноге, но все же достаточной, чтобы оказаться отрицательно на питании кожи. Если же питание кожи несколько ослаблено, то, конечно, использовать ее для пересадки нет смысла, так как на ней может развиться язва. Надо было взять такой трансплантат, который не вызывал бы сомнений.
Тщательный осмотр больного показал, что наиболее подходящей для этой цели является кожа спины. Оттуда и взяли трансплантат.
Сделали это следующим образом.
Хирург наметил в подлопаточной области кожную площадку нужного размера. Она представляла собой четырехугольник, имевший 12 сантиметров в длину и 5 сантиметров в ширину. Кожу, однако, не отрезали сразу, а только надрезали с двух длинных сторон. Затем тонким хирургическим ножом, помещенным в боковой надрез, отслоили, как говорят, отсепарировали эту площадку кожи от лежащих под ней тканей.
Получилась пластинка кожи. Однако она не была отделена от остальной кожи спины; ее связывали два других, неотрезан-ных края — короткие края четырехугольника.
Затем хирург взял в руки иглу с продетой в нее шелковой нитью. Длинные отслоенные стороны кожной пластинки врач загнул раневой поверхностью внутрь и сшил их. Образовалось нечто вроде цилиндрика или круглого тяжа, похожего на ручку чемодана. Будучи сшитой именно в таком виде, внутренняя кровоточащая поверхность пластинки была защищена от попадания микробов, от инфекции.
Может этот тяж отмереть, ссохнуться? Нет. Кровеносные сосуды, проходящие через два коротких неотрезанных края, прекрасно питали его.
Если теперь пересечь один из этих краев, то длинный кожный тяж с этой стороны освободится и будет походить уже не на ручку чемодана, а на кругловатый стебель с одной ножкой. Он становится подвижным. Его можно согнуть на этой ножке в любую сторону.
Хирург именно так и поступил. После того как по истечении нескольких дней врач убедился, что кровообращение в тяже сохранилось, он пересек один край «ручки».
Теперь стебель мог начать «путешествовать». На коже спины отмерили по направлению к ноге расстояние, равное длине стебля, и сделали насечку — надрезали кожу в этом месте. Свободный, отсеченный конец стебля наклонили и вшили в насечку. Через несколько дней он прирос, и получилась снова «чемоданная
ручка», только переместившаяся в сторону ноги на расстояние, равное своей длине.
Так трансплантат сделал свой первый двенадцатисантиметровый шаг.
Мог теперь отмереть кожный тяж? Тоже нет. Он питался по-прежнему через свою неотрезаиную ножку. А для чего вшили отрезанный край в насечку? Чтобы из надреза кожи вросли в «стебель» новые кровеносные сосуды. Тогда питание трансплантата опять обеспечено с двух сторон. Это не позволяет ему ссыхаться и отмирать.
Через некоторое время он снова мог передвинуться. Для этого отрезали вторую ножку и ее освобожденный конец, описавший дугу, вшили в новую насечку, приготовленную опять на расстоянии длины «стебля».
Это был второй шаг трансплантата к больному месту на ноге.
Так, передвигаясь, стебель совершал намеченное врачом путешествие. От лопатки он добрался до бедра, а затем до колена правой ноги. Теперь его свободный конец вшили в насечку, сделанную рядом с границей дефектного, изъязвленного участка кожи.
Трансплантат прибыл к месту назначения. Последний раз он оставался похожим на ручку чемодана.
Предстояла заключительная операция. Задняя ножка была пересечена. Стебель держался на одной ножке, вшитой в границу дефектного участка кожи. Его разрезали по длине шва и «стебель» расправился. Из круглого он стал плоским и уже походил не на ручку чемодана, а на развернутый лоскут. К этому моменту старый рубец с язвой был удален, на его месте образовалась раневая поверхность, на которую и наложили развернутый лоскут «стебля». Трансплантат занял свое место. Наложенные швы укрепили его здесь навсегда. Пересадка была закончена.
Что же стало с той раной на спине, которая образовалась на месте взятия трансплантата? Она к этому времени зажила.
Хорош этот способ пересадки? Да, конечно, очень хорош. И тот ученый, который его придумал, заслуживает большой благодарности, так как он дал врачам оружие в борьбе против обезображивания и страданий.
Но и у этого способа имелся один довольно крупный недостаток. Пока «стебель» передвигался от пункта его образования до пункта назначения, приходилось много раз по дороге вшивать в кожу то одну ножку стебля, то другую, много раз ждать приживления стебля. Это делало путь трансплантата очень долгим и, следовательно, выполнение всей операции очень затяжным процессом. Иногда за время, необходимое для проведения этой операции, наступали осложнения. Значит, надо было сократить продолжительность всей процедуры пересадки. Задача казалась трудной, сложной. И все же мысль ученого, одушевленная желанием помочь больным, нашла решение.
«Стебель», как мы говорили, делал «шаги»; он был «шагающим стеблем», весь путь он проделывал «шаг» за «шагом».
Ускорить это движение можно было одним способом: посадить «стебель» на подвижную основу, дать пешеходу — стеблю «транспорт». Транспортом могла быть рука.
Так и сделали. Полоску кожи, превращенную в круглый тяж, в «чемоданную ручку», переводили со спины на живот, что требовало сравнительно немного времени, или стебель сразу же образовывали из кожи живота. Отсюда, с живота, один конец круглого тяжа пришивали к руке, обычно к коже нижней трети предплечья, несколько выше кисти. Когда этот конец приживал к руке и кровоснабжение тяжа обеспечивалось, второй конец трансплантата отрезали от кожи живота и «стебель» держался только на предплечье. Теперь руку можно было поднести сразу же к тому месту, которое нуждалось в пересадке: к голени, щеке, носу, почти к любому участку тела.
Итак, срок путешествия «стебля» резко сокращался. Вся операция облегчалась. Опасность осложнений также уменьшалась.
Весь этот способ пересадки, и первоначальный и сокращенный, получивший признание во всем мире, носит название: пластика круглым мигрирующим кожным стеблем. Его разработал и ввел в хирургию русский ученый, окулист, академик Владимир Петрович Филатов.
Новый орган
В один из дней августа 1943 года во время ожесточенных боев в полевой госпиталь доставили раненого воина Петра Сигаева. Осколок снаряда не причинил ему разрушений, непосредственно угрожающих жизни, но это было очень тяжелое ранение по своему расположению и по своим последствиям.
Когда врачи разбинтовали голову раненого, то перед ними оказался человек с поврежденной половиной лица. Нижняя челюсть была переломлена в двух местах. Все зубы на ней, за исключением четырех, были выбиты. Вместо слов изо рта больного вылетали невнятные звуки — у Сигаева был размозжен язык. От него остались обрывки тканей, которые тут же под новокаиновым обезболиванием пришлось отрезать вплоть до самого корня.
Раненого эвакуировали в Москву. Когда он прибыл в Центральный институт травматологии, то состояние раненого ухудшилось. И это вполне понятно. Отсутствие языка постепенно подкашивало силы раненого. Без языка человек не может говорить, но гораздо большая беда в том, что без языка нельзя есть. Прием пищи у Сигаева был резко затруднен, разжевывание и проглатывание пищи были почти невозможны. Еду, даже в ограниченном количестве, можно было принимать только лежа.
В Институте травматологии раненого стали лечить. Прежде всего занялись его раздробленной челюстью. Через месяц после того, как удалось искусственным питанием несколько поднять силы больного, укрепить его, улучшить общее состояние, была произведена операция: все плотные рубцы в области перелома челюсти рассекли, челюсть вытянули вперед, чтобы она заняла нормальное положение, и наложили на нее гипсовую шину сроком на шесть недель.
Когда нижняя челюсть была укреплена и срослась, на четыре уцелевших зуба и на верхнюю челюсть поставили протезы, позволявшие хорошо пережевывать пищу. Осколки нижней челюсти были удалены, а дефект кости устранен пересадкой хряща; подбородок образовали тоже с помощью пересаженного кусочка хряща.
Так, шаг за шагом хирурги восстанавливали лицо Сигаева.
Оставалось самое трудное — язык. Врачи приняли единственно правильное решение — создать язык заново. Наиболее подходящим материалом для этого оказалась кожа, но нужен был большой кусок ее. Решено было трансплантат взять со спины. На спине, несколько пониже лопатки, приготовили филатовский круглый стебель. Но для «изготовления языка» одной тонкой кожи было мало. Поэтому пластинку кожи отсекли вместе с подкожной клетчаткой и с жировым слоем. Получился стебель нужной толщины.
Путь для его путешествия выбрали самый короткий. Со спины стебель переместили на живот, а оттуда сразу на руку. Место на руке выбрали такое, что стоило только руку поднести к лицу, как стебель оказывался у рта.
В ноябре 1946 года была произведена заключительная операция. Остаток корня языка прошили крепкой шелковой нитью и сильно, насколько было можно, натянули. С трудом работая инструментами в глубине полости рта, хирурги освежили раневую поверхность корня языка, т. е. срезали образовавшиеся рубцы. Площадка для приема филатовского стебля была готова.
Поднятая рука больного приблизила трансплантат к самому рту. Конец стебля распластали и образовавшийся плоский лоскут ввели в глубину ротовой полости. Его сшили там с верхней и нижней поверхностью корня языка. Одна ножка стебля находилась теперь на корне будущего языка, другая оставалась на руке. Чтобы больной не прикусил стебель, на зубы надели добавочный пластмассовый протез с так называемым повышенным прикусом, который мешал зубам сомкнуться.
Три недели Сигаев держал у рта руку, прибинтованную к голове плотной повязкой; три недели хирурги наблюдали за оперированным.
Все шло гладко. Стебель прижил.
Когда стебель отсекли на расстоянии восьми сантиметров от корня, он исчез. На руке от него осталась его меньшая часть, которую вскоре удалили; во рту находилась вторая часть стебля, приросшая к корню языка. Таким путем образовался язык.
Спустя еще две недели Сигаев уже не был немым. Это был человек с разборчивой и понятной всем речью. Он завтракал, обедал и ужинал, как здоровые люди.
Высшим удовольствием Сигаева стало показывать язык соседям, демонстрировать его гибкость, подвижность. Все радовались за Сигаева, которому врачи вернули язык, почти не отличимый от нормального.
Эта тонкая операция, великолепно сделанная профессором Михельсоном, является еще одной крупной победой советской восстановительной хирургии.
Закрытый путь
В доме, где я живу много лет, недавно произошло несчастье. Мальчик Толя из соседней квартиры нечаянно выпил едкую щелочь.
Вызвали машину «Скорой помощи». Сделали все, чтобы обезвредить выпитый яд, но беда была уже не устранима. Произошел ожог пищевода. Толю отправили в больницу.
Принимать пищу через рот так, чтобы она продвигалась через обожженный пищевод, в котором слизистая оболочка представляла сплошную рану, оказалось невозможным. Но пострадавшего надо было кормить.
Ему сделали гастростомию. Это значит, что у него вскрыли стенку живота, а затем в желудке прорезали отверстие. В желудок ввели резиновую трубку. Приставив воронку к наружному концу трубки, наполняли желудок пищей, разумеется жидкой или очень размельченной.
Чем кончаются такие случаи, когда кислоты или едкие щелочи сжигают внутреннюю поверхность пищевода?
Кончаются они тем, что на месте уничтоженной ткани появляются рубцы. Рубцы постепенно уплотняются, стягиваются и суживают просвет пищевода. При незначительном сужении пищу, особенно жидкую, еще можно принимать. Она хотя и с затруднением, но проходит. При сильном сужении пищевод становится непроходимым и для жидкой пищи. Пострадавший обречен на всю жизнь питаться через трубочку в желудке.
Такая печальная участь должна была ожидать и Толю.
Существует еще одна причина возникновения непроходимости пищевода.
Когда я учился в школе, у меня был товарищ по имени Саша. Как-то я остался у него обедать. За столом сидела семья Саши.
Когда после супа подали жаркое, отец Саши отодвинул тарелку и сказал с недоумением:
— Не понимаю, что такое. Опять пища у меня задерживается в горле. Мне трудно ее проглатывать.
Потом он придвинул к себе тарелку и снова начал есть. Но сделав два-три глотка, он с тревогой произнес:
— Очень странно. Сегодня проходит еще хуже, чем вчера.
Спустя неделю я встретил Сашу; он куда-то спешил и был очень грустен. Я остановил его и Саша оказал, что торопится в больницу к отцу.
Потом я узнал, что у сашиного отца врачи обнаружили рак пищевода, и он подвергся срочной операции. Заключалась она, как мне объяснил Саша, в том, что у больного вскрыли желудок и теперь вводят пищу через трубку. Иначе он мог умереть от голода, так как из-за опухоли глотание у него стало совсем затруднительным.
Два месяца его поддерживало питание через трубку. Ничего другого врачи сделать не могли. Болезнь продолжала развиваться и приблизительно через два месяца сашин отец умер от рака пищевода.
Трудная задача
Почему же нельзя вскрыть пищевод, найти сужение и, вырезав его, зашить рану — словом, привести все в должный вид?
Дело в том, что оперировать на пищеводе — чрезвычайно трудная и ответственная задача. Объясняется это местонахождением пищевода, во-первых, и его функцией, во-вторых.
Пищевод значительной своей частью проходит позади грудины: между легкими с плеврой, недалеко от сердца и вплотную к так называемому заднему средостению — задней части внутри-грудной перегородки. Здесь в тесном соседстве помещаются жизненноважные органы, крупнейшие сосуды сердца. Нечаянное повреждение кровеносного сосуда в этих условиях означает смертельное кровотечение. Внесенная инфекция — верная гибель.
Ведь операция при сужении пищевода, особенно при сужении, вызванном раковой опухолью, сложная и длительная.
Конечно, всем хирургам она представлялась практически почти невозможной. Вот почему ее не сделали и Сашиному отцу.
Кроме всего этого, вырезать часть пищевода еще недостаточно. При опухолях и рубцовых тяжах пришлось бы удалять стенку пищевода на таком большом протяжении, что функция пищевода уже не могла бы восстановиться. Пищевод уже перестал бы быть пищеводом. Что же тогда делать? Как тогда питаться? Нужен был бы новый пищевод. А искусственный пищевод создать еще не умели. Оставалось одно — прорезать отверстие в стенках живота и желудка, образовать свищ, так называемую фистулу, и питать больного через резиновую трубку.
Введение же резиновой трубки в желудок, хотя и не давало больному умереть с голоду, но приносило много огорчений; это угнетает человека и делает его инвалидом.
Развитие медицинской науки в течение XIX века и высокий уровень ее в XX веке поставили перед хирургами проблему операции на пищеводе.
Уже в 1904 году появились работы, доказывавшие возможность создания искусственного пищевода.
Одним из первых, кто сумел произвести еще в 1908 году подобную операцию, был пусский хирург профессор Герцен.
Однако самыми важными событиями в истории этой проблемы явились работы хирургов из Московского института имени Склифосовского, выполненные в советское время.
Искусство восстановления
В Институт имени Склифосовского в Москве поступил больной. Ему было 19 лет. Он приехал из Свердловска.
Семь лет назад мальчик случайно выпил неочищенную соляную кислоту, приняв ее за воду.
Сужение пищевода развивалось медленно, но неуклонно. Чтобы не допустить окончательного закрытия просвета, врачи бужировали, т. е. особыми инструментами расширяли суживавшийся пищевод. Однако это мало помогало. Пришлось юноше согласиться на питание через фистулу желудка. В Свердловске пробовали помочь больному более основательно — сделать новый пищевод. Но операция не привела к успеху.
В Институте имени Склифосовского юношу внимательно осмотрел профессор Борис Александрович Петров. На груди и шее юноши были видны рубцы — следы хирургического ножа.
Через несколько дней юноша лежал на операционном столе. Хирург вскрыл брюшную полость в самой верхней части живота и извлек большой кусок тонкой кишки, длиной около 30 сантиметров. Точным и верным движением хирург пересек с обеих сторон этот отрезок кишки, отделив его, таким образом, от кишечника. Затем он сшил образовавшиеся два конца кишечника, восстановив его непрерывность.
Потеряла ли извлеченная и отрезанная часть тонкой кишки всякую связь с кишечником? Нет, не совсем. В ней сохранялись некоторые кровеносные сосуды, шедшие из брыжейки. Брыжейка — это ткань, на которой внутри брюшной полости держится как-бы подвешенным весь кишечник и в которой находятся питающие его кровесносные сосуды.
Если не сохранить ни одного кровеносного сосуда, то отрезок кишки, лишенный кровоснабжения, быстро омертвеет.
Теперь, выделив этот отрезок из брюшной полости, хирург, с помощью специально сконструированных в Институте инструментов, проделал под кожей передней поверхности грудной клетки особый ход. Инструменты были сконструированы очень остроумно и целесообразно. Пользуясь ими, хирург приподнял кожу, отслоил ее от нижележащей ткани на всем протяжении от разреза на животе до левой ключицы и даже выше — до шеи. Образовался своеобразный подкожный тоннель.
В этот тоннель хирург осторожно втянул весь приготовленный отрезок кишки. Она поместилась в тоннеле, как в оболочке. Один конец кишки появился на шее у того места, где внутри шеи расположен верхний отдел пищевода.
Теперь наступила вторая, не менее ответственная часть операции. Хирург вскрыл боковую поверхность шеи, нашел стенку пищевода, обнажил его и извлек насколько это было возможно. Затем он вшил в него, в отверстие над местом сужения, край кишки, расположенный в тоннеле. Это был ее верхний конец. А нижний — еще раньше вшили в желудок.
Отрезок тонкой кишки соединил таким образом начало пищевода с желудком.
Так отрезок тонкой кишки стал пищеводом.
Операция свердловскому юноше была произведена в 1942 году. До этого и после в Институте имени Склифосовского профессорами Петровым, Араповым, Розановым и другими хирургами было сделано несколько десятков, а теперь можно сказать и сотен подобных операций. Вслед за ними большое число таких же операций было произведено во многих городах Советского Союза. Способы, которыми пользовались наши хирурги, оказались наилучшими из всех, предложенных ранее. Они давали наибольший успех. После такого вмешательства резиновая трубка и свищ желудка очень часто становились излишними.
Удовлетворились ли такими результатами советские хирурги? Нет, не совсем.
В том же Институте имени Склифосовокого, где особенно много занимались операцией создания искусственного пищевода, были применены дальнейшие усовершенствования. Здесь же встала задача, которая требовала должного решения. В чем она заключалась?
Хирурги продумывали до мельчайших подробностей ход операции. Выработанная ими замечательная хирургическая техника и удобно сконструированные инструменты облегчали работу. Наконец, их пытливый ум подсказал новую плодотворную мысль — перенести перевязку артерий к корню брыжейки, подальше от кишки. Эта подробность явилась счастливой находкой в борьбе за спасение жизни оперируемых, так как она обеспечивала наилучшее кровоснабжение отрезка кишки.
И все же хирурги не были полностью удовлетворены. Это была та творческая пытливость, которая не знает успокоения, для которой каждое достижение — это только основание для нового шага вперед.
В операции создания искусственного пищевода есть, помимо всего, одна сторона, с которой чуткость врача не может примириться.
Это — психическая угнетенность больного.
Если даже новый пищевод хорошо выполняет свои функции, а резиновая трубка и питание через свищ, так удручающие больного, отпадают навсегда, то на шее после операции остаются неестественные рубцы, обезображивающие утолщения, искажающие внешность. Это далеко не маловажное обстоятельство для психики человека.
Следует иметь в виду, что несчастные случаи, ведущие к сужению пищевода и в дальнейшем к операции, чаще всего встречаются у детей, у подростков. Проходят годы, дети становятся взрослыми. Операция, спасшая их, в то же время в известной мере уродует их внешность. Для юношей и девушек такой физический недостаток является, конечно, сильной психической травмой.
Советские хирурги не забыли об этой стороне операции, о том добавочном грузе страданий, который этот недуг, даже исправленный операцией, нес молодой жизни.
Поиски врачей, вызванные глубоким раздумьем над судьбой человека, не оказались напрасными.
Зимой 1947 года перед хирургом, профессором Бозановым в Институте имени Склифосовского лежала на операционном столе 22-летняя студентка-химик. Резиновая трубка находилась в свищевом ходе желудка. Теперь больной готовились сделать искусственный пищевод.
Врач приступил к операции. Он сделал ее так, как давно тщательно обдумал и проверил на многочисленных опытах над животными.
Через шесть недель больная покидала институт. Она была счастлива. Резиновая трубка, ранее введенная в желудок, отсутствовала. Никаких обезображивающих выпячиваний на шее, никаких шрамов, рубцов, никаких иных следов пересадки кишки не было видно.
Почему? Разве больной не устроили пищевод из тонкой кишки. Устроили, но искусственный пищевод шел не по передней поверхности грудной клетки, не в подкожном тоннеле. Он лежал вдоль своего естественного пути — внутри грудной клетки, позади грудины, рядом со ставшим ненужным прежним пищеводом.
Это была операция исключительного мастерства и точности. Она выполнялась в сложнейших условиях. Мы уже знаем, что грозит хирургу, когда он оперирует в грудной клетке, где в тесноте собраны жизненноважные органы.
Выработанная точность расчета, скрупулезная предусмотрительность и, особенно, новый метод наркоза — газовый наркоз, вводимый специальным способом прямо в дыхательное горло, помогли хирургу. Он сумел добиться блестящего успеха.
Что же было сделано при проведении этой операции.
Один конец кишечной петли, как и при прежних операциях, вшили в желудок. Для другого же конца петли подкожного, идущего по передней поверхности грудной клетки тоннеля не устраивали, а поступили иначе. В грудобрюшной преграде, диафрагме,
образовали отверстие, т. е. открыли доступ в грудную полость, «уда и ввели второй свободный конец кишечной петли. После этого с большой осторожностью отыскали и несколько высвободили из окружающей ткани рищевод. В верхней части его определили рубцовосуженное место, делавшее пищевод непроходимым. Сюда поверх этого сужения, подтянули кишечную петлю и свободный конец ее вшили в отверстие, произведенное в стенке пищевода. Отрезок кишки занял свое место вплотную с пищеводом, по соседству с остальными органами грудной клетки — легкими, сердцем, крупными артериями и венами.
После наложения швов на грудобрюшную преграду операция была закончена.
Когда разрез на животе зажил, только рубец говорил о перенесенном хирургическом вмешательстве. Больная внешне ничем не отличалась от остальных людей.
Операция не только удалась, но была произведена с меньшим риском, чем прежде, когда пищевод прокладывался в подкожном тоннеле.
Успех этот не был случайным. Он явился результатом упорного труда и смелых исканий.
Дальнейшие операции, даже на пищеводе, пораженном раковой опухолью, т. е. еще более трудные операции, давали нередко такой же замечательный результат и подтверждали правильность смелого новаторского решения советских хирургов.
Наряду с хирургами Института имени Склифосовского в области восстановительной хирургии прославились томский профессор А. Г. Савиных, московский профессор В. И. Казанский, хирург Института экспериментальной и клинической хирургии Б. В. Петровский, профессор А. И. Савицкий и В. А Мельников, спасшие множество человеческих жизней своими оригинально разработанными операциями при тяжелейших формах рака на нижней части пищевода.
Эти операции явились новым блестящим достижением советской хирургии.
Краткий итог
Мы рассказали лишь о некоторых достижениях современной восстановительной медицины. Они достаточны для справедливой оценки великих усилий, огромных успехов советских ученых и в этой области медицины.
Успехи восстановительной хирургии восполняют в известной мере слабую способность человеческого организма к восстановлению утраченных органов.
Так современная медицинская наука смело использует законы природы, совершая, казалось бы, невозможное.
Мы законно гордимся тем, что и в этой области медицины наиболее значительные успехи достигнуты нашими советскими хирургами. Одна из высших наград 1950 года — Сталинская премия — была присуждена группе конструкторов и хирургов Института Склифосовского: инженеру В. Ф. Гудову, врачам П. Андросову, М. Ахалая и другим, за создание аппарата для сшивания кровеносных сосудов. Этот аппарат не только улучшает и упрощает сложную операцию искусственного пищевода или хирургического лечения грудной жабы и всех других труднейших операций, но и приближает осуществление возможности пересадки целых конечностей и даже жизненноважных внутренних органов.
Вспомним, что с замечательной проницательностью говорил великий хирург прошлого века Н. И. Пирогов. Вот его слова: «Для хирургии настала бы новая эра, если бы удалось скоро и верно соединять кровеносные сосуды». В Советском Союзе эта новая эра настала. Она обещает огромные успехи в медицине.
Состоявшаяся в июне-июле 1950 года объединенная сессия Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, посвященная развитию идей И. П. Павлова, показала, какие широчайшие перспективы открывает разработка наследия великого физиолога и в хирургии. Павловское учение об организме, как об едином целом, вводит в хирургию физиологическое воззрение, рассматривающее оперируемый орган не как изолированный участок тела, а как часть целого, управляемого центральной нервной системой. Такого рода идея, положенная в основу хирургического вмешательства, идея нервизма, предполагает необходимость учета хирургами функционального значения для всего организма того или иного органа, который подвергается операции. Отсюда вытекает и важность оценки состояния всего организма после операции, изучение рефлекторных реакций его на вмешательство, восстанавливающее нормальные функции органов, а также и значение внешних условий, в которых должны находиться оперированные.
Советские врачи, находясь в исключительно благоприятной обстановке, созданной в нашей стране для работников науки, добились блестящих результатов даже в самой трудной области — в хирургии легких, сердца, пищевода, центральной и периферической нервной системе. Павловская физиология, примененная в медицине, сулит большие успехи в деле плодотворной борьбы за здоровье человека, за полное восстановление утерянных им по той или иной причине органов и функций.
Только в нашем государстве выполняется грандиозная работа восстановительной хирургии, являющейся крупным разделом хирургической науки. В странах капитализма, где существуют миллионы безработных, где беззастенчивая эксплуатация ведет к преждевременной инвалидности, где весь строй сокращает продолжительность жизни огромного большинства населения, где достижения науки доступны только богатым, — гам не могут использоваться в полной мере для общего блага замечательные достижения медицины.
Глава пятая. ОСАДА СЕРДЦА
Два случая
В медицинских летописях XVI века сохранилось описание одного странного случая.
Однажды известного в то время хирурга Амбруаза Парэ пригласили прибыть немедленно к месту дуэли.
Врача это нисколько не удивило. Тогда дуэли были очень распространены. Смывать кровью обиды считалось даже обязательным для поддержания «дворянской чести».
В то время дуэлисты дрались обычно на шпагах.
Хирург, приглашенный на случай необходимости оказать медицинскую помощь, стал свидетелем подобной дуэли.
Один из противников получил удар шпагой в грудь. Собрав все свои силы, раненый стал наступать с такой яростью, что его соперник обратился в бегство. Раненый погнался за ним. Он преследовал своего врага на протяжении почти двухсот шагов, а затем упал. Когда хирург поспешил к нему, чтобы оказать помощь, упавший был уже мертв.
Этот случай был описан в медицинских хрониках XVI века, как невероятное происшествие, которое очень поразило хирургов того времени.
Что же так сильно удивило Амбруаза Парэ?
Двести шагов — вот что показалось ему невероятным. Те самые двести шагов, которые пробежал один из участников дуэли. Ведь их пробежал человек, раненный в сердце.
На протяжении веков считалось, что удар, пронзивший сердце, влечет за собой немедленную смерть. Хирург, присутствовавший на дуэли, в этом тоже нисколько не сомневался.
Он никогда не поверил бы, что с сердцем, пробитым острием
шпаги, можно бежать так долго, если бы не увидел это собственными глазами.
Но о еще более удивительном случае рассказал почти сто лет спустя другой врач, Мюллер.
Однажды его позвали к больному. В комнате, соседней с комнатой больного, врач увидел много людей. Это были родственники больного. В комнате, где лежал больной, также находилось несколько человек наиболее близких родственников больного.
Больной был богатым человеком и все родственники, близкие и дальние, наперебой старались выразить свою глубокую скорбь. Но сквозь эту скорбь пробивалось явное нетерпение родственников, даже их некоторое разочарование в том, что больной не умирал, и у них уже появилось сомнение, — а может быть, он и не умрет. Тогда никто не получит наследства.
Врач заметил разочарование родственников и их удивление по поводу того, что больной все еще жив.
Когда врач осмотрел пациента, то и сам был несказанно изумлен. Перед ним на кровати лежал человек, который пятнадцать дней назад получил удар кинжалом в сердце.
Пятнадцать дней человек жил с пронзенным сердцем!
Это было неслыханно. Это противоречило всему, что было известно медицине того времени.
К великой, хотя и скрываемой, радости родственников раненый умер на следующий, шестнадцатый день.
Но случай этот остался для тогдашних врачей столь же удивительным, как если бы пострадавший прожил не пятнадцать дней, а пятнадцать десятилетий, настолько непонятным было то, что человек не умер немедленно после ранения сердца.
Немного о сердце
Сердце знают все. Оно бьется в нашей груди; каждый в любой момент может приложить к ней руку и удостовериться в том, что сердце на месте и выполняет свою работу.
Сердце не останавливается ни на минуту. Оно непрерывно гонит кровь по артериям, капиллярам и венам.
Если сердце остановится, жизнь организма начинает угасать.
Прежде всего прекратится жизнь мозга, затем погаснет жизнь в остальных органах тела и наступит смерть.
Если сердце снова забьется, то человек сможет вернуться к жизни. Однако это должно произойти ни в коем случае не позже чем через пять-шесть минут после остановки сердца.
Наука знает способы, как возвращать к жизни в течение этой пяти-шестиминутной так называемой клинической смерти. Об этом мы уже говорили. После пяти-шести минут клинической смерти наступает биологическая смерть.
Сердце разделено непроницаемой перегородкой на две половины. Их иногда условно называют правым и левым сердцем.
Вспомним, как совершается работа сердца. Предсердие и желудочек каждой половины сердца сообщаются между собой и разобщаются посредством клапанов. Свежая кровь из легких вливается в сердце через левое предсердие, а выталкивается из сердца в аорту через левый желудочек.
Отработанная, венозная кровь попадает в сердце через правое предсердие, а уходит в сосуды легких для окисления через правый желудочек.
Само сердце нуждается в большом количестве крови, служащей для его питания. Эта кровь поступает в сосуды сердца из начальной части аорты.
Без крови сердце работать не может. Постоянное поступление крови — это первое условие, обеспечивающее его деятельность.
Сердце окутано со всех сторон довольно плотной оболочкой — околосердечной сумкой; называется она перикардий, или перикард.
Недосягаемая мечта
Почему хирургу XVI века показалось невероятным, что человек, раненный в сердце, пробежал двести шагов, т. е. проделал значительную работу.
Почему врача ошеломило то, что пронзенное кинжалом сердце продолжало биться пятнадцать дней.
Потому, что это в самом деле замечательный факт.
Ведь через сердце проходит вся кровь — столько, сколько ее имеется в теле человека. Каждые 23 секунды сердце пропускает ее всю через себя.
Сердце выбрасывает из себя кровь в аорту толчками с большой силой.
Раненое сердце тоже работает. Оно не перестает совершать свои движения. Но при каждом сокращении кровь выбрасывается также и через отверстие раны. Эта кровь уже не попадает в аорту, т. е. и в сосудистую систему, а следовательно, и не возвращается в сердце.
В течение одной минуты сердце делает 70 — 80 ударов. С каждым ударом сердце будет терять через рану кровь.
При большой ране сердце может остаться без крови через одну-две минуты, при маленькой — через пять — десять минут.
Смерть при ранении сердца неизбежна, и если не в первую минуту, то в первые минуты. Так, по крайней мере, считалось на протяжении веков.
Вот почему изумление Амбруаза Парэ было совершенно законным.
Врач, описавший больного, жившего пятнадцать дней после удара в сердце, тоже был опытным хирургом. Можно спросить, пытался ли он спасти своего пациента? Если раненый жил пятнадцать дней, то первое, что должно было придти хирургу в го-.лову — это сделать операцию. Надо было зашить рану сердца, и все. Но сделать этого врач как раз не мог. Он даже не предпринял попытки подобного вмешательства.
И его действия вполне понятны.
Во-первых, оперировать на сердце тогда еще совершенно не умели. Во-вторых, если бы даже врачи того времени знали, как произвести операцию, они не решились бы на нее, потому что это все равно ничего бы не дало; раненый, безусловно, погиб бы — от гангрены, как тогда говорили, или от заражения крови, как теперь говорим мы.
Любой хирург в те времена это прекрасно знал.
Никто из врачей той эпохи не имел представления о существовании микробов или бактерий.
Случай с дуэлью произошел в 1563 году, а случай с человеком, прожившим пятнадцать дней с раненым сердцем в 1641 году.
Как видите, это было задолго до появления первого микроскопа, открывшего мир микробов, и за много лет до того, как была твердо установлена роль микробов в происхождении болезней.
Но если бы даже в XVI и XVII веках было известно о существовании и роли микробов, то это ничего не изменило бы, так как в то время никто не имел представления о том, как бороться с микробами. Первые указания о том, как бороться с болезнетворными микробами при операциях появились только в XIX веке.
Совершенно ясно, что уровень знаний того времени не допускал возможности операций на сердце. Хирургам и в голову не могла придти мысль о подобной операции.
Операции в те времена производились почти исключительно только на руках, ногах, на наружных областях тела.
Вскрывать грудную или брюшную полость и тем более оперировать в области мозга было лишь недосягаемой мечтой хирургии.
Один из десяти
Прошло не больше года после случая с человеком, жившим пятнадцать дней с раненым сердцем, как стало известно о другом совершенно неожиданном событии.
Человек, тоже раненный в сердце, не только не умер сразу, но и вообще не погиб от ранения. Он выздоровел и долго жил, словно сердце его не имело никакого изъяна. Произошло это в 1642 году.
Сколько времени еще прожил этот редкий счастливец после ранения, точно не известно, во всяком случае — годы. Как объяснить такой благополучный исход?
Врачи того времени не находили объяснений этому факту. Они не могли понять, почему остановилось кровотечение, почему раненое сердце перестало при сокращениях пропускать кровь. Несомненно было одно: рана сердца закрылась сама по себе.
Закрыться же она могла, конечно, только рубцеванием. Рубцовая ткань как бы затянула отверстие в мышце сердца. А так могло случиться лишь благодаря тому, что в отверстии раны образовался сгусток свернувшейся крови. Это было неоспоримо. Тогда возникает вопрос, почему же в остальных случаях не происходило подобного заживления. Что могло помешать образованию сгустка, а затем и рубца.
Ответ на этот вопрос получили только через сто двадцать лет. В 1761 году было выяснено, что дело не в потере крови. Смерть при ранениях сердца вызывается тем, что изливающаяся кровь скопляется в околосердечной сумке, в перикардии. Собравшаяся здесь масса крови давит на сердце. Сердце не может работать и останавливается. Поэтому заживление раны рубцеванием не успевает наступить.
По мере развития науки удалось найти правильное объяснение причин смерти от ранения сердца и, вместе с тем, установить точно, как осуществляется процесс остановки сердца. Он представляется в следующем виде.
Кровь из раны сердца изливается в полость околосердечной сумки и растягивает ее. Ткани сумки обильно снабжены окончаниями чувствительных нервов. Растяжение сумки раздражает нервные окончания;, в них возникает резкое возбуждение, идущее в центральную нервную систему, в мозг, в тот отдел его, который известен под именем продолговатого мозга. Здесь возбуждение передается клеткам так называемого блуждающего нерва, волокна которого доходят до сердца и разветвляются там. Блуждающий нерв — это нерв торможения. Следовательно, его возбуждение тормозит мышцу сердца, а сильное торможение приводит и к полной остановке ее сокращений. Вот почему растягивание околосердечной сумки изливающейся в нее кровью прекращает работу сердца. Таково наиболее верное объяснение наступления смерти при ранении сердца.
Но каковы бы ни были причины смерти, факт выздоровления оставался фактом. В 1642 году это было редчайшее явление. Но для науки и один подобный факт был весьма важен. Стало очевидным, что смерть при ранении сердца не всегда неизбежна. И в самом деле. Время от времени появлялись сведения о людях, раненных в сердце и живших длительное, время после ранения.
Перед врачами возник простой вывод: надо отыскать способы, помогающие своевременному образованию рубца.
Крупнейшие хирурги начала XIX века разработали такую систему лечения ранений сердца, при которых основными требованиями являлись покой, лед и кровопускание.
Покой нужен для того, чтобы не перегружать работой пострадавшее сердце.
Холод способствует более скорому образованию пробки из крови.
Кровопускание производят для того, чтобы ослабить сокращения сердца. Чем слабее толчки, тем меньше крови уйдет через рану и тем меньше будет опасность повредить сгустки. Если же при кровопускании у больного наступит обморок, то это даже лучше. При обмороке сердце работает совсем медленно, а эго только способствует образованию пробки и затем рубца.
Для своего времени лечение по такому способу было, конечно, шагом вперед и в известной мере достигало цели. Врачи уже не стояли у постели таких больных, беспомощно разводя руками.
Подобное лечение можно назвать выжидательным, пассивным.
Когда в 1868 году подвели итоги, то оказалось, что успех действительно имеется. Были собраны сведения о четыреста одном случае ранений сердца. Полное выздоровление наступило у сорока двух человек. Это составило десять процентов.
Подобная цифра может показаться маленькой. Но если вспомнить, что смерть раньше не щадила никого из тех, кто был ранен в сердце, то процент этот далеко не маленький. Однако то, что из каждых десяти больных выздоравливает лишь один, удовлетворить врачей, разумеется, не могло.
Выжидательный, пассивный метод лечения ран сердца не давал настоящих успехов.
Грозное препятствие
Со времени описанного нами случая на дуэли до середины XIX века прошло около трехсот лет. Появилась ли, наконец, возможность оказывать хирургическую помощь сердцу? Научились ли врачи делать операции на этом важнейшем органе?
Нет. Сердце попрежнему оставалось недоступным для рук хирурга. И не потому, что медицина того времени не интересовалась сердцем.
Дело в том, что на пути прогресса хирургии стояло то препятствие, о котором мы уже говорили: заражение ран.
Каждый врач знал, что стоит сделать любой разрез, рассечь мышцы или даже кожу, как через несколько дней рана обычно начинала гноиться, на ней появлялись серые налеты, нередко она приобретала зловещий цвет и запах гниющего мяса, предвещавшие неизбежный конец.
Сильный, выносливый человек, которому делали даже небольшую операцию, мог погибнуть в три-четыре дня.
Еще в начале XIX века в Мюнхене, например, при операциях на костях ног или рук из каждых десяти человек умирало восемь.
Если кто-нибудь получал повреждение в виде перелома кости и надо (было удалить осколки, то это было почти равносильно смертному приговору. После такой сравнительно небольшой операции как вскрытие нарыва на пальце, часто от пальца вдоль всей руки под кожей протягивалась темносиняя полоса. Затем распухало плечо. Через некоторое время становилась ясной картина гангрены, заражения крови, или, как ее тогда еще называли, «антонова огня».
Если такими последствиями грозили операции на конечностях, на руках и ногах, то трогать легкие, желудок, печень, пбчки, сердце добросовестные и осторожные хирурги не осмеливались. Вскрыть брюшную или грудную полость — это было все равно, что совершить убийство.
Рождение антисептики
В 1841 году в Медико-хирургическую академию прибыл новый хирург. Тридцатилетнего профессора перевели в Петербург из города Дерпта, где он занимал тоже кафедру хирургии. Это был Николай Иванович Пирогов.
Одно из начинаний, которое сразу же по приезде провел Пирогов, заключалось в том, что в госпитале, где он оперировал, появилось особое отделение. Сюда из всех палат клали больных, у которых после операции обнаруживались явления гангрены.
Всех тогдашних хирургов удивила такая изоляция гангренозных больных. Зачем она нужна? — пожимали плечами врачи. — Что от этого изменится? Не все ли равно, где будут лежать эти люди с воспаленными и зараженными ранами — отдельно или в палатах с другими больными?
До Пирогова никому из врачей и в голову не приходило устраивать что-либо подобное. Да и смысла они в этом никакого не видели.
А между тем это было гениальной догадкой Пирогова, результатом его размышлений и опыта. О микробах как о возбудителях болезней тогда еще не знали. Тайна послеоперационных раневых инфекций еще не была раскрыта. Но все, что делал и видел Пирогов, вело его пытливую, острую мысль к правильному решению.
С первых же своих шагов он как хирург столкнулся со страшным бичом раненых и больных — с госпитальной гангреной. Он испытывал горыкое чувство бессилия, когда замечал зловещие признаки заражения после блестяще проделанной операции.
Но почему возникают эти осложнения?
В поисках ответа на этот вопрос Пирогов проделывал колоссальнейшую работу. Он целыми днями не уходил из клиники и из госпиталя, наблюдая и изучая течение процесса осложнений, следя за ними с первого же момента начинающихся изменений. Затем он переходил в помещение, куда сносят умерших. Он вскрывал бесчисленное количество трупов.
Наконец, в лаборатории сотни животных подвергались экспериментальным операциям.
Так в этой неутомимой работе проходили годы. Упорство русского хирурга поддерживалось сознанием важности задачи.
И вот в результате титанических усилий перед ним стала вырисовываться разгадка тайны. Все факты и наблюдавшиеся явления постепенно убеждали его в том, что страшная гангрена вызывается невидимыми образованиями, живыми возбудителями.
В свете такого допущения становится понятным, почему болезнетворный процесс вначале почти незаметен, почему он неуклонно растет, проникает внутрь организма, захватывает все больше и больше места в тканях. Раз возбудитель живой, то он, следовательно, может развиваться и распространяться.
Когда в 1863 году вышел замечательный труд Пирогова «Начала общей военно-полевой хирургии», положивший основание для создания новой науки, военно-полевой хирургии, содержавший целый мир глубоких идей, направленных на избавление людей от многих страданий, в нем так прямо и говорилось о возбудителях госпитальной гангрены, что они «есть нечто органическое, что способно развиваться и распространяться».
Придя к твердому заключению о причинах заражений ран, Пирогов принялся с той же энергией искать средство для борьбы с ними. Прежде всего ему ясно было, что «миазмы», как он называл невидимый источник гангрены, могут попадать от человека с зараженной раной к человеку с чистой раной.
Значит необходимо отделять всех гангренозных больных от остальных, поступать всегда так, как он сделал в 1841 году. Изоляция обязательна.
Затем Пирогов требовал строжайшей чистоты белья, помещений, материалов при операциях и перевязках. Для самих ран он предлагал ввести их обмывание раствором хлора, хлорной водой, чтобы уничтожить «миазмы».
Таковы были поразительные для своего времени взгляды и дела Пирогова в области борьбы с раневыми инфекциями.
Великий хирург явился первым ученым, понявшим сущность послеоперационных инфекций, а также значение и роль обеззараживания, антисептики.
Дальнейшее развитие учение о защите ран от заражения, учение об антисептике получило в деятельности английского хирурга Листера.
Интересно отметить, что Листеру очень помогло улучшить и расширить практику антисептики и ввести ее для всеобщего пользования одно обстоятельство, связанное, как это ни странно, с городским хозяйством.
Заключалось это обстоятельство в следующем. В каждом городе имеются места, отведенные для вывоза туда отбросов, мусора. Теперь свалки так устраиваются, что никакого зловония они не распространяют. Раньше, однако, было иначе. Города не знали ни канализации, ни очистительных машин. Страшный смрад поднимался от гниющих нечистот. Городские власти не могли придумать, как уничтожить этот отвратительный запах. Наконец,
в 1864 году, в городе Карлейле нашли способ бороться с этим злом.
Черная густая жидкость, карболовая кислота, очень хорошо уничтожала запах гниения на свалках. Политые карболовой кислотой нечистоты через некоторое время переставали издавать смрад.
В январе 1865 года Листеру попалась статья, напечатанная в-одном научном журнале и называвшаяся «Исследования о гниении». Подписана она была малоизвестным тогда именем — Пастер.
В статье рассказывалось об опытах над гниющими веществами и о причинах гниения.
Автор доказывал, что гниение вызывается живыми мельчайшими организмами, которые так ничтожны по размерам, что без-увеличительных приборов их увидеть нельзя. Эти организмы находятся всюду: в воздухе, воде, пище, на мясе, во рту, на руках. Автор статьи называл их живыми ферментами. Если бы не было живых ферментов, утверждал он, не было бы и гниения.
Эта статья привлекла к себе внимание Листера. Ведь госпитальная гангрена, уносившая столько жизней после операций, тоже представляла собой не что иное, как разложение тканей, от которых начинает распространяться запах гниения.
В этой статье как раз и говорилось о гниении. Тогда, естественно, возникал вопрос: не является ли страшная госпитальная гангрена делом этих невидимых живых существ, живых ферментов?
К этому времени книга Пирогова «Начала общей военно-полевой хирургии» уже вышла в свет почти сразу на трех языках и вызвала большой интерес среди хирургов многих стран. Надо полагать, что с ней познакомился и такой крупный хирург, как профессор Листер, тем более, что она стала настольным руководством для военных врачей почти во всех странах.
После статьи Пастера Листеру, разумеется, было не трудно сделать заключение, что живые «миазмы» Пирогова, его «нечто органическое, способное развиваться и распространяться», есть не что иное, как живые ферменты Пастера.
Замечательное предвидение Пирогова оказалось пророческим. Но если Пирогов и Пастер правы, то, следовательно, для того, чтобы избежать гангрены, достаточно защитить раны от возбудителей гниения, от живых «миазмов», от живых ферментов.
Перед Листером стоял тот же вопрос, который представлял основную трудность и для Пирогова: как и чем уничтожить живых возбудителей.
Вот тут Листер и вспомнил город Карлейль, о котором писали газеты, и тот способ, каким городские власти боролись с запахом гниения на свалках нечистот.
Карболовая кислота — вот что уничтожало запах гниюших нечистот.
Но раз прекращался этот запах, значит, прекращалось и гниение, а прекращение гниения могло произойти только при уничтожении живых ферментов.
Логическая цепь замкнулась. Все стало ясным. Стало понятно, что при операциях надо уничтожать возбудителей разложения тканей в ранах тем же самым путем, тем же способом.
Рассуждая примерно таким образом, хирург города Эдинбурга Листер пришел к мысли использовать в борьбе с заражением ран действие этого химического вещества.
И в 1865 году в хирургическую практику было введено орошение ран во время операций раствором очищенной карболовой кислоты, а также смачивание им всего перевязочного материала.
Подготовка успеха
Так в медицине благодаря трудам Пирогова, Пастера и Листера открылась новая эра — эра антисептики.
Вскоре были найдены более совершенные, чем карболовая кислота, антисептические растворы — сулема, борная кислота, иод, марганец, риванол и другие.
Антисептика дала громадный толчок развитию хирургии. Антисептика позволила хирургам глубже проникать в рану. Теперь можно было уже думать об операциях на внутренних органах.
И, действительно, со времени введения антисептики начинается блестящее развитие оперативной хирургии.
Уже в 1879 году, впервые в истории медицины, с применением антисептики была вскрыта брюшная полость и произведена операция на желудке.
Спустя два месяца после этого была сделана еще более сложная операция внутри брюшной полости: сшиты желудок и тонкая кишка с образованием между ними отверстия — соустия. Вслед за антисептикой, т. е. уничтожением микробов, была введена асептика, т. е. система мероприятий, ставящих целью недопущение микробов к операционному полю. Асептика достигалась в основном кипячением инструментов, пропусканием через горячий пар в особых аппаратах — автоклавах — всего того, что соприкасается с раной и с руками хирурга — перевязочного материала, операционного белья, халатов.
Хирургам, вооруженным методами антисептики и асептики, постепенно стали доступны почти все области человеческого тела. Нож оператора мог проникать почти к любому органу. Хирург уже не боялся нагноений, как прежде.
Но сердце продолжало оставаться неприступным. Подходить к нему со скальпелем попрежнему не решались. Врачи были убеждены, что стоит коснуться ножом мышцы сердца, как оно тотчас же остановится.
Кроме того, ведь это была сложнейшая и опаснейшая операция, операция, в которой иногда играли роль даже не минуты, а секунды. Никто не верил, что она может быть успешной.
Сердце попрежнему оставалось, так оказать, «нехирургическим» органом. Но, понятно, так долго длиться не могло. Настоящая наука никогда не могла примириться с таким положением.
Даже до эры антисептики врачебная мысль работала над проблемой операций на сердце. Операции нельзя было делать, но изучать сердце было можно. Исследователи ставили опыты с кроликами, кошками, собаками. Началось это довольно давно. Еще примерно за полтораста лет до антисептической эры один ученый вонзил острый кусок металла в сердце кролика. Животное прожило после этого еще несколько месяцев; таким образом было доказано, что возможно жить с инородным телом в сердце.
А за пятьдесят лет до 1865 года ученые показали, что прокол сердца тонкой иглой не убивает его, не выводит из строя, даже часто не оставляет дурных последствий.
Число экспериментов все умножалось. Это была как бы подготовка к хирургической атаке сердца.
Тогда встал вопрос о способе, которым можно было бы обнажить сердце. Опыты велись, конечно, на животных.
Один довольно известный хирург очень удачно оперировал нескольких собак. Он вскрывал им грудную клетку, удалял части двух-трех ребер, закрывавших доступ к сердцу, разрезал перикардий, вытягивал слегка сердце, наносил ему рану и накладывал на нее швы.
Когда в 1882 году собрался очередной съезд хирургов, его участникам были продемонстрированы четыре собаки. Животные прыгали, лаяли, словом, вели себя как обыкновенные здоровые собаки. Но в груди каждой из них билось зашитое сердце.
Эти хирургические операции на собаках явились очень крупным событием для науки.
Дело заключалось, разумеется, не в собаках, а в сердце. Те же физиологические законы, которые управляют работой сердца собаки, управляют и работой сердца человека; поэтому эксперименты на собаках показывали дорогу и к сердцу человека.
Но на сердце собаки можно было оперировать очень смело, не считаясь даже с тем, что на одно выжившее животное приходилось несколько погибших. Поэтому опыты с собаками непрерывно продолжались. В 1896 году на Международном съезде хирургов были также показаны две собаки, спасенные благодаря наложению швов на сердце.
Но все это были только опыты на животных. Сердце человека попрежнему оставалось недоступным для хирурга.
Первый случай
Самое трудное, даже в операциях на собаках, заключалось в наложении швов. Оказалось, что обычные швы, накладываемые при любых операциях с нужным успехом, не годились для той своеобразной мышцы, которую представляет собой сердце. Проблема зашивания поврежденной стенки сердца была труднейшей из всех проблем, с которыми встречался хирург при ранении сердца.
В 1886 году произошло крупнейшее событие, связанное с этой проблемой. В медицинской печати была опубликована работа русского врача Филиппова. В ней содержались ценнейшие для хирурга указания. И, самое главное, на основании богатого экспериментального материала предлагался такой способ зашивания ран сердца, который, если не совсем, то во многом впервые удачно разрешал проблему наложения швов на сердечную мышцу.
Этой работой Филиппова хирургия сердца сделала большой шаг вперед и уже вплотную подошла к возможности полного успеха при операциях на сердце.
Поэтому неудивительным, хотя чрезвычайно волнующим явился тот доклад, который был сделан в 1897 году доктором Реном на Международном съезде хирургов.
На этом съезде общее внимание привлекал человек среднего роста, скромно сидевший в стороне от президиума и с любопытством смотревший на всех. Его, видимо, немного смущало то, что он попал на такое многолюдное и торжественное собрание.
Участники съезда смотрели на него с большим интересом, так как среди них уже ходили слухи о необычайном случае, происшедшем с этим человеком.
В это время на кафедре стоял седовласый доктор Рен и.рдс-сказывал о том, как был доставлен к нему в больницу почти без признаков жизни один больной, раненный в грудь. Рана была нанесена в сердце, человек умирал. Вопрос о его жизни решался секундами.
Тогда Рен, призвав на помощь весь свой хирургический опыт, решил сделать операцию. Он знал обо всех экспериментах на собаках, об исследованиях на кроликах русского хирурга Саббанеева и о работах других ученых в этой области.
Рен был знаком со всей медицинской литературой, касающейся сердца, попыток оперировать сердце, способов наложения швов на него.
Но знал он не только об этом.
Ему было известно об одном хирурге, Фарине, который в марте 1896 года рискнул добраться до раненого сердца человека, чтобы остановить неудержимое кровотечение. Хирург зашил на сердце рану, т. е. сделал, по медицинской терминологии, операцию кар-диоррафии. Но это не спасло пострадавшего. Вскоре после операции он умер от осложнений.
Во втором случае, у другого хирурга, Каплене, пациент в том же 1896 году получил удар в сердце острым ножом. Смерть казалась неминуемой, шансов на то, что пациент останется в живых, не было никаких. Именно потому, что шансов не было, хирург пошел на крайние меры. Он рассек грудную клетку в третьем межреберном промежутке и увидел бьющееся красно-фиолетовое кругловатое сердце и в стенке его узкое отверстие, откуда лилась кровь. На это узкое отверстие хирург наложил швы. Но через час пациент умер.
Все это Рен хорошо знал. Но выбирать было некогда, и он тоже рискнул сделать операцию. Рана оказалась в правом желудочке сердца, прыгавшего под рукой, как живой комок, среди хлюпающей крови.
Эта операция была сделана 9 сентября 1896 года.
А в 1897 году участники съезда слушали, не пропуская ни одного слова, рассказ о том, что произошло год назад.
На собрании присутствовало несколько сот видных хирургов, приехавших из разных стран. И во всем зале, кроме Рена, не было ни одного такого врача, который мог бы оказать, что он держал в руках бьющееся, живое человеческое сердце.
Тем более во всем зале не было ни одного врача, опять-таки кроме Рена, который мог бы сказать, что он сделал операцию на сердце, и человек с этим сердцем прожил бы более года.
Человек, скромно сидевший в стороне от всех, подле самой кафедры, по знаку председателя съезда поднялся с места, стал возле Рена и неловко, заметно смущаясь, поклонился собранию. Затем этот человек снял с себя пиджак и сорочку.
Все увидели длинный рубец и необычную впадину в левой половине груди, там, где находятся ребра, прикрывающие сердце. Впадина опускалась и поднималась, она как бы пульсировала. Ребер в этом месте не было. Их удалила рука хирурга, открывавшего себе доступ внутрь грудной клеши. Сердце билось непосредственно под мышцами.
Человек, приглашенный на съезд, был пациент доктора Рена.
Большие успехи
День 9 сентября 1896 года явился поворотным этапом в истории лечения ран сердца. Это был день знаменательный для хирургии сердца: сердце человека перестало быть недоступным, «нехирургическим» органом.
Все предшествовавшие многовековые попытки придти активно на помощь раненому сердцу наконец завершились успехом. Хирурги всего мира узнали, что и сердце можно оперировать с хорошими результатами.
В 1903 году Россия вошла в число стран, где были выполнены удачные кардиоррафии. Этим она была обязана хирургу Шаховскому.
Потом уже стали повсюду насчитываться каждый год успешные операции — одна, две, четыре и больше.
Однако проблема далеко не была решена. За успехами сразу же последовали тяжелые неудачи.
Обращение с сердцем попрежнему требовало величайшей осторожности, огромного умения, большого опыта и особенно хладнокровия.
Это понятно. Ведь при необходимости операции раздумывать долго не приходится, некогда заглядывать в руководства, устраивать консультации, подробно обследовать и разбираться. В этом случае дорога каждая секунда в прямом смысле этого слова, иначе платой за опоздание будет жизнь оперируемого.
Нельзя медлить, но нельзя и торопиться. Нужно быть хладнокровным, не теряться. Ведь операция над сердцем в огромном большинстве случаев для хирурга- почти всегда новая операция, ранее им не производившаяся. В то же время она сразу же должна быть выполнена хорошо.
Большинство хирургов, оперировавших на сердце, в течение всей своей медицинской деятельности сталкивалось с этой операцией один — два раза, редко больше.
Действительный член Академии медицинских наук СССР Герой Социалистического труда Ю. Ю. Джанелидзе, выдающийся хирург, за всю свою богатую врачебную практику произвел всего десять операций кардиоррафии, а других операций он сделал, вероятно, свыше десяти тысяч. Самое большое число операций на сердце, которое когда-либо выпало на долю одного хирурга в условиях мирного времени, это девятнадцать операций хирурга Элькина.
Во время войны, разумеется, число ранений сердца может быть сравнительно большим, но все же оно будет значительно меньше, чем число ранений других органов.
Так, на Ленинградском фронте за время Великой Отечественной войны главным хирургом фронтового эвакопункта Колесниковым было отмечено в военных госпиталях всего около ста случаев ранения сердца. Значит, и на долю каждого военного хирурга приходились только единичные операции.
Тем не менее операция кардиоррафии стала распространяться. В разных странах ее делали и делают.
В нашей стране за сорок четыре года, то есть с 1897 года по 1941 год, насчитывалось 319 кардиоррафий, т. е. в среднем по семь на год.
В общем можно сказать, что кардиоррафии вош1та в хирургический обиход. Но она остается настолько серьезной операцией, что даже опытный крупный хирург не знает, чем она окончится, несмотря даже на то, что теперь оператору пришел на помощь такой незаменимый союзник, как рентгеновские лучи.
Условия удачи
Почему операции на сердце так сложны и успех при них сравнительно редок? Потому, что условия операции очень тяжелы. Ведь в сердце входят и из него выходят большие артерии и вены, от сердца отходит главный кровепровод — аорта. И все эти важные кровеносные сосуды расположены на пространстве величиной, примерно, с кулак.
Сердце все время бьется, сокращается. Если оно ранено, из раны бьет кровь и так сильно заливает поле операции, что ничего не видно, то можно нечаянно задеть скальпелем не то, что нужно. И если задета крупная артерия или вена, то операция может кончиться печально.
Тот же Рен, который первый сумел благополучно сделать кар-диоррафию, при второй операции пережил тяжелые минуты. Он сам пишет, что это были «минуты, которые трудно забыть».
Что у него произошло? Рен обнажил сердце больного, но не увидел раны. Кровь неудержимо заливала поле операции, и ничего нельзя было сделать. Наконец Рен нащупал рану и сдавил ее пальцами, но это тоже не остановило кровотечения. Тогда он наложил шов почти вслепую. Кровь продолжала хлестать. Ассистент Рена тоже закрыл пальцем рану, но и это не помогло. Больной погиб.
Не надо забывать, также, что вблизи сердца расположены плевра, легкие, диафрагма. При операции на сердце могут пострадать и они, если глазу хирурга не. будет доступно все операционное поле.
Значит, операция должна быть выполнена быстро и при таких условиях, чтоб все было видно, чтобы ничего не упустить и ничего не повредить. Вот почему кардиоррафия столь сложна и трудна.
Чем хирург может предохранить себя от оплошности, от неудачи? Главным образом — высокой техникой операции.
Выработать хорошую технику операции — это значит найти способ, как лучше всего вскрыть грудную клетку, определить, какую часть ребра или ребер следует отсечь, как извлечь сердце, как его держать, как удалить скопившуюся кровь, насколько глубоко накладывать швы. Техника кардиоррафии играет огромную роль. Теперь уже имеются принятые почти всеми хирургами основные способы этой операции.
Можно, например, сразу вырезать в грудной стенке в районе сердца с трех сторон окно и отвернуть получившийся лоскут, состоящий из кожи, мышц и части ребер, и тогда сердце будет прямо перед глазами хирурга. Оно будет обнажено. Остается только найти отверстие раны.
Если сразу отверстие не удается увидеть, можно слепка вытянуть сердце, конечно очень осторожно. Тогда оно станет доступным для более детального осмотра. После этого накладываются швы. Кровотечение прекращается.
Остается удалить излившуюся кровь, затем закрыть окно в грудной клетке, водворив лоскут кожи на свое место, и все. Главное сделано. Это один из хороших способов, он называется лоскутным.
Можно вести операцию технически иначе. Прежде всего сделать разрез в промежутке между третьим и четвертым или четвертым и пятым ребрами, обычно в том промежутке, куда нанесен удар.
Если раны сердца не видно, то разрез грудной стенки расширяют. При расширении вниз удаляется часть четвертого или пятого ребра. При расширении вверх удаляется часть четвертого или третьего ребра.
Иногда приходится удалять не только части третьего, четвертого, но даже и часть пятого ребра. Но совершается все это постепенно. Покончив с одним ребром, наблюдают, не показалась ли рана сердца. Если не показалась, тогда принимаются за следующее ребро.
Этот способ называется прогрессивным расширением раневого канала.
Есть и другие способы. Но сколько бы их ни было, как бы они ни назывались, у них всегда одна задача: дать возможность хирургу поскорее обнажить сердце, найти рану и быстро зашить ее. Каким способом воспользоваться, — это дело хирурга. Способ, пригодный в одном случае, может оказаться непригодным в другом.
Все зависит от расположения и характера раны, от количества крови, от целости соседних органов, от срока, прошедшего с момента ранения, и от многих других обстоятельств.
Операция сердца — это всегда очень срочная операция. Поэтому было бы очень важно найти такое указание, которое помогало бы выбирать способ кардиоррафии.
Советский ученый Юстин Юлианович Джанелидзе, о котором мы уже говорили, дал такое указание. Оно родилось в результате большого личного опыта хирурга и тщательного изучения опыта других ученых.
Это указание заключается в следующем. Если нет сомнений, что ранено именно сердце, то надо пользоваться лоскутным методом, который сразу открывает широкий доступ к сердцу. Здесь нельзя терять на поиски раны ни мгновения. Если точно не известно, какой орган пострадал — сердце или легкое, т. е. когда положение представляется не таким угрожающим, то лучше применить метод постепенного расширения раневого канала.
И все. Кажется немного. Но это указание явилось настоящим маяком для хирургов при выборе способа кардиоррафии. Оно представляется очень простым и несложным, но именно в этой простоте и несложности заключается большой практический смысл. Если вспомнить, что при кардиоррафии время является важнейшим, иногда решающим фактором, станет ясно, что предложение советского ученого Джанелидзе спасло и еще спасет не одну человеческую жизнь.
И все же редко операции проходят гладко и спокойно, как по плану. Почти всегда хирурга подстерегают неожиданности и неприятности: то кровь не унимается, то скальпель пр ойдет в плевру или легкое, то больной перестанет дышать или сердце вдруг совсем останавливается.
Надо тут же мгновенно принимать меры вплоть до искусственного дыхания, до массажа сердца, и обязательно — переливание крови. Теперь, после работ советских ученых, нет сомнений, что в переливании крови хирургия имеет замечательного помощника при спасении человека, раненного в сердце. Но и до широкого применения переливания получались разительные итоги.
За пятилетие с 1901 по 1905 год из числа раненных в сердце выздоровело 30,5%, умерло — 69,5%. А за пятилетие с 1911 по 1915 год выздоровело 56,5%, умерло — 43,5%.
Другими словами, во второе пятилетие смертность уменьшилась почти в два раза.
Это очень большой прогресс.
Выход из тупика
Такой рост числа выздоровлений объясняется закономерными причинами. Они явились результатом блестящего развития науки и в частности, тех улучшений, которые были введены в технику кардиоррафии.
Русские хирурги внесли свою долю в этот прогресс и долю очень почетную. В нашей стране было сделано столько операций, что они составляют почти половину всех операций, которые были произведены в остальных странах мира, вместе взятых. Но главное заключается в том, что работы наших ученых сыграли ведущую роль в усовершенствовании кардиоррафии.
Что самое важное для хирурга, когда перед ним на операционном столе лежит человек, раненный в сердце? Открыть доступ к сердцу? Обнажить его? Найти рану, что иногда тоже очень нелегко? Нет, самое серьезное и решающее — наложить швы, зашить сердце.
Дело в том, что мышца сердца не находится в покое. Она, как уже указывалось, периодически с силою сокращается; поэтому швы часто рвут мышцы. Швы, говоря хирургическим языком, прорезаются. Таким образом, рана остается незашитой, кровотечение не останавливается, а это грозит смертью. Перед хирургами стояла проблема — отыскать такой способ зашивания раны, чтобы мышца сердца не разрывалась. Значит, надо было чем-то укреплять ее. Только тогда можно было рассчитывать на большой шаг вперед в разработке техники кардиоррафии. Это оказалось очень сложной задачей.
В 1898 году один крупный хирург стал зашивать рану сердца вместе с прилегающей частью околосердечной сумки. Вслед за ним так же поступали и еще некоторые врачи. Сначала идея казалась удачной: околосердечная сумка тут же под рукой, к тому же ее ткань не чуждая для сердечной мышцы. Все обстояло как будто хорошо. Но вскоре наступило разочарование. Оказалось,
что часто этот прием не предохраняет от смертельного исхода. Тогда прибегли к другому способу. В 1912 году на съезде хирургов было сообщено, что однажды в больницу доставили человека, раненного ножом в сердце. Накладываемые при операции швы прорезались. Кровь неудержимо била из раны. Больной погибал. Хирург решил вырезать кусочек грудинной мышцы и закрыть им рану. После этого швы, наложенные так, что они проходили и сквозь грудинную мышцу и сквозь сердечную мышцу, уже не прорезались. Кровотечение тут же прекратилось. Однако через пять дней оперированный умер.
Такие же печальные исходы наблюдались и у других хирургов при пересадке мышц на сердце. Кровотечение останавливалось. Но пересаженные кусочки омертвевали и вызывали перикардит, т. е. воспаление околосердечной сумки. Это было опасным осложнением. Ведь надо учесть, что перикардит протекал не при нормальном, здоровом сердце, а при раненном, пострадавшем, с пониженной устойчивостью, что разумеется ухудшало течение болезни. Кроме того, омертвевший кусочек мышцы становился прекрасной средой для болезнетворных микробов.
От пересадки кусочков мышц пришлось отказаться или применять ее при самых крайних обстоятельствах.
Казалось, проблема зашла в тупик. Разрешить ее выпало на долю русских хирургов.
Джанелидзе, во-первых, обратил внимание на фасции. Фасции — это плотные и тонкие перепонки, облегающие, как чехлом каждую мышцу. Именно фасция переходит в прочное сухожилие, которым мышца прикрепляется к костям.
Фасция оказалась материалом, очень удобным для подкрепления мышцы раненого сердца. Джанелидзе вырезал пластинку фасции у так называемой большой грудинной мышцы, наиболее подходящей для целей кардиоррафии, накладывал ее поверх раны и прошивал вместе с мышцей сердца.
Получалось, примерно так, как у портного, накладывающего заплату на рвущуюся непрочную материю.
И, действительно, эта крепкая и в то же время тонкая ткань выполняла свое назначение. Швы не прорезались. Кровотечение почти во всех случаях останавливалось. Что же касается инфекций, то фасция является плохой почвой для размножения микробов и возникновения гнойных воспалений.
Этим, учитывая, конечно, и высокое профессиональное мастерство, можно, вероятно, объяснить, что четыре кардиоррафии, которые сделал Джанелидзе еще в 1911, 1912 и 1913 годах, окончились выздоровлением пострадавших.
Во-вторых, оказалось, что в случаях, если фасция не подходит, можно пересаживать на сердце для той же цели жир. Кусочек жировой ткани, пришитый поверх раны, очень скоро делал свое дело: кровь не выделялась, швы не прорезались. На месте жирового кусочка потом развивалась соединительная ткань, которая продолжала участвовать в деятельности сердца. Легкость получения жировой ткани и ее свойство как бы прилипать к ране явились факторами, способствующими решению поставленной задачи.
Первым хирургом, удачно использовавшим эти свойства жира при кардиоррафии в 1914 году, был русский врач Недохлебов. Он знал, что до него доктор Портягин опубликовал сообщение о жировой клетчатке как о кровоостанавливающем средстве. Ему также было известно об опытах Поленова и Лодыгина в 1913 году над действием пересадки жировой ткани при кровотечениях из печени, селезенки и почек. Опыты эти сопровождались успехом.
Применение жира и при ранениях сердца принесло положительный результат. За Недохлебовым по тому же пути пошли доктор Пикин и другие хирурги. Постепенно новый способ остановки кровотечения получил распространение и за рубежом. Применение жировой ткани и в известной мере для ряда случаев — фасции повысило число выздоровлений после операций.
Русские исследователи удачно решили проблему борьбы с прорезыванием швов.
Недоступное стало доступным
В доантисептическую эру медицины ни один раненный в сердце не оперировался.
Что же, все они погибли? Нет. Как мы уже говорили, сорок два человека из четырехсот, т. е. десять процентов, выжили.
Значит, можно выздороветь и без операции. Да, иногда можно.
В 1941 году произвели подсчет, сколько же всего людей было оперировано с 1896 года. Таких пациентов набралось ровно 1 000. Из них выздоровело 498 человек, почти 50 процентов.
Это значит, что результаты оперативного лечения в пять раз превосходят результаты выжидательного лечения, дававшего благоприятный исход только в десяти случаях из ста.
Стало ясно, что при ранениях сердца операция не заменима никаким способом лечения. Каждый пострадавший должен быть оперирован, даже если положение является безнадежным.
Совершенно. исключительный случай наблюдался у хирурга Юшковой. Она сделала редчайшую операцию, имеющую себе мало равных, пожалуй, за весь период существования кардиоррафии.
Девятнадцатилетняя женщина, рассматривая револьвер, неосторожно нажала курок. Раздался выстрел. Пуля прошла через сердце. По некоторым признакам было установлено, что она проникла в брюшную полость. Спустя два часа пострадавшая лежала на операционном столе.
Хирург Юшкова в стерильном халате, в белом колпаке на голове натягивала резиновые перчатки и смотрела на раненую, уже получавшую наркоз. Пациентка находилась в безнадежном состоянии.
Юшкова взяла нож и сделала первый разрез. Операция началась. Левый желудочек сердца был прострелен, и Юшкова зашила его. Но при каждом вдохе и выдохе в грудной клетке что-то хлюпало. Оказалось, что была прорвана плевра, которую Юшкова тоже зашила. После этого вскрыта была брюшная полость, куда ушла пуля. В грудобрюшной преграде — диафрагме действительно оказалось отверстие. Оно тоже было зашито.
Но тут же обнаружилось, что задета также печень. Юшкова наложила швы и на печень.
Расположенная ниже печени толстая кишка, так называемая поперечная ободочная кишка, тоже была пробита. Юшкова зашила рану и в толстой кишке. Потом она нашла и извлекла пулю.
Хотя положение было безнадежным, Юшкова упорно устраняла один за другим обнаруживающиеся тяжелые повреждения. Она не хотела уступить смерти ни одного, даже самого крошечного шанса.
Через месяц после операции молодая женщина вернулась домой. Она была вне опасности. Доктор Юшкова спасла ее.
Чему учит этот пример? Тому, что если есть показания для операции, то оперировать надо всегда. Даже если больной в очень тяжелом состоянии, без пульса, даже если агонизирует. Пока в человеке еще теплится жизнь надо идти на все ради ее спасения. Так хирурги и поступают.
Вот чем объясняется цифра 50% выздоровлений.
Но дело не только в цифре. Дело еще и в том, какого рода эти выздоровления. Возвращается ли раненый к своему нормальному состоянию? Восстанавливается ли его трудоспособность? Не превращается ли он в инвалида?
Что со всеми оперированными происходило дальше, установить трудно. Трудно разыскать каждого через пять-десять лет после ранения и узнать, как* он себя чувствует, но о многих сведения имеются.
Сапожник, оперированный Джанелидзе, продолжал заниматься своим ремеслом и жил как и до ранения.
Пациент хирурга Магулы был возчиком. И через десять лет после операции он таскал тяжести, как ни в чем не бывало.
Некоторые больные после операции даже были призваны на военную службу.
Пациент одного хирурга — грузчик — чувствовал давление в области сердца лишь тогда, когда поднимал груз весом свыше 50 килограммов. Известен и такой случай: оперированному больному, когда он выписался из больницы, пришлось возвращаться домой пешком. Путь продолжался 17 дней. В результате такого длительного пребывания на свежем воздухе больной неплохо себя чувствовал, окреп.
Джанелидзе сделал одному раненому кардиоррафию. После этого оперированный поправился, выписался, стал заниматься своими делами. С раной сердца было покончено, но он часто болел. Уже после операции он болел сифилисом, цынгой, затем сыпным и возвратными тифами, воспалением легких, плевритом. Сверх всего этого он еще получил тяжелую форму гриппа. Все это на протяжении двенадцати лет. И его зашитое сердце все вынесло.
Профессор Греков в 1916 году оперировал раненного в сердце. Спустя шесть лет этот больной, во время отсутствия профессора Грекова, пришел показаться другому хирургу. Врач увидел человека в превосходном состоянии, с нормальным пульсом, нормальными сердечными тонами. Из обследования выяснилось, что бывший пациент Грекова проходит, почти не уставая, расстояние в 50 километров, по нескольку раз в день поднимается на седьмой этаж, не испытывая при этом никаких затруднений в дыхании. Если бы не рубец на левой стороне груди, слегка втягивавшийся при каждом сокращении сердца, хирург никогда не подумал бы, что перед ним стоит человек, сердце которого подвергалось операции.
Такой исход наблюдается не всегда, но довольно часто. По сравнению с прошлым, даже недавним прошлым, это является огромным достижением медицины.
Высокое развитие хирургии и замечательное мастерство хирургов нашего времени обеспечивают этому достижению дальнейшие успехи. Подчеркиваем, что особенно разительны достижения кардиоррафии в Советском Союзе. До Великой Октябрьской социалистической революции в России из 109 операций 73, т. е. подавляющее большинство, приходилось на Петербург. Даже в Москве тогда было сделано всего 4 кардиоррафии. Это значит, что раненный в сердце где-нибудь в Иркутске, Воронеже или Ташкенте в те времена не мог получить на месте оперативной помощи. Теперь же развитие хирургической науки в нашей стране позволяет успешно производить кардиоррафию, например, в таких городах, как Чарджоу, Чимкент, Якуток, т. е. в местах, которые до революции назывались «глухими углами».
Сердце, остававшееся неприступным в течение многих веков, было, наконец, «взято» хирургами.
Оно полностью стало «хирургическим» органом.
Еще один шаг
Итак, в результате успехов хирургии можно было подойти к сердцу, зашить его рану и остановить кровотечение.
В основном хирургия сердца такими вмешательствами и ограничивалась. Это было, конечно, очень много и знаменовало собой огромный прогресс науки.
Однако, нередко бывали случаи, когда при ранениях сердца подобное вмешательство оказывалось недостаточным. Мы говорим о таких случаях, когда в сердце попадали и застревали в нем осколки разорвавшихся снарядов или пули.
Разумеется, это усложняет операцию. Надо уже не только остановить кровотечение и зашить рану, но иайти инородное тело, извлечь его, что иногда выполнить не так легко, а порой невозможно. Чтобы добиться удачи, нередко приходится разрезать мышечную стенку, т. е. наносить сердцу добавочную рану. Получается еще более серьезная, еще более ответственная операция.
Совершенно естественно, что хирурги, даже самые опытные и смелые, при таких условиях не решались на операцию. И когда случаи зашивания раненого сердца насчитывались уже десятками в разных странах, нахождение в нем инородного тела делало случай не подлежащим операции.
Так выработалось убеждение в том, что с пулей или осколком в сердце человек может хотя бы в виде исключения остаться в живых, но извлекать их, т. е. дополнительно разрезать сердечную мышцу, для больного — верная гибель.
Такой точки зрения придерживались очень долго.
Только в 1905 году этому воззрению был нанесен сокрушительный удар одним русским хирургом, работавшим в клинике университета в городе Юрьеве. Произошло это следующим образом.
В юрьевскую хирургическую клинику доставили молодую женщину в тяжелом состоянии. За двадцать минут до этого револьверным выстрелом она была ранена в грудь.
Хирург осмотрел пострадавшую и увидел на передней поверхности грудной клетки маленькую круглую кровоточащую рану — входное отверстие пули; выходного отверстия не было. По этому и по другим признакам совершенно точно можно было сказать, что пуля должна находиться в сердце или возле него. Это «или» имело главное значение. Весь шанс спасения, как в те времена полагали, заключался именно в том, что пуля окажется не в стенке и не в одной из полостей сердца, а вне сердца.
Операция началась после осмотра врача. Хирург добрался до сердца и обнажил его. На передней стенке еще работавшего, сокращавшегося сердца, в области правого желудочка, находилась рана. Несколькими крепкими швами ее удалось прочно зашить. И вот при наложении последних швов палец хирурга нащупал в мышце сердца что-то твердое. Это была пуля, которая, пробив переднюю стенку и пролетев сквозь полость желудочка, вонзилась в его заднюю стенку.
Это было то, чего опасался хирург. Чтобы пройти к пуле и извлечь ее, не было никакого другого способа, как вскрыть стенку желудочка. Но это значило сделать еще одну рану в бьющейся мышце сердца, заливавшей кровью поле операции. Кроме того, производить все манипуляции на задней, скрытой от глаз стенке желудочка — труднейшая задача, представлявшаяся тогда почти невозможной. В добавление ко всему, пуля лежала совсем рядом с задней венечной артерией, питавшей сердце. Требовалась величайшая осторожность, чтобы не задеть, не поранить артерию.
Все это, вместе взятое, резко ухудшило положение. Жизнь больной как бы висела на ниточке, с каждым мгновением становившейся все тоньше.
Однако колебание хирурга длилось всего одну-две секунды. Операция продолжалась. Хирург приподнял кверху сердце, насколько это было возможно, захватил двумя так называемыми фиксирующими швами мышцу сердца и надрезал в этом месте заднюю стенку желудочка. Разрез шел по направлению к пуле, открывая тем самым дорогу для доступа к ней.
Вскоре в операционной послышался стук металла о стекло. Это упала в чашку извлеченная пуля. Операция окончилась благополучно. Нить жизни молодой женщины не порвалась.
Так русский хирург Мантейфель в городе Юрьеве 12 сентября 1905 года произвел первое в мире удаление из сердца инородного тела.
Надо, однако, оказать, что удача этой операции едва не была сорвана. Во время извлечения пули внезапно возникла новая опасность. Через раневое отверстие пуля едва не ускользнула в полость желудочка сердца.
Это, разумеется, усложнило бы и без того нелегкую операцию. Искать пулю в полости сердца, в мощных потоках вливающейся и выливающейся крови, при работе внутриссрдечных клапанов — это сразу делало задачу безнадежной. Никто из врачей того времени не представлял себе доступной такую цель.
Только в дальнейшем оказалось, что искусство хирургии может и здесь добиться успеха. В медицинской литературе стали появляться описания случаев извлечения инородных тел из полостей предсердий и желудочков.
Операция подобного рода также вошла в арсенал хирургии.
Поправка в операции
Во время войны Советского Союза с гитлеровской Германией, когда в сражениях участвовали миллионные армии, ранения сердца с попаданием в него осколков и пуль наблюдались сравнительно часто. Через специализированные госпитали одного только Ленинградского фронта прошло свыше ста таких раненых и наши хирурги сумели оказать всем раненым необходимую помощь.
При этом советские врачи обнаружили весьма любопытное явление. У некоторых бойцов, раненных в сердце, при наличии осколков, застрявших в стенке сердца или даже проникших в полость сердца, общее состояние здоровья не внушало особого опасения. Пострадавшие жили, месяцами не жалуясь на недомогания, ходили, выполняли кос-какую работу, помогали своим соседям по палате, хотя им был предписан покой, — и все это без заметных неприятностей. Оказалось, что сердце, даже раненое, обладает гораздо большим запасом выносливости, чем предпо-
лагали хирурги. Некоторые люди с осколками и пулями в сердце могут жить годами без осложнений. О том, что способно выдержать сердце, рассказывает история ранения одного бойца.
Осколок вражеской мины пробил насквозь грудь пулеметчика. При этом задета была плевра — ткань, окружающая оба легких. У раненого развился плеврит — довольно серьезное, тем более в данном случае, заболевание. И все же, когда через две недели пулеметчик был доставлен в специализированный госпиталь, его положение было удовлетворительным. Только тоны сердца были глуховатыми, но это не внушало особых опасений. Поскольку ранение было сквозным, то ни о каком осколке в сердце не могло быть и речи. Мысль о поисках осколка никому не приходила в голову. И сам раненый чувствовал себя неплохо.
Но так как у больного иногда появлялись боли в области сердца, то его решили подвергнуть просвечиванию лучами Рентгена. К общему удивлению, обнаружилось, что в стенке сердца сидит кусочек металла.
Как он туда попал? Ведь рана была сквозная.
Загадка объяснялась просто. Это была пуля, попавшая в сердце еще раньше осколка. Годом ранее пулеметчик был ранен в грудь. Свыше двенадцати месяцев пуля сидела в сердце, но об этом никто не знал. Пуля сидела так, что ее трудно было обнаружить обычными методами исследования. А раненому она нисколько не мешала. Об этом можно судить хотя бы по тому, что пулеметчика из полевого госпиталя выписали в часть, где он переносил все тяготы боевой обстановки, и эта нагрузка не отражалась заметно на сердце.
Два с половиной месяца наблюдали теперь врачи необычайного больного. Так как боли в области сердца продолжались, решено было извлечь инородное тело. Приступили к операции. Обнажили сердце. Однако пуля вонзилась в толщу мышцы настолько глубоко, что удалить ее оттуда было рискованно из-за опасности сильного кровотечения. Операция вообще оказалась трудной и сильно затянулась ввиду наличия массы грубых и толстых спаек, а также изменений в мышце сердца. Продолжая операцию, можно было опасаться смертельного исхода. Операцию прекратили, пулю оставили, разрезы зашили.
И что же? Пулеметчик поправился. Его выписали. Он уехал в удовлетворительном состоянии. Сведения, время от времени поступавшие от него, были вполне удовлетворительного характера.
Такая выносливость сердца поразительна.
Наши хирурги столкнулись еще с одним удивительным обстоятельством. Оказалось, что для человека, раненного в сердце, бывает иногда полезно, если от операции воздерживаются. Здесь, как и вообще в хирургии, подтверждается старое правило, чго умение хирурга нередко заключается не только в том, чтобы сделать операцию, но и в том, чтобы, не сделав ее, исцелить больного.
Высокий уровень развития хирургии сердца в настоящее время сказывается в том, что если операцию следует делать, то ее делают очень хорошо и быстро, все с большими и большими шансами на успех, благодаря непрерывно улучшающейся технике и введению в медицину новых замечательных противоинфекцион-ных средств, таких, например, как пенициллин. Но еще большим прогрессом является, пожалуй, то, что теперь знают, когда надо операцию производить немедленно, а когда следует подождать.
Советские хирурги внесли в эту сложную и трудную область свой огромный опыт и научились избегать ошибок. Их работы составляют золотой фонд хирургии сердца.
В госпиталях Ленинградского фронта во время войны из ста раненых, у которых были обнаружены инородные тела в самом; сердце или около него, подверглось операции только сорок. Операции прошли благополучно. Остальные шестьдесят продолжали жить с кусочками металла в мышце сердца и в околосердечной сумке. Их решили не оперировать ввиду возможности осложнений.
Значит, пока нет опасных явлений, трогать сердца не следует.
И все же бывает так, что пулю надо извлечь, хотя бы она находилась не в сердце, а возле него, и даже в том случае, когда раненый чувствовал себя неплохо. Показаний* к операции как-будто нет, но операцию производят. Дело в том, что если пуля или осколок застряли вблизи крупных артерий или вен, например, у устья аорты или полых вен, — самых больших кровеносных сосудов, то лучше поскореее убрать оттуда инородное тело. Крутой поворот, неловкое движение, резкое усилие могут сдвинуть кусочек металла с места. При этом нетрудно прорвать стенку сосуда. Тогда неизбежно внутреннее кровотечение, чрезвычайно опасное. Путем ряда наблюдений было установлено, что надолго откладывать операцию в таких случаях недопустимо.
Это, однако, не меняет основного положения. Оперировать сердце следует не при всяком его ранении и не при всяком попадании в него пули. Оказалось, что завоевать сердце хирургически — не всегда значит оперировать его. Нередко это означает, что его совсем не надо трогать.
Так советская хирургия внесла свою поправку в показания для применения кардиоррафии.
Новые позиции
Существует болезнь, носящая латинское название, — ангина пекторис; ее называют по-русски грудной жабой. Эго тяжелое заболевание, если оно запущено. Оно нередко кончается смертью.
В чем его сущность? Эта болезнь является результатом сужения кровеносных сосудов, питающих мышцу сердца и называющихся коронарными, или венечными, сосудами. Она чаще всего бывает при артериосклерозе, когда в стенках сосудов накапли-
ваются отложения, которые уменьшают просвет сосудов и препятствуют тем самым нормальному прохождению крови. Непрерывно, день и ночь, работающее сердце нуждается в непрерывном и достаточно полноценном снабжении питательными веществами. При склерозе коронарных сосудов в мышцу сердца поступает мало крови, а следовательно, и мало продуктов питания. Тогда для сердца становится непосильной его работа и в нем наступают болезненные изменения. Развивается грудная жаба.
Грудную жабу лечат разными способами, в зависимости от степени изменений как в кровеносных сосудах, так и в самой мышце сердца. Для каждого больного одни способы более действенны, другие менее. Но когда болезнь уже зашла далеко, то все обычные методы дают только временный успех.
Между тем все дело в том, чтобы улучшить подвоз питательных веществ к сердцу, улучшить кровоснабжение его мышцы.
Лечат больных грудной жабой терапевты, т. е. специалисты по внутренним болезням.
В состоянии ли они применить такой способ лечения грудной жабы, при котором полностью восстановилось бы кровообращение самого сердца? Этого терапевты пока сделать не могут.
Следовательно, вопрос о радикальном лечении этой болезни нужно ставить инрче.
Если коронарные сосуды стали, вследствие сужения, непригодными для нормального снабжения сердца питательными веществами, то нельзя ли их заменить пригодными кровеносными сосудами, через которые кровь будет поступать в достаточном количестве.
Другими словами, не может ли хирург помочь там, где оказался бессильным терапевт?
Прогресс в медицине вооружил современную хирургию двумя могучими средствами для борьбы с болезнями: переливанием крови и пенициллином. Как одно, так другое средство предоставляется хирургам в неограниченном количестве. Это позволяет врачам, во-первых, не опасаться даже самых сильных кровотечений во время операций и, во-вторых, ие бояться инфекций.
Следовательно, хирург наших дней может рискнуть на такую операцию: вскрыть грудную клетку, обнажить сердце, разрезать околосердечную сумку, извлечь из нее сердце и подшить к нему кусок ткани, не отсеченной от питающих его кровеносных сосудов. Потом, разумеется, следует поместить сердце опять на прежнее место, затянуть швами рану перикардия, закрыть грудную клетку.
Что в результате получится? Кровеносные сосуды подшитого куска ткани прорастут в мышцу сердца и будут также участвовать в снабжении сердца кровью. Цель будет достигнута. Ткань для подшивки надо, разумеется, брать такую, которая расположена недалеко от сердца. Это — или грудинная мышца или так называемый сальник из брюшной полости, подтянутый к сердцу через произведенное в диафрагме отверстие.
Подобная мысль ставит перед хирургами смелую задачу и хирурги, конечно наиболее опытные, стремятся ее осуществить.
Колесников И. С., профессор Военно-медицинской академии имени Кирова, оперировал больного, получившего огнестрельное ранение грудной клетки в 1944 году. Осколок застрял в мышце сердца. Спустя некоторое время оказалось, что между перикардом и самим сердцем образовались сращения, которые нарушили работу сердца. В результате ухудшилось кровообращение в стенке сердца. Питание сердечной мышцы понизилось. Больной чувствовал себя очень плохо. Слабость одолевала его, он ходил согнувшись.
Специальнее электрокардиографическое исследование показало, что питание мышцы сердца действительно уменьшилось.
В январе 1947 года Колесников произвел больному операцию. Осколок удалось извлечь, хотя его окружали рубцы и спайки. Но хирург этим не удовлетворился. Он вырезал рубцовоутолщенный кусок околосердечной сумки и вместо него подшил сальник.
Уже через два месяца состояние больного совершенно изменилось. Боли в сердце исчезли. Затруднение дыхания прекратилось. Недавний инвалид поступил работать агентом снабжения в универмаге, а такие обязанности, как известно, требуют большой подвижности.
Электрокардиографические исследования показали на этот раз, что питание сердца значительно улучшилось, что сердечная мышца получает достаточно крови. Причина могла быть только одна: кровеносные сосуды пришитого сальника вросли в мышцу сердца и понесли туда свою кровь.
Всю эту историю раненого можно было услышать на заседании ленинградского Пироговского общества хирургов 12 марта 1947 года, на докладе профессора Колесникова.
Следует ли из всего оказанного, что проблема хирургического лечения грудной жабы уже решена? Конечно, нет. Приведенный случай указывает лишь на возможности в будущем, а не в настоящем.
Надо прямо сказать, что попытки добиться удачи в этой области пока не дали больших результатов, если не считать единичных случаев. Задача оказалась по разным причинам очень грудной. Она еще находится в стадии изучения.
Но мы знаем, что советская передовая наука, поставив перед собой задачу трудную, иной раз кажущуюся даже невыполнимой, достигает нужных результатов. Надо думать, что она добьется удачи и здесь.
Есть еще одна тяжелая и редкая болезнь — панцырное сердце. Это, собственно, болезнь не самого сердца, а околосердечной сумки. Перикардий, как известно, окутывает сердце, словно мягкий чехол. И вот в некоторых случаях этот чехол начинает уплотняться, твердеть. Причиной такого явления служит обычно длительный перикардит, хроническое воспаление околосердечной сумки. Продолжительное воспаление ее и приводит к тому, что мягкий чехол превращается в плотный, жесткий, неподатливый футляр, как бы панцырем сковывающий сердце. Постепенно, по мере все большего уплотнения перикардия, сердце работает все слабее и тише. Замедляется и движение крови во всех сосудах тела. Она начинает застаиваться в разных отделах организма.
Это влечет за собой очень серьезные нарушения жизненных процессов почти во всех органах. В результате болезнь становится смертельной.
Так было еще сравнительно недавно. Теперь прогресс в медицине позволил изменить положение.
В одну из ленинградских клиник летом 1948 года поступила больная. Это была девушка лет девятнадцати. Она почти все время лежала; достаточно было ей сделать один-два шага, как она начинала задыхаться. Пульс у нее еле-еле прощупывался. Она вся была отечной, а живот походил на большую водяную подушку — столько в нем накопилось жидкости, просочившейся из застойных сосудов брюшной полости. На шее толстыми веревками вились вены, переполненные кровью вследствие замедленной деятельности сердца. Почкп работали очень плохо, печень была увеличена, казалась рыхлой из-за отечности. Словом, жизнь в этом теле еле теплилась. И все это из-за нанцыря, сдавившего сердце.
Чем можно было помочь такой больной? Она находилась несколько месяцев в клинике внутренних болезней, т. е. там, где испокон веков таким больным и надлежало находиться. Улучшения у девушки не наступало. Терапевты были бессильны помочь ей. После того как все было испробовано и все оказалось напрасным, оставалось одно — то, что раньше, десять лет назад, пожалуй, никому и в голову бы не пришло, — хирургическое вмешательство.
И в хирургической клинике, куда перевели больную, операция была произведена. Больной под местным обезболиванием раствором новокаина вскрыли грудную клетку по лоскутному способу: удалили частично несколько ребер на передней стенке и даже кусок грудины, чтобы обеспечить хороший доступ к сердцу. Когда все сделали, перед глазами хирурга предстала плотная, как будто дубленая околосердечная сумка, сжимавшая, словно в кулаке, еле сокращавшееся сердце. Теперь наступило самое главное — отделение, освобождение сердца от перикардия. Это был очень серьезный момент. Ведь внутренняя поверхность сумки могла уже слишком крепко спаяться с мышцей сердца и тогда возникла бы грозная опасность: неизбежное ранение сердца.
Хирург, врач с огромным опытом, смелый и осторожный, хладнокровный и в то же время полный внутреннего напряжения, сделал первый разрез. Короткими движениями ножа отверстие в отвердевшей околосердечной сумке расширялось все больше и больше. Наконец показалось само сердце.
Все как будто шло хорошо. Нужно было отделить и отсечь всю переднюю часть измененной ткани сумки. Таким образом, сердце получило бы полную свободу для нормальных сокращений Смертоносный панцырь был бы удален. И вдруг — осложнение: стало падать кровяное давление, т. е. сердце переставало работать.
Это было опасное положение, которое могло окончиться смертью. И тут на помощь цришло современное оружие медицины — переливание крови.
Операцию остановили. Рану закрыли большими стерильными салфетками. Один из помощников хирурга, специально наблюдавший за пульсом и кровяным давлением, уже вводил в вену иглу, вставленную в конец резиновой трубки, соединенной с ампулой крови. Больной перелили почти литр крови.
Через полчаса операция уже могла продолжаться.
В конце того же 1948 года на научную конференцию Пироговского общества хирургов в Ленинграде перед началом заседания пришла молодая девушка. Она легко поднялась на второй этаж, также легко прошла ряд комнат и нашла председателя Общества. Через несколько минут конференция открылась большим докладом.
Докладчик, Герой Социалистического Труда — профессор Ю. Ю. Джанелгдзе подробно рассказал участникам заседания, как он произвел операцию на панцырном сердце. Потом поднялась на кафедру и стала рядом с хирургом молодая девушка. Члены Общества с чувством восхищения смотрели и на эту цветущую, с энергичными движениями девушку, на левой стороне грудной клетки которой виднелся шрам полукруглой формы, и на хирурга.
Шрам — это было все, что осталось от смертоносного панцыр-ного объятия, в которое было заключено сердце.
Так в лечении болезней сердца хирургия в некоторых случаях начинает занимать место, которое всегда принадлежало к области внутренних заболеваний.
Второе сердце
На этом, собственно, кончается изложение проблемы операций на сердце, история его осады на протяжении веков.
Но за последнее время в научной печати появились сообщения, которые указывают, что завоевание сердца совершается еще с одной стороны, несколько неожиданной.
В лаборатории горьковского профессора Синицына живет лягушка, ставшая предметом исключительного внимания физиологов. Эта лягушка ничем не отличается от других. Она, как и все остальные лягушки, охотится за насекомыми, прыгает, спит, бодрствует, квакает.
И все-таки эта лягушка — необыкновенная лягушка. В ней нет того сердца, с которым она родилась. В ней бьется чужое сердце. Профессор Синицын сделал замечательную в двух отношениях операцию. Он сумел, во-первых, удалить собственное сердце лягушки и поместить на его место сердце другой лягушки. Во-вторых, при этом не было нанесено повреждений покровам животного. И удаление сердца, и пересадку Синицын сделал через рот лягушки.
Это чудо экспериментального искусства удалось полностью.
Новое сердце во всем заменило прежнее. Уже прошло два десятка месяцев — срок для короткой лягушечьей жизни огромный, а пересаженный орган исправно выполнял свои функции.
Как известно, лягушка — холоднокровное животное. Это, конечно, уменьшает значение выводов, которые могут быть сделаны.
Между холоднокровными и теплокровными животными существует большое физиологическое различие. Опыты Синицына сами по себе замечательны, но они не дают достаточных оснований для суждения о возможности их повторения на высших животных.
Такая возможность должна быть доказана только работами на млекопитающих. Задача эта чрезвычайно трудна. Чем выше на лестнице эволюционного развития стоит животное, чем сложнее и тоньше устроен его организм, тем труднее поддается он искусственной перекройке. Но все же поддается.
Молодой физиолог Демихов, доцент кафедры физиологии Московского университета, сумел добиться решения этой увлекательнейшей, но представлявшейся невыполнимой задачи. Ему удалось сделать то, чего еще нигде, никогда и никому сделать не удавалось.
Он пересадил сердце крупному животному — собаке. У собаки в груди билось два сердца. Одно — собственное, другое — вынутое из свежего трупа собаки. И оба сердца работали!
Опыт был повторен на нескольких десятках собак. Успех оказался неслучайным. Опыты удавались на всех этих животных.
У каждого из них рядом с его собственным сердцем ритмично сокращалось, гоня кровь по телу, второе пересаженное и прижившее сердце.
Пересадка представляла собой очень сложную операцию. Второе сердце подшивалось своими сосудами к крупным кровеносным сосудам в грудной клетке. Таким образом, оно включалось в круг кровообращения. Чтобы лучше обеспечить хороший результат операции, Демихов некоторым животным пересаживал вместе с сердцем и легкое, а иногда и оба легких. Тогда новое сердце имело уже часть своих сосудов и даже часть малого круга кровообращения.
Это явилось чудом экспериментального искусства.
Попутно вполне логичен вопрос: почему первое сердце у собаки не удалялось? Почему экспериментатор оставлял на месте старое сердце, пересадив новое? Почему работали оба сердца?
Это можно объяснить. Если кровообращение в теле собаки прекратится больше, чем на пять-шесть минут, то смерть животного будет неизбежной. Удаление одного сердца и начало функционирования другого, естественно, требует времени. Одно сердце перестает работать, второе еще не начинает. Образуется пауза. Возникает опасность долгой остановки движения крови в организме, гораздо более продолжительной чем пять-шесть минут. Тогда гибель неминуема. Ее нельзя предотвратить. Сохранение на месте старого сердца обеспечивает, следовательно, бесперебойность кровообращения.
Конечно, такая операция, такое серьезное преобразование сердечно-сосудистой системы может и не пройти бесследно для организма животных. Действительно, у них иногда наступали перебои в сердечной деятельности и даже внезапные ее остановки.
У одной собаки это произошло в особенно резкой форме. Неожиданно стал слабеть пульс, кровяное давление упало очень низко. Было похоже, что приближается смерть, но затем, через четыре-пять минут, пульс начал выравниваться, улучшаться, и все опять пришло в нормальное состояние.
Наблюдая за всем этим, Демихов стал свидетелем любопытнейшего явления. Оказалось, что действительно одно из двух сердец собаки прекратило работу. Это было первое, собственное сердце собаки, на котором пока продолжала лежать главная роль в кровообращении. Но пересаженное сердце, дававшее до того момента малозаметные, слабые толчки и слабые сокращения, вдруг наполнилось кровью и стало энергично сокращаться. Оно полностью взяло на себя функцию остановившегося врожденного сердца. Кровь снова побежала по всему телу. Жизнь восстановилась.
Второе сердце заменило первое.
Это было удивительное физиологическое явление.
В организме животных и людей существует взаимозаменяемость, компенсаторное замещение органов. Бывает, например, у человека так, что одна почка разрушается, предположим, из-за мочекаменной болезни или вследствие туберкулезного процесса. Такая почка не работает. Ее удаляют операционным путем. Тогда вторая почка берет на себя функцию удаленной почки и даже увеличивается в объеме, что дает ей возможность выполнить подобную задачу.
Если перевязать крупный сосуд, крупную артерию, то функцию кровоснабжения принимают на себя мелкие артерийки, вплоть до капилляров. Они начинают разрастаться и оказываются в состоянии пропустить всю массу крови. Иначе ткань, лишенная питания из-за перевязки сосуда, омертвеет. Все это является физиологическим законом.
В поразительных опытах Демихова мы видим активное вмешательство советского ученого в жизнь природы, переделку живой природы.
Собаки с пересаженными сердцами жили до восьми — десяти дней. Погибали они не от дефектов пересадки, а от плевральных осложнений, от инфекции и разрушений соседних тканей, что указывает, разумеется, только на несовершенство самой техники пересадки такого тонкого и сложного аппарата, каким является сердце.
Понятно, что когда удастся улучшить технику пересадки, то осложнения исчезнут и новое сердце будет выполнять свою работу так же, как и нормальное сердце. Тогда и не понадобится сохранять прежнее сердце, уже изношенное. Оно будет удаляться в момент пересадки.
Собак не постигнет гибель. Наоборот, жизнь их, поддерживаемая свежим сердцем, удлинится.
Но ведь все эти эксперименты ведутся на собаках не для того, чтобы увеличить продолжительность их жизни. Цель огромного труда советских ученых в конечном счете — это продление жизни человека.
Конечно, сейчас еще рано говорить о том, что ожидает исследователей в этой области. Но уже ясно, что могучая сила науки открывает и здесь новые необычайные, хотя и очень отдаленные горизонты.
В этом решающую роль, обеспечивающую успех, сыграл уже упомянутый нами способ сшивания кровеносных сосудов быстро, просто и удобно с помощью специального аппарата, впервые в мире предложенного советскими хирургами и конструкторами.
Замена больного сердца здоровым, когда она станет возможной, явится одним из величайших триумфов в истории медицины.
Надо надеяться, что и это завоевание сердца тоже будет достигнуто. Залогом успеха в этом направлении явятся достижения передовой советской науки.
Глава шестая. БОРЬБА СО СТАРОСТЬЮ
Постоянные поиски
В конце четвертого века Европа подверглась нашествию вестготов. Король вестготов, Аларик, опустошил Фракию, Македонию, Фессалию, Грецию; затем он вторгся в Италию; в 410 году захватил и разграбил Рим.
Что же, был завоеватель доволен? Наслаждался он своими победами, неслыханной добычей, своим огромным могуществом? Нет. После всех своих завоеваний он стал мрачен, угрюм.
Объяснялось это тем, что его преследовала мысль о старости, о приближающейся смерти. Его силы уходили.
И тогда завоеватель объявил, что все свои сокровища, все несметные богатства и даже власть он отдаст тому кто принесет ему рецепт продления жизни, кто остановит наступающую старость, кто вернет ему прежние силы и бодрость.
Сотни гонцов мчались по всем дорогам его обширных владений, чтобы разыскать того, кто обладал волшебным даром возвращать молодость.
Легенда рассказывает, что в Южной или, как тогда называлось, Нижней Италии был найден кудесник, владевший тайной сохранения вечной юности.
Окружив почетом, его доставили к Алариху.
Король вестготов вышел ему навстречу. Покоритель стран увидел сухого сморщенного старичка. Чародей с трудом передвигал одряхлевшие ноги.
— Сколько тебе лет? — спросил король.
Старичку оказалось 68 лет.
— Я должен был умереть в двадцать лет, — пояснил он. — Но благодаря моему волшебному напитку я дожил до настоящего времени и проживу еще не меньше пяти лет.
Разъяренный Аларих, которому уже тогда исполнилось 74 года, велел отрубить кудеснику голову.
Легенда о короле вестготов отражает желание продлить человеческую жизнь, преследовавшее во все времена тех, кто задумывался о старости, о смерти. Особенно много этим вопросом занимались в средние века алхимики. В своих лабораториях, уставленных колбами, ретортами, перегонными кубами самых странных форм, среди стен, покрытых каббалистическими рисунками и таинственными формулами, ученые тех времен стремились проникнуть в магические законы превращения веществ. Они искали «философский камень», с помощью которого можно было получить золото из простых металлов, а также можно было стать молодым и отодвинуть наступившую старость.
Открытие тайны возвращения молодости волновало последователей тогдашней науки.
Сменялись поколения алхимиков. А цель оставалась недостижимой.
Однако проблема удлинения жизни не потеряла своего интереса и тогда, когда человечество узнало успехи настоящей науки. Ею занимаются и в наше время. И в наше время крупные ученые ставят перед собой эту проблему и ищут ее решения.
Сколько надо жить?
Человек стареет и умирает. Таков закон природы, обязательный для всех организмов.
Отдельные клетки человеческого тела еще на протяжении жизни человека не раз отмирают, а вместо них образуются новые. Известно, например, что в крови ежедневно разрушается 300 — 400 миллиардов красных кровяных шариков и столько же появляется вновь, В нашем теле каждую секунду отмирает 125 миллионов клеток и столько же возникает.
Шелушение кожи — это тоже потеря и обновление миллиардов клеток эпителия. Обновляются почечные клетки, печеночные, клетки кишечного канала — одни быстрее, другие медленнее.
Впрочем, не все клетки обновляются. Клетки головного мозга, например, не заменяются вовсе. Число их при различных заболеваниях может уменьшиться, если они подвергнутся разрушению, но увеличиться не может.
Сколько же должен жить сам человек? Какова нормальная продолжительность его жизни?
Ответ на эти вопросы не так прост, как может показаться. Одни люди умирают на тридцатом году жизни, другие — на соро-ковом-пятидесятом. Умирают и в семьдесят-восемьдесят лет. Некоторые доживают до ста и больше лет. Умирают и в юности.
Вообще же больше всего умирают в возрасте до одного года, особенно, конечно, в колониальных и полуколониальных странах, где миллионы бедняков обречены на ужасы нищеты и безработицы.
Из всех этих данных можно вычислить только среднюю продолжительность жизни людей, т. е. узнать, сколько человек живет в среднем; но это еще не значит, что будет выяснен тот возрастной предел, которого он мог бы достигнуть при благоприятных условиях жизни.
Можно задать себе следующий вопрос. Старость человека в общепринятом представлении — это 60 — 70 — 80 лет. После этого* наступает смерть. Почему же средняя продолжительность жизни человека гораздо короче, примерно, 40 — 50 лет?
Объясняется это тем, что при вычислении средней цифры жизни людей берутся и годы тех, кто прожил до 80 — 90 лет, и тех, кто прожил всего 5 — 10 лет и даже 1 — 2 года. Сюда же включаются и погибшие на войне и унесенные эпидемическими болезнями. Учитываются одинаково и бедные и богатые, и фабрикант, доживающий в обстановке изобилия, ухода до преклонного возраста, и рабочий, живущий впроголодь и рано умирающий от преждевременного истощения и болезней.
От всех этих разнородных составных элементов и зависит цифра средней продолжительности жизни. Точнее, они и дают среднюю цифру.
Совершенно ясно, что если бы не было эпидемий, войн, если бы рабочие и крестьяне жили в хороших жилищах, в нормальных условиях труда и отдыха, а их дети не знали безнадзорности, скудости питания, грязи, непосильного детского труда, если бы материнство сопровождалось помощью государства, если бы лечебная помощь была доступна всем больным, то средняя продолжительность жизни резко бы повысилась.
Следовательно, существование эпидемий, войн, эксплуатации человека человеком, изнурительного труда, безработицы, нищеты населения — все это не позволяет жизни человека достигать нормального физиологического предела. Таков ответ на поставленный выше вопрос.
Наличие социальных условий, при которых люди пользуются одинаковыми правами на здоровый труд, полноценный отдых, заботливый уход в детстве, бесплатную и доступную всем квалифицированную медицинскую помощь, одинаковое обеспечение в старости — вот что удлиняет среднюю продолжительность жизни широких масс населения. Такие благоприятнейшие социальные условия имеются в Советском Союзе. И на примере нашей великой Родины мы видим как изменение условий жизни широких кругов трудящихся влечет за собой увеличение средней продолжительности жизни.
Конечно, в классовом обществе, в мире капитализма ничего этого нет и быть не может. Наоборот, неизменные спутники капиталистического строя — это беспредельная эксплуатация трудящихся, бесправное положение рабочих, нищета их семей, антигигиенические условия исизни большинства населения, недоступность для масс медицинского обслуживания, высокая детская смертность, голодная и печальная старость.
Буржуазная наука, существующая на подачки капиталистов, не ищет путей к удлинению продолжительности жизни всего населения. Нередко бывает и так, что буржуазные ученые «доказывают» вред мероприятий, улучшающих положение низших слоев населения.
В Германии существовало общество имени Гуфеланда. Врач Христоф Гуфеланд жил во второй половине XVIII века и в начале XIX века. Он написал ряд сочинений, посвященных вопросу удлинения человеческой жизни; особенной известностью пользовалась его книга «Макробиотика или искусство продлить жизнь».
В 1810 году в Германии было основано общество последователей учения Гуфеланда, носившее его имя и развивавшее его идеи.
В 1910 году исполнилось сто лет существования общества. На юбилейных торжествах выступил председатель общества профессор Ганземан.
О чем мог говорить человек, стоящий во главе людей, считающих себя последователями взглядов и принципов Гуфеланда, направленных к сохранению и продлению жизни?
Надо полагать, вполне логически, что такое лицо должно было призывать к осуществлению мероприятий, удлиняющих жизнь. Но на самом деле произошло совершенно иное.
Он доказывал, что бороться со старостью не следует, так как старики не нужны государству, что стремиться к уменьшению детской смертности не следует, так как смерть детей есть не что иное, как средство для отбора лучших. Говорил профессор Ганземан об ужасах войны, сокращающей жизнь миллионам людей? Да, он войнам тоже уделил много внимания в своих выступлениях. Он приветствовал войну, так как она, по его мнению, является «фактором отбора»; она помогает выделяться и процветать «сильным расам».
Может быть, профессор Ганземан представлял собой исключение, редчайший случай, страницу прошлого? Ничего подобного. В более или менее завуалированной форме такие взгляды все чаще высказываются и теперь учеными в капиталистических странах.
Как пример, можно привести работы уже в наше время профессора Гратиана. В послевоенный период появилась его книга «Социальная патология». Автор — специалист по социальной гигиене. Социальная гигиена — это наука об условиях оздоровления народных масс, о здоровом обществе. Что же должно, по Гратиану, способствовать оздоровлению общества? Уменьшение числа заболеваний и создание таких условий, при которых даже больные могли бы жить десятки лет?
Нет. Гратиан считает, что уменьшение числа заболеваний и создание больным условий, при которых они могут долго жить, приведет к общему вырождению, к засорению человеческого коллектива «малоценными» элементами.
В 1948 году вышла в Нью-Йорке книга американца Вильяма Фогта «Путь к спасению». Автор — видный чиновник, сочетающий свою административную деятельность с «научной». Он директор Института охраны природы Панамериканского союза.
О «спасении» чего может идти речь в книге «охранителя природы», если оно касается людей? Думает ли автор о спасении человеческих жизней и о других гуманнейших проектах?
Однако достаточно заглянуть в книгу, чтобы наткнуться на совершенно иное. Оказывается, что, по мнению этого мракобеса, путь к спасению — это побольше болезней, голода, страданий, вымирания, войн. Путь к опасению лежит в возможно большем сокращении народонаселения. Увеличение числа жизней — это беда, главное зло. Автор, например, пишет: «К несчастью, несмотря на войну, германские зверства и недоедание, население Европы увеличилось за время с 1936 года по 1946 год на 11 миллионов человек». То, что фашистские убийцы мало, по его мнению, погубили, сожгли, задушили людей, является «несчастьем».
Государство Чили известно тем, что вследствие нищеты масс и отсутствия санитарных мероприятий там умирает очень много людей. Вильям Фогт видит в этом крупную заслугу социального порядка, царящего в Чили. Он пишет: «Одним из величайших преимуществ и даже, пожалуй, величайшим преимуществом, каким обладает Чили, является высокая смертность населения».
Изуверский голос Вильяма Фогта не одинок. И другие представители «науки» в буржуазном обществе, такие, как английский философ Карл Пирсон, Юлиан Гекели, профессор Меллер и многие другие усиленно толкуют о пользе уменьшения количества жителей земного шара любыми способами, вплоть до войн.
Такова капиталистическая действительность и буржуазная наука.
Совершенно очевидно, что буржуазное общество не создает предпосылок для увеличения средней продолжительности жизни людей. Наоборот капиталистическая система, которая нищету, голод, болезни признает за благо, вполне естественно ведет к сокращению жизни трудящихся.
Бешеная эксплуатация трудящихся, кризисы, выбрасывание на улицу миллионов людей, обреченных на голод и бездомность, гонка вооружений, пожирающая миллиардные ассигнования за счет ухудшения условий существования народов, массовая заболеваемость туберкулезом, венерическими болезнями, алкоголизм, рост детской заболеваемости, детской смертности — все это приводит к гибели неисчислимого количества человеческих жизней в буржуазных государствах.
Совершенно естественно, что гам борьба за долголетие есть борьба против капиталистического строя.
Социальные условия, обеспечивающие неуклонный рост средней продолжительности жизни, имеются в Советском Союзе.
Причины этого ясны. В нашей стране эксплуатация человека человеком уничтожена. У нас нет кризисов и безработицы, перед всеми трудящимися открыта дорога к культурной и зажиточной жизни.
Громадная сеть профилактических и лечебных учреждений охраняет здоровье населения во всех уголках страны.
Обширная, с каждым годом увеличивающаяся организация охраны детства и материнства, большое число родильных домов, яслей, молочных кухонь, детских садов, помощь советского государства многодетным семьям резко снизили детскую смертность, позволяют растить здоровую, цветущую молодежь.
Неизменная мирная политика нашего государства препятствует англо-американским империалистам развязать новую войну, сопровождающуюся массовым уничтожением людей.
Становится понятной следующая справка. По данным 1907 — 1910 годов, средняя продолжительность жизни в России того времени равнялась 32 годам.
Перепись 1926 — 1927 годов показала, что средняя продолжительность жизни в нашей стране составляла 44,3 года.
Значит, достаточно было одного десятилетия существования советской власти, чтобы средняя продолжительность жизни населения увеличилась больше, чем на целую треть.
А ведь первые пять лет существования советской власти с гражданской войной, с блокадой и интервенцией, вызвавшими хозяйственную разруху страны, были наиболее тяжелым периодом истории молодого государства.
Нападение фашистской Германии в 1941 году помешало обработке данных переписи 1939 года. Но все же некоторые цифры, которые уже получены, очень красноречивы.
В 1926 году население Советского Союза исчислялось в 147 027 915 человек. В 1939 году — 170 467 186 человек. Разница составила почти двадцать три с половиной миллиона человек. Таков прирост за двенадцать-тринадцать лет. Это намного превышает все население Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, вместе взятых.
Что означает такой рост? Конечно, увеличение рождаемости. Одновременно у нас в Союзе наблюдается и резкое падение детской смертности.
Это результат улучшения материального благосостояния масс, подъема их культурного уровня, повышения зажиточности населения.
В первых числах августа 1949 года были опубликованы материалы об условиях жизни рабочего населения в Соединенных Штатах Америки. Как известно, на эту страну не упала ни одна бомба, не было разрушено от снарядов ни одно строение. Вот некоторые сведения из опубликованных данных.
В городе Атланте (штат Георгия) 137 тысяч человек проживают в грязных, зловонных трущобах, напоминающих выгребные ямы и помойки. Трущобы занимают пятую часть городской территории, а на них падает две трети всех туберкулезных больных города.
В городе Джеферсон (штат Алабама), как и в каждом городе любой капиталистической страны, есть кварталы с высокооплачиваемыми квартирами и есть кварталы с низкооплачиваемыми квартирами, проще говоря, есть кварталы бедных и кварталы богатых. В кварталах низкооплачиваемых заболеваемость туберкулезом на 507 процентов выше, чем в высокооплачиваемых кварталах. Детская смертность там выше на 117 процентов.
В трущобных кварталах города Детройта, в этом царстве миллиардера Форда, детская смертность в 6 раз выше, чем в других районах города, а смертность от туберкулеза выше в 10,5 раза.
Трущобные районы имеются во всех городах Соединенных Штатов. Число квартир в них достигает, по самому скромному подсчету, 4 миллионов. Около 15 миллионов человек живут в этих зловонных, наводненных крысами и бактериями домах.
Легко себе представить, какова у этих людей может быть продолжительность жизни.
А вот еще одна очень короткая справка. В 1948 году в Соединенных Штатах от недоедания умерло 275 000 человек. Из-за отсутствия медицинской помощи скончалось 468 000 человек. Среди умерших большой процент составили дети и подростки.
Таковы опубликованные официальные данные американской Исследовательской ассоциации по вопросам труда. Действительность, конечно, на много ужаснее, чем пишут об этом «ученые статистики».
Надвигающийся кризис и его спутники: безработица и голод, разумеется, увеличат число бездомных, число болезней и число смертей. Понятно, что средняя продолжительность жизни населения этих городов и всей страны не удлиняется.
В Советском Союзе не может быть ничего, даже отдаленно напоминающего такую картину.
Забота о быте и жизни трудящихся, о детях, о матерях за годы послевоенной пятилетки достигла огромного размаха. Количество учащихся в начальных, семилетних и средних школах, техникумах увеличилось на 8 миллионов. Оно составило в 1950 году 37 миллионов человек.
Только в одном 1950 году многодетным матерям советское государство выдало более трех с половиной миллиардов рублей в виде пособий.
Растет сеть детских садов, яслей, лечебных учреждений, занятых охраной и укреплением здоровья детей.
Достаточно сказать, что в 1951 году около 6 миллионов советских детей провели летний отдых в пионерских лагерях, на дачах и детских площадках.
Так подтверждаются слова И. В. Сталина, который говорил: «Наше государство отличается от всех других государств тем, что оно не жалеет средств на хороший уход за детьми и хорошее воспитание молодежи».
Эти слова приобретают особое значение, когда мы узнаем разные подробности американского «счастливого» образа жизни. Так, в Соединенных Штатах Америки существует подпольная торговля детьми. Их покупают у бедняков, не имеющих возможности заработать на питание для семьи. Об этом пишет газета «Дейли Компас» как об обычном коммерческом деле.
Четыре миллиона американских детей не имеют родителей. Это — сироты. Больше половины их спят в подъездах домов, а то и прямо па улице.
Еще хуже картина в колониях и зависимых странах. Из каждых ста детей Индии, например, шестьдесят не доживают до 14-летнего возраста. Семи-восьмилетних детей заставляют работать на чайных и рисовых плантациях. Неудивительно, что смертность среди них огромна.
В буржуазных странах, стоявших как будто в стороне от ужасов и разрушений мировой войны, положение тоже не представляет собой ничего хорошего. Экономическая их зависимость от дельцов Уолл-Стрита всюду ведет к безработице, к удорожанию жизни, к обнищанию масс. Растет и заболеваемость. Например, в Испании семьдесят процентов детей в возрасте от 5 до 12 лет больны туберкулезом. Совершенно понятно, что смертность среди них велика.
Наука в буржуазных государствах находится в услужении капиталистов, поэтому она не улучшает положения трудящихся масс. По этому поводу мы имеем новейшее свидетельство одного из представителей науки буржуазных стран.
На Всесоюзной конференции сторонников мира в августе 1949 года выступил в Москве английский профессор Бернал. Вот отрывок из его речи:
«Фактом является и то, что, находясь в распоряжении загнивающего капитализма, никогда наука не может быть применена с пользой для человечества; она может приводить только к увеличению эксплуатации и безработицы и к кризисам, к войне».
Это — достоверное свидетельство. Оно принадлежит прогрессивному ученому капиталистического государства.
Положение науки в капиталистическом мире ярко характеризуется той подготовкой к бактериологической войне, которая ведется в Соединенных Штатах Америки. В то время, как советские ученые создают все лучше и лучше действующие средства защиты человека от микробов и вызываемых ими болезней, в американских лабораториях исследователи, находящиеся на службе империалистических правительств, заняты изготовлением бактерий с целью возможно большего уничтожения людей.
Наша наука помогает жизни. Их наука помогает смерти.
Совершенно ясно, что в странах, где перед наукой поставлены такие каннибальские задачи, забота о благополучии широких масс не может иметь места.
Сила науки безгранична только там, где она обращена на благо трудового народа, там, где она помогает народу в его созидательной работе.
Поэтому у нас средняя продолжительность жизни всего населения неуклонно растет.
И в странах народной демократии, идущих, следуя примеру СССР, по пути к социализму, уже создаются реальные предпосылки удлинения жизни трудящихся.
Сколько можно жить?
Такова одна сторона проблемы долголетия. Она определяется социальными факторами. Но есть и другая сторона проблемы. Она вытекает из биологических закономерностей природы человека. Здесь речь будет идти о продолжительности жизни, обусловленной биологическими и физиологическими особенностями человеческого организма.
Известно, что нередко человек живет 90 лет, 100 лет и больше.
Советский Союз является страной с наибольшим количеством людей, перешагнувших столетний возраст. По переписи 1926 года, в СССР их насчитывалось около семи тысяч. В одной Москве было 55 человек в возрасте выше ста лет. За нашей страной шла Болгария, в которой их было 158 человек. А в Германии того года столетних стариков нашлось всего 86, в Швеции — 58, в Италии — 51. В такой стране крепких, казалось бы, людей, как Норвегия, было всего 35 человек возраста ста и больше лет.
Бывают случаи поразительного долголетия. В 1937 году комиссия Института клинической физиологии Украинской Академии наук установила, что в Абхазии есть несколько стариков 130-, 135- и даже 142-летнего возраста. В 1936 году в Очемчирском районе Абхазии умер горец Хапара Кнут 155 лет от роду. Это был самый старый человек во всем мире.
В августе 1949 года в санатории ВЦСПС № 22 в городе Ессентуки отдыхал колхозник из Ставропольского края Василий Сергеевич Тишкин 144 лет.
В то же время мы знаем, что много людей доживают только до 80 — 85 лет. Еще большее число живет до 60 — 70 лет. Многие люди достигают лишь 45 — 50-летнего возраста.
Совершенно естественно возникает вопрос: сколько же по своим биологическим свойствам должен жить человек в том случае, если находится в самых благоприятных условиях? Какова продолжительность жизни, на которую физиологически способен
человек? Нельзя ли открыть те биологические закономерности, которые позволили бы установить тот предельный возраст, до которого человек мог бы доживать?
Ученые давно уже пытались найти ответ на этот вопрос.
Так, например, Бюффон (XVIII в.) предложил свой способ решения задачи. Он подсчитал, сколько времени растут домашние животные. Определяется это по росту костей. Когда кости перестают увеличиваться в длину, это значит, что рост организма закончился. Оказалось, что собака растет до двух лет, кошка — до полутора лет, корова — до четырех, лошадь — до пяти, верблюд — до восьми лет и т. д.
Затем он взял продолжительность жизни каждого животного и разделил ее на время роста. Итог дал среднюю цифру — шесть. Тогда Бюффон сделал вывод, что жизнь любого высшего млекопитающего животного, в том числе и человека, в пять-шесть раз дольше периода его роста.
Если исходить из этого, то можно высчитать, какова должна быть нормальная физиологическая продолжительность жизни человека. Рост человека заканчивается приблизительно к двадцати пяти годам. Остается умножить это число на шесть, и задача, по Бюффону, решена. Получится, примерно, 150 лет.
Известный русский биофизик, академик Лазарев, предложил свой способ определения физиологической продолжительности жизни человека. Он попробовал выразить в цифрах периоды развития организма, сроки нарастания его жизнеспособности с первых лет рождения и затем падения. Это движение, восходящее и нисходящее, можно было представить в виде кривой. Определив математически один отрезок кривой, уже нетрудно получить цифры и для всей кривой.
Но как установить величину, длительность, степень жизнеспособности организма? По остроте восприимчивости различных органов чувств. Так утверждал Лазарев, положив эту мысль в основу своих расчетов. Он определял кривую развития чувствительности зрения, слуха, обоняния, подъем их восприимчивости по мере роста, затем — к старости — ослабление, снижение. Так он вычислял предельный срок существования органов слуха, зрения и других органов.
Зная, насколько понижаются функции органов чувств с возрастом, можно установить, сколько еще времени должно было бы пройти, чтобы они совсем прекратились. Вот тогда и должна была бы наступить естественная смерть.
Вычисления Лазарева показали, что срок жизнедеятельности органов чувств, т. е. граница их существования, лежит между 1150 и 180 годами. Первую цифру Лазарев и принял как характерную для физиологической продолжительности жизни человека. Опять расчет обнаруживал, по Лазареву, приблизительно ту же продолжительность в 150 лет, как и у Бюффона.
Надо здесь же сказать, что ни Бюффон, ни Лазарев не нашли законов, определяющих физиологическую продолжительность жизни. То, что они считали законами, на самом деле было только предположениями, гипотезой. Но, очевидно, эти гипотезы все-таки заключали в себе какое-то зерно истины.
Интересно, что и другие ученые, изучавшие вопрос о физиологическом пределе жизни человека и применявшие свои собственные методы, приходили примерно к таким же цифрам. Поэтому можно допустить, что физиологическая граница жизни человека составляет около 150 лет.
150 лет! Легко себе представить, даже на отдельных примерах, что это значит.
Лев Толстой, Тургенев, Достоевский могли бы жить в наше время. Сколько великих произведений было бы ими написано! Чайковский, Римский-Корсаков, Бородин, даже Глинка творили бы еще теперь, создавая новые оперы и симфонии. Менделеев продолжал бы обогащать науку новыми гениальными открытиями, а Пирогов мог бы быть свидетелем и участником успехов советской хирургии.
Но так могло бы произойти лишь в том случае, если бы люди достигали предельного возраста в 150 лет. На самом деле человек чаще всего, как мы уже знаем, не доживает даже до половины этого срока.
Жизнь незаменимая, неповторимая для каждого со всеми ее красками, героическими делами, участием в общих подвигах, в борьбе за расцвет Родины, с плодотворной деятельностью на благо народа, радостями, любовью, счастьем обрывается гораздо раньше, чем это биологически обусловлено.
Если бы смерть приходила во-время, то, вероятно, человек не переживал бы расставание с жизнью, как трагедию.
После долгого трудового дня наступает естественное желание отдыха. Человека тянет ко сну.
Можно предположить, что так было бы и с естественной смертью. После долгой 150-летней жизни наступило бы желание отдыха, не было бы страха перед смертью.
Это представлялось бы тогда нормальным. Но ничего этого нет. Человек, даже в преклонном возрасте, даже в глубокой дряхлости, изо всех сил цепляется за жизнь. И это вполне естественно: инстинкт жизни у него еще в полном расцвете. Человек прожил пока только около половины возможного для него срока.
Почему может не удасться долгая жизнь даже в социально благоприятных условиях? В чем причина старения и омерти, которая наступает в годы, когда жизнь биологическая должна еще длиться?
Перед биологом и физиологом встает вопрос: каковы причины, которые укорачивают срок жизни?
Жизнь и смерть клетки
Человек умирает тогда, когда, вообще говоря, умирают его клетки, — прежде всего «летки центральной нервной системы, клетки жизненноважных органов.
Впрочем, это не совсем верно. Человек умирает, а некоторые клетки продолжают жить. Так, известно, что у трупа некоторое время растут волосы, ногти. Мы уже говорили в этой книге о том, что в лаборатории профессора Кравкова жили отрезанные от трупа человеческие пальцы. Через их сосуды пропускалась жидкость, по составу сходная с кровью.
Пальцы, в сосудах которых циркулировала эта жидкость, жили неделю и больше.
Такие эксперименты показывают, что не все клетки погибают, когда умирает человек. К сожалению, те клетки, которые умирают очень медленно, имеют второстепенное значение для человека. Особенно важная роль принадлежит, прежде всего, клеткам центральной нервной системы, а потом и клеткам таких внутренних органов, как, например, печень или почки.
Отчего же умирают клетки?
Для жизни любой клетки челозека необходимо, чтобы в ней совершался нормальный обмен веществ, при котором все ее частицы все время восстанавливаются и обновляются, а негодные удаляются.
Пока этому ничто не мешает, клетка остается деятельной, устойчивой, безотказно выполняющей свои функции.
Если обмен веществ будет нарушен, то жизнедеятельность клеток изменяется, ослабевает и в дальнейшем развиваются болезненные явления, которые могут привести к гибели сначала клетки, а потом и других, связанных с ними клеток, тканей, органов. Очень важно отметить, что болезненные явления, развивающиеся в какой-либо одной части тела, никогда не бывают изолированными- — они всегда отражаются на жизнедеятельности всего тела. Вместе с тем организм, как единое целое, регулирует деятельность всех своих частей. И это осуществляется через посредство нервной системы.
Соединительная ткань и старение
Вопросом о продолжительности жизни и причинах смерти организмов в течение многих лет занимался великий ученый Илья Ильич Мечников, творец фагоцитарной теории иммунитета.
Его увлекала мысль найти способ, который дал бы возможность людям удлинять жизнь, избавил бы их от печальной и болезненной старости. Ведь годы старости это те годы, когда человек обладает наибольшим опытом, зрелостью, житейской мудростью. Какие новые успехи во всех отраслях науки и техники могли бы быть достигнуты, если бы люди жили долго и безболез-
ненно и в глубокой старости человек был бы в состоянии использовать весь накопленный им опыт и знание.
Мечников со свойственной ему страстностью взялся за изучение проблемы старости.
Тело человека состоит из органов и тканей, объединенных в единое целое нервной системой. Что происходит с ними, когда приближается старость?
Мечников занялся изучением сложнейшего органа — головного мозга. Он делал тончайшие срезы мозга умерших людей и рассматривал эти препараты под микроскопом. Мечников видел знакомую картину: группы нервных клеток с их отростками и между ними, в виде прослоек, клетки соединительной ткани.
Однако картина не во всех препаратах представлялась одинаковой. В одних препаратах нервных клеток находилось много, соединительнотканных — мало. В других, наоборот, нервных клеток было меньше, а соединительнотканных больше.
Иногда в поле зрения микроскопа виднелись чуть ли не сплошь одни соединительнотканные клетки.
Во всем этом не было ничего нового, неожиданного, ничего такого, чего исследователи не встречали бы раньше.
Но Мечникова занимало главным образом другое. Его интересовал возраст умерших людей, мозговые клетки которых он рассматривал. И здесь перед ним выступила одна интересная подробность. Чем старше был умерший, тем больше соединительнотканных клеток находилось в препарате и тем меньше оказывалось там нервных клеток. Напрашивался вывод, что по мере того, как человек живет, часть мозговой ткани у него вытесняется соединительной тканью.
Мечников прекрасно знал, для чего служит в мозгу эта грубоватая, довольно плотная соединительная ткань. Она образует как бы футляр, в котором лежит мозг, а ее прослойки составляют нечто вроде перекладин и опорных балок, образующих как бы гнезда, в которых располагаются группы нервно-мозговых клеток.
Затем Мечников исследовал печень, селезенку, артерии, сердце — и всюду видел то же самое. Специфические, или, как он их называл, «благородные», клетки этих органов с возрастом все более вытесняются грубыми соединительнотканными клетками.
Вывод отсюда вытекал сам собой. Меньше становится мозговых клеток, — значит, слабеет намять, гаснут умственные способности, расстраивается работа сердца и других внутренних органов. Уменьшается число клеток печени, селезенки, почек, — значит, хуже начинают работать эти органы. Человек становится дряхлым.
Причина старости, по Мечникову, это замена «благородных» клеток органов соединительнотканными клетками.
Но почему они вытесняют клетки? Дело в том, что соединительнотканные клетки обладают большей способностью роста и это соответствует той роли, которую они играют в организме.
Например, рубец, появляющийся на месте ранения, есть не что иное, как обильно размножившиеся соединительнотканные клетки. Они словно спаивают края раны.
При заболевании человека туберкулезом разрушается часть легкого — и вот начинается рубцевание этого участка. Эту работу выполняет соединительная ткань.
Пуля пробила в мышцах сквозное отверстие, а спустя некоторое время соединительная ткань «заштопала» отверстие.
Чтобы все это выполнить, соединительная ткань, ее клетки должны иметь большую способность размножения.
Как только клетки мозга или клетки печени слабеют и теряют свою жизнедеятельность, устойчивость, сопротивляемость, клетки соединительной ткани начинают усиленно размножаться, заменяя в этом месте высокодифференцированные элементы органов и тканей.
Этот процесс замещения и уплотнения Мечников назвал склерозированием органов.
Склерозирование — вот причина старения человека. Чем раньше склерозируются органы, тем раньше наступает старость, а следовательно, и смерть.
Так полагал Мечников.
Оружие против старости
Точку зрения Мечникова мы изложили в очень сжатом и упрощенном виде. Мы ничего не сказали о фагоцитах, белых кровяных тельцах, которые поедают пришедшие в негодность «благородные» клетки. Ничего не сказали об артериосклерозе — отвердении стенок кровеносных сосудов, от которого артерии становятся ломкими и в появлении которого особенно повинны заразные болезни, алкоголь, нездоровая пища, табак.
В процессе наступления старости все это, безусловно, имеет значение и очень большое.
Однако суть дела от этого не меняется. В конце концов, и деятельность фагоцитов и уплотнение стенок артерий тоже связаны с агрессивностью соединительной ткани, как это вытекает из учения Мечникова о склерозировании. Сам Мечников из своей теории старения сделал определенные выводы.
В качестве меры защиты против болезней, разрушающих организм, он проповедывал физическую культуру, необходимость внедрения в повседневный быт санитарно-гигиенических навыков. Особенное его внимание привлекала пища, с которой микробы легко проникают в организм. Мечников считал, что пищу следует принимать только в кипяченом, вареном или жареном виде. Сырые фрукты и овощи должны быть тщательно вымыты кипяченой водой. А курение и алкоголь нужно совершенно изгнать из обихода.
Именно таким образом Мечников считал нужным предохранять «благородные» клетки от падения их устойчивости и сопро-
тивляемости, в результате чего они становятся жертвой соединительной ткани.
Самого страшного врага «благородных» клеток Мечников видел в бактериях, которые всегда в огромном количестве находятся в толстых кишках и вызывают гниение, разложение остатков пищи, поглощенной человеком. Продукты гниения всасываются в кровь и достигают клеток мозга, печени, почек и других органов, постепенно ослабляя их.
Мечников считал, что наличие большого числа людей, доживших в Болгарии до 100-летнего возраста, объяснялось тем, что в этой стране едят много простокваши. В болгарской простокваше содержится особая бактерия, которая не дает размножаться гнилостным бактериям в кишечнике. Поэтому Мечников был усердным сторонником употребления в пищу болгарской простокваши.
Так, исходя из своих научных исследований и наблюдений, он стремился поставить на практическую почву борьбу со старостью.
Надо сказать, что Мечников был совершенно прав, когда говорил, что склерозирование приближает старость, что перенесенные инфекционные болезни ослабляют организм, что никотин и алкоголь портят кровеносные сосуды. Более всего был прав Мечников, утверждая, что для предупреждения старости необходимо вести правильный и здоровый образ жизни. Однако истинных причин старения теория Мечникова все-таки не вскрывает.
Работы Воронова
В начале XX века появились первые сообщения о работах доктора Сергея Воронова, жившего во Франции. Но парижские врачи не очень охотно знакомились с этими публикациями. Когда Воронов попытался однажды выступить с докладом на заседании медицинского факультета, ему не дали слова. Судя по теме доклада, профессора считали, что содержание его несерьезное, что докладчик только зря отнимет время. Тема была о пересадках органов.
Через восемь лет положение изменилось. Доктор Воронов приобрел уже известность своими операциями. Его охотно выслушивали, когда он выступал с докладами и сообщениями.
Воронов был хирургом и занимался пересадкой органов. В этой области ему удалось сделать ряд замечательных операций.
В 1912 году в дверь его квартиры постучался человек, совершивший далекое путешествие. Это был житель Бастии на Корсике. Он привез с собой шестнадцатилетнего сына Жана. На вид подростку можно было дать не более семи лет. Вместе с тем лицо его было одутловатым, цвет кожи землистым, движения апатичные, вялые. Разговаривал он как слабоумный.
У Жана находилась в зачаточном состоянии, почти отсутствовала, щитовидная железа. Она представляет собой, как известно,
железу внутренней секреции, т. е. такую железу, которая не имеет выводного протока, как, например, слюнные железы. Выделяемые такими железами вещества носят название гормонов и поступают непосредственно в кровь.
Даже ничтожные количества гормона играют колоссальную роль в организме. Без гормона щитовидной железы человек резко отстает в росте, умственные способности его не развиваются, появляется рыхлость тела, одутловатость, так как обмен веществ замедляется. Человек превращается в кретина.
Житель Бастии умоляюще смотрел на Воронова. Он уже побывал у многих врачей. Те пожимали плечами и говорили обычные слова утешения, но помочь его сыну не могли. Болезнь неизлечима, разве можно создать новую железу?
Но кто-то сказал ему, что есть один врач, который интересуется нарушением работы органов внутренней секреции и делает какие-то опыты, правда, над баранами и козами. И житель Бастии отыскал этого врача, оказавшегося доктором Вороновым.
Выслушав посетителя, доктор Воронов решил попытаться вернуть Жану то, в чем отказала ему природа, — сделать пересадку.
Но у кого достать такую железу? Кто из людей пожертвует ее?
Воронов нашел выход. Вырезав железу у человекообразной обезьяны, он пересадил ее мальчику. Через год Жан был принят в школу, в обыкновенную школу для обыкновенных детей. Он уже не походил на кретина. Щитовидная железа, пересаженная Вороновым, переродила Жана.
Эта железа — не единственная в человеческом теле железа внутренней секреции. Около той же щитовидной железы располагаются четыре малозаметных, похожих на зернышки железки. Называются они паращитовидными железами. Если их удалить, человек вскоре начинает биться в судорогах и погибает.
Паращитовидные железы, управляя обменом солей кальция в организме, являются одним из регуляторов состояния нервной системы.
Удалите маленькие железки, расположенные вплотную над почками — надпочечники, и через два-то и дня у животного наступит смерть от непреодолимой слабости всех мышц, в том числе и мышцы сердца.
В черепной коробке помещается небольшой, весом в полграмма, орган — мозговой придаток. Это тоже железа внутренней секреции, играющая важную роль в жизнедеятельности организма, в частности, в процессах углеводного и жирового обмена, полового развития, роста и т. д.
Большие изменения наступают в организме, когда не развивается половая железа. Ни человек, ни животное от этого не гибнут, но утончаются кости, растительность у человека на лице не появляется, мускулы слабеют, организм быстро изнашивается. Человек еще сравнительно молод, но уже похож на глубокого старика, отличающегося утомляемостью, сонливостью, равноду-
шием, ослаблением памяти. Известно, что с возрастом внутрисекреторная деятельность половых желез угасает. Тогда быть может старость и есть результат угасания желез внутренней секреции?
Доктор Воронов считал, что это именно так.
После случая с Жаном из Бастии он провел еще ряд таких же операций над щитовидными железами. И почти все они в какой-то мере давали успех.
Можно было рискнуть сделать следующий опыт: пересадить половую железу.
Предварительно Воронов проделал множество экспериментов на животных. Сотни, а может быть, тысячи пересадок половой железы он и его помощники осуществили на баранах, быках, лошадях. Действительно, в результате пересадки одряхлевшие лошади, быки и бараны приобретали моложавый вид, повадки и задор молодых животных.
Теперь оставалось полученный опыт перенести на людей. И Воронов стал производить такие операции тем, кто хотел, как Фауст, вернуть свою молодость. Он пересаживал им половые железы человекообразных обезьян.
Сумел ли доктор Воронов победить старость?
Пациентами Воронова являлись седовласые буржуа, банкиры, адвокаты, подошедшие к закату своей жизни. Они просили вернуть им былую силу. Потом, после операции пересадки, они сообщали доктору Воронову — одни через месяц, два месяца, другие через три-четыре о результатах. В общем, выходило, что они были довольны: у них появлялся подъем сил, наблюдалось общее улучшение, походка становилась бодрее.
Подобное письмо получил доктор Воронов от одного своего пациента спустя два месяца после операции.
Однако спустя еще два месяца пришло письмо, но уже не от него, а от сына. Он писал, что его отец скоропостижно скончался. Однажды поздней ночью его нашли у дверей квартиры, на лестнице, мертвым. У него произошло кровоизлияние в мозг.
Задор молодости к нему вернулся, но артериосклероз, от которого пострадали его кровеносные сосуды, остался. Прилив новой энергии не соответствовал состоянию его сердца и артерий. Половую железу ему пересадили, но пересадить сердце и артерии было нельзя. И старое сердце, болезненно измененные артерии не выдержали.
У другого пациента, инженера, оказались больными почки. И они не выдержали нагрузки, которую принесла организму пересадка половой железы. Развившийся нефрит, воспаление почек, свел на нет успех омоложения.
Время от времени поступали и от других пациентов сообщения подобного характера. Вывод был ясен. Пересадка половой железы возможна. Но она лишь тогда целесообразна, когда здоровы остальные жизненноважные органы, когда в них не произошло
большого склерозирования или других серьезных изменений. У стариков же эти органы обычно уже весьма изменены.
Итак, пересадка, быть может, улучшает на некоторый срок состояние человека, но она не возвращает молодости, не обновляет всего организма.
Доктор Воронов не нашел настоящего оружия против старости.
Не враг, а друг
Своеобразный путь к разрешению этой задачи наметил советский ученый академик Богомолец.
Он занимался изучением соединительной ткани, ее свойств и значения в организме человека.
Оказалось, что роль ее в организме весьма велика.
Мечников утверждал, что соединительная ткань является врагом «благородных» клеток. Богомолец и его сотрудники сумели доказать, что она не враг, а друг всех важных органов человека. Они раскрыли такие качества соединительной ткани, о которых раньше мало знали, а если кое-что и знали, то не обращали на них должного внимания.
Мы уже говорили, что эта ткань представляет собой опору органов, служит для них как бы каркасом. Считалось, что в этом ее главная функция. Но это оказалось неверным. Соединительная ткань играет очень многообразную и важную роль в организме.
Клетки без питания жить не могут. Питание доставляется с кровью. Из капилляров в клетки органов питательные вещества просачиваются через тончайшую стенку сосудов, через ее эндотелий. А эндотелий есть не что иное, как разновидность соединительной ткани.
Есть у соединительной ткани еще одна интересная способность: она вырабатывает особый фермент, который может растворять ненормальные клетки. Такими могут быть, например, клетки раковой опухоли.
Но и это не все. Соединительная ткань представляет собой резервуар, огромное «депо» для клеток фагоцитов, которые пожирают микробов.
Один ученый разводил в воде тушь и вспрыскивал ее в вену морской свинки. Спустя некоторое время он умерщвлял и вскрывал животное, разыскивая под микроскопом, куда именно попали из вены частицы краски. Он обнаруживал их в печени, в селезенке, в костном мозгу, в лимфатических железах. И всюду частицы туши находились в определенных участках органов, в особых клетках той ткани, которая имеется во всех внутренних органах, именно — соединительной ткани. Ее клетки были заполнены частицами туши. Соединительнотканные клетки извлекли всю тушь, попавшую в кровь. Можно сказать, что они профильтровали кровь-и выбрали из нее все лишнее, постороннее, в данном случае частицы туши.
Хорошо функционирующая соединительная ткань обеспечивает нормальную работу клеток, в том числе и «благородных» клеток. Ухудшится состояние соединительной ткани — ухудшатся функции «благородных» клеток. Здоровая соединительная ткань — это здоровые «благородные» клетки. Здоровые «благородные» клетки — это здоровый организм, а здоровый организм — это долгая жизнь.
Причина и следствие
Теперь ясно, чего, с точки зрения Богомольца, не учел Мечников, в чем заключался серьезный недостаток его воззрений на природу старости. Он неправильно оценивал значение соединительной ткани для организма.
Отсюда вытекают и другие недостатки учения Мечникова о борьбе со старостью.
Он считал, что соединительная ткань начинает играть роль только при изменении и ослаблении функции органов и притом роль враждебную. И тогда, чем эффективнее проявляется деятельность соединительной ткани, тем большая опасность угрожает «благородным» клеткам. В условиях падения их сопротивляемости соединительная ткань безжалостно вытесняет ценнейшие клетки организма.
Таким образом, по Мечникову, выходило, что «благородные» клетки могут разрушаться и стареть при наличии совершенно здоровой, полностью сохранившейся соединительной ткани.
Это была первая ошибка Мечникова. Она влекла за собой и вторую.
В чем видел Мечников возможность борьбы с преждевременной старостью? В том, чтобы усиливать стойкость и сопротивляемость «благородных» клеток органов центральной нервной системы, печени, почек, сердца, кровеносных сосудов и чтобы уменьшить активность соединительной ткани. Все средства, которые Мечников предлагал для защиты от преждевременной старости, заключались в том, чтобы не допустить создания в организме вредных условий, вызывающих ненормальные изменения в «благородных» клетках.
Кроме общегипиенических мероприятий, выработанных Мечниковым для защиты этих клеток от раннего изнашивания, он искал также и средства медицинского вмешательства, например, вспрыскивания какого-либо препарата, укрепляющего и восстанавливающего функции клеток.
Мечников хотел добиться укрепляющего воздействия на «благородные» клетки вместо того, чтобы искать способа такого воздействия на соединительную ткань.
Вот в чем, согласно взглядам Богомольца, заключалась основная ошибка учения Мечникова о преждевременной старости и ее предупреждении.
Идя по пути дальнейшего изучения свойств соединительной ткани, академик Богомолец изыскивал средства для стимуляции ее деятельности. Он предложил для этого специальную сыворотку, названную им антиретикулярной цитотоксической сывороткой. В ряде случаев этот препарат оказался полезным при лечении ран (ускоренное заживление) и некоторых заболеваний, как инфекционных, так и неинфекционных. Но все-таки большие надежды, которые возлагались сначала на сыворотку Богомольца, не оправдались.
Роль коры мозга
Нужно отметить, что и в теории Богомольца, и в учении Мечникова о старости упущено одно весьма существенное обстоятельство — роль головного мозга, того его отдела, которое носит название коры.
Это, в частности, подтверждается некоторыми чрезвычайно демонстративными и убедительными экспериментами, проделанными в одной из лабораторий великого физиолога Ивана Петровича Павлова его ближайшей помощницей Петровой.
Профессор Мария Капитоновна Петрова свыше тридцати лет занималась изучением высшей нервной деятельности. Опыты, которые велись ею в течение многих лет над собаками, дали интереснейшие результаты.
Для одной группы опытов были взяты крепкие, здоровые собаки. Они были здоровы не только физически; они отличались также живостью поведения, отсутствием чрезмерного возбуждения, не были ленивы. У них был прекрасный сон, а проснувшись, они с веселым лаем носились по комнатам лаборатории.
Это были собаки с крепкой, неутомимой нервной системой.
Профессор Петрова поставила их в такие экспериментальные условия, при которых центры головного мозга этих собак находились в постоянном повышенном возбуждении, в перевозбуждении. В результате кора мозга у них оказывалась «перегруженной».
Так как это происходило в течение ряда лет, то у собак наступало переутомление и истощение центральной нервной системы. Собаки становились апатичными, малоподвижными и бездеятельными, не реагировали на обычные раздражители.
И вот у них стали обнаруживаться неожиданные явления, о которых вначале не думал и сам экспериментатор: собаки начали преждевременно стареть.
У них появились характерные черты дряхлости: слабость и дрожание лап, утолщение суставов. На коже образовались гнойники, воспаления, язвы. Шерсть вылезла, зубы покрошились. Ходили они понурив головы и опустив хвосты. Во внутренних органах тоже наблюдались у них характерные старческие изменения; а в некоторых случаях дело доходило до образования злокачественных опухолей.
В двенадцатилетнем возрасте они выглядели как двадцатилетние, а в тринадцать — пятнадцать лет они погибали.
Профессор Петрова, создавая для подопытных собак условия, приводившие к патологии высшей нервной деятельности, приближала, следовательно, старость животных.
С группой других собак поступили иначе.
Это были собаки со слабой нервной системой. Они легко утомлялись, характера были спокойного, добродушного. Опыты над ними были хотя и продолжительные, но собакам давали достаточный и частый отдых, делали так, чтобы ничто слишком не раздражало их нервную систему, не перегружало их мозг. И вот у собак второй группы оказалась совершенно другая старость.
Они прожили гораздо дольше первых собак. Оставались спокойными, довольными, шерсть у них лоснилась. Никаких болезней кожи у них не появлялось. В семнадцать — восемнадцать лет они выглядели как десятилетние.
И здесь профессор Петрова как бы управляла процессом старения собак. Она отдаляла ее по своему желанию, сохраняя нормальную деятельность коры больших полушарий мозга.
О чем говорят эксперименты профессора Петровой? Конечно, о том, что все жизненные процессы в организме регулируются и связываются воедино, благодаря деятельности головного мозга, под влиянием которого они могут то ослабляться, то усиливаться.
В свете такого положения нужно рассматривать и учение Богомольца о старости.
Сыворотка Богомольца сама по себе не может влиять непосредственно и изолированно только на соединительную ткань. Действие сыворотки можно понять лишь в том случае, если допустить, что введенная в организм она вызывает реакцию прежде всего со стороны центральной нервной системы, со стороны коры мозга. Уже отсюда, через всеобъемлющую нервную систему, идет воздействие на остальные органы и ткани, в том числе и специфическое воздействие на соединительную ткань.
Опыты Петровой свидетельствуют о том, что в процессах старения ведущую роль играет центральная нервная система и, главным образом, высший ее отдел — корковый слой больших полушарий головного мозга. Какие бы причины ни вызывали одряхление органов, совершенно очевидно, что основное значение для ослабления и изнашивания органов и тканей имеет состояние высшей нервной деятельности, правильное течение нервных процессов и нормальное соотношение между ними.
Это было доказано еще следующим образом и притом на людях. Существует психическая болезнь — шизофрения, особое состояние, напоминающее состояние глубокого нервно-психического переутомления. Человек, страдающий шизофренией, всегда чувствует усталость, он апатичен, угнетен, ничем не интересуется; ему лень одеваться; даже умываться ему тягостно.
Шизофреник безучастен ко всему. Сосредоточенность не покидает его. Он сидит с опущенной головой, с потухшим взглядом.
При взгляде на такого человека можно подумать, что он обессилен жизнью, что у него наступило старческое одряхление и равнодушие.
Богомолец вспрыскивал таким больным ничтожные дозы своей сыворотки.
Спустя некоторое время, если не у всех, то у многих шизофреников было отмечено заметное улучшение. Спустя еще некоторое время часть их была выписана из больницы как совершенно здоровые люди.
Но ведь улучшение состояния шизофреников и даже полное исчезновение признаков этой болезни, безусловно, зависит от процессов, разыгрывающихся в клетках больших полушарий головного мозга. Без участия коры мозга не могло произойти никаких изменений в течении этого психического заболевания.
Значит, только благодаря участию коры больших полушарий головного мозга сыворотка Богомольца оказывала воздействие на состояние больных-шизофреников.
Из всего сказанного следует с достаточной убедительностью, что во всех процессах старения организма ведущим звеном служит кора больших полушарий мозга, ее функции, связанные в основном с явлениями возбуждения и торможения.
Вот что было упущено в теории Богомольца и других ученых, трактующих старость как результат изменений в отдельных органах и системах и упустивших совершенно из вида, что организм всегда реагирует как целое, и эта целостность есть результат координирующей, связующей деятельности коры больших полушарий головного мозга.
Возможное решение
Люди всегда стремились к долголетию.
Жизнь, которую мы живем один раз, всегда кажется короткой. Никто не хочет умирать. Нет сомнений в том, что жизнь действительно должна длиться дольше. Но люди не только хотят жить дольше. Они хотят жить, оставаясь молодыми.
Великий немецкий поэт Гете в основу своего знаменитого произведения «Фауст» положил легенду о докторе Фаусте, продавшем душу черту, чтобы вернуть себе молодость.
Во все века предлагались рецепты возвращения молодости.
Знаменитый врач XVI века Парацельс, обладавший для своего времени большими знаниями, продавал за большие деньги особые капли. Он называл их «элексиром бессмертия». Пока покупатель принимал эти капли, смерть ему не угрожала. Насколько это средство было действенно, видно из того, что сам Парацельс умер, едва дожив до пятидесяти лет.
Мы рассказали только о некоторых работах ученых, ставящих своей целью раскрытие причин старения и изыскание средств борьбы с преждевременной старостью.
Проблема старения организма гораздо сложнее, чем это может показаться.
Другое решение
Есть вполне обоснованная и очень разумная точка зрения: борьба за продление жизни должна начинаться не тогда, когда организм уже состарился и одряхлел, а значительно раньше. Для успешной профилактики преждевременного старения необходимо соблюдение ряда условий.
Как совершенно правильно говорит Богомолец, «первый принцип разумной жизни — работа. Работать должен весь организм... Ни одна из функций не должна быть забыта».
Здесь уместно вспомнить слова одного видного биолога: «Преждевременный отказ от работы... ведет к преждевременной старости».
Великий поэт-демократ Некрасов, клеймивший лень и барское безделье, в «Песне о труде» высказывал такие мысли:
Кто хочет сделаться глупцом,
Тому мы предлагаем:
Пускай пренебрежет трудом
И жизнь начнет лентяем.
Хоть геркулесом будь рожден
И умственным атлетом,
Все-ж будет слаб, как тряпка, он
И жалкий трус при этом.
Мечников указал на брожение и гниение в кишечнике, на самоотравление организма, особенно при употреблении недоброкачественной пищи и при плохой работе кишечника. Продукты гниения тогда постоянно отравляют ткани тела, в том числе и соединительную ткань. В этом, безусловно, есть известная доля истины. Значит, надо всегда заботиться о нормальном пищеварении, употреблять в пищу продукты, доброкачественные, разнообразные и ограничивающие гниение; очень полезны, в частности, простокваша, кефир; следует есть меньше мяса, следить за регулярной функцией кишечника.
Физическая работа должна чередоваться с достаточным отдыхом. Тогда не будет чрезмерного физического переутомления, которое истощает и угнетает сердце, ухудшает кровеснабжение.
Для людей, занимающихся умственной деятельностью, совершенно необходима физкультура — спорт, гимнастика, мышечные упражнения. Это усиливает кровообращение, улучшает поступление кислорода в клетки тканей. Очень правильно указывал К. Е. Ворошилов, что тот, кто не тренируется физически, тот подобен человеку, сознательно решившемуся состариться к 45 годам и форсировать свое одряхление.
Через кожу выделяется из тела много отработанных веществ. Следует заботиться о том, чтобы поры кожи не были загрязнены, засорены. Значит, надо систематически мыться горячей водой с мылом.
Советские люди, работая на благо своей социалистической Родины, испытывают чувство творческого подъема. Наша жизнь на каждом шагу дает примеры великолепной и вдохновенной производительности труда. Сознание важности дела, совершаемого нашими трудящимися, стимулирует и поднимает жизненные функции их организма. Психически человек становится бодрее, энергичнее, радостнее, увереннее. При этих условиях ни его нервной системе, ни его мышцам не угрожает перегрузка.
Это — здоровая психика и здоровая работа. Значит, это ведет не к истощению организма, а к его усилению.
Теперь ясно, какие условия не допускают преждевременного изнашивания организма. Это — хорошее питание, здоровый быт, включающий физкультуру, плодотворный труд, разумный отдых, санитарно-гигиенические навыки, высокий общий культурный уровень.
Но, как мы уже говорили, такие условия жизни — не для отдельных групп, а для всей массы трудящихся, существуют только при одном строе — социалистическом.
Советский строй — лучшее решение проблемы долголетия. Только он ведет к удлинению жизни до ее нормального срока. А продлить жизнь до нормального срока — это значит осуществить то, о чем мечтали люди на всем пути исторического развития человечества: о долгой счастливой жизни с естественной здоровой старостью.
Социальное решение проблемы долголетия как единственно возможное не устраняет возможности и необходимости содействовать ему мерами медицинской науки.
Для науки и такая задача может быть разрешимой.
Роль клеточной оболочки
Здесь следует рассказать и о некоторых своеобразных и интересных работах крупного советского биолога профессора О. Б. Ле-пешинской. Ее исследования в некоторой части также касаются проблемы старения и долголетия.
Как мы уже говорили, О. Б. Лепешинская своими экспериментами значительно обогатила биологическую науку, разрушив господствовавшее на протяжении более ста лет воззрение, согласно которому организм животных и человека состоит только из клеток, что всякая новая клетка происходит только из клетки, что клетка есть самая последняя форма жизни и что вне клетки нет жизни. Лепешинская показала, что в теле животных и человека имеется также и бесструктурное вещество, обладающее способностью к обмену, следовательно, живое вещество, из которого путем развития могут образовываться клетки. Ею же убедительно доказано, что клетка может возникать из живого вещества и вне организма.
Все это явилось новым словом в науке о клетке и о микроскопическом строении живых существ.
Однако еще до открытия внеклеточных форм окизни работы Лепешинской касались очень важных биологических явлений. Изучение развития клетки ставило перед ней все новые проблемы.
Так, считалось твердо установленным, что клетка, размножаясь, делится на две новые-клетки, совершенно одинаковые. Эти две новые клетки, в свою очередь делясь, дают четыре клетки, опять-таки полностью одинаковые, и так может продолжаться без конца. Выходило, таким образом, что клетки по существу не умирают, что они бессмертны.
Подавляющее большинство ученых это и признавало.
Правилен ли подобный взгляд?
Этим вопросом занялась О. Б. Лепешинская. Изучая клетки, их" строение, их развитие, их изменения, она поставила себе целью выяснить, действительно ли все клетки одинаковы, неотличимы друг от друга, и среди них нельзя найти ни молодых, ни старых, ни тех, которые только что родились, ни тех, которые уже одряхлели. А если все же клетки стареют, то в чем этот процесс выражается?
И вот здесь профессор Лепешинская встретилась с проблемой клеточной оболочки.
В науке все время существовало мнение, что клетки растений обладают оболочкой, в то время как клетки животных лишены ее. Это считалось незыблемым положением.
Советский ученый Ш. Д. Мошковский применял особый способ окраски клеток, при котором протоплазма получается одного цвета, ядро — другого. Конечно, такой метод позволяет лучше изучать строение клеток. Но иногда профессор Мошковский встречался с непонятным явлением, когда окрашивал красные кровяные клетки, так называемые эритроциты: вокруг самой клетки появлялась голубая каемка, как бы футляр. Что это была за каемка? Она была похожа на оболочку, но ведь оболочек у животных клеток не должно быть.
Лепешинская также столкнулась с этой каемкой. У нее тоже возникло недоумение. Однако она сумела раскрыть значение голубой каемки, окутывавшей клетку: это была окрашенная клеточная оболочка. Многочисленными экспериментами Лепешинская доказала, а затем и подтвердила правильность своих выводов. Оказалось, что клетки животных и человека имеют оболочку. Так был разрушен еще один существовавший в науке неверный взгляд.
Решив эту задачу, Лепешинская встала перед новым вопросом: а зачем нужна клеткам оболочка? Какова ее роль? Что это — просто футляр или у оболочки есть свои особые, более серьезные и важные функции?
Большое число экспериментов и наблюдений позволили Лепешинской найти нужный ответ. Значение оболочек заключается не в том, что они изолируют в организме одну клетку от другой. Оказалось, что они играют огромную роль в процессах обмена веществ клеток, роль посредника между клеткой и внешней средой, роль жизненно важную в питании клеток. Как говорит Лепе-шинская, — «оболочка — это первая лаборатория, где вещества внешней среды подвергаются коренным изменениям, претерпевая первые химические реакции».
То, что нашла Лепешинская в клетках крови, было свойственно клеткам всех тканей организма.
Но это было не все, что открыла Лепешинская в оболочках клеток. Вскоре она столкнулась еще с одним, на первый взгляд также непонятным явлением. Некоторые клетки крови, некоторые эритроциты были совсем лишены оболочек.
Конечно, такой удивительный факт требовал разъяснения. Тщательные исследования привели Лепешинскую к раскрытию загадки. Оказалось, что отсутствие оболочек — признак ранней молодости клетки. По мере роста и развития клетки, ее оболочка становится все явственнее.
Работы в этом направлении дали определенные результаты. Было установлено, что чем плотнее оболочка, тем старше клетка.
Тогда вполне естественным становился вывод, что состояние оболочки и возраст клетки тесно связаны между собой. А это значило, что от состояния оболочки зависит наступление старости клетки. Когда уплотнение оболочки достигает значительной степени, функции клетки ослабевают. Приближается ее гибель, смерть.
Вот что принесли работы Лепешинской в эту область биологии. Выяснилось, что клетки не только размножаются, но и развиваются, стареют, умирают, что клетки имеют свою молодость, свой зрелый возраст и возраст угасания. Другими словами, клетка проходит целый ряд этапов на пути своего индивидуального развития.
Так О. Б. Лепешинская подошла к проблеме старения и смерти. Если стареют клетки, значит, стареют ткани, которые из них образуются, стареет и весь организм.
В чем же заключается сущность старения? Что происходит при этом с клетками?
Изучая химико-физические свойства клеточных оболочек, Лепешинская нашла, что оболочки состоят из белковых живых веществ. Как известно, мельчайшие белковые частицы имеют двойной электрический заряд: положительный и отрицательный. Это позволяет им легко вступать в соединения с самыми различными веществами. Но дело в том, что белковые частицы, противоположно заряженные, вступают в соединение и друг с другом. В результате вместо двух частиц образуется одна, но более крупная.
А такое укрупнение, если оно совершается в белковых оболочках клеток, ведет к их уплотнению.
Уплотняются оболочки, затрудняется обмен в клетках, так как активных белковых частиц становится меньше. Клетки слабеют. Приближается их старость.
Теперь вполне законен еще один вопрос. Можно ли задержать, остановить уплотнение оболочек? Есть ли средство, возвращающее оболочкам, начинающим уплотняться, их прежнее состояние?
Лепешинская пробовала воздействовать на оболочки различными веществами, кислотами, солями, щелочами. Долго нужных результатов не получалось. Но применение соды принесло успех. Раствор соды превращал крупную зернистость оболочек в мелкую. Уже измененные огрубевшие оболочки становились похожими на оболочки молодых клеток.
Надо полагать, что и обмен в клетках при этом улучшался, усиливался, протекал более активно.
Были поставлены опыты, подтверждающие действие соды на оболочке клеток. Так, например, у лягушек разного возраста исследовали кровь. И чем старее была лягушка, тем резче, гуще окрашивалась у ее эритроцитов оболочка. У молодых лягушек окраска давала тонкую, едва заметную голубую каемку.
Потом тем же лягушкам вспрыскивали однопроцентный раствор соды. И снова кровь их исследовалась под микроскопом.
Получался интересный результат. Оболочки эритроцитов молодых лягушек оставались такими же мало заметными. У старых лягушек картина менялась. Оболочки эритроцитов, еще недавно плотные, крупнозернистые, дававшие резко окрашенную голубую кайму, теперь были едва заметны. Частицы белка у них становились мелкозернистыми.
Конечно, работы Лепешинской не изменяют наш взгляд относительно первенствующего значения нервной системы в процессах старения.
Ведь в сложных организмах функция обмена веществ регулируется, как и все функции тела, центральной нервной системой. Отсюда ясно, что и процессы, вызывающие старение организма, зависят от функций нервной системы. Один советский ученый, ухудшая условия деятельности высших отделов центральной нервной системы, смог вызывать состояние дряхлости у молодых крьге. У них выпадала шерсть, мышцы становились дряблыми, слабыми. Другой ученый наносил повреждения коре головного мозга животных и даже удалял ее. В результате наблюдалось ускорение старения этих животных.
Так велика роль нервной системы в наступлении старости.
Как же объяснить явления дряхлости и старения, изученные Лепешинской?
Надо иметь в виду, что и в клетках самой нервной системы, хоть они и обладают очень долгим периодом роста и значительной долговечностью, также происходят с течением времени возрастные изменения: снижается постепенно функциональная активность, ухудшается питание, ослабевают окислительные процессы, то есть нарушается в конце концов обмен веществ. Такое состояние нервных клеток, ухудшая работу нервной ткани, влечет за собой приближение старости всего организма.
Значит, и здесь восстановление обмена веществ в клетках должно иметь важное значение для задержки старения. Можно допустить, что наряду с лечением сном, с так называемым охранительным торможением, применяемым для улучшения состояния нервных клеток, их функциональных свойств, могут известную роль играть и другие методы восстановления, в том числе и метод, ставящий себе задачу добиться разукрупнения белковых частиц клеточных оболочек.
Диспансеризация старости
В номере от 10 августа 1950 г. газеты Министерства здравоохранения СССР «Медицинский работник» появилась большая статья, посвященная проблеме долголетия. Статья содержала весьма интересные сведения.
Оказалось, что в Москве существует поликлиника, в которой ведется прием необычного характера. Туда в определенные дни и часы недели приходят люди, которых никак нельзя назвать пациентами, страдающими от заболеваний и нуждающимися в медицинской помощи. Они сами ни на что и не жалуются: ни на одолевающие их какие-либо недуги, ни на боли, ни на падение сил. Они принадлежат, собственно, к тем, кого принято называть здоровыми: они работоспособны, служат в различных учреждениях, занимают различные, часто ответственные, посты.
И вот здесь, в поликлинике, их осматривают, тщательно исследуют самыми тончайшими методами, а потом дают им указания, не только о том как работать, но и как питаться, как отдыхать, какого образа жизни придерживаться. А если у кого-либо обнаружится, неожиданная для самого пациента болезнь, то его здесь и лечат, а если требуется, то его поместят в клинику.
Что же это за посетители поликлиники? Какие признаки их должны объединять, чтобы они попали именно в эти специальные кабинеты? Что у них общего между собой?
Общее у них только одно — возраст. Они все уже шагнули в шестой десяток, не меньше. Это те, кого мы называем пожилыми людьми, кто находится на пути к старости. В поликлинике они составляют старшую возрастную группу трудящихся.
Зачем же их приглашают в поликлинику?
Врачи исследуют их, а тех, у кого уже имеются в тканях и органах изменения, в настоящее время может быть и неопасные и даже незаметные, но при дальнейшем развитии угрожающие тяжелыми недугами, — лечат, стремясь остановить начавшийся процесс. Это люди, у которых наблюдаются такие нарушения, как повышенное кровяное давление, или гипертония, склероз соединительной ткани, уплотнение кровеносных сосудов, или атеросклероз.
Задача врачей поликлиники заключается в том, чтобы выявить возможно раньше начальные формы этих и им подобных заболеваний.
Но это только половина дела, выполняемого поликлиникой. Каждый посетитель получает здесь точные указания, что надо предпринять, чтобы замедлить развитие болезненных изменений; для лиц, у которых обнаружились начальные признаки заболевания устанавливается режим работы, отдыха, даются инструкции, как устранить из рабочей и бытовой обстановки все, что может быть вредным для здоровья.
Систематическое, повторное, через определенные промежутки времени, обследование этих пациентов позволяет врачам следить за правильным выполнением лечебных и профилактических процедур и назначений.
Это и есть диспансерное наблюдение над той категорией населения, которая на языке медицинских учреждений именуется как старшая возрастная группа трудящихся.
То, о чем мы сейчас рассказали, это только первые шаги замечательного начинания, преследующего цель сделать бодрой, активной старость и у тех людей, в организме которых уже обозначились предвестники разрушительного действия времени.
Так, в условиях Советской страны идет наступление на преждевременную старость всеми доступными сейчас науке средствами.
Две старости
В странах капитализма, где государственные деятели любят выступать с цинично звучащими в их устах декларациями «о правах человека», о высоком значении «свободы личности» и прочем, в газетах имеется раздел, который никогда не пустует. Это сообщение о самоубийствах.
Самоубийство — обязательный спутник буржуазного строя. И это совершенно понятно. Ведь безработица, нищета, кризисы, при которых тысячи рабочих выбрасываются на улицу, являются неотъемлемыми спутниками капитализма. Многие трудящиеся предпочитают смерть полуголодному беспросветному существованию. Такова судьба миллионов людей в странах, где пытаются прикрыть ужасающее положение народных масс громкими проповедями о «священных правах человека».
В этом страшном газетном разделе происшествий имеется по-истине трагическая рубрика. Статистика показывает, что 70 процентов самоубийств падает на стариков.
В условиях капитализма, где безжалостная машина эксплуатации быстро выжимает все соки из человека и превращает его в преждевременно вышедшего из строя, дряхлого, беспомощного инвалида, никому не нужного, не пригодного для тех требований, которые капиталист предъявляет к рабочей силе, старики находятся в особенно тяжелом положении. Они в тягость даже собственной семье. Если старики вынуждены прибегать к самоубийству, то это значит, что жизнь их мрачна, неприглядна, полна лишений и душевных мук. Удлинить свое существование означает для этих людей удлинить свои страдания, а вместе с тем увеличить обузу для своих близких.
Так оборачиваются успехи науки, в том числе и в области продления жизни, для трудящихся слоев населения в капиталистическом обществе. Достижения науки становятся, с одной стороны, источником страдания огромного множества людей, и, с другой, — источником еще большей наживы для эксплуататоров.
Совсем другое положение в Советском Союзе. Великая забота о человеке, закрепленная нашей Конституцией, сказывается и в том, что право на материальное обеспечение распространяется и на старость. Но дело не только в этом. В нашем государстве сама старость стала иной, чем в капиталистических странах.
Существуют две старости. Человек одряхлел, лишился способности к труду не только физическому, но и умственному. Это — старость инвалидная, старость болезненная, патологическая, т. е. ненормальная.
Но есть старость активная, когда, несмотря на годы, человек остается деятельным, сохраняющим свои творческие силы. Примером этого являются гениальные ученые Иван Петрович Павлов, Илья Ильич Мечников, Иван Михайлович Сеченов и многие другие крупные ученые, например, почетный академик Н. Ф. Гамалея, академик Н. Д. Зелинский. Все они дожили до глубокой старости и в самом преклонном возрасте были полны энергии. Они сохранили трудоспособность, память, яркое и глубокое мышление. Их старость была активной старостью.
Но подобная старость, не в виде исключения, а как общее явление, может иметь место только при социалистическом строе, который ставит своей целью заботу о человеке, охраняет его здоровье.
В нашей стране нередко теперь можно встретить колхозников, которым минуло 70, 80, а то и 90 лет и которые работают на полях, заслуженно получая свои трудодни, хотя колхоз обеспечивает их старость.
Немало на наших заводах мастеров и рабочих, давно перешедших на пенсию; они не оставляют своего места у станков, трудятся и учат молодежь.
Здесь выступает еще одно разительное отличие советского государства от стран капитализма.
Что такое для капитализма трудоспособные старики? Это, конечно, новые армии безработных.
Для страны Советов люди активной старости — это строители новой жизни, обогащенные большим жизненным опытом, вооруженные знаниями, накопленными в течение долгих лет жизни. Можно сказать, что в нашей стране проблема удлинения жизни, проблема активной старости представляет собой проблему государственного значения.
Задачи, которые ставит перед собой наша страна — достижение высокого уровня культуры и благосостояния трудящихся масс, построение бесклассового коммунистического общества, — требуют огромного роста производительных сил и неисчислимого количества сознательных работников. Нам нужен и дорог каждый человек, и каждый человек у нас находит свое место.
Будем считать наступлением старости возраст после 60 лет. Сколько стариков тогда найдется в Советском Союзе?
По переписи 1939 года их оказалось в стране 6,6 процентов всего населения. Это составило почти 12 миллионов человек. Это громаднейшие резервы труда.
Борьба с преждевременным одряхлением прибавляет нашему государству миллионы тружеников, деятелей медицины, техники, искусства, миллионы специалистов, зрелых, умудренных жизнью, обладающих ценнейшим опытом. Это обогащает нашу страну новыми материальными и культурными достижениями. Осуществляется мечта великого борца за продление жизни — Мечникова, писавшего: «Старость, являющаяся при настоящих условиях скорее ненужной обузой, сделается рабочим, полезным обществу периодом. Старики, не подверженные более ни потери памяти, ни. ослаблению умственных способностей, смогут применять свою большую опытность к наиболее сложным и тонким задачам общественной жизни».
В нашей стране достигается подлинное решение задачи обеспечения творческой старости, долгой, счастливой жизни.
Глава седьмая. СТИМУЛЯТОРЫ ЖИЗНИ
Нозмещенная потеря
Нередки случаи, когда при переломах ноги приходится удалять осколки кости. И вот рана зажила, кость срослась, но нога стала короче. Человек будет всегда хромать на одну ногу. Это, конечно, плохо, по нельзя было не удалить часть кости: ее обломки мешали заживлению.
Бывает, что человек лишается части своих тканей. Во время войны это наблюдается у многих раненых. В мирных условиях чаще всего это происходит при различных катастрофах, тяжелых травмах. В том и в другом случае пострадавший может получить столь большую рану, что, когда она заживает, на ее месте окажется огромный рубец. Но рубец — это не прежняя кожа.
Рубцовая ткань легко кровоточит, легко покрывается язвами, плохо переносит сдавливание. Конечно, рубец лучше, чем открытая рана, но он является гораздо худшей защитой, чем кожа, которая погибла при ранении.
Кипяток, пар, расплавленный металл могут причинить большой ожог. На месте обожженной кожи разрастается рубцовая ткань, что иногда приводит к тяжелым последствиям. Рубцовая ткань лишена эластичности, мягкости, растяжимости. Она может помешать лежащим под ней мышцам производить движения, может вызвать искривление руки, ноги, спины. А это уже инвалидность.
Как же быть в подобных случаях? Как борется с такими последствиями медицина?
Самый лучший способ — это пересадка. При поражении и дефектах не только кажи, но и подкожной клетчатки и мышц, вырезают рубец, а на его место пересаживают части тех тканей, которых нехватает.
Хирурги уже давно стали накладывать на большие раневые поверхности кусочки кожи, взятые у других людей или у самого же больного, но с другого, не поврежденного участка.
А если это оказывалось невозможным, то они брали пересаживаемую ткань, так называемый трансплантат, от умерших людей. Зачастую такая пересадка давала хорошие результаты. Новая кожа приживалась и выполняла свои функции совершенно нормально.
Теперь производят даже пересадку нервов. Техника этой пересадки хорошо разработана советскими нейрохирургами и физиологами. Нервы берутся, разумеется, не у живого человека, а у трупа или даже у животного.
Иногда пересаживают небольшие отрезки артерий или вен, когда эти кровеносные сосуды почему-либо оказываются в том или ином месте разорванными или размозженными. При очень больших укорочениях ног или рук после операций, вследствие переломов, вставляют кусочки костей взамен удаленных.
Пересаживают зубы. Пересаживают кусок кишки на место пищевода, если пищевод приходится удалять вследствие ракового заболевания или из-за сужения после ожогов и рубцов.
В клинике профессора Богораза производили опыты пришивания собаке целой лапы взамен отсеченной. Это оказалось возможным, хотя и очень трудным, очень кропотливым делом.
Техника операции пересадки достигла теперь большой степени совершенства. Но была одна пересадка, которую хирурги избегали производить, так как врачам она не доставляла удовлетворения, а больным приносила мало пользы. Она почти не давала успеха. Что же это была за пересадка? Может быть, она требовала трансплантата больших размеров? Нет, для пересадки достаточно было одного квадратного сантиметра ткани, не больше. Быть может, эта ткань принадлежит органу, лежащему в глубине человеческого тела, куда трудно проникнуть? Нет, это ткань, лежащая снаружи.
Это — ткань глаза. Она называется роговой оболочкой, или роговицей.
Свет и глаз
Лучи света попадают в глаз через роговицу. Весь видимый мир с его красками, движением воспринимается через небольшой кусочек прозрачной ткани — роговицу.
Одно из самых тяжких человеческих несчастий — это потеря зрения. Как бы мужественно ни переносили люди состояние вечного мрака, невозможность что-либо видеть является огромнейшей трагедией.
Даже в нашей стране, Стране Советов, где слепые окружены заботой государства, где им создана возможность трудиться и участвовать в культурной и общественной жизни, все же люди, лишенные зрения, глубоко страдают.
С потерей зрения не может сравниться потеря какого-либо другого органа чувств, даже слуха.
Великий композитор Бетховен, вся жизнь которого связана была с миром звуков, потерял слух. Это было страшной катастрофой для него как человека и композитора. И все же творческая деятельность Бетховена не прекратилась. Его музыкальный гений продолжил создавать замечательные произведения.
Но если бы художник лишился зрения, то как бы велико ни было его дарование, он не смог бы написать ни одной картины. Но даже не будь этого, сумей слепой художник рисовать, несчастье от этого не стало бы меньшим. Для каждого человека потерять возможность видеть окружающий мир — это ничем невознаградимый урон.
Отчего же наступает слепота?
Глазных болезней, вызывающих полную потерю зрения, очень много. Нередко глаз перестает видеть из-за того, что исчезает прозрачность маленького кусочка той ткани, которая называется роговой оболочкой. Воспаление, язва роговицы приводят к ее помутнению.
Ушибы, инородные тела, проникающие в роговую оболочку, например, мельчайшие кусочки металла, также влекут за собой нарушение прозрачности роговой оболочки. Могут попасть в роговую оболочку и болезнетворные микробы. От этих и от других причин, если не принимаются лечебные меры, на роговице появляется беловатое пятно. Сперва слабо заметное, оно потом становится все более плотным. Образуется бельмо. Зрачок глаза оказывается как бы задернутым пеленой.
Бельмо, рубцевое помутнение превращают прозрачную ткань роговицы в непрозрачную. Это преграда, ширма, через которую свет не может проникнуть в зрачок. Раз лучи света не проникают в зрачок, то они не попадут и на заднюю стенку глаза, на сетчатую оболочку, в которой имеются окончания зрительного нерва. Стало быть, в мозгу человека не появится зрительного ощущения. Это и есть слепота. Бельмо, захватившее роговицу обоих глаз, приводит к полной слепоте.
Досаднее всего, что в таких случаях весь остальной аппарат зрения в полном порядке, а вот кусочек мутноватой ткани величиной с ноготь закрывает от мозга весь мир, делает человека тяжелым инвалидом.
На протяжении многих веков никому из врачей не приходило в голову, что можно как-нибудь помочь человеку в этой большой беде.
Только в XIX веке врачи принялись вплотную за решение этой проблемы. Тогда и была придумана очень интересная операция, получившая наименование иридэктомии.
Бельмо не пропускает лучи света в зрачок. С помощью иридэктомии устраивали другой зрачок, в стороне от прежнего, сбоку бельма. Получался новый зрачок, искусственный.
Что суживает в нормальных условиях зрачок глаза? Радужная оболочка, или радужка, та самая, по цвету которой мы и различаем цвет глаз. Радужка может расширяться, уменьшая отверстие зрачка, может сокращаться, увеличивая отверстие зрачка. Так регулируется приток света к сетчатке. Радужка — это подвижная диафрагма зрачка.
Сам же зрачок — это отверстие в радужке, открывающее свету доступ к двояковыпуклому хрусталику и далее — к сетчатке.
Задача хрусталика вместе с прозрачной роговой оболочкой глаза — собирать лучи света, преломлять и отбрасывать их на сетчатую оболочку с имеющимися в ней нервными окончаниями.
Иридэктомией создают искусственное отверстие в радужной оболочке сбоку от бельма. Для этого разрезают роговую оболочку там, где ее прозрачность не нарушена помутнением. Через разрез вытягивают радужку и с краю вырезают в ней отверстие, а потом оставшуюся часть радужки возвращают на свое место.
Теперь световые лучи войдут через новое отверстие, сделанное под роговой оболочкой в радужке, и проникнут в зрачок, а оттуда — в хрусталик. Проникнет, конечно, меньшая часть потока световых лучей, и зрение будет, значит, неполное, но все же неизмеримо лучше, чем полная слепота.
Иридэктомия была счастьем для многих людей, ослепших вследствие помутнения роговицы. Для многих, но, к сожалению, не для всех. Потому что не у всех таких слепых сохранился хоть краешек прозрачной роговой оболочки. У многих бельмо закрывало всю роговую оболочку без остатка. Таким не помогала и иридэктомия.
Дорога к успеху
До середины XIX века для борьбы со слепотой врачи ничего придумать не могли, кроме иридэктомии. Слепые, у которых бельмо сплошь закрывало роговицу, так и оставались слепыми на всю жизнь.
Ослепшие люди обращались к врачам, умоляя их вернуть потерянное зрение, если не полностью, то хотя бы частично. Врачи в те времена тоже не считали, что слепые должны оставаться слепыми. Наоборот, они стремились найти средство борьбы с помутнением роговой оболочки.
Как больные, так и врачи понимали, что все дело в бельме — в этой небольшой мутной пленочке. Стоит только снять ее, как лучи света хлынут в глаза.
Можно ли было просто вырезать бельмо?
Нет, получилась бы рана, которая вскоре заросла бы толстым, грубым рубцом. Такой рубец еще более непрозрачен, чем бельмо. Затем, во время операции через рану могла бы вытечь полужидкая часть глаза — содержимое так называемой передней камеры и стекловидное тело. В рану могли бы, кроме того, попасть микробы, инфекция. Так или иначе человек безвозвратно лишился бы зрения. Бельмо, по сравнению с этим, конечно, меньшее зло.
Врачи задумались над другим способом лечения.
Нельзя ли сделать в бельме отверстие прямо против зрачка и вставить туда что-нибудь прозрачное, например, стекло? Стекло не давало бы ране затягиваться сплошным рубцом и позволило бы свету проникать в зрачок. Иначе говоря, нельзя ли применить стеклянный протез?
Эта мысль долго владела врачами-окулистами. Было сделано многое в этом направлении, испытаны разные, иногда очень своеобразные средства.
В середине прошлого столетия к немецкому врачу Зальцеру обратился один слепой, настойчиво желавший прозреть. Пациент был не только настойчив, но и богат. Он предложил Зальцеру не стесняться в расходах, но Зальцер ничего не мог сделать.
Даже самый богатый человек не мог бы купить себе за любые деньги хоть немного зрения. Однако пациент Зальцера продолжал настаивать на своем, и Зальцер, который много думал об искусственных роговицах из стекла и даже производил опыты на животных, решил попытаться вставить протез в один глаз этого настойчивого больного.
Для протеза достали горный хрусталь. Из него выточили маленький диск и вставили в золотую оправу. На оправе сделали особые острые шипики. Диск можно было вывинчивать из оправы.
Затем Зальцер вырезал в бельме дырочку и вставил в нее этот хрусталь с оправой, как вставляют раму со стеклом в окно.
Острые шипики должны были мешать протезу выпадать из глаза.
Вознаградилась ли настойчивость больного? Стал он видеть? Нет. Хрусталь раздражал ткань глаза, появились мутные выделения. Приходилось беспрерывно вывинчивать хрусталь из оправы, вытирать его и промывать глаз. Кроме того, протез часто сдвигался то вверх, то вниз, то вбок и это причиняло больному большие неудобства.
Так прошло два года. Наконец, протез перестал держаться в рубце и совсем выпал. Богатому пациенту не помогло его золото: он остался слепым.
Врачам того времени стала известна неудачная попытка Зальцера и других врачей. Выводы напрашивались сами собой. С протезами было покончено.
Однако, сама идея удалять бельмо в месте его наибольшей непрозрачности, в центре помутнения, и заменять его чем-то прозрачным, — осталась.
Заменить же бельмо чем-то таким, что являлось бы не стеклом и в то же время было бы прозрачным, не чужеродным для глаза, можно было только одним — здоровой роговицей.
Единственная ткань в организме, обладающая прозрачностью — это роговица.
Попытки удаления бельма и замена его чем-то прозрачным вели к идее пересадки роговой оболочки.
Угасшие надежды
Первые операции пересадки роговицы начали производить только в 1865 — 1866 годах, т. е. почти через пятьдесят лет после того, как была высказана мысль о возможности такой пересадки.
Что задержало почти на полстолетие осуществление идеи, которое ожидалось тысячами людей с огромным нетерпением и явилось бы для них настоящим благодеянием? Трудность операции.
Тогда еще о пересадках ткани на глаз почти ничего не знали. Как вести очень тонкую операцию на таком небольшом пространстве, как площадь роговицы, на таком сложном и важном органе,, как глаз, — об этом даже крупнейшие специалисты того времени имели самое смутное представление.
Но главное заключалось даже не в этом. Главное заключалось, в материале для пересадки. Брать роговую оболочку у трупа, мертвую роговую оболочку — казалось нелепостью. Нужно было брать ее только у живых. Однако какой человек со здоровыми глазами даст вырезать у себя роговицу, то есть согласится ослепнуть, во всяком случае, на один глаз!
Если же и найдется такой человек, то получить у него кусок роговой оболочки еще недостаточно. А как ее сохранить? Ведь всякая отсеченная ткань начинает сморщиваться. Лишенная же питания роговица, кроме того, начинает мутнеть. В итоге вместо. Прозрачной ткани окажется пересаженной помутневшая ткань, через которую свет не проходит.
Все врачи-окулисты того времени это знали, поэтому мысль, о пересадке представлялась весьма необычной.
Один из видных хирургов начала XIX века, услышав о предложении лечить слепоту пересадками роговицы, воскликнул:
— Это самая смелая идея, которая когда-либо приходила в голову врача!
Нашлись опытные хирурги-окулисты, которые стремились, ввести в медицинскую практику пересадку роговицы.
Некоторые врачи сделали слепым довольно много пересадок роговицы. Среди этих специалистов были и очень талантливые-хирурги и неплохие изобретатели, которые сконструировали особые инструменты, позволившие удобно вырезать отверстие в бельме и такой же кружок в ткани здоровой роговицы.
Каковы же были результаты?
Врачи добились того, что пересаженная ткань приживала на. новом месте, срасталась с глазом. Но зрения слепым они вернуть все же не сумели. Пересаженная роговица через некоторое время мутнела.
Выходило так, что пересаженная ткань, несмотря на блестящее мастерство и виртуозность хирурга, обязательно теряла свою-прозрачность. _ у ^
Или же врачи допускали какую-то ошибку?
Действительно, ошибку нашли: все дело портил источник, из которого получали материал для пересадки. Роговицу брали у кроликов, овец, собак, даже у кур. Тогда еще не знали, что ткани животных не могут заменить во всем ткани человека.
Но когда начали производить пересадку роговицы от человека к человеку, то и от такой операции ничего хорошего для слепых не получалось.
Опубликованные работы крупных специалистов с сообщением о неудачах надолго охладили у врачей и исследователей интерес к пересадке роговицы.
Надежды, родившиеся было у тысяч людей, обреченных на вечную слепоту, стали угасать.
К началу XX века, когда хирурги уже уверенно пересаживали и кожу, и кости, и хрящи, и сухожилия, и даже нервы, почти никто из окулистов не занимался операцией пересадки роговицы.
Свет и тени
Что же нового дала медицина после всех этих попыток? Вслед за разочарованиями, трудностями, казавшимися непреодолимыми, было ли совершено какое-либо новое открытие?
В 1906 году в специальной медицинской прессе появилась статья, очень заинтересовавшая врачебный мир. В ней содержалось описание операции, успешно произведенной слепому.
Ему пересадили роговицу, взятую из глаза другого человека. Пересаженная ткань не только прижилась, но и сохранила свою полную прозрачность. На протяжении ряда лет, до самой смерти, больной превосходно видел. Это была единственная подобная операция, но она бесспорно доказала, что пересадка роговицы вполне возможна и притом с абсолютным успехом. Сделал ее Цирм.
Разумеется, это событие явилось для всех хирургов-окулистов толчком к новым поискам, к новым экспериментам.
Был ли в данном случае придуман новый способ операции или нашли новый способ получения материала для пересадки?
Нет, ничего нового не было придумано, ничего нового не было найдено. Сделали операцию так же, как обычно ее тогда делали. Это был просто случайный успех.
Неудивительно, что потом опять пошли неудачи.
Через два года в 1908 году проблемой пересадки занялся один из выдающихся врачей Европы — чешский окулист Элынниг. Техника операции, которую он разработал, оказалась лучше прежней. Затем Эльшниг ввел в употребление инструменты, упрощавшие пересадку.
Число оперированных стало увеличиваться. Уже до 1931 года Эльшниг и его ученики сделали двести три пересадки. Это была, разумеется, неслыханная цифра, но из них только тридцать одна операция целиком прошла удачно, дав хорошие результаты.
И все же это представлялось фактом первостепенной важности. Впервые во всем мире не один, а тридцать один человек прозрели. Медицина совершила тридцать одно «чудо» превращения слепых в зрячих.
Одновременно шла работа и в других странах. К этому же году можно было насчитать до двухсот пятидесяти пересадок, сделанных в Америке, Италии, Англии. И там у пятнадцати процентов слепых зрение восстановилось.
Действительно, можно было, пожалуй, считать, что в проблеме пересадки роговой оболочки наступила новая эпоха. Выходило и в самом деле так, что в борьбе со слепотой наука сделала огромный шаг вперед.
Но по существу этот шаг вперед сопровождался большим количеством неудач. Если даже согласиться, что в такой сложной операции невозможно совсем избегнуть неудач, то и допускать их в таком размере не следовало никак.
Из двухсот пятидесяти человек, подвергшихся операции, остались слепыми почти двести пятнадцать — это приводило в отчаяние окулистов.
Возникал неизбежный вопрос: отчего в одних случаях исход операции был благоприятным, а в других случаях — неудачным?
Разгадать причину этого долго никто не мог.
И вот в те же годы появились сообщения, которые изумили окулистов всего мира. Опубликованные данные говорили, что в нашей стране не только широко поставлена борьба со слепотой, но что результаты превосходят всякие ожидания, все достижения зарубежных хирургов. Высокий процент выздоровлений представлялся неслыханным. В нашей стране была разгадана причина неудачных исходов, всегда сопровождавших операции пересадки роговой оболочки.
Секрет огромного числа неудач был обнаружен; и тогда же был обнаружен и метод борьбы с этими неудачами.
Разгадку нашел советский окулист, профессор, а ныне действительный член Академии медицинских наук, Герой Социалистического Труда Владимир Петрович Филатов.
Побежденная ночь
У редактора заводской многотиражной газеты заболели глаза. С каждым днем состояние больного становилось все хуже. Пришлось оставить работу. Один глаз, закрытый бельмом, совсем не видел. Зрение на втором глазу тоже сильно упало, и там развивалось воспаление. Болезнь называлась паренхиматозный кератит. Редактор стал полным инвалидом.
Что было делать? Ни один окулист ничего хорошего не обещал осле-пшему. Бельмо! Против этого в медицине нет средств. Надо терпеть. Такова, значит, судьба. А впрочем, не попытать ли
счастья в Одессе? И редактору посоветовали поехать туда в глазной институт.
Это было в 1923 году.
В 1926 году инвалид поехал в Одессу. Сопровождала его родная сестра. Она водила его за руку.
Сестра привела слепого в клинику. Его принял профессор. Лица профессора больной не видел, то, что говорил профессор своим ассистентам, было непонятно из-за многих специальных медицинских терминов, но в самом голосе профессора ему почудилось что-то ободряющее. Надеждой прозвучали для инвалида слова, произнесенные профессором:
— Давайте попробуем сделать операцию. Сделаем, все, что можно. Сделаем пересадку.
Через несколько дней редактора оперировали.
Пять дней после этого он пролежал почти неподвижно. Ему ежедневно меняли повязку на глазах.
Через два с половиной месяца он уезжал обратно в свой город вместе с сестрой. Она больше не водила его за руку. Он перестал быть инвалидом. Он стоял почти все время у окна вагона и видел синее небо с плывущими белыми облаками, видел зеленые поля, серую в яблоках лошадь, запряженную в черный шарабан, полосатый шлагбаум у переезда... Радость переполняла его сердце.
Через две недели заводская многотиражка опять выходила за его подписью, и, как прежде, он правил рукописи.
Каждые два месяца, год за годом, почтовый вагон увозил в Одессу его письмо. Редактор писал, что видит хорошо, что зрение его нормально. В заключение он посылал слова горячей благодарности тому, кто вернул его к свету, к труду, к жизни. На конверте стоял неизменный адрес: «Одесса, Научно-исследовательский экспериментальный институт глазных болезней. Профессору Владимиру Петровичу Филатову».
Слепой летчик... Это ужасное несчастье. Привыкнуть видеть необъятные просторы и потом не видеть даже своей руки. Привыкнуть летать с быстротой ветра, а потом двигаться с опаской, еле-еле, мелким, неуверенным шагом, с трудом переходя улицу.
Нечаянный удар по глазам сделал летчика слепым.
Удар сопровождался ранениями. После них образовались рубцовые бельма.
Летчик также попал в Одессу, в институт к Филатову. Он входил туда, еле отличая ночь от дня. Вышел он через несколько месяцев. Теперь он видел все, видел даже издали номер вагона приближающегося трамвая. Он вернулся к своим обязанностям и снова уселся за штурвал своей могучей машины.
От него, из города Сумы, также стали приходить через определенные промежутки времени письма к профессору Филатову: «Все в порядке. Зрение превосходно».
Такие же письма каждые полтора месяца приходили из Житомира от библиотекарши, еще недавно погруженной в непроницаемую тьму слепоты.
Для нее все было кончено. Она была полным инвалидом. Но чудесные руки профессора Филатова вернули ей зрение, вернули радость жизни. В каждую строку своих писем она вкладывала все новые слова признательности.
С каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом все меньше и меньше становится неудачных операций, все растут и растут стопки писем на столе профессора. Их присылают уже с Дальнего Востока, из знойного Таджикистана, с холодного, сурового Севера. Число городов, откуда пишут недавние пациенты Филатова, непрерывно увеличивается. Отовсюду сообщают о великом благе, которое принес кусочек роговой оболочки, пересаженной профессором.
Так кусочек роговицы победил темную ночь слепоты.
Счастливое открытие
Что же, собственно, сделал Филатов? Какую разгадку он нашел?
Операция пересадки заключается в том, что вырезают бельмо и на его место накладывают пластиночку из роговой оболочки, взятой от другого глаза. У кого можно взять глаз? У только что умершего человека, например.
Эльшниг, его ученики и все другие окулисты именно так и поступали. Чем раньше после момента смерти удавалось получить роговицу умершего, чем скорее можно было пересадить ее на слепой глаз, тем больше было шансов на успех. А если удавалось получить роговицу сразу же после смерти, через час-другой, то это было совсем хорошо. Еще лучше — роговица живого глаза. Но где ее взять? Очевидно, там, где она становится ненужной. Доставили, например, в больницу человека с размозженными стенками глазницы после уличной или железнодорожной катастрофы. Пострадавший глаз не спасти, его надо удалить, но роговая оболочка цела. Вот у этого удаленного глаза срезают роговую оболочку для пересадки.
Эльшниг и остальные врачи считали, что гарантия удачи в том, чтобы живая или почти живая роговица возможно быстрее была бы перенесена на место пересадки.
Филатов эти представления опроверг. Он доказал, что надо поступать совсем наоборот.
Там, где пересаживали роговицу, только что взятую у живого человека или свежего трупа, удача если и была, то оказывалась чаще всего кратковременной. Роговица приживалась, но потом мутнела. Только немногим операция приносила излечение. Чаще же всего она была безуспешной. Это являлось источником глубокого разочарования для врача и тяжелым ударом для больного.
Филатов принял противоположное решение. Он категорически возражал против пересадки свежей роговицы. По его мнению, роговицу можно применять не раньше чем через три-четыре дня порле смерти того, у кого она была взята. Эти три-четыре дня до использования роговицу надо хранить в леднике, при трех-четы-рех градусах тепла и уж никак не выше пяти.
Как обосновал Филатов свое предположение? Он ни на секунду не сомневался в справедливости своего утверждения, потому что результаты многих лет работы очень красноречиво говорили сами за себя.
Эльшниг вернул зрение 31 больному из 203, т. е. 15 процентам своих пациентов, а применял он почти исключительно роговицу живого глаза.
Филатов брал только роговицу трупов после трех-четырех дней хранения, консервирования ее в холодильном шкафу. Произвел Филатов 671 пересадку. Вернулось зрение у 305 больных, т. е. у 45 процентов оперированных! Это было в три раза больше, чем при пересадке свежей роговицы.
Но среди этих 671 больных находилось 294 таких, которые заведомо были непригодны для операции по разным причинам. Им ничто не помогло бы. Филатов делал им пересадку, мало надеясь на успех, чаще всего только уступая их горячим мольбам.
Если исключить таких больных, то 305 удачных операций приходится уже не на 671 больного, а на 377. Это составляет почти 80 процентов! В пять с лишним раз больше, чем у Элыннига!
Эти цифры Филатова были получены в результате применения консервированной роговицы. Именно это обстоятельство обеспечило успех. Вот что разгадал Филатов. Это было подлинно счастливое открытие!
Следует помнить, что даже маленькое достижение, ничтожное преимущество в этой области, является огромнейшей победой. Ведь речь идет буквально о человеческом счастье. Сколько во всем мире слепых? Считается, что их не меньше пятнадцати миллионов. Вероятно, пяти миллионам из них можно произвести пересадку роговицы.
Понятно, что даже самое небольшое усовершенствование в этой области означает увеличение числа прозревших на сотни тысяч, а при улучшении на пятьдесят-шестьдесят процентов — счет идет уже на миллионы.
Надо сказать, что Филатов также придумал очень удобные инструменты для такой тонкой, ювелирной операции, как пересадка роговицы. Он выработал свою наиболее совершенную технику, свой способ проведения этой операции.
Но главное заключалось в подготовке роговой оболочки трехчетырехдневным хранением ее в холодильном шкафу при строго определенной температуре.
Именно благодаря консервированию трансплантата операция Филатова возвращала зрение почти каждому слепому, если только у него в глазу не произошло непоправимых разрушений.
Это было замечательнейшим достижением, вписавшим славную страницу в летопись медицины.
Множество прозревших людей с любовью и благодарностью повторяют имя советского ученого из Института глазных болезней в Одессе.
Новая цель
Как все же удалось Филатову сделать такое открытие — найти, что консервированная роговица не теряет своей прозрачности. Борьбой с потерей зрения Филатов занимался много лет. Он много лет занимался и вопросами пересадки роговицы. Случайности в его открытии не могло быть.
В поисках решения Филатов вспомнил один пример из врачебной практики.
В работе одного окулиста была описана операция, при которой ему срочно потребовалась роговица для пересадки. Свежеудаленного глаза у него не было. Пришлось ввиду безвыходности положения воспользоваться глазом, который хранился на льду уже восемь дней.
Операция прошла хорошо. Роговица, хранившаяся в течение восьми дней, прижилась и только чуть-чуть помутнела, но и это помутнение вскоре исчезло. Прозрачность быстро восстановилась. Слепой прозрел.
Окулист описал это, как курьез. Он был уверен, что из операции ничего не выйдет, так как хорошие результаты, по общему мнению, давала только свежая роговица глаза, взятая от живых людей. Описывая свой случай, этот врач как бы хотел сказать: «Вот бывают же такие странности и неожиданности».
Так посмотрели на это и все остальные окулисты.
Когда Филатов прочитал попавшуюся ему статью, он отнесся к описанному в ней факту по-иному. Чутьем настоящего ученого он понял, что здесь кроется какое-то чрезвычайно важное обстоятельство. Казавшийся странным случай с длительно хранившейся роговицей требовал изучения.
История такой удачной операции направила мысль Филатова на обстоятельство, на которое никто не обратил внимания: речь шла о пребывании вырезанного глаза в течение долгого времени на льду.
Многочисленные опыты показали Филатову, что дело действительно не так просто и объясняется совсем не случайностью. По мере дальнейших исследований перед Филатовым все больше раскрывались преимущества консервированной роговицы. Убедившись в этом, Филатов применил ее на людях и получил те блестящие результаты, о которых мы уже говорили.
Работы Филатова получили общее признание. В нашей стране и далеко за ее пределами широко распространилась слава о нем как об искусном враче и целителе одного из тягчайших человеческих недугов.
Казалось, Филатов мог считать себя удовлетворенным теми успехами, которых ему удалось достичь.
Но он был не только великолепным врачом. Он обладал еще и неутомимой пытливостью ученого. Филатов стал добиваться объяснения, почему консервированная роговица трупа обладает способностью сохранять свою прозрачность.
И вот в момент, когда все больше и больше становилось людей, которым он вернул зрение, когда Филатов, казалось, достиг всего, чего нужно было достичь, когда он доказал, что его метод действительно самый правильный, и когда на всем этом он мог бы поставить точку и заниматься лишь усовершенствованием своего метода, — именно в этот момент началась цепь новых необыкновенно интересных открытий, приведших к самым неожиданным результатам, имеющим не только теоретическое, но и практическое значение.
Стимулирующие вещества
Утверждение Филатова о том, что свежая ткань, ткань живого глаза менее пригодна, чем взятая у трупа и законсервированная, было парадоксальным. Распространенное мнение о том, что чем свежее ткань, тем более она пригодна для пересадки, являлось азбукой не только для окулистов, но и для врачей любой другой специальности. А Филатов не только утверждал обратное, но и доказал правильность своего утверждения.
Как же объяснить такое противоречие?
Надо допустить, что в тканях умершего человека, сохраняющихся известное время, появляются какие-то вещества, позволяющие некоторое время поддерживать их жизнь. Для того, чтобы эти вещества могли образоваться, нужен срок — несколько дней.
Так рассуждал Филатов. В сущности это являлось только предположением, но это было единственно достоверным предположением. Филатов назвал такие вещества «биогенными стимуляторами», т. е. веществами, которые могут возбуждать, стимулировать жизненные процессы. Но тут возникали тотчас же новые вопросы. Разве отрезанная ткань не умирает? Разве она уже не мертвая ткань?
Нет. Известно, например, что ногти и волосы у мертвеца долго еще растут. Известно также, что ткани куриного зародыша могут очень долго расти, если их поместить в специальную питательную жидкость. Да и не только куриного зародыша, но и человека. А в опытах Кравкова «жили» очень долго пальцы, отрезанные у трупа.
Вырезанный даже через десять-дверадцать часов глаз трупа — не есть мертвый глаз. В его тканях еще не угасли жизненные процессы. При тончайших наблюдениях под микроскопом еще и через пять дней в роговице такого глаза можно обнаружить движение клеток. Значит, эта ткань еще живая.
Но она поставлена не в те условия, в каких находится в живом организме. Она находится в худших условиях, в условиях, затрудняющих ее жизнь, в условиях отсутствия питания: это все невыгодные для жизни обстоятельства. Хранение при температуре всего в три-четыре градуса тепла еще больше отягощает эти условия.
Что же происходит с такой тканью? Подчиняется она безропотно гибельной для себе перемене?
Нет, она живет. Она борется за свою жизнь. Отрезанная, но пока еще живая, ткань борется, но как, чем? Тем, что работа ее клеток перестраивается. Ее клетки начинают вырабатывать вещества, которые поддерживают жизнедеятельность ткани в тяжелых, неблагоприятных, суровых для нее условиях.
Как можно поддерживать такую ткань? Усиливая ее сопротивление суровым условиям, возбуждая в ней жизненные процессы. Новые вещества, образующиеся в консервированной роговице, помогают ее клеткам выживать.
Вот почему Филатов назвал эти вещества «биогенными стимуляторами», то есть веществами, поддерживающими жизненные биохимические реакции.
Опыты показали, что стимулирующих веществ развивается в ткани больше всего к третьему-четвертому дню хранения. К этому сроку они накапливаются в достаточном количестве. Теперь ясно, почему роговица, пересаженная после трехдневного консервирования, приживается и не дает помутнения.
Приживается она потому, что является жизнеспособной тканью, а не мутнеет потому, что в ней под влиянием усиленного действия стимуляторов идет активная борьба с неблагоприятными обстоятельствами. Вследствие этого выпавшие в прозрачных клетках белковые частицы, образующие помутнение, рассасываются.
Теперь ясно и другое — почему ткань глаза живого человека менее пригодна для пересадки. Такая ткань находится в нормальных условиях. Она не нуждается в стимуляторах, и она их не вырабатывает. Пересаженная на новое место такая ткань не может поэтому успешно бороться с наступающим помутнением. Она для этого еще не подготовлена, еще не вооружена достаточным количеством стимуляторов.
Так объяснил Филатов кажущееся противоречие в действии свежей роговицы и консервированной.
Объяснил не только одно это. Он объяснил еще и то, что наблюдали, но не понимали другие окулисты.
И Эльшниг, и многие другие врачи отмечали, что при удачных операциях пересадки остается прозрачным не только сам кусочек роговицы, пересаженный против зрачка, но начинает просветляться и часть бельма, еще оставшаяся вокруг трансплантата.
Такое, само по себе непонятное, явление раньше не привлекло ничьего внимания.
Филатову же стало ясно, что действие стимулирующих веществ не ограничивается пределами пересаженного кусочка роговицы. Стимулирующие вещества выходят за его пределы, проникают в соседние клетки, где имеются остатки бельма, и повышают их способность к сопротивлению. Вместе с тем Филатов увидел, что теперь открывается еще одна чрезвычайно серьезная сторона вопроса, касающегося пересадки консервированной ткани: речь идет об активности стимуляторов.
Особенно поучительной в этом отношении была операция, произведенная Филатовым одному железнодорожнику. Этот больной после воспаления на обоих глазах потерял полностью зрение. На каждом глазу было бельмо.
Профессор Филатов сперва произвел больному пересадку роговицы на правый глаз.
Пока железнодорожнику меняли перевязки, пока следили за послеоперационным заживлением, пока делали другие лечебные процедуры, шел день за днем. Наконец, повязки были сняты и можно было приступать к операции на втором глазу. И тут Филатов обнаружил необычайное явление. На втором глазу вместо прежнего довольно густого и непроницаемого бельма виднелось только слегка мутнеющее пятнышко. Иначе говоря, бельмо левого глаза почти совсем просветлело само по себе. Для него не требовалось уже никакой пересадки. Это сделали биогенные стимуляторы, поступавшие из трансплантата правого глаза.
Позже такое явление Филатов наблюдал часто. Но в первый раз оно вызвало изумление. Изумил не только сам факт, поражала сила биогенных стимуляторов.
В самом деле, каков был размер пересаженного на правый глаз кусочка роговицы? Весил он одну пятую грамма, а величиной был, примерно, с половину ногтя мизинца. Надо полагать, что действие биогенных стимуляторов на различные ткани осуществляется посредством нервной системы. Но возможно еще и действие также гуморальным путем, то есть посредством крови и лимфы. А это значит, что стимулирующие вещества такого крохотного кусочка выделялись в кровь и через нее добрались до второго, левого, глаза; при этом количество их было, конечно, очень ничтожным.
Но даже и этого ничтожного количества веществ было достаточно, чтобы вызвать в клешах мутной роговицы второго глаза процесс рассасывания. Так велика активность стимулирующих веществ! Филатов тотчас оценил ее по достоинству и сделал отсюда свои очень широкие и смелые выводы.
Считалось, что задача пересадки сводится лишь к тому, чтобы одной тканью заменить другую. На место негодной, испорченной ткани, на место бельма помещают кусочек нормальной ткани, который, прижившись, должен выполнять функцию прежней ткани. И ничего больше.
Перед Филатовым, изучавшим случай с железнодорожником, ярко обнаружился новый смысл пересадок. Оказалось, что пересаженная роговица не только была материалом для замены помутневшей роговицы. Она, кроме того, излечивала болезнь, развертывавшуюся у больного совсем не в месте пересадки, то есть не в правом глазу, а сравнительно далеко от него — в левом глазу.
Разумеется, все это можно было понять только в том случае, если допустить, что биогенные стимуляторы оказывают свое основное действие через весь организм, а стало быть, через центральную нервную систему.
Теперь вернемся к выводу, сделанному профессором Филатовым.
Пересаженная роговица обладает не только замещающим свойством, но и лечебным.
Это был вывод чрезвычайно большого значения.
Просветление бельма левого глаза в результате влияния стимулирующих веществ, поступающих из отдаленного источника, каким являлся правый глаз, намечало открытие совершенно нового метода лечения болезней.
Нарушение границ
Теперь совершенно неизбежно возникал законный и весьма важный вопрос: является ли выработка стимулирующих веществ свойством только выживающей роговицы, не обладают ли им и
другие ткани? Оказалось, что ответ на этот вопрос мог быть только утвердительным. И это понятно. Ведь все ткани подчиняются одним и тем же физиологическим законам. Для любой из тканей могут быть созданы затруднительные, неблагоприятные » условия жизни. Тогда в каждой подобной ткани должны вырабатываться стимулирующие вещества. Но в таком случае можно заставить каждую ткань делать то, что сделала у железнодорожника роговица, пересаженная на правый глаз и вызвавшая рассасывание бельма на левом глазу. Значит, и остальные ткани должны оказывать такое же действие при пересадках.
Филатов начал с той же роговицы. Одному больному он пересадил роговицу не на бельмо, а сбоку, у самого края бельма. Че-раз некоторое время густое бельмо превратилось в слегка мутнеющее пятно. Еще одна такая же добавочная боковая пересадка совсем «стерла» пятно, довела его до полного просветления.
Тогда Филатов предпринял то, что прежде показалось бы совершенно невероятным. Он стал лечить помутнение роговицы глаза не пересадкой роговицы, а пересадкой... кожи. Кусочек консервированной кожи, взятой с руки, Филатов пересаживал на висок, и у многих больных наступало улучшение зрения.
Во всяком случае, не очень запущенные заболевания роговой оболочки хорошо поддавались новому способу лечения.
Но ведь кожа не связана непосредственно с роговой оболочкой глаза. Если пересадка кожи помогает при воспалении роговицы, то не должна ли она помочь и при других глазных заболеваниях?
Это предположение было проверено. Пересадку кожи стали применять при воспалении сетчатки, воспалении сосудистой оболочки, при так называемом симпатическом воспалении, — очень тяжелом заболевании глаз, при поражении стекловидного тела, атрофии зрительного нерва, катаракте, повышении внутриглазного давления — глаукоме. Хотя применение нового метода не носило массового характера, — это было только началом, — но успех получался явственный. Почти всегда наблюдалось облегчение, задержка болезненного процесса. Нередко наступало и полное выздоровление.
После кожи пришла очередь мышц, печени, плаценты. Кусочки органов в консервированном виде пересаживали больным. Иногда пользовались особым видом пересадки — имплантацией. Это уже не пересадка, а введение измельченных кусочков пересаживаемого материала в глубину ткани,, чаще всего под кожу.
Напрашивался новый вопрос. Разве биогенные стимуляторы действуют только при глазных болезнях? Разве они усиливают жизненные процессы только в больных тканях глаза? Разве при неблагоприятных условиях клетки кожи или слизистой оболочки желудка, или легких, или нервов также не нуждаются в стимулирующих веществах? Нет, для всякого заболевания и этих тканей крайне нужны вещества, усиливающие их сопротивляемость болезни и способствующие выживанию.
Так учение советского ученого — академика Филатова — вышло за пределы области глазных болезней и постепенно стало завоевывать все новые и новые отделы медицины.
Замечательный факт
Перед нами встает законный вопрос. Кусочки ткани для пересадок, будь это роговица или кожа, берутся не у самого больного, не у того, кому делают пересадку, а у другого человека, обычно уже умершего. Но ведь, может быть, этот другой человек болел какой-нибудь заразной болезнью. Тогда может случиться, что вместе с кусочком взятой для пересадки ткани в тело человека будут перенесены болезнетворные микробы. Температура в 3 — 4 градуса выше нуля, при которой консервируются ткани, даже в течение 5 — 6 дней не убивает всех микробов. Значит, опасность переноса инфекции при пересадках действительно существует. Что же делать?
Вспомним, как вообще уничтожают микробов. Для этого применяют различные так называемые дезинфицирующие средства, например, раствор сулемы, карболовой кислоты. Но не всякую ткань можно подвергнуть действию сулемы или карболовой кислоты, так как эти сильно ядовитые вещества могут причинить
вред не только микробам. Кроме того, они не убивают микробов, попавших в глубину тканей, куда дезинфицирующие вещества проникнуть не могут.
Другой способ освободить какой-либо материал от микробов, сделать его, как говорят, стерильным заключается в том, что подлежащий дезинфекции материал помещают в особые аппараты — автоклавы. В них можно получить высокую температуру. Микробы же обычно гибнут при нагревании до ста — ста двадцати градусов.
Допустимо ли и для пересадок пользоваться сильными дезинфицирующими веществами? Мы уже знаем, что нельзя. Они не только убьют микробов, но и повредят пересаживаемую ткань.
Можно ли использовать для обеззараживания тканей автоклав?
При пересадках непременным условием успеха является пользование такой тканью тела, которая находилась в неблагоприятной для жизни обстановке, но не погибла. Многочисленные опыты показали, что подобная обстановка создается консервированием при 3 — 5 градусах выше нуля. Эта температура наиболее благоприятна для накопления биогенных стимуляторов. Но чтобы убить микробов, нужна температура не менее ста градусов! При такой температуре образование биогенных стимуляторов будет задержано или вовсе приостановлено. Значит, и автоклавированием нельзя пользоваться.
В результате настойчивых поисков Филатова и его сотрудников и эта трудная задача была решена.
Прежде всего, тщательные исследования показали, что многие микробы, в том числе и некоторые возбудители опасных болезней, теряют жизнеспособность и при температуре 3 — 4 градуса выше нуля, если она длится шесть дней. Но самое главное заключается в следующем. При изучении кожи и ряда других тканей, подвергавшихся консервированию, а затем действию высокой температуры, обнаружился замечательный факт. Кусочки кожи консервировались при 3 — 5 градусах выше нуля в течение 4 — 7 дней. К этому сроку, как уже известно, биогенные стимуляторы накапливаются в наибольшем количестве. Затем те же консервированные кусочки подвергались в автоклаве действию 120 градусов выше нуля в течение часа. Дальше следовало посмотреть, насколько потеряли эти кусочки тканей свою целебную силу. Исследователи были уверены, что температура в 120 градусов окажет разрушительное действие на биогенные стимуляторы. Интересно было только узнать, в какой мере.
Результаты проверки поразили их. Целебное действие биогенных стимуляторов сохранилось полностью. Контрольные опыты подтвердили, что нагревание до 120 градусов в течение часа не уменьшило лечебного эффекта консервированных тканей. Биогенные стимуляторы оказались теплостойкими.
В то же время мы знаем, что температура в 120 градусов выше нуля убивает всех микробов. Никакие живые возбудители болезней после этого в консервированных тканях не могли сохраниться.
Так было преодолено препятствие, казавшееся непреодолимым.
Мало того. Выяснилось, что накопление биогенных стимуляторов даже увеличивалось от действия высокой температуры.
На первый взгляд, это было уже совсем странно.
Но странным может представляться явление только до тех пор, пока оно не получит объяснения.
Дополнительные исследования показали, что консервирование при 3 — 5 градусах вызывает в результате биохимических изменений в тканях появление биогенных стимуляторов. Но часть этих веществ остается в клетках. После нагревания до 120 градусов накопление биогенных стимуляторов увеличивается за счет выделения их из тканей. Все это и ведет к накоплению биогенных стимуляторов.
Большие перспективы
Когда больная поступила в туберкулезную клинику Одесского медицинского института, то даже палатный врач, заботящийся об улучшении настроения своих пациентов, даже он затруднился сказать ей слова ободрения. Женщина страдала тяжелой открытой формой туберкулеза легких.
Она болела уже пять лет. Болезнь медленно, но неуклонно прогрессировала. Жар изнурял женщину. От слабости больная едва могла говорить, у нее часто появлялось кровохарканье.
Но, как выяснилось в клинике, этой женщине особенно не повезло. У нее обнаружили на задней стенки гортани и на голосовых связках туберкулезные язвы. Кроме туберкулеза легких, у больной имелся еще и туберкулез гортани.
Вот почему палатный врач затруднялся найти ободряющие слова. Что можно было обещать? Чудо? Но чудес не бывает.
Филатов, как и все советские медики, считает, что врач никогда не имеет права складывать оружие. У постели больного всегда должен стоять врач-оптимист. И когда профессор узнал об этом почти безнадежном случае, он тотчас предложил свой новый способ лечения. Он решил призвать на помощь стимулирующие вещества.
11 ноября 1937 года Филатов сделал больной пересадку консервированной кожи на шею под челюстью.
Через три дня профессор зашел в палату. Больная в это время завтракала. Завтракала! А сколько недель до этого она почти ничего не могла есть из-за мучительных болей при глотании. Язвы в гортани стали уменьшаться.
Через месяц больной была произведена вторая пересадка на шею. Через два месяца — третья. В апреле сделали четвертую пересадку. От пересадки до пересадки состояние больной улучшалось.
Наконец, в мае 1938 года был пересажен пятый и последний кусочек кожи.
В июне женщина, прибавив немного в весе, покидала клинику. У нее почти исчезла одышка, кашель, температура понизилась почти до нормальной. Появились аппетит, крепкий сон, бодрость. Она ушла жизнерадостная, полная надежд, вполне работоспособная. Она верила, что сможет выздороветь. «Биогенные стимуляторы» кожной ткани сыграли огромную роль.
В клинику внутренних болезней в августе 1938 года доставили больного, печатника, с сильным желудочным кровотечением. Кровотечение было такое, что врачи даже не решались ощупать живот больного, опасаясь растревожить кровоточащий в желудке сосуд. Причина была ясна — язва желудка. Рентгеновское исследование подтвердило этот диагноз.
Болезнь протекала тяжело. Кровотечение иногда возобновлялось. Боли под ложечкой не исчезали. Тошнота и изжога изводили больного. Голодная диета вконец истомила его.
1 октября печатнику пересадили кусок консервированной кожи на подреберье. Уже через двое суток у него прекратились боли. А 10 октября его выписали на работу, дав указание следить за своим питанием, не есть грубой пищи.
Но 13 января 1939 года печатника снова доставили в клинику. Он съел слишком много сала и селедки. И это, очевидно, повредило еще не окрепший рубец язвы, и болезнь резко обострилась. Больному опять сделали пересадку кожи.
На второй день состояние печатника сразу улучшилось. А спустя немного времени он уже приступил к работе в типографии.
Один инженер заболел гриппом. Грипп прошел. Но осталось присоединившееся к гриппу осложнение — бронхиальная астма.
Девять лет астма мучила его. Приступы были почти ежедневно. Острый запах, волнение, переутомление, сырость, холодная погода, внезапный порыв ветра сейчас же вызывали приступ. Нередко через три-четыре часа наступал второй.
Лечили его впрыскиваниями адреналина. Иногда это помогало, чаще — нет. Лечили его облучением селезенки рентгеновскими лучами. Лечили электризацией. Сделали прижигание и операцию в носовой полости. Но все это почти не приносило улучшения.
7 ноября 1939 года больному пересадили на грудь полоску консервированной кожи. Наблюдались у него после этого приступы бронхиальной астмы? Да, наблюдались. За шесть месяцев у него было два приступа. Вместо ста восьмидесяти, как прежде! Пересадку повторили. Это было уже в марте 1940 года.
Больше бронхиальная астма не давала о себе знать. Так обстояло, по крайней мере, в течение тех шестнадцати месяцев, пока инженер подавал о себе вести.
Можно привести еще множество других примеров лечения методом пересадки тканей — не только кожи, но и брюшины, плаценты, хрящей. Можно было бы рассказать о лечении волчанки, о лечении незаживающих язв голени, бедер, рук, о лечении фурункулеза, воспаления брюшины, плохого срастания костей, рев-матизмов, ишиаса, ожогов, отморожений, даже сахарной болезни, брюшного тифа... Но мы ограничимся теми несколькими историями болезней, о которых только, что рассказали. Они достаточно красноречивы.
Конечно, отсюда еще нельзя сделать вывод о том, что пересадка всегда помогает. Много было и неудач. Понятно, что здесь, как и при любом методе лечения, имеет значение и состояние организма, и многие другие условия. В некоторых случаях те же болезни следует лечить другими способами. В медицине нет и не может быть универсальных, годных на все случаи средств излечения. Это надо хорошо помнить и быть осторожными в выводах, чтобы не допускать чрезмерных надежд и разочарований.
Следует признать, что даже отдельные удачи в этой области сулят большие возможности. Они показывают, что новый метод борьбы с болезнями, метод тканевого лечения, начавшись с роговицы, властно вторгается в практику больниц и клиник.
Как объяснить действие стимулирующих веществ в тех случаях, о которых мы рассказали? Надо иметь в виду, что, по Филатову, стимулирующие вещества влияют не только на очаг болезни, но и на все части организма, на всю систему защитных механизмов человеческого тела. Эти вещества действуют как возбудители на все органы и ткани, мобилизуют через нервную систему все их рессурсы для борьбы с болезнью.
Было поэтому совершенно естественным то, что неоднократно подмечал Филатов: когда лечили пересадкой помутнение одного заболевшего глаза, на другом, абсолютно здоровом глазу повышалась острота зрения, т. е. улучшалось даже нормальное состояние.
И хотя не всякий туберкулез легких и не всякую форму астмы, язвенной или какой-либо иной болезни можно лечить по Филатову, тканевой терапией, такой метод подает большие надежды. Тканевое лечение — еще очень юное, но многообещающее дитя медицины.
Проницательный и зоркий взгляд советского ученого сумел рассмотреть сквозь случайные и отдельные факты еще одну великую силу живого организма. И не только рассмотреть, но и использовать ее для борьбы за здоровье человека.
Без таинственности
Что же такое «биогенные стимуляторы»? Надо сказать, что природа биогенных стимуляторов полностью еще не раскрыта. Но очень много уже известно.
Так, например, установлено, что они не являются белковыми телами. Их нельзя отнести и к ферментам, играющим огромную роль в обмене веществ. Биогенные стимуляторы растворяются в воде. Они теплостойки. Какова же их химическая структура? На этот вопрос долго не удавалось получить ответ. Но в 1937 году было сделано очень любопытное открытие. Группа ученых выделила из обыкновенных бобов вещество, которое получило название дикарбоновой кислоты. И вот оказалось, что она обладает интересным свойством ускорять заживление ран.
Открытие такой ценной особенности дикарбоновой кислоты даже привело к тому, что ее стали называть травматиновой кислотой.
Потом было сделано еще одно открытие. В печени рыб, подвергнутых консервированию, образуются кислоты — янтарная и щавелевая. Эти кислоты относятся к ряду дикарбоновых кислот. Изучение консервированных листьев алоэ позволило извлечь из них коричную и лактон-оксикоричную кислоты, обычно в алоэ не содержащихся. Они тоже принадлежат к группе стимулирующих кислот, близких к дикарбоновым.
Так стала раскрываться природа загадочных биогенных стиму- * ляторов. Они оказываются веществами определенного химического, состава.
Новые горизонты
Человек мечется на кровати. Пульс у него неровный, прыгающий, он то обрывается, то снова появляется, становится быстрым и снова обрывается. Видимо, сердце употребляет последние отчаянные усилия.
Высокая температура сжигает больного. Он дышит часто, прерывисто. Он без сознания, в бреду. Это сыпнотифозный больной. Двенадцатый день его организм борется с тяжелым недугом.
Наступает тринадцатый день. Состояние больного еще более ухудшается. Столбик ртути в термометре поднимается до 41 градуса и обнаруживает тенденцию подняться еще выше. Высохшие губы потрескались. Стоны становятся слабее. Силы покидают больного. К ночи ему становится уже совсем плохо.
Но утром четырнадцатого дня врач застает больного в глубоком сне. Врач кладет руку на голову. Жар спал.
Врач щупает пульс больного, чтобы узнать, что с сердцем. Пульс еще несколько учащен, но он уже ровный, без перебоев, без скачков — сердце работает несколько вяло, но почти нормально.
Легкая влажность покрывает лоб больного. У него испарина, как будто он пробежал долгий путь или отдыхает после тяжелой работы. Он прошел трудный путь возвращения к жизни. Человек отдыхает после спора со смертью, которая уже стояла у его изголовья.
Что же произошло в ночь с тринадцатого на четырнадцатый день болезни? Произошло то, что называется кризисом болезни.
Кризис — это перелом. Болезнь как бы переломилась. До этой ночи она все усиливалась, а затем, как бы подсеченная, пошла сразу на убыль. Что же вызвало перелом болезни?
Известно, что с болезнью борются не только при помощи лекарств. Борьбу с болезнью ведут внутри организма его защитные средства: антитоксины, антитела, фагоциты. Если они побеждают, человек выздоравливает. Если они оказываются бессильными, то берут верх возбудители болезни, и человек погибает.
Филатов внес в это толкование свое дополнение, быть может, несколько парадоксальное.
К моменту кризиса состояние больного резко ухудшается. Это значит, что защитные силы организма уже не могут сами справиться с врагом. Организм изнемогает. Больной начинает умирать. Но он не умирает. Происходит крутая перемена. Натиск болезни обрывается и ослабевает. Можно подумать, что к защитным силам организма подоспела какая-то подмога.
Кто же этот союзник?
Филатов дает ответ: биогенные стимуляторы. Это они пришли в последнюю минуту на помощь больному организму.
Приближение смерти означает наступление самых неблагоприятных условий существования клеток тела. В клетках процессы жизни в это время энергично перестраиваются. Организм как бы делает последние усилия, чтобы выжить в тяжелых, невыгодных условиях, созданных болезнью. Появляются биогенные стимуляторы — последний резерв уходящей жизни. Поток биогенных стимуляторов, вспышка их появления — вот внезапный союзник защитных сил организма. Это и создает кризис болезни.
Но не будь приближения смерти, не было бы и вспышки биогенных стимуляторов.
Значит, поворот к выздоровлению вызван наступлением начала смерти.
Можно сказать такую странную фразу: больной выздоровел потому, что начал умирать. Филатов говорит, что всюду, где была близка смерть, появляются стимуляторы — последний резерв уходящей жизни. Потому что начало умирания — это лишь одна из стадий изменившихся к худшему условий жизни, самая тяжелая стадия.
От человека мысль исследователя, углубляясь в общие законы природы, идет дальше. Ведь человек — только часть живой природы. Не происходит ли что-нибудь подобное у всякого живого существа — у зверей, птиц, рыб, насекомых, растений?
Имеются веские основания считать эту возможность достоверной. Вот пример.
Есть такое тропическое растение — алоэ. Оно любит горячее солнце. Если алоэ держать в темноте, иначе говоря, в неблагоприятных для него условиях, то в его листьях разовьются стимуляторы. Доказательство было продемонстрировано довольно очевидным способом. Из листьев находящегося на воле алоэ получили
экстракт. Экстракт этот ввели в зародышевый листок другого растения — сирени. Что последовало дальше?
Ничего. Сирень росла, как и прежде. Ни быстрее, ни медленнее. Тогда сделали другой эксперимент.
Опять взяли экстракт алоэ. Но экстракт из листьев такого алоэ, которое держали двадцать пять дней в темноте при очень низкой для алоэ температуре — в три градуса выше нуля. Этот экстракт тоже ввели в зародышевый листок сирени.
Теперь получилась иная картина: рост сирени резко ускорился. Причина ясна. Она в том самом, чего не было в листьях первого алоэ и что оказалось в листьях второго, когда его держали двадцать пять дней в темноте, при суровой для него температуре.
Причина в появившихся у алоэ биогенных стимуляторах.
Теперь — небольшая справка из филатовских записей истории болезней.
Восемнадцати больным, которые страдали воспалением роговой оболочки, сделали впрыскивание под кожу экстракта листьев такого консервированного алоэ. Больные эти попадали к Филатову и его ученикам в разное время на протяжении нескольких лет. У одних заболевание было тяжелее, у других легче.
Но у пятнадцати человек результат оказался одинаковый. Воспаление пошло на убыль и быстро наступило выздоровление.
Исцеление принесли им стимуляторы алоэ.
Усиление роста сирени и улучшение состояния больных было замечательным доказательством того, что алоэ, помещенное в темноту и холод, перестраивало, активизировало свои жизненные процессы в новых, неблагоприятных, условиях.
Это также, доказывало, что любой организм — животный или растительный — отвечает на всякое ухудшение условий такой же перестройкой. Перестройка может сопровождаться образованием в тканях новых веществ.
Теперь подведем итог. Учение Филатова о клетке, стремящейся выжить с помощью биогенных стимуляторов, родилось из небольшой операции — пересадки роговицы. Затем оно перешагнуло пределы глазных болезней и проникло в другие области лечебной медицины.
Оно открыло новые возможности, новые горизонты в науке, став прочным достоянием медицины.
Вместо итога
Великий физиолог Иван Петрович Павлов, изучая работу органов пищеварения, придумал очень интересную операцию. Он из желудка собаки образовывал два желудка: один большого размера, другой гораздо меньший. Вся пища поступала в большой желудок, там перерабатывалась под действием желудочного сока и затем шла в тонкие и толстые кишки. В маленький желудок пища не попадала: он был очень искусно полностью изолирован от первого желудка. Пища в него не попадала, но желудочный сок при кормлении собаки выделялся и в нем. Сделав в маленьком желудочке отверстие — фистулу, и вставив в нее трубку, можно собирать чистый, без всякой примеси пищи, желудочный сок, такого же точно состава, как и желудочный сок большого желудка, где происходило переваривание.
Зачем Павлову понадобилась такая операция? А затем, чтобы изучая желудочный сок, получаемый из маленького желудочка, можно было знать, какой сок имеется в большом желудке и какие изменения в нем совершаются при поступлении той или иной пищи.
Теперь эту замечательную операцию образования маленького желудочка, сыгравшую огромную роль в физиологии, умеет делать каждый опытный физиолог.
В лаборатории Института глазных болезней, в Одессе, физиологи сделали нескольким собакам такую операцию — образовали малые павловские желудки. Из них стали получать желудочный сок. День за днем этот сок собирали. Было установлено, сколько обыкновенно его выделяется из маленького желудочка каждой собаки. Каждый день получалось определенное количество сока.
И вдруг произошла перемена. Поступление сока резко увеличилось.
Но почему? Кормили собак так же, как и раньше, и в те же часы, и в одной и той же обстановке.
Все дело было в том, что собакам сделали пересадку консервированной кожи. Биологические стимуляторы усилили физиологические функции организма.
Что произойдет, если у двух головастиков отрезать зачатки задних конечностей? Зачатки снова начнут расти. И этот процесс будет одинаковым у обоих головастиков.
В лаборатории того же Института двум головастикам отсекли зачатки задних конечностей. Опять они стали расти, но рост оказался неодинаковым: у одного головастика он был более быстрым. А отличался этот головастик от второго тем, что перед операцией его держали двое суток в помещении при четырех градусах выше нуля.
Взяли два участка одинаково подготовленной земли и посеяли на них хлопчатник. Урожай с одного участка дал хлопка на 20 процентов больше, чем со второго, да и созревание здесь закончилось на три дня раньше. Семена, посеянные на первом участке, были предварительно обработаны экстрактом из консервированных листьев алоэ.
Все сказанное подтверждает еще раз, что биогенные стимуляторы, накапливающиеся в консервированных тканях, действуют на весь организм, на все функции, на всякую ткань. Само собой разумеется, такое общее влияние у животных и у человека осуществляется при руководящем участии нервной системы.
Объектами весьма любопытных и в то же время необыкновенно
поучительных опытов стали спортсмены. Что общего между соревнованием по бегу и учением о биогенных стимуляторах? Может ли быть между ними связь?
Связь есть. И Филатов со своими сотрудниками ее установил.
У бегунов перед самым открытием состязаний исследовали остроту зрения. Затем начались соревнования. Сразу же после финиша опять исследовали остроту зрения у тех же бегунов. Она у всех повысилась.
Но отчего? Вот этим вопросом и занялись ученые. Ведь бегунам никаких пересадок и впрыскиваний не делали, биогенных стимуляторов им не вводили. Как же понять то, что произошло?
Несложный опыт открыл причину. У одного бегуна после финиша взяли немного крови и приготовили из нее водный экстракт. Экстракт впрыснули другому человеку, который никуда не бежал, ни с кем не состязался, а спокойно сидел на месте и даже не на стадионе, а в лаборатории. И получился интересный результат. У этого пребывавшего в покое человека тоже вдруг повысилась острота зрения.
Теперь ясно, отчего так могло произойти. В той крови, которая взята была у бегуна, имелись вещества, усиливавшие функцию зрения. Но откуда они могли взяться? Ведь перед состязанием их у бегунов не было? Значит, они появились во время бега. Другими словами, они образовались вследствие усиленной мышечной работы.
Чтобы определить характер этих веществ, опять взяли у бегунов немного крови и, сделав из нее водный экстракт, испытали их на так называемых тестах, то есть пробных объектах. Проверка на тестах показала, что свойства образовавшихся во время бега веществ, их действие совпадают со свойствами и действием биогенных стимуляторов.
Таким образом, напрашивается сам собой вывод большого значения: работа повышает образование биологических стимуляторов. Работа физиологически нужна, полезна. Филатов и говорит, что «работая не только физически, но и умственно, человек тонизирует себя, поднимает свой психофизический уровень».
Так труд приобретает еще одно ценнейшее и благородное значение в жизни человека.
В нашей стране, где труд есть дело чести и доблести, где труд естественно входит в быт и деятельность строителей коммунизма, учение замечательного исследователя В. П. Филатова представляет особенный интерес, проливая свет на физиологические причины оптимизма и неутомимости советских людей.
Против односторонности
Наука о глазных болезнях, о том, как их надо лечить, называется офтальмологией. Она, как это должно быть ясно из самой сути дела, занимается тем, что непосредственно связано с органом зрения, с глазами.
Во все времена офтальмология и представлялась ограниченной областью. Лечили глазное яблоко с его роговицей, хрусталиком, стекловидным телом, передней и задней камерой, сетчатой оболочкой, лечили соединительную оболочку, конъюнктиву, лечили веки, лечили нарушение внутриглазного давления и другие патологические изменения в органах зрения. За пределы этого офтальмологи не выходили. И такое положение считалось совершенно естественным. Заглядывать дальше своего офтальмологического мира специалистам по глазным болезням и не полагалось и не имело никакого смысла. Да и не приходило никому в голову.
Владимир Петрович Филатов всей своей деятельностью, всем ходом своего научного мировоззрения в корне изменил существовавший взгляд на так называемые узкие медицинские специальности. Он показал, что процессы, которые совершаются в тканях глаза, те же, что и в тканях остальных органов и подчиняются тем же физиологическим законам. Из всех работ русского офтальмолога, исследовательское дарование которого достигло наибольшего расцвета в период Советской власти, следовало, что орган зрения отражает также и общее состояние организма.
Отсюда следует, что узких специальностей не бывает. Всякая часть организма связана со всем организмом, как с единым целым. Здесь, как мы видим, полностью подтверждается еще раз учение И. П. Павлова о том, что тело животных и человека не есть сумма клеток, а единое целое, в котором все части находятся в тесной взаимной связи, осуществляющейся через нервную систему. И лечебная практика Филатова свидетельствовала, что врач не может замыкаться только в кругу своей специальности, не может быть односторонним в понимании патологического процесса.
Вот почему метод Филатова распространился далеко за пределы офтальмологии.
Учение Филатова о биогенных стимуляторах, о тканевой терапии оказалось весьма плодотворным. Оно входит во все лечебные учреждения, во все клиники — ив нервные, и в хирургические, и в кожные, и в туберкулезные, и в инфекционные, и в ушные, и во многие другие. В руках врачей разных специальностей появилось еще одно оружие защиты жизни от болезней.
Завоевав полное признание в нашей стране, учение о тканевой терапии перешагнуло и через ее границы. Работы Филатова широко известны в странах народной демократии. И там многие больные получают исцеление благодаря работам советского ученого. Министерство здравоохранения Китайской Народной Республики в марте 1951 года опубликовало указание о внедрении в число практических мероприятий лечебных учреждений метода профессора Филатова. Во всех крупнейших городах Китая тканевая терапия уже освоена и применяется с успехом при самых различных заболеваниях.
Даже в странах капиталистических, где продажная печать распространяет клеветнические измышления о советской науке, в Англии, Франции и в Северо-Американских Соединенных Штатах учение Филатова также находит себе сторонников. И число их непрестанно растет.
Все это показывает, что труды замечательного советского офтальмолога являются серьезным вкладом в-дело борьбы с болезнями.
Интересны некоторые черты Филатова как человека. Проводя всегда ту точку зрения, что узких специальностей в медицине не должно быть, Филатов в то же время своей деятельностью показывает, что настоящий ученый не замыкается в своей науке, не отворачивается от всех других сторон жизни. Занятый напряженнейшей исследовательской работой, пролагая новые пути в области медицины и биологии, Филатов ведет большую общественную работу, читает популярные лекции, пишет. Он очень любит художественную литературу, следит за ней, знает ее, сам пишет стихи. Он умело владеет кистью и глядя на многочисленные картины, висящие на стенах его кабинета, невольно думаешь, что в нем ученый помешал развернуться профессионалу-художнику. Филатов понимает и ценит природу; он неутомимый турист. Любовь к людям, к жизни, природе и к науке слились в нем гармонично.
Эта черта сближает его с такими русскими учеными как Илья Ильич Мечников, Иван Михайлович Сеченов, Иван Петрович Павлов.
Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии, действительный член Академии медицинских наук Владимир Петрович Филатов является достойным представителем передовой советской науки.
Глава восьмая. МИКРОБЫ ПРОТИВ МИКРОБОВ
Экскурсия в историю
Уже около трехсот лет ученые изучают мир микроорганизмов, и почти триста лет назад был устроен прибор, который увеличивал во много раз предметы и открыл перед пытливой мыслью ученых новые горизонты.
В 1673 году появился первый увеличительный прибор, давший возможность наблюдать микробов. Хотя он весьма мало походил на наши теперешние микроскопы, но для тех времен его способность увеличивать рассматриваемые через него предметы представлялась чудовищной. Он давал увеличение в 270 раз. Это была лупа Левенгука.
Уже тогда было понятно, что такой прибор — это как бы своего рода чудесный глаз, который может проникать туда, куда до него никто не проникал.
И, действительно, когда создатель этого первого микроскопа взял каплю воды из лужицы во дворе и поместил ее под стекло своего увеличительного прибора, то в этот момент произошло одно из величайших событий в истории науки: открытие мира незримых существ.
В капле воды можно было видеть бесчисленное количество каких-то живых телец, похожих то на шарики, то на палочки, кружки, запятые. Одни из них быстро двигались, мелькая в поле зрения. Были и такие, которые еле шевелились. Третьи были неподвижны.
В дальнейшем все эти микроскопические существа приобрели название вибрионов, спирохет, бацилл, кокков. Среди них оказались такие микроскопические животные, как инфузории, сувойки, амебы и многие другие.
Их находили всюду: в сыре, в настое сена, в стоячей и в проточной воде. Особенно поразительным представлялся тот факт, что в налете, соскобленном с зуба человека тоже кишмя кишели мельчайшие организмы.
Все они потом получили общее название микробов — от греческого слова «микрос», что значит «малый». В течение долгого времени никто не понимал, какую роль играют микробы в природе и в жизни человека.
Одним из первых, кто подошел к правильному пониманию значения микробов в заболеваниях, был замечательный русский врач и ученый Данило Самойлович Самойлович. Жил он в XVIII веке. Это был очень образованный человек. Его пытливый ум особенно привлекали так называемые эпидемические заболевания, например, холера, оспа, чума. Эти болезни уносили много человеческих жизней. Ученый стремился узнать сущность эпидемий, понять, как они возникают, почему они распространяются. В 1770 году в Москве разразилась огромная эпидемия моровой язвы, как тогда называли чуму. Данило Самойлович принимал деятельное участие в борьбе с ней. Наблюдая течение и развитие эпидемии, он пришел к выводу, что имеется какой-то возбудитель этой болезни и что таковым должно являться нечто живое, передающееся от человека к человеку. Подобное толкование Самойлович в дальнейшем применил и к другим заразным болезням, убежденный, что каждая из них имеет свою особую живую причину. О чуме он говорил, что она «вызывается неким особливым и совсем отменным существом».
Разумеется, подобное представление об эпидемических заболеваниях, высказанное в середине XVIII века, являлось результатом глубокой научной проницательности и показывало, насколько русский ученый обогнал существовавшие в тогдашней науке представления о сущности заразных болезней.
Только спустя сто лет идеи Самойловича получили дальнейшее развитие в работах Пирогова и особенно Пастера. Этот ученый показал, что именно микробы являются причиной возникновения заразных болезней.
Открытия Пастера и ряда других ученых обогатили медицину. Почти каждый год ученые обнаруживали все новых и новых возбудителей болезней.
В 1873 году нашли микроб возвратного тифа.
В 1878 году был найден микроб проказы.
В промежутке между 1880 и 1884 годами были открыты возбудители брюшного тифа, холеры, туберкулеза, дифтерии, малярии, столбняка.
Чумную палочку увидели в микроскопе в 1895 году, а бледную спирохету — возбудителя сифилиса — в 1905 году.
Мы перечислили только некоторые из важнейших болезней, вызываемых микробами. Но даже из этого перечня видно, какое
значение для борьбы за здоровье человека имеет изучение микробов.
Лупа Левенгука давала увеличение до 270 раз. Во времена Пастера и Мечникова достигли увеличения уже в тысячу раз. В наше время оптические микроскопы увеличивают в две тысячи раз и более.
Все же далеко не всех представителей мира микробов можно увидеть в современный микроскоп.
Еще один мир
Изучение микробов объяснило сущность многих тяжелых заболеваний. Происхождение эпидемий, уносивших десятки тысяч жизней, опустошавших на протяжении столетий население городов и целых стран, стало понятным.
Но по мере того, как наука все больше углублялась в изучение инфекций, то есть заразных болезней, обнаружились явления, которые казались загадочными.
В самом деле. Одной из грозных болезней являлась водобоязнь, или бешенство, возникавшее неизбежно после укуса бешеного животного, например, собаки, кошки, волка. Было, совершенно ясно, что эта болезнь имеет своего возбудителя, который переносится при укусе от больного животного к здоровому животному или человеку.
Но сколько ни бились ученые всех стран, найти возбудителя бешенства не удавалось. Ни в крови, ни в тканях больного животного или человека нельзя было обнаружить возбудителя страшной смертельной болезни.
Оспа некогда была повсеместно тяжелым и распространенным заболеванием. Она уносит много жертв и сейчас в колониальных и зависимых странах. Болезнь имеет, несомненно, своего возбудителя — микроба.
Но увидеть микроба оспы никому на протяжении десятков и даже сотни лет не удавалось.
В 1889 году в Европе и Америке разразилась финансовая катастрофа, одна из крупнейших в истории того времени. Она была связана с сооружением канала между Тихим и Атлантическим океанами через Панамский перешеек.
Акционерное общество, затеявшее это предприятие, потерпело крах. Огромнейшие хищения, беззастенчивое мошенничество, вопиющие злоупотребления, воровство — истощили капиталы, собранные с помощью продажи акций, рекламы и спекуляции для громаднейшего строительства. Предприятие обанкротилось.
Работы были прекращены. Землечерпательные машины превратились в неподвижные груды железа, паровозы, краны, платформы, все оборудование было брошено. Это было одно из величайших технических поражений в борьбе с природой, вызванных условиями капиталистического строя, а не бессилием человека.
Но самыми ужасными жертвами строительства Панамского канала были люди. Десятки тысяч рабочих погибли среди болотистых низменностей, в сырых зарослях и чащах. Их безжалостно косили малярия и желтая лихорадка. Около двадцати тысяч человек стали жертвой заразных болезней.
Было известно, что желтая лихорадка — инфекционное заболевание. А вскоре стало известно, что она распространяется среди людей через укус комара «стеговиа», как обыкновенная малярия через укус комара «анофелес». Это насекомое передавало от человека к человеку возбудителей желтой лихорадки.
Но сколько ни пытались поймать виновника болезни, увидеть его в поле зрения микроскопа, это не удавалось. Ни в кишечнике, ни в выделительных органах комара, ни в его слюнных железах, ни в крови — никаких микроорганизмов, носителей желтой лихорадки, не было. И в крови укушенных насекомыми заболевших людей тоже не удалось ничего обнаружить.
Тайна желтой лихорадки являлась такой же загадкой, как и тайна бешенства, оспы и многих других заболеваний.
И только в 1892 году и в последующие годы загадка была полностью разгадана. Добился этого русский ученый Дмитрий Иосифович Ивановский. Он установил, что существуют живые образования, такие ничтожные по размерам, что они невидимы ни в какие обычные микроскопы.
Замечательный опыт, который проделал Ивановский, заключался в следующем. Листья табака поражаются иногда так называемой мозаичной болезнью. Ивановский выжал из больных листьев сок и пропустил его сквозь особый фильтр из мелкопористого фарфора. Через такой прибор не пройдет ни один микроб, даже самый мельчайший. И, действительно, при исследовании под микроскопом профильтрованного табачного сока из больных листьев никаких микроорганизмов в нем не было найдено. Но когда несколько капель профильтрованного сока переносили на нормальный табак, на здоровые табачные побеги, то листья их стали приобретать пеструю окраску. У них появилась мозаичная болезнь. Заболели не только те листья, на которые попали капли фильтра, но и соседние.
Значит, то, что вызывало болезнь, обладало способностью размножаться.
Отсюда само собой вытекало, что в профильтрованной жидкости находились возбудители мозаичной болезни, невидимые в микроскоп.
Открытие Ивановским ультравирусов, или просто вирусов, как стали называть эти сверхмелкие существа, явилось крупнейшим событием в биологии и медицине. Оно легло в основу новой области науки — вирусологии.
Теперь стало ясно, почему не могли найти возбудителей бешенства, оспы, желтой лихорадки и ряда других болезней, таких, например, как грипп, корь, трахома, энцефалит. Их было невоз-
можно увидеть при помощи обычного микроскопа. Все они принадлежат к миру вирусов. Разнообразие вирусов огромно. Вирусы вызывают многочисленные болезни и у растений, и у животных, и у человека.
Ивановский обнаружил новый мир живых существ, границы которого сейчас еще трудно установить.
Удивительные превращения
Спустя некоторое время после замечательных работ Ивановского было сделано еще одно важное открытие.
Оказалось, что у тех микробов, которых мы прекрасно видим в микроскоп и которые давно известны, нередко образуются формы, невидимые в микроскоп. Они получили название фильтрующихся форм, микробов. Есть, например, видимая форма дизентерийного микроба и есть его невидимая форма; имеется видимая форма брюшнотифозного микроба и невидимая. То же самое у стрептококка, дифтерийной палочки, микроба паратифа, туберкулеза и других. Это было открытие, имеющее серьезное значение.
Современные данные по изучению вирусов, фильтрующихся форм микробов и изменчивости микроорганизмов свидетельствуют о том, что господствовавшая в буржуазной науке идея постоянства форм жизни, в том числе и микробных форм, является несостоятельной. Условия внешней среды меняют свойства животных и растительных форм, меняют формы и свойства микробов, создают новые наследственные изменения. Наблюдения и опыты подтверждают справедливость этих положений материалистической биологии по отношению к миру микробов.
Восемьдесят лет назад
Лет восемьдесят назад, когда была установлена роль микробов в происхождении болезней, во всех странах шли диспуты среди ученых. Одни доказывали, что учение Пастера ошибочно: другие наоборот, признавали, что микробы действительно являются причиной заразных заболеваний.
Выдающийся русский врач, ученик знаменитого профессора С. П. Боткина, Вячеслав Авксентьевич Манаесеин в 1871 году выступил со своей статьей в «Военно-медицинском журнале». Статья называлась: «Об отношении бактерий к зеленому кисте-вику и о влиянии некоторых средств на развитие этого последнего».
Что же содержалось в статье с таким длинным специальным названием?
В ней описывалось большое количество опытов над зеленым кистевиком. А зеленый кистевик — это грибок часто встречающейся зеленой плесени, очень удобный для исследований потому, что он довольно быстро размножается.
Манасоеин в своей работе доказывал, что бактерии существуют. Но вместе с тем он обнаружил одно любопытное свойство зеленого кистевика: в его присутствии многие другие бактерии не размножались. Такое удивительное явление заставило Манас-сеина подробнее изучить особенности зеленого кистевика. Он установил, что эта плесень растет только в присутствии кислорода, то есть, что она является так называемым аэробом, что для нее необходимо присутствие сахара в питательной среде, что сильнее всего действует на бактерии, не давая им размножаться, молодая культура зеленого кистевика.
Вот о чем говорилось в статье Манассеина.
В 1872 году, то есть в то же примерно время, в журнале «Медицинский вестник» появилась еще одна статья. Ее написал другой русский ученый, известный специалист по кожным болезням, профессор Алексей Герасимович Полотебнов. Речь шла опять о зеленом кистевике. И Полотебнов тоже рассказывал о том, как он убедился, что там, где разрастается зеленый кистевик, другие бактерии обычно исчезают. Он прикладывал эту зеленую плесень к изъязвленной поверхности кожи, ранам и получал заживление, причем прекращались нагноение и другие осложнения. Вот, что написал Полотебнов в своей статье «Патологическое значение плесени».
«Результаты произведенных мною опытов могли бы, я думаю, позволить сделать подобные же наблюдения и над ранами операционными, а также над глубокими нарывами. Только такие наблюдения и могли бы дать экспериментальное решение вопросов о значении плесени для хирургии».
Таким образом, и Манассеин и Полотебнов совершенно точно установили, что в присутствии зеленого кистевика другие микробы погибали.
Эти наблюдения заключали в себе важное научное открытие — открытие бактериоубивающих свойств зеленой плесени.
Зеленый кистевик по-латыни называется «пенициллиум глаукум».
Таким образом, русские ученые впервые в мире обнаружили ценные свойства некоторых плесневых грибков и возможность их применения в медицине.
Это было, как мы сказали, в семидесятых годах прошлого столетия.
Уровень знаний и техники того времени не позволял извлекать из зеленой плесени бактериоубивающие вещества.
Решение этой сложной задачи выпало на долю других ученых. Это произошло в наши годы. Только современные успехи техники и науки позволили реализовать на практике идею о целебных свойствах плесени, идею, высказанную и обоснованную Манассеи-ным и Полотебновым.
Зеленое пятно
В бактериологических лабораториях на полках обычно расставлено множество колб и чашек с питательными средами. Здесь живут микробы.
Питательные среды — это специально приготовленные вещества, чаще всего в виде смесей, густых или жидких, на которых растут и размножаются микробы.
Микробы растут не на всякой среде. Необходимо знать, какую среду какой именно микроб предпочитает, — знать, так сказать, их «вкусы». Тогда микробы будут быстро и в изобилии размножаться.
Искусственно размножившиеся колонии микробов называются их культурой: так есть культура туберкулезной палочки, стрептококка, холерного вибриона. Вид у этих культур самый различный.
В 1929 году ученые — и прежде всего профессор Флеминг — обратили внимание на следующее явление, происшедшее однажды в чашке с культурой стафилококков. Стафилококки относятся к тем микробам, которые вызывают появление нарывов, фурункулов и многих более серьезных, а порой и смертельно опасных нагноений.
Культура в чашке, о которой идет речь, была обычной стафилококковой культурой.
И вот однажды оказалось, что культура в одном месте немного испорчена. На ней виднелось какое-то зеленое пятно. Это было пятно плесени, какая бывает на сырой стене, на залежалом или на отсыревшем хлебе.
Стафилококковую культуру как испорченную надо было просто выбросить.
Но в ней обнаружилась одна странная особенность.
Стафилококковая культура была испорчена необыкновенным способом: под пятном плесени осталось очень немного стафилококков. Плесень лежала почти непосредственно на поверхности самой питательной среды.
В сущности между плесенью и питательной средой находилась как бы тень тех пышных колоний стафилококков, которые здесь ранее прекрасно разрослись.
Исчезновение стафилококков под пятном и вокруг него привлекло внимание ученых.
Странное расположение зеленого пятна, испортившего культуру, требовало объяснения.
Можно было подумать, что плесень в том месте, где она выросла, уничтожила почти без остатка часть стафилококковой культуры.
И хотя в работах Манассеина и Полотебнова явление подобной гибели некоторых микробов при действии на них зеленого кистевика уже было давно установлено, в случае с испорченной культурой встал вопрос: могло ли это быть?
Рождение порошка
Началась проверка возникшего предположения.
Для этого брали кусочки той же самой зеленой плесени и пересаживали их в другие чашки со стафилококковой культурой. Затем наблюдали, что произойдет дальше. И вот на новых местах плесень быстро разрасталась. А колонии стафилококков под нею редели и исчезали.
Догадка оправдалась. Больше не оставалось сомнений: плесень убивала стафилококков.
Перед исследователями вырисовался смысл этой неожиданной разгадки зеленого пятна. Дело заключалось не только в том, что плесень убивала стафилококков. Рамки открытия были гораздо шире.
Что такое стафилококк? Это только член одного большого семейства микроорганизмов — кокков. Кокк — значит шарик — шарикообразный микроб. К тому же семейству относится стрептококк. Его проникновение в организм нередко влечет за собой общее заражение — сепсис, весьма тяжелое заболевание. Стрептококков находят при рожистых заболеваниях, при ревматических страданиях, при скарлатине, при пороке сердца инфекционного характера. Есть пневмококк — возбудитель крупозного воспаления легких. Одно из самых серьезных заболеваний — менингит, воспаление мозговых оболочек, вызывается менингококком.
Все эти микроорганизмы — близкие родственники стафилококков. Следовательно, у них у всех должны быть какие-то общие свойства. То, что вредит одному члену семьи кокков, может оказаться вредным и для остальных. Если перед зеленой плесенью беспомощен стафилококк, то имеются все основания предположить, что родичи стафилококка будут также перед ней беспомощны. То, что уничтожает стафилококков, вероятно, должно уничтожить и стрептококков и менингококков.
Зеленая плесень не поглощает стафилококков, как поглощают микробов лейкоциты, не съедает их, не переваривает. Что же происходит? Было установлено, что она вырабатывает какое-то вещество, которое убивает стафилококков, не дает им размножаться.
Какое это вещество? Нельзя ли извлечь его из зеленой плесени? Если бы это удалось сделать, то, может быть, удалось бы уничтожить стафилококков не только в культуре, но и в человеческом организме.
Задача не казалась недостижимой. Но проходили месяцы, а большого успеха не получалось.
В конце концов, удалось выделить из плесени действующее вещество, но оно содержало еще очень много посторонних примесей. В дальнейшем, когда сумели его выделить в чистом виде, оно представляло собой желтовато-оранжевый порошок. Его добывание было чрезвычайно хлопотным, сложным, длительным.
Грибок зеленой плесени называется «пенициллиум нотатум».
Это был другой вид той самой плесени, свойства которой уже открыли Манассеин и Полотебнов. По имени грибка действующее вещество, выделенное из плесени, получило название «пенициллина».
Процесс извлечения этого порошка был, как мы сказали, чрезвычайно сложным, а сделать его более легким не удавалось.
И работа в этом направлении прекратилась надолго.
Новое оружие
Только через восемь лет сумели более простым способом добиться извлечения лечебного вещества — пенициллина — из фильтрата культуры зеленой плесени. Фильтрат обрабатывали эфиром — переводили пенициллин в эфирный раствор. Из эфирного раствора его переводили в водный раствор, а отсюда уже добывали пенициллин в очищенном виде. И упрощенный способ, как видим, тоже был очень сложен.
Прошло еще около двух лет, пока наладилось более или менее значительное производство пенициллина. И хотя техника его выработки осталась еще очень сложной и громоздкой, тем не менее, получение пенициллина шло гораздо успешней и производили препарата больше. Уже можно было его применять. И пенициллин для испытаний перешел из лаборатории в клинику.
Первые случаи применения нового препарата сразу же показали его высокую эффективность при различных гнойных заболеваниях.
У одного больного началось нагноение подкожной клетчатки бедра. Нагноение могло развиться в глубокую большую флег-. мону, с которой уже нельзя было бы справиться без операции. Кроме того, появились признаки общего заражения крови.
Желто-оранжевый порошок пенициллина развели в физиологическом растворе и стали вливать в вену больного. Воспаление остановилось. Остановилось и общее заражение. А затем в* течение четырех дней исчезли все болезненные явления. Наступило выздоровление.
Флегмону вызывают стафилококки. Впрыснутый пенициллин добрался с кровью до стафилококков, поселившихся в подкожной клетчатке бедра и в крови и уничтожил их здесь, как уничтожал их в чашке со стафилококковой культурой.
Потом представился еще более серьезный повод испытать новое средство.
В больницу доставили мальчика, пострадавшего при железнодорожной катастрофе. У него была разбита затылочная часть черепа и оказалось поврежденным само вещество мозга.
Несмотря на все принятые меры, обнаружились грозные признаки менингита — гнойного воспаления мозговой оболочки, а вскоре к этому присоединились и симптомы воспаления мозга — гнойного энцефалита.
Состояние мальчика было очень тяжелым. Гноеродные микробы, попавшие в рану, стафилококки, стрептококки, менингококки продолжали разрушать ткани.
Опять и в этом случае применили пенициллин, введя его в вену.
Результаты оказались столь благоприятными, что лечащий хирург был буквально ошеломлен.
Пенициллин оказался очень сильным и очень эффективным средством.
Работы с зеленой плесенью, начатые Манассеиным и Поло-тебновым, снабдили медицину новым замечательным оружием.
Дом с миллиардами жильцов
В Москве на одной из многочисленных улиц стоит большой дом. Он ничем особенным не отличается от других домов. Кроме, пожалуй, одного: жильцы в нем необычные.
В комнатах этого дома неисчислимые миллиарды жильцов. Они расселены на многочисленных полках, столах и шкафах. Обитатели дома живут колониями в своих колбочках, пробирках, стаканчиках, чашечках.
В этом доме помещается Институт пенициллина. Здесь работает Зинаида Виссарионовна Ермольева. Имя члена-корреспон-дента Академии медицинских наук профессора Ермольевой часто упоминается на страницах специальных медицинских книг, журналов, на страницах советских газет.
Она посвятила всю свою научную деятельность, изучению мира микробов. Ничто новое в этом мире не проходит мимо пытливого и острого взгляда профессора.
Шестнадцать лет назад Зинаида Виссарионовна Ермольева начала изучать лизоцим. Лизоцим — это особое вещество, вырабатываемое некоторыми клетками животных организмом. Его открыл в 1909 году томский ученый П.Н. Лащенков. Оно обладает способностью парализовать жизнь многих микробов. Его можно найти в яичном белке, оно содержится и в слезной жидкости. Это было весьма интересное открытие. Стало понятным, например, почему такая нежная ткань, как соединительная оболочка глаз, остается здоровой, несмотря на то, что она легко доступна для попадания микробов. Одним из защитников этой оболочки и является лизоцим, содержащийся в жидкости, вырабатываемой слезными железами. Он как бы непрерывно охраняет глаза и их оболочки, обеспечивает постоянную дезинфекцию органа зрения. Изучением свойств лизоцима занимается профессор Ермольева со своими сотрудниками. Она первая применила лизоцим для лечения некоторых болезней глаза, уха, горла, носа.
Большая работа также производилась ею и ее сотрудниками по изучению бактериофагов, то есть мельчайших вирусоподобных веществ, убивающих бактерий и, что особенно важно, многих из
тех бактерий, которые являются причиной заболевания людей. Профессор Ермольева сумела выработать методы получения бактериофагов, которые действуют на возбудителей тяжелых инфекций, таких, как холера, дизентерия, брюшной тиф. Для каждой из них имеется свой бактериофаг, или, короче, фаг: так существуют холерный фаг, дизентерийный, брюшнотифозный.
Очень много места в деятельности лаборатории Ермольевой занимали также и исследования над хемофагами — соединениями некоторых химических веществ с фагами. Это была совершенно новая область. Фаголизоцимы также явились специальными препаратами, обещавшими стать грозным оружием против микробов.
В 1942 году Великая Отечественная война была в самом разгаре. Немецко-фашистские полчища рвались вглубь Советской страны. Шли ожесточенные, тяжелые бои. Советская Армия героически отстаивала каждый клочок родной земли. Ранней осенью этого года профессор Ермольева находилась в Сталинграде. Немецкие войска, истекая кровью, тщетно напрягали все усилия, чтобы захватить Сталинград. На город сыпались немецкие снаряды, бомбы; дома были превращены в груды развалин. Разрушен был водопровод. Канализационная система огромного города вышла из строя.
Но в развалинах, подвалах разбитых домов, подземных помещениях жили люди, героически дрались советские воины — защитники Родины. Оставалось в Сталинграде и мирное население, не покинувшее города. Суровые боевые условия, отсутствие элементарных санитарных удобств, недостаток воды создавали опасность массовых заболеваний, опасность эпидемий.
Весь опыт, все свои знания Ермольева употребила для того, чтобы оградить защитников города от распространения инфекций. Она справилась со своей задачей. Самоотверженная работа советских врачей помогла устранить опасность эпидемий, в городе-герое.
Но одно обстоятельство обращало на себя внимание ученого. Бактериофаги, хемофаги, лизофаги и другие средства останавливали инфекционные заболевания. Но они были почти беспомощны против осложнений ран, вызванных микробами.
Профессор Ермольева увидела, что все существовавшие средства явились недостаточными для борьбы с осложненными ранениями.
Нужны были новые работы, новые поиски.
Вернувшись из Сталинграда в свой институт, она занялась этими поисками.
Целебная сила бактериофагов приковала мысль ученого к невидимым существам, вырабатывающим вещества, гибельные для опасных микробов.
Вот почему известие о пенициллине не было неожиданным для профессора Ермольевой. Но в сухом кратком сообщении не содер-
жалось никаких сведений о подробностях получения нового ценного препарата.
И это вполне понятно. В капиталистических странах всякое важное открытие, в том числе и способы изготовления новых медицинских средств обычно не опубликовываются. Изобретатель продает свое изобретение какой-нибудь фирме, которая во избежание конкуренции, для получения высокой прибыли, засекречивает открытие. Оно не становится достоянием народа.
Таким образом, профессор Ермольева не имела в своем распоряжении каких-либо данных о пенициллине и о том, как он получается. Даже точное название грибка — «пенициллиум нотатум» — было долгое время окутано тайной.
Трудная задача стояла перед профессором Ермольевой и ее сотрудниками. Надо было двигаться совершенно неизвестным путем. И самое главное надо было торопиться. Шла война. Чем раньше удалось бы добиться успеха, тем больше жизней можно было спасти.
Укороченный путь
Началась охота профессора Ермольевой и ее помощника, доктора Балезиной, за всеми видами плесени. Один за другим появлялись в лаборатории Отдела биохимии различные плесневые грибки. Их поселяли в колбах, в банках с питательными средами, заставляли размножаться. Потом пытались извлечь из них нужное целебное вещество.
Это была очень кропотливая, очень трудоемкая работа.
Девяносто три представителя грибков подверглись строгим, придирчивым испытаниям. Один из них оказался подходящим. Его тоже звали «пенициллиум». Но не «нотатум», а «крустозум».
Впервые на него наткнулись в бомбоубежище.
Уже после того как изучили его свойства, оказалось, что жилец бомбоубежища не так капризен, как его собрат «пенициллиум нотатум» или другие грибки. Растет он быстрее, и уже через восемь дней даже неочищенный фильтрат его — так называемая культуральная жидкость — останавливает размножение стафилококков, стрептококков и подобных им микробов.
Сила его действия не только не меньше, но в некоторых случаях даже превосходит силу действия пенициллина, добытого из «пенициллиума нотатум». Он, например, парализует жизнь так называемой кишечной палочки, микроба, на который препараты из других грибков не оказывают никакого влияния.
Правда, в жидком виде этот препарат тоже нестоек. Через девять — двенадцать дней активность его падает, как и у всякого пенициллина. Но профессор Ермольева со своими сотрудниками разработала оригинальный способ превращения пенициллина в сухой порошкообразный желтоватый препарат, полностью сохраняющий свою пригодность по крайней мере на протяжении шести
месяцев. Однако массовое производство препарата в начале оставалось громоздким, таким же, как и при производстве из грибка «пенициллиум нотатум».
Ведь культуральная жидкость грибка «пенициллиум нотатум» после ряда химических процессов нуждается в замораживании, значит, необходимы холодильные установки; нужно, далее, тщательное обезвреживание, стерилизация ультрафиолетовыми лучами; нужно еще многое другое, требующее очень дорогой аппаратуры.
Чтобы получить такое количество чистого пенициллина, которое умещается в небольшой стеклянной колбе, надо подвергнуть сложнейшей переработке столько зеленой плесени, что ею можно было бы заполнить резервуар величиной в трехэтажное здание!
Неутомимый новатор профессор Ермольева и здесь отказалась от проторенного пути. Со своими помощниками она добилась упрощения процесса выработки пенициллина, особенно на его заключительной стадии, когда совершается превращение пенициллина из жидкого раствора в сухой порошок. И хотя массовое производство целебного препарата все же требует значительного и сложного оборудования, число заводов, вырабатывающих пенициллин, у нас в СССР неуклонно растет.
Напряженный труд ученых, объединивших усилия микробиологов и биохимиков, дал желаемые результаты.
Проверка на месте
Во время одного крупного наступления наших войск профессор Ермольева со своими сотрудниками появилась в медицинских учреждениях на передовой линии.
Она собирала врачей, знакомила их с желтоватым порошком в запаянных стеклянных пробирках и тут же на месте демонстрировала его применение.
Профессор Ермольева проверяла действие своего препарата. Прежде всего она хотела встретиться с ранеными, доставленными возможно быстрее после ранения. Ей нужно было знать, что дает препарат в этих случаях. Не через день, не через десять часов, а не позже двух часов после ранения порошок должен быть пущен в ход. Появятся ли тогда осложнения?
Энергия этой неутомимой женщины заражала медицинских работников.
Результаты ее деятельности на фронте оказались настолько убедительными, что никакой агитации, никаких докладов, лекций, бесед не требовалось, чтобы сделать врачей горячими сторонниками нового препарата.
Это происходило в близких к фронту медсанбатах, куда машины доставляли раненых с поля сражения. Профессор Ермольева интересовалась главным образом теми ранеными, у которых пули и осколки раздробили кости рук и ног. Хирурги не любят таких
ран; они долго и плохо заживают, грозят всякими неприятностями. Бывает, что когда раневая поверхность уже почти вся зарубцевалась, вдруг начинает показываться гной, иногда в большом количестве, температура поднимается, особенно по вечерам, появляется изнуряющая слабость.
Приходится снова прибегать к хирургическому ножу, снова проникать в рану, чтобы найти в ее глубине причину осложнения.
И вот извлекается кусочек кости или кусочек отмершей мышечкой ткани. Начинается заживление. Жар спадает. А через некоторое время все может снова повториться. Хирурги неспокойны при таких ранениях. Сюрпризы могут появиться в любой момент, пока тянется заживление, а оно тянется долго. Это и есть осложненное ранение.
Профессор Ермольева старалась лечить ранения в самом начале, до развития осложнений.
Она хотела выяснить, может ли желтый порошок предупредить осложнения.
Раненые, доставленные только что в медсанбат, попадали в операционную.
С них осторожно снимались повязки, наложенные на поле боя бинты, пропитанные спекшейся кровью. И затем, уже после очистки раны, накладывались прочные, постоянные повязки с шинами, с гипсом. Словом, делалось рее, что полагается при правильной и радикальной обработке ран с повреждением костей.
После этого наступала очередь желтого порошка. Его растворяли в физиологическом растворе. И полученную жидкость вводили раненым бойцам.
Проходило несколько дней. Врачи с чувством восхищения отмечали в историях болезни: рваные осколочные ранения протекают без температуры, почти без нагноений.
Коварные, угрожающие осложнениями переломы голеней или бедер, или плеча, превращались в раны, поражающие спокойным течением процесса заживления. Не возникало общего заражения — сепсиса, отсутствовала так называемая газовая гангрена.
Проведя эту работу, профессор Ермольева уложила в чемоданчик папку с записями и уехала со своими сотрудниками.
Ее следующим этапом были госпитали фронтового тыла. Сюда раненые поступают обычно после пребывания в госпиталях на передовых позициях.
Эти люди с повреждениями рук и ног, грудной клетки, брюшной полости и другими тяжелыми повреждениями, нуждаются в длительном лечении. У одних — явления заражения крови, у других — глубокие гнойные очаги,- у третьих — обширные ожоги. У всех было то, что называется осложнениями. Именно этого искала теперь профессор Ермольева.
На сцену опять появился желтый порошок.
Здесь задача была уже несколько труднее. Госпиталь фронтового тыла — это не медсанбат, где лежат раненые, только что до-
ставленные с позиций. Здесь находятся раненые с уже далеко зашедшими инфекционными и послеоперационными процессами.
Опять проходило немного дней. И вот явственно намечался перелом. Под влиянием пенициллина температура падала, раны очищались, их рубцевание шло энергичней.
Профессор Ермольева, и вместе с ней находившиеся на фронте в бригаде главного хирурга Советской Армии профессор Гращенков и доктор Маршак спасли немало жизней наших доблестных бойцов.
Победа была бесспорной. Теперь профессор Ермольева могла возвратиться в Москву. И когда светложелтый порошок из лаборатории Ермольерой поступил для первых испытаний больным в клинику профессора Гращенкова и в клинику профессора Руфа-нова, то и там получились радующие результаты.
Грибок «пенициллиум круетозум», найденный в бомбоубежище, с успехом делал свое дело.
Другой дом
В Москве есть еще один интересный для нас дом. Это громадное здание Центрального нейрохирургического института.
Нейрохирурги занимаются операциями на головном и спинном мозге, на нервных стволах, расположенных в разных частях тела. Нейрохирургия является чрезвычайно ответственным, очень трудным и очень важным разделом хирургии.
Во время Великой Отечественной войны ранения центральной нервной системы встречались довольно часто, — в том числе и ранения головного мозга.
Ранения мозга — ранения очень опасные. Раненному в мозг, даже если он выживет, нередко угрожает опасность стать физическим или психическим инвалидом.
Раньше хирурги считали, что лучше не вмешиваться в раны мозга. А если и вмешиваться, то очень пассивно: лечить эти раны только удалением того, что уже погибло и находится не внутри мозговой ткани, а на ее поверхности. Справится сам организм, выдержит — хорошо; не выдержит — значит, ничем ему помочь нельзя было. Только сравнительно недавно стали меняться взгляды на оперативное вмешательство в область мозга. Хирурги начали смелее применять здесь скальпель. Но и нейрохирурги относятся к таким операциям, как к очень серьезным и трудным, даже если сами операции кажутся несложными.
Неосторожность или неосмотрительность хирурга может повлечь за собой непоправимую беду.
Широко применять разрезы и входить ножом в мозг надо с величайшей осмотрительностью. А в то же время при черепномозговых ранениях ткань мозга загрязняется, как и ткань любой раны, и туда попадает инфекция. Начинается гнойное воспаление. А гной в мозгу — это очень плохо. Еще хуже, если гнойник образуется где-нибудь в самой глубине мозга. Проникнуть туда с ножом это почти верная угроза смерти для раненого. Но и не делать операции иной раз нельзя.
Как добраться без ножа в гнойник, в глубоко скрытые очаги, в глубину мозговой ткани, где гнездятся микробы? Как и чем их там настигнуть и обезвредить?
Если бы удалось осуществить такую задачу каким-нибудь образом, это было бы величайшим благодеянием для больных, почти обреченных людей.
И когда лучший нейрохирург Советского Союза, крупнейший знаток хирургического дела, неутомимый пропагандист активного вмешательства при травмах центральной нервной системы, академик, Герой Социалистического Труда, действительный член Академии медицинских наук и ее первый президент Николай Нилович Бурденко узнал про пенициллин, он понял, что наука, наконец, нашла этот бескровный путь в глубину мозга, захваченного опасным недугом.
Именно для операций на мозге это было средством, о котором раньше можно было лишь мечтать.
Выбор пути
Профессор Ермольева — не хирург. Она микробиолог, и операции ей приходится делать только при опытах на морских свинках, кроликах, мышах. Профессор Ермольева, как мы знаем, изучила свойства грибка «пенициллиум крустозум», и получила из него пенициллин. Она нашла его дозировку, нужную для введения в организм, установила как нужно его вводить. Не всякий путь пригоден для поступления пенициллина в тело человека. Например, еще недавно его, как и некоторые другие лекарства, было почти бесцельно принимать внутрь через рот.
Этот препарат зеленой плесени, — очень нестойкое вещество. Недаром его хранят в запаянном, герметически закупоренном стеклянном флакончике, чтобы предохранить от влаги и даже от воздействия воздуха. Повышение окружающей температуры портит пенициллин. Он легко разрушается щелочами и кислотами. А желудочный сок содержит соляную кислоту. Вот почему пенициллин в начале было бесполезно принимать через рот. Только теперь научились изготовлять препарат в таком виде, который не боится воздействия желудочного сока.
Пенициллин можно впрыснуть под кожу. Это, на первый взгляд, довольно удобный способ.
Но у этого способа есть недостатки. Он болезненен. А ведь впрыскивание надо было производить пять-восемь раз в день.
Есть еще путь введения пенициллина: впрыскивание в толщу мышц. Этот способ тоже несложный, но он уже обладает преимуществами, которые делают его очень удобным для применения. Внутримышечные инъекции позволяют вводить большие дозы лекарств. Они менее болезненны. Кроме того, устраняется опасность осложнений, например, опасность эмболии, то есть закупорки кровеносных сосудов, что может случиться, хотя и редко, при вливании пенициллина в вену.
Но вливание в вену имеет и свои достоинства, иногда незаменимые. Оно в некоторых случаях, особенно при тяжелых, далеко зашедших болезнетворных процессах, эффективнее внутримышечного впрыскивания, быстрее действует.
Профессор Ермольева проверила и действие пенициллина, влитого в вену.
Мышам прививали стафилококки и стрептококки. Вскоре у животных наступали все признаки общего заражения — опухали суставы, животные переставали есть, их сжигала высокая температура, они лежали без движения, в глубокой сонливости.
Затем двое суток подряд им вливали в вену пенициллин. Казалось уже агонизировавшие животные открывали спустя некоторое время глаза. Вскоре возле мышиной кормушки поднимался обычный писк. Здоровье животных полностью восстанавливалось.
Профессор Ермольева осталась довольна этим методом введения пенициллина. Но возможность эмболии и других осложнений заставляет предпочитать все же более простой и более безопасный — внутримышечный способ. Вливание в вену профессор Ермольева оставила только для особых тяжелых случаев, например, при больших черепно-мозговых осложненных ранениях.
И поисках концентрации
Лечебная ценность пенициллина была доказана.
Осложнения, которыми сопровождаются ранения, возникают в результате действия болезнетворных микробов. Это инфекционные осложнения. Пенициллин — враг всех стафилококков, стрептококков, менингококков, а также ряда других микробов.
Специальные заводы пенициллина стали вырабатывать этот препарат и снабжать им лечебные учреждения.
Но в процессе применения пенициллина к лечению ран мозга стало постепенно обнаруживаться, что не все ясно в этом препарате, не все решено, не все так превосходно, как казалось вначале.
Осложненные черепно-мозговые ранения носят разные названия: нарывы — абсцессы мозга; гнойные воспаления тканей
мезга — энцефалиты; гнойные воспаления мозговых оболочек — менингиты. Могут быть и менингоэнцефалиты, то есть оба вида воспаления вместе.
Академик Бурденко и его ученики широко использовали пенициллин как замечательное средство, помогающее проникать без ножа в мозг и настигать в его глубине возбудителей тяжелых заболеваний.
Благодаря внутримышечному и внутривенному применению пенициллина препарат добирался до гнойных очагов и приносил заметное улучшение. Иногда это совершалось поразительно быстро, выздоровление приходило в несколько дней. Но иногда улучшение держалось недолго. За ним вдруг наступал возврат болезни.
Были случаи неопределенные. И ухудшения незаметно, и на улучшение непохоже. Налицо было, пожалуй, улучшение, но медленное, какое-то вялое, словно у пенициллина нехватало сил добить болезнь.
В чем же дело?
Профессор Ермольева установила, что способ введения препарата имеет большое значение. Ее выбор пал на внутримышечные впрыскивания, как основной, главный метод, и в ряде случаев — на вливания в вену, как на дополнительный метод.
Академик Бурденко увидел, что при черепно-мозговых ранениях этого недостаточно. Важно было, чтобы в самых срочных, самых тяжелых случаях пенициллин быстрее достигал участка, пораженного болезнью. Играло при этом какую-либо роль количество пенициллина, концентрация его в крови, текущей к больному органу? Очень большую. Может быть, решающую.
Если так, то ни мышцы, ни вены не являются при подобных заболеваниях лучшим местом для введения препарата.
Лучшим местом будет артерия, для черепно-мозговых ранений — сонная артерия. Она питает мозг. Через нее пенициллин быстрее попадает в ток крови, направляющейся к мозгу прямым путем. А на этом коротком пути концентрация пенициллина в крови не успеет понизиться.
Войдя же в вену, препарат проделывает с кровью путешествие во много раз более длинное. Он должен достигнуть сердца, а именно его правого предсердия, затем попасть в правый желудочек, оттуда проникнуть в легкие, из легких в левое предсердие, в левый желудочек, пробежать по аорте, и тогда только через сонную артерию дойти до мозга... А путь из мышцы — еще более долгий, следовательно, еще более неблагоприятный для быстрой доставки препарата к очагу воспаления.
Вот почему вливание в артерию в ряде тяжелых заболеваний предпочтительнее всего. Если грозный очаг болезни расположен на руке или ноге, то берут артерию предплечья или бедра. Это обстоятельство оказалось весьма существенным.
Впервые в Советском Союзе обнаружили преимущества внутриартериального введения пенициллина. Этот метод был разработан у нас, в том доме в Москве, о котором мы говорили, — в Центральном нейрохирургическом институте, где главным руководителем был Николай Нилович Бурденко.
Когда Ермольева и ее помощник Уразова проделали анализы крови раненых, то правильность новой методики подтвердилась. Концентрация, насыщенность крови пенициллином в районе болезненного очага после вливаний в артерию стала достаточно высокой.
Снова поправка
С этого момента повысился успех лечения мозговых ранений. Целебная сила пенициллина использовалась полнее. Выздоровление стало наступать быстрее, наблюдаться гораздо чаще.
Чаще, но не всегда. Все еще встречалось немалое число случаев, когда болезнь не поддавалась лечению пенициллином. И вот это было странно и непонятно. Иной раз улучшение наступало явное, неоспоримое, радующее врача. Казалось все шло хорошо. И вдруг болезнь вспыхивала с новой силой.
Но почему? Ведь пенициллин действительно обладал могучей силой, прекращающей жизнь болезнетворных микробов.
Центральный нейрохирургический институт занялся разгадкой. Усилия не пропали даром. После тщательных исследований вопрос был решен. Удалось это тогда, когда исследователи стали изучать, что происходит с пенициллином после того, как он попадет в кровь.
Больному с абсцессом мозга ввели в сонную артерию раствор пенициллина и спустя несколько часов взяли в лабораторию пробу крови.
Надо было узнать, в каком состоянии находится пенициллин, сколько его теперь содержится в крови. Но сколько ни искали, пенициллина не нашли. Его в крови не оказалось. Куда же он девался? Это вскоре установили. Почки извлекли пенициллин из крови и удалили его из организма. Теперь все стало ясно. Пенициллин быстро, в два-три часа покидает русло крови. Вот чем объяснялись колебания в лечебном действии этого препарата. Пенициллин делал свое дело, когда его в крови было достаточно. Когда пенициллин исчезал, инфекция, если она была упорной, снова брала верх. Болезнь, следовательно, продолжалась.
Как только загадка была разгадана, напрашивался сам собой вывод: надо задержать уход пенициллина из крови, удлинить его пребывание в ней. Но каким образом? Делать повторные вливания? Пять-шесть раз в день? Это неудобно.
Здесь пришло на помощь одно свойство пенициллина. Впрыснутый внутримышечно, он дольше остается в крови, чем при введении в артерию. И это не удивительно.
Когда пенициллин вводят в артерию, он полностью, сразу оказывается в крови и вскоре весь исчезает из организма. А из глубины мышц он всасывается в кровь постепенно. Чем большую дозу пенициллина впрыснули, тем дольше он будет находиться в мышцах и постепенно переходить в кровь.
Можно ли воспользоваться подобным свойством препарата? Можно. Надо для этого соединить оба способа — и внутриарте-риальный и внутримышечный. Тогда и концентрация пенициллина будет достаточной, и он долгое время будет находиться в крови.
Так и поступили. Результаты оказались очень удачными. Число выздоровлений увеличилось.
Комбинированный метод введения пенициллина был еще одной победой советской медицины.
Но удовлетворило ли это нейрохирургов? Нет, не вполне.
Несмотря на правильную мысль и правильное ее воплощение в комбинированном методе, неудачи при применении пенициллина все еще наблюдались. Тогда к усилиям Центрального нейрохирургического института были присоединены и усилия Института пенициллина.
Профессор Ермольева взялась за разрешение проблемы с присущей ей энергией. Со своими сотрудниками она стала изучать, что же происходит в крови с пенициллином при комбинированном методе? И тут сразу же открылось то обстоятельство, которое мешало делу исцеления. Хотя пенициллин из крови действительно долго не исчезал, но концентрация его колебалась. Пока пенициллин, введенный внутриартериально, находился в крови, концентрация его была высокой. Когда почки выводили из организма эту порцию, потеря замещалась только поступлением из внутримышечного «депо». А это поступление шло хотя и непрерывно, но понемногу.
Пенициллин циркулировал в крови, но концентрация его становилась все ниже и ниже. Это изменение концентрации снижало в некоторых случаях результаты лечения.
Надо было, значит, сделать еще нечто такое, что на более долгий срок задерживало бы в крови пенициллин, влитый в артерию, не позволяло бы ему так быстро уходить через почки.
Найденное решение
К тому времени, когда этот вопрос встал перед исследователями, задача была до известной степени решена при помощи дио-драета.
Диодраст — это особое вещество, обладающее свойством задерживать в организме пенициллин. Когда диодраст вводили одновременно с пенициллином, то оказывалось, что пенициллин долгое время не исчезает из крови.
Применение диодраста было удачной находкой. Но Николай Нилович Бурденко решил, если удастся, не пользоваться зарубежными препаратами и рецептами.
Задача, разрешением которой он занялся, — замедлить темпы ухода пенициллина из крови, была тесно связана со второй задачей — избавить больного от многократных инъекций.
Действительно, оказалось, что можно превосходно обойтись без американского диодраста.
Академик Бурденко предложил свое средство для продления действия пенициллина, особенно ценное при самых тяжелых менингитах, гнойниках и иных подобных тяжелых заболеваниях мозга.
Быть может, это средство представляет собой какой-нибудь очень сложный препарат? Нет. Оно удивительно просто и состоит
в том, что к комбинированному внутримышечному и внутриарте-риально-му введению пенициллина присоединили еще две процедуры. Первая — это использование небольшого количества, примерно, столовой ложки, раствора хлористого натрия, то есть обыкновенной поваренной соли. Вторая — некоторое изменение пищевого режима.
Теперь вся методика применения пенициллина по способу Бурденко представлялась в следующем виде.
В артерию вводится десять тысяч так называемых единиц пенициллина — нормальная доза для вливания в артерию. Внутримышечно впрыскивается сорок тысяч единиц — нормальная доза при такого вида впрыскиваниях. В вену вливается десять кубических сантиметров десятипроцентнего раствора поваренной соли. Все это производится одновременно. Таким образом введение пенициллина производится только один раз в сутки, и не каждые три-четыре часа, как приходилось делать прежде.
Нужно при этом обязательно соблюдать одно правило: в течение нескольких дней, пока длится лечение, резко ограничить жидкую пищу, питаться всухомятку. Условие, как видите, не очень тягостное.
Выезжая на фронт, Бурденко убедился, что его метод, примененный для тяжело больных с черепно-мозговыми ранениями, давал превосходные результаты.
Теперь — короткий итог. Метод внутримышечного введения пенициллина принес помощь. Это очень хороший метод, и для огромного большинства заболеваний, даже очень серьезных, где речь идет о жизни и смерти, он вполне надежен и спасителен. Могущество пенициллина проявляется в полной мере при внутримышечных впрыскиваниях. Поэтому такой способ введения, удобный и безопасный, может считаться основным.
Но при осложнениях черепно-мозговых ранений, хотя бы и незначительное повышение силы действия пенициллина тоже имеет неоценимое значение. Ведь это — понижение процента смертности. Способ Бурденко понижал этот процент.
А в масштабе грандиозного фронта Великой Отечественной войны даже один процент означал сотни и тысячи спасенных жизней советских воинов.
Работы выдающегося советского ученого и хирурга Бурденко, его замечательный метод приносили исцеление раненым, выздоровление которых еще недавно представлялось невозможным.
Немного сравнений
Появлению в медицине пенициллина предшествовало введение в практику стрептоцида и сульфидина.
Стрептоцид, сульфидин, сульфазол и еще многие препараты этого рода носят, как мы сказали, общее название сульфамиды. Вряд ли есть сейчас человек, который бы не слышал о стреп-
тоциде или сульфидине. И не только бы не слышал, но и не принимал бы их как лекарство при гриппе, ангине, воспалении легких.
Появились сульфамиды лет десять-пятнадцать назад. Они действуют против многих микробов, вызывающих инфекционные болезни, против тех же стафилококков, стрептококков, пневмококков, гонококков и некоторых других. При помощи сульфамидов можно лечить многие болезни даже такие серьезные, как абсцессы мозга, гнойные энцефалиты, менингиты. И сульфамиды помогают неплохо.
Смертность от осложнений при черепно-мозговых ранениях очень большая. Из каждых трех таких раненых один, а то и двое, обязательно умирали. Когда стали применять стрептоцид и сульфидин, то картина сразу изменилась. Страшная цифра стала уменьшаться. Число смертей в результате ранений пошло стремительно вниз. Особенно, когда стрептоцид и сульфидин возможно раньше пускались в ход. Процент смертности упал больше чем в два раза. Теперь, при сульфамидах, умирал только один из семи.
Это было крупнейшей победой над смертью.
В 1944 году у нас началось применение пенициллина на фронте и в тылу по комбинированному способу, по способу Бурденко, о котором мы говорили. Этому лечению подвергалась та же категория раненых с угрожающими инфекционными осложнениями.
И тогда цифра смертности пошла еще быстрее вниз. Так, в Нейрохирургическом институте в Москве умирало двое больных из пятидесяти.
Вот что сделал пенициллин в руках советских врачей.
Новая глава
Пенициллином с успехом лечат, как мы уже говорили, все болезни, вызываемые стафилококками, стрептококками и многими даже не родственными им микробами.
Стрептоцидом, сульфидином, сульфазолом лечат многие из этих болезней и тоже неплохо.
А как обстояло дело до введения в практику пенициллина и сульфамидов? Какими способами боролись тогда с инфекционными болезнями? Преимущественно при помощи вакцин и сывороток.
Вакцина представляет собой препарат, состоящий из мертвых ослабленных микробов. В ряде случаев вакцину вводят и здоровому человеку. Это предохранительная вакцинация, предупреждающая болезнь. Так действует, например, вакцина оспы при оспопрививании или брюшнотифозная вакцина.
В чем сущность этого мероприятия? Организм без труда справляется с мертвыми или ослабленными микробами, введенными при вакцинации; вместе с тем в нем вырабатывается большое количество защитных веществ — антител, антитоксинов, — которые обладают способностью уничтожать такие же, но активные микробы, когда они попадут в организм уже не с вакциной, а при случайном заражении.
Нередко вводят вакцину и уже заболевшему. Какой смысл применять вакцину в этом случае?
Защитные механизмы организма обезвреживают мертвых или ослабленных микробов, содержащихся в вакцине. С ними легче справиться, чем с теми, которые проникли естественным путем — с водой или пищей, или воздухом — с живыми, деятельными или как говорят в подобных случаях, вирулентными микробами. Уничтожив мертвых или ослабленных микробов, защитные силы скорее, легче могут справиться с вирулентными возбудителями.
В сыворотке нормальной здоровой крови, которую тоже применяют для впрыскиваний, нет ни мертвых, ни ослабленных микробов. Но в ней есть защитные вещества, — антитела, антитоксины, опсонины и другие, — обладающие способностью противодействовать микробам или их ядам — токсинам.
Эти защитные вещества появляются в сыворотке у тех животных или людей, которые перенесли искусственную, то есть привитую им болезнь, или естественно возникшую болезнь, и в результате победили, т. е. выздоровели.
Такую сыворотку можно применять и для предупреждения той или иной инфекции, и для лечения.
Отсюда становится понятной роль, например, противодифтерийной сыворотки или противостолбнячной, или противокоревой.
По сравнению с вакцинами и сыворотками у пенициллина имеются преимущества. Каждая вакцина и сыворотка предназначены только против одного «своего» возбудителя. Вакцина против оспы, например, не предохраняет от дизентерии или бешенства.
Вакцина брюшнотифозная бессильна против холеры, воспаления легких или сьгпного тифа. Противодифтерийная сыворотка помогает только при дифтерии.
Пенициллин же действует против всех инфекционных заболеваний, вызываемых определенными группами микробов.
Таково его огромное преимущество перед вакцинами и сыворотками.
А перед сульфамидами? Ведь стрептоцид или сульфидин излечивают не одно или два заболевания, а большее их число. И во многих случаях излечивают довольно быстро. Иногда поразительно быстро.
Чем же пенициллин превосходит сульфамиды?
Прежде всего — лучшими результатами. Вспомним хотя бы цифры смертности при осложненных черепно-мозговых ранениях. Затем — безвредностью. Сульфамиды не безразличны для организма. Они раздражают кишечник, почки, действуют на нервную систему. Применяя их, надо следить, чтобы не получилось неприятностей от их побочного, как говорят в таких случаях, действия.
При пенициллине этого опасаться не приходится.
Но главное заключается в другом. Пенициллин привлек к себе исключительное внимание ученых не только своими достоинствами. Микробиологи, врачи проявили к нему громадный интерес потому, что с введением пенициллина открылась новая страница лечебной медицины. Страница, необыкновенно любопытная.
Пенициллин — это вещество, извлеченное из грибков, из живого микроорганизма, из микроба. Это оружие, которым один микроб убивает другого.
Перед исследователем возникает цель: найти новые антибиотики, отыскать новых союзников человека в борьбе с болезнетворными микробами. Уже найден, например, антибиотик под названием стрептомицин, обещающий успех в борьбе с некоторыми формами туберкулеза, этого страшного врага человека.
В книге лечебной медицины открывается новая глава.
Надо, однако, сказать, что предпосылками к этой главе явились работы Мечникова.
Великое открытие
Летом 1883 года молодой русский ученый Илья Ильич Мечников, работавший тогда на острове Сицилия, занимался исследованием морских звезд, особых иглокожих морских животных. Он изучал строение их организма и физиологические процессы, совершающиеся в нем. Личинки морских звезд интересны тем, что тело их прозрачно. С помощью лупы Мечников мог видеть все, что происходит внутри них. Его внимание больше всего привлекали странные клетки, которые встречались в теле личинки. Это были клетки, совершенно непохожие на все остальные. Главное их отличие заключалось в том, что они могли передвигаться. Передвигались эти клетки довольно оригинальным образом: они выпускали длинные отростки, а все остальное тело перекатывалось вслед за отростками, словно они тянули его за собой. Таким способом эти клетки совершали довольно длинные «путешествия» внутри тела морской звезды.
Мечников в тот период своей жизни занимался изучением пищеварения иглокожих. Для зоологов вопрос этот оставался темным. В самом деле: желудка и других органов для переваривания пищи у морских звезд нет. Как же они перерабатывают и усваивают пищу?
Однажды Мечников проделал небольшой эксперимент: ввел в прозрачную личинку морской звезды порошок яркокрасной краски — кармина. И вскоре крупинки кармина оказались облепленными множеством клеток. Сюда со всех сторон приползли клетки, которые обладали как раз свойством выпускать из себя отростки, то есть те самые путешествующие клетки, о которых говорилось ранее. И вскоре крупинки краски очутились внутри этих клеток. Клеши поглотили кармин.
Мечников был очень обрадован. Он понял, что проник в тайну пищеварения иглокожих. Выходило, что функцию органов пище-
варения здесь выполняют блуждающие клетки. Они захватывают добычу и переваривают ее в себе. Таким представлялся Мечникову процесс усвоения пищи морскими звездами. Но тогда же ему пришла в голову мысль проверить, что будет с блуждающими клетками, если им попадется не кусочек краски, а что-нибудь другое.
Он отломал крохотный шип от куста розы и воткнул его в прозрачное тело личинки морской звезды.
Через десять часов Мечников в свою лупу увидел огромное скопление блуждающих клеток, своей массой совершенно закрывших твердый зеленый шип. Они так плотно окружили его, что в этом месте образовалось даже выпячивание тела личинки. Но что их привлекло сюда? Ведь шип розы — не пища для личинки морской звезды. Его нельзя переварить.
И тут Мечникова озарила гениальная догадка. Шип был занозой для тела звезды, и блуждающие клетки боролись с ним, как с врагом, окружали его, старались уничтожить, рассосать или вытолкнуть.
В том случае, когда заноза попадает в тело человека, например, в палец, и образуется нарыв, это, видимо, такое же явление защиты.
Есть у человека блуждающие клетки? Есть. Это белые кровяные тельца, лейкоциты. Что такое гной вокруг занозы? Это скопление белых кровяных телец, защищающих организм. Теперь понятно, почему они стекаются к тому месту, куда попала заноза.
Все это предстало перед Мечниковым с удивительной ясностью. Молодой ученый сделал еще один важный вывод. Если белые кровяные тельца борются со всеми чужеродными и вредными частицами, попадающими в организм, то, следовательно, они должны вести себя так и с микробами, проникающими в тело человека. Если победят белые кровяные тельца, то есть микробы будут захвачены и уничтожены, то и болезнь не разовьется. Если микробы размножатся, значит, белые кровяные тельца не в состоянии были с ними справиться. Тогда возникает заболевание. Отсутствие заболевания при проникании микробов и есть то, что называется невосприимчивостью к той или иной болезни, иммунитетом.
Свойством белых кровяных телец захватывать, растворять, уничтожать микробы Мечников и объяснил факт иммунитета. В основе его лежат фагоцитарные свойства лейкоцитов, то есть их способность поглощать микробы.
Так была создана знаменитая фагоцитарная теория иммунитета.
Когда Мечников был в расцвете своих творческих сил, им овладела идея борьбы со старостью. Он рассматривал старость как результат преждевременного изнашивания организма. Человек живет меньше, чем это свойственно ему как живому существу. Чем объясняется это? Как мы уже говорили, в толстых кишках гнездится огромное количество гнилостных микробов. Продукты
кх жизнедеятельности вредны для человека. Всасываясь из толстых кишок в кровь, они постепенно отравляют все важнейшие внутренние органы, которые перерождаются, уплотняются, склеротизируются.
Такова, по Мечникову, причина ранней старости.
Значит, чтобы бороться с ней, надо нейтрализовать вредное действие гнилостных микробов кишечника. Но как добиться этого? Тончайшая наблюдательность Мечникова позволила ему установить наличие антагонизма в мире микробов, — явление, тогда еще не известное ученым.
Изучая бактерию болгарской простокваши, он нашел, что жизнь многих гнилостных микробов несовместима с жизнью этого микроба. Гнилостные микробы не могут размножаться в присутствии молочнокислой бактерии болгарской простокваши.
Открытие антагонизма в мире микробов явилось большой заслугой Мечникова.
Ученый отдавал себе отчет в важности своих наблюдений. Вот что он тогда написал:
«Задерживающее влияние одних микробов относительно других обнаруживается даже в борьбе организма с очень опасными бактериями».
Это было в 1901 г. задолго до работ Флеминга с пенициллином.
Теперь вполне очевидно, что в истории пенициллина впереди имени Флеминга должны по праву стоять не только имена русских ученых — Манассеина и Полотебнова, но и имя Ильи Ильича Мечникова, учению которого об антагонизме микроба современная наука обязана возникновением возможности практического использования замечательных свойств плесневого грибка.
В лаборатории микроба
Существуют очень вкусные и питательные грибы — шампиньоны. Группа ученых вела наблюдение над двумя участками земли, засеянными спорами шампиньонов.
Вскоре обнаружилось, что на одном участке шампиньоны растут быстрей, чем на другом. Почему? Споры были разного сорта? Земля была разная? Нет, и споры были одного и того же качества, и почва была одинаковой.
Дело заключалось в том, что на одном участке споры были посеяны густо, а на другом — редко. Более густой посев дал более быстрый рост.
Чтобы понять, какая именно связь может существовать между количеством спор и ростом грибов, следует допустить, что споры шампиньонов выделяют в почву какие-то вещества, влияющие на прорастание самих спор и на развитие грибов. Если споры сидят тесно, кучно, то окружающая среда обильнее насытится этими веществами. Значит, и действие их на рост будет сильнее.
Споры, разбросанные дальше друг от друга, посеянные редко, окажутся в худшем положении, на каждую из них придется меньше этих веществ.
Исследователи не только сделали такое предположение, но и сумели найти вещество, которое выделяли споры.
Его нашли не только у шампиньонов, но и у дрожжей, и еще у целого ряда низших организмов.
Ему дали название «биос», что по-гречески значит «жизнь».
Дальнейшее изучение биоса показало, что он неоднороден и его можно разложить на отдельные части, до некоторой степени самостоятельные: на биос 1, биос 2, биос 3.
Все эти биосы ускоряли рост и жизнедеятельность живой организованной клетки. Самым энергичным являлся биос 2. Так, например, инфузории в его присутствии размножались чуть ли не в два раза быстрее.
В 1943 году из одного вида плесени, из глиоклодиума, было выделено особое вещество — глиотоксин. Глиоклодиум вырабатывал его так же, как споры шампиньона вырабатывали свои биосы.
Но глиотоксин, однако, совсем не содействовал росту и размножению живых клеточных организмов. Наоборот, глиотоксин прекращал их рост. Достаточно было ничтожнейшей, одной стотысячной доли миллиграмма глиотоксина в кубическом сантиметре питательной среды, чтобы остановить размножение тех или иных микробов.
Таким образом, биосы несли жизнь клеткам, глиотоксин — нес гибель.
Как видно, свойства биосов и глиотоксина диаметрально противоположны.
Но вот что совершенно удивительно.
Биос 2 и глиотоксин имеют почти одинаковую химическую формулу, то есть они почти одного и того же состава.
Имеет ли значение то обстоятельство, что два вещества с такими несходными, взаимно исключающими свойствами оказываются почти одинакового химического строения?
Имеет, и притом исключительное. Оно раскрывает нам, так сказать, технику уничтожения одних микробов другими.
Оно вводит нас в самую суть процессов, совершающихся в организме микроба.
Жизнь микроба зависит от питания. Каким же образом происходит усвоение и переработка микробами продуктов питания? Могут ли белки, жиры, углеводы, эти сильные органические вещества, непосредственно усваиваться протоплазмой микробной клетки?
Нет, для этого нужно, чтобы они были превращены в более простые химические соединения.
Как же осуществляется внутри микроба это превращение?
При помощи внутриклеточных ферментов. Как известно, ферменты являются теми посредниками, без которых не совершается ни одно превращение органических веществ в живом теле.
Если ферментов нет или они перестают почему-либо выполнять свои функции, усвоение питательных веществ прекращается. Рост, размножение, жизнь микроба останавливается.
Но ферменты содействуют переработке веществ только определенного химического строения.
Биос принадлежит к таким веществам, которые очень нужны микробам и с которыми ферменты микробной клетки жадно соединяются.
Но они соединяются не только с биосом, но и с веществом, очень близким к нему по строению, т. е. с глиотоксином.
Если глиотоксина много, то ферменты быстро им загружаются, насыщаются. Теперь ферменты уже не в состоянии усваивать другие необходимые для них вещества. Они связаны глиотоксином. В результате питание микроба нарушается и он легко может погибнуть.
Таким представляется механизм уничтожения микробов глиотоксином. Он выводит из строя ферменты микробной клетки. Благодаря этому микробы, лишенные питания, слабеют, гибнут.
Биос и глиотоксин не являются исключениями. Параминобен-зойвая кислота, например, способствует росту и размножению пневмококков. По своей структуре эта кислота близка к стрептоциду. Стрептоцид же, как известно, ослабляет действие пневмококков.
Никотиновая кислота — это витамин, способствующий размножению клеток. Ее химическая формула во многом схожа с формулой пиридинсульфановой кислоты.
Но первая кислота, возбуждая процессы жизнедеятельности в организме, помогает и росту микробов, вторая же парализует рост микробов.
Теперь можно понять, как действует пенициллин.
Пенициллин, повидимому, прекращает жизнь микробов так же, как и глиотоксин, тем, что нарушает, задерживает, парализует в микробе превращения одних питательных веществ в другие, без которых существование микробов невозможно. Новейшие исследования до некоторой степени подтверждают это.
Молекула сахара на пути усвоения ее живой клеткой должна "пройти стадию превращения в так называемую пировиноградную кислоту.
Есть оснований полагать, что в присутствии пенициллина ферменты многих микробов не могут использовать пировиноградную кислоту, являющуюся одним из этапов превращений сахара. В результате у них нарушается, углеводный обмен.
Без пировиноградной кислоты рост микробов, их размножение останавливаются.
Имеются также данные, что пенициллин влияет и на так называемый нуклеопротеидный обмен клетки, чем нарушается ее жиз-
недеятельность. А микробы, у которых жизнедеятельность парализована, легко уничтожаются защитными приспособлениями человеческого организма, в частности фагоцитами.
В последнее время открыта любопытная особенность пенициллина. Оказывается, что он губит микробов, так оказать, косвенно, уничтожая не тех микробов, которые подвергаются его действию, а их потомков, т. е. следующее поколение. Иначе говоря, пенициллин лишает микробов способности размножения.
Таково, вероятно, действие пенициллина, этого оружия зеленой плесени, выработанного ею в процессе эволюции на протяжении тысячелетий.
Однако упоминания об этих явлениях недостаточно для того, чтобы объяснить гибель микробов при применении пенициллина. Возможно, что пенициллин может действовать и непосредственно на возбудителя инфекционного заболевания. Но и такое объяснение неполно. В нем опущено главное — роль самого организма.
Введение пенициллина больному вызывает в его нервной системе процессы, меняющие общее состояние организма, его защищенность по отношению к болезнетворным микробам. В результате создается повышенная сопротивляемость и невозможность для микроба существовать в изменившейся внутренней среде организма.
Предстоящая победа
Пенициллин был открыт благодаря тому, что некогда русские, а значительно позднее английские ученые подметили его губительное влияние на стафилококков. Совершенно естественным было предположить, что он явится также губительным и для стрептококков, и для пневмококков, и для менингококков, и для всех кокковых микроорганизмов. Так и оказалось. Родственные микробы имеют и родственные свойства, в том числе и свойства терять свою жизнеспособность в присутствии пенициллина.
Примечательно, что пенициллин уничтожает некоторых микробов и не из семейства кокков.
Например, возбудитель дифтерии ничего общего со страфилв-кокками не имеет, так же как и возбудитель сифилиса или сибирской язвы. Однако и бактерии дифтерии, и бледная спирохета, и палочка сибирской язвы тоже погибают от пенициллина.
Этот удивительный факт представляет собой чрезвычайный интерес. Возникает вопрос большого значения. Если пенициллин действует не только на кокков, но и на некоторых непохожих и даже весьма отличных от них микробов, то отчего он не действует и на всех остальных?
Если бы удалось объяснить эту загадку, то перед наукой открылась бы исключительная возможность сделать могучую силу пенициллина многосторонней, т. е. придать этому препарату способность побеждать всех или почти всех возбудителей инфекций. Подобный успех явился бы огромной победой медицины.
В лабораториях и институтах Советского Союза энергично ведутся поиски в этом направлении. Ведутся они и в других странах. Наши исследователи сумели наметить верные пути к цели.
Недавно советский микробиолог, свердловский профессор Пе-ретц сообщил очень любопытные данные.
Почему пенициллин бессилен перед целым рядом микробов, например перед такими, как брюшнотифозная и паратифозная палочки? Брюшнотифозная, паратифозная палочки, кишечная палочка, дизентерийная выделяют, видимо, особое вещество, которое нейтрализует, связывает пенициллин.
Это вещество получило название «пенициллиназы».
Отсюда следует, что пенициллин действует только на тех микробов, которые не вырабатывают пенициллиназы. Пеницилли-наза, таким образом, — это оружие защиты микробов против смертоносных для них грибков.
Теперь тайна уже в руках исследователей. Секрет действия пенициллина на одних микробов и отсутствие его действия на других может считаться раскрытым.
Значит, нужно отыскать способ уничтожения защитной функции этих микробов, т. е. парализовать вмешательство пенициллиназы. Можно сказать иначе: надо найти средство, усиливающее действие пенициллина, т. е. найти активатор пенициллина.
Тысячи опытов, проделанных советскими учеными, указывают путь к достижению цели. Но пока — в стенах лаборатории.
Предстоит еще большая исследовательская работа, прежде } чем можно будет перейти к применению добытых результатов на человеке. Надо думать, что это время не за горами. И если усилия ученых будут успешными, то они принесут еще одну крупную победу науки над жестокими врагами человеческого здоровья.
Первые страницы
Итак, первая страница новой, антибиотической славы лечебной медицины — это страница пенициллина. Она еще не дописана.
Пять больших задач стоят перед теми, кто занимается пенициллином.
Первая задача — упростить получение пенициллина, его производство. Работа над этим ведется напряженно всюду.
Вторая задача — облегчить пользование пенициллином. Самое лучшее добиться того, чтобы его можно было принимать внутрь, как обычное лекарство.
Можно сказать, что эта задача уже почти решена. Завод имени Карпова в Москве и один из ленинградских заводов уже изготовляют пенициллин в капсулах и таблетках. В настоящее время таблетированный пенициллин имеется на полках наших аптек.
Третья задача — получить пенициллин в лаборатории химическим путем, получить искусственный пенициллин. И это — не мечта.
Разумеется, эта задача нелегкая. Но советские ученые, занявшиеся ею, стоят на пути успешного решения.
Существует болезнь, носящая название бациллярной дизентерии. Это затяжное изнуряющее заболевание, особенно тяжело протекающее у детей. И вот недавно в Московской лаборатории экспериментальной химиотерапии инфекционных заболеваний начались поиски средства против этой инфекции, на которую не действует даже пенициллин. Около семидесяти химиков, врачей и биологов под руководством доктора Ф. С. Ханеня вели напряженную работу. Было изготовлено и изучено свыше 500 новых химических соединений.
В 1949 году, после многочисленных экспериментов, потребовавших много напряженных усилий, были получены первые граммы белого порошка. Опыты показали, что этот препарат обладает свойствами антибиотиков. Это был антибиотик, но не добытый из продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, а изготовленный в лаборатории из химических веществ. Это был химически синтезированный антибиотик. Его назвали синтомицином.
Теперь предстояла проверка действий полученного препарата. К этому и приступили. Стали его применять против различных инфекционных заболеваний, привитых животным. У многих из них никакого улучшения не наступало, несмотря на применение синтомицина, некоторые же животные очень быстро поправились.
Следующий шаг — это проверка на человеке. Но как это сделать? Кто согласится подвергнуться возможному при приеме не испытанного еще, неизвестного вещества риску?
Помог случай: заболел в острой и резкой форме бациллярной дизентерией сотрудник этой же химиотерапевтической экспериментальной лаборатории врач Гугняев. Его поместили, как и полагается, в больницу. И тогда он потребовал, чтобы его лечили только синтомицином. Его пробовали уговорить лечиться обычными, уже известными и испытанными средствами, чтобы ввиду тяжелого течения болезни не терять времени на эксперименты.
Но больной настоял на своем.
Прошло три дня. Врачи отметили в истории болезни Гугняева важный факт. Тяжелые явления исчезли. Течение болезни оборвалось. Заболевание, которое должно было тянуться неделями, месяцами, вдруг закончилось на протяжении нескольких дней. Это сделал синтомицин.
Теперь уже можно было расширить применение нового препарата. К этому времени его добывание удалось наладить так, что в месяц получали уже не граммы, а целйй килограмм препарата. Синтомицин передали в детские клиники: в больницу имени Филатова в Москве, в клиническую детскую больницу, в клиники ленинградского Научно-исследовательского института и в другие детские лечебные учреждения нашей страны. И всюду наблюдалась одна и та же картина: резко падала смертность от дизентерии, весь ход болезни менялся к лучшему, значительно сокращались сроки выздоровления.
Еще более замечательным представляется другой новый антибиотик — левомицетин. Это вещество представляет собой тщательно очищенный препарат того же синтомицина. В таком виде он обнаруживает удивительные свойства. Он действует губительно и на тех микробов, которых убивает пенициллин, и на тех, с которыми пенициллин и другие антибиотики ничего сделать не могут. Левомицетин уничтожает, например, возбудителей сыпного тйфа. От него гибнут бактерии брюшного тифа и паратифов. Даже против трахомы, заразной болезни глаз, его применяют с хорошим результатом. Есть основания полагать, что он излечивает и от коклюша.
Уже описаны тысячи случаев применения левомицетина с большим, а зачастую — с поразительно скорым и радикальным успехом.
Опять-таки весьма ценно то, что он был впервые выделен из особого лучистого грибка — «стрептомицес венецуэла», а теперь советские ученые — биохимики и фармакологи — его синтезируют, то есть получают искусственно, лабораторным путем.
Все это только начало, только первые успехи в области получения синтетических антибиотиков.
Четвертая задача — расширить число тех болезней, которые излечиваются пенициллином. Надо помнить, что ведь он пока не помогает при тифах и паратифах, при дизентерии, гриппе, чуме и некоторых других заболеваниях.
Пятая задача — найти наиболее простой способ задерживать пенициллин в крови. Впрочем, эта задача в настоящее время может считаться решенной. Так, пенициллин, разведенный в нескольких кубических сантиметрах полупроцентного раствора пирамидона или антипирина и впрыснутый внутримышечно, держится в организме почти в течение двадцати часов. Значит, его достаточно вводить два раза в сутки. Практически этого вполне достаточно для получения нужного лечебного результата.
Профессор И. Г. Руфанов, Ю. Я. Грицман и А. Н. Уразова, разработавшие этот способ, использовали способность пирамидона и антипирина усиливать непроницаемость стенки капилляров кровеносных сосудов. Поэтому пенициллин дольше задерживается в кровяном русле, не может быстро выйти из капилляров.
Другая группа ученых, под руководством Руфанова, нашла еще один способ продления действия пенициллина в организме. Оказалось, что смешивание пенициллина с небольшим количеством крови, взятой от данного больного, увеличивает срок пребывания пенициллина в организме.
Дальнейшие поиски новых, еще более современных способов применения антибиотиков продолжаются.
Страница пенициллина в истории медицины еще далеко не дописана.
Но одновременно уже пишется вторая страница. Она посвящена грамицидину.
Грамицидин — также антибиотик. Его извлекли из микроба «бациллюс бревис» — спороносной палочки, живущей в земле.
Советские исследователи Гаузе и Бражникова выделили в 1942 году кристаллическое вещество почти из такой же спороносной палочки, как и «бациллюс бревис». Его назвали советским грамицидином, или грамицидином С.
Грамицидин оказался эффективным средством против гноеродных микробов. Особенно он губителен для тех микробов, которые поселяются в ране, отягощая ее течение.
Поэтому в некоторых случаях грамицидин содействует поразительно быстрому рубцеванию мокнущих, незаживающих ран. Так же быстро грамицидин нередко справляется с особым заболеванием костей, называемым остеомиэлитом. Этот гнойный процесс тянется так долго, что иногда кажется бесконечным, сопровождается отхождением кусочков костей и хронически отравляет организм. В этих случаях грамицидин — могучее лечебное средство.
Обожженная ткань — хорошая почва для микробов. Грамицидин как бы сметает их бесследно.
При помощи грамицидина уже можно с успехом вмешиваться в течение плевритов, воспалений суставов, рожистых процессов.
Еще одна страница пишется об аспергиллине.
Этот антибиотик еще более молод. Он выделен совсем недавно. Его открыл советский профессор Н. А. Красильников из Института микробиологии Академии наук СССР.
Аспергиллин — продукт грибка черноватой плесени и обладает многими превосходными качествами.
Грамицидин хорошо действует. Но его нельзя вводить в вену или артерию. Он не безвреден. Его можно применять только как наружное средство. Это, разумеется, ограничивает сферу его применения.
Аспергиллин же можно применять и как наружное средство, и внутривенно. Он очень стоек. Его сравнительно просто можно извлечь из культуры черноватой плесени.
Уже известно, что, кроме гноеродных микробов, он влияет и на анаэробов, т. е. микробов, размножающихся в среде, лишенной кислорода и вызывающих такие болезни, как столбняк и газовая гангрена. Изучение аспергиллина начато сравнительно недавно. Но применение этого антибиотика сулит большие надежды.
В ряды биологических средств, благотворных для человека, вступает еще один антибиотик — ауэромицин, недавно полученный в виде золотисто-желтого порошка из особого грибка. Этот антибиотик, видимо, будет прекрасным дополнением к пенициллину, так как, судя по экспериментальным данным, он эффективно действует там, где пенициллин не дает успеха: при роже, холере, чуме, при сыпном и брюшном гифе.
Чрезвычайно ценным средством обещает стать новый антибиотик — альбомицин. Он получен советским ученым профессором Г. Ф. Гаузе и группой его сотрудников. Раствор этого белого порошка, впрыскиваемый под кожу, уже на пятый-шестой день останавливает развитие таких болезней, как крупозное воспаление легких, дизентерию, протекающих у детей обычно очень тяжело.
Как было установлено в детской клинике 1-го Московского медицинского института, в детском отделении Баумановской больницы, в Детской клинической больнице и в других, альбомицин является незаменимым лекарством как раз для лечения маленьких детей. Тысячи случаев выздоровления, насчитывавшихся уже к середине 1951 года, обязаны этим советскому препарату — альбо-мицину.
Честь открытия своеобразных веществ, получаемых из растений, полностью принадлежит советскому профессору Б. П. Токину. Эти вещества названы им фитонцидами.
Растения болеют часто. Они подвержены нападению многих бактерий, а также вирусов.
Нам уже известна мозаичная болезнь табака, при изучении которой профессор Ивановский открыл мир вирусов. У пшеницы часто появляется болезнь — ржавчина. Картофель чахнет, ссыхается, когда его поражает так называемый рак картофеля.
Это все результат воздействия вирусов.
Растения защищаются от возбудителей болезней. У них, как у животных и у людей, вырабатывается иммунитет. Например, некоторые сорта люцерны невосприимчивы к микробу «апплано-бактер инзидиогум».
Растения можно предохранять от заразных заболеваний при помощи специальных вакцин и сывороток.
Но вот что еще более удивительно: оказывается, растения выделяют летучие вещества, распространяющиеся в воздухе и убивающие различных микробов, в том числе и возбудителей опасных болезней. Повидимому, таким путем растения предохраняют себя от вредных для них организмов. Такими могут быть не только микробы. Так, например, вещества, выделяемые листьями приятно пахнущей черемухи, в течение немногих минут смертельно поражают комаров, мошек, слепней, комнатных мух.
Фитонциды открыты в листьях апельсина, лимона, мандарина, в зеленой хвое, черемухе, чесноке, луке.
Профессор Токин наблюдал гибель стафилококков, стрептококков, дифтерийной и туберкулезной палочек от действия кристаллических фитонцидов, полученных из лука. Микроорганизмы погибали. Фитонциды оказывают свое действие не только в пробирке, но и в организме человека и животных. И когда профессор Токин делал свой доклад на заседании Ученого совета Министерства здравоохранения СССР, то было ясно, что применение
фитонцидов для лечения людей — это реальная задача сегодняшнего дня.
Следующую страницу, надо полагать, заполнят любопытнейшие события из области изучения так называемых животных антибиотиков, совсем недавно привлекших внимание советских исследователей.
Профессор Якобсон в Институте биологической профилактики инфекций, под руководством профессора Л. А. Зильбера, выделила из красных кровяных телец вещество, названное эритрином. Применение его дало хорошие результаты. В клинике профессора Доброхотовой эритрином лечат детей, заразившихся дифтерией. Есть замечательный метод борьбы с этим недугом — вливание специальной сыворотки. Это великолепное средство спасения детей от дифтерии.
Но когда к противодифтерийной сыворотке присоединили еще и эритрин, то сразу же выяснилась удивительная особенность. Срок выздоровления сократился в два раза. А сыворотки потребовалось почти в четыре раза меньше. Это проверили на двухстах больных. Результат был благоприятный.
Из той же области изучения антибиотиков большое внимание сейчас привлекают своеобразные работы профессора Ермольевой и ее сотрудников в Москве. Они тоже обнаружили очень интересные факты.
Если подвергнуть печень, селезенку или мышцу сердца специальной обработке, то можно из каждой такой ткани добыть особое вещество — безбелковый экстракт.
Если несколько капель его прибавить к культуре микробов, например, к культуре так называемой кишечной палочки, то развитие микроорганизмов замедлится, а потом и остановится. То же самое произойдет и с туберкулезной палочкой.
Значит, этот препарат по действию можно считать как бы родственным стрептомицину. Его рассматривают как антибиотик.
Еще более удивителен препарат подобного типа, полученный из рыб. Его назвали экмолином. Вот какие опыты были с ним проделаны.
Известно, что белые мыши очень восприимчивы к гриппу. Грипп вызывается особым вирусом. Если такой вирус попадает в дыхательные пути белой мыши, она обязательно заболевает гриппом.
Большой группе белых мышей в лаборатории Ермольевой ввели через нос большие дозы гриппозного вируса. Все они заболели гриппом в резко выраженной форме. Вместе с вирусом гриппа животным вводили различные антибиотики: одним пенициллин, другим ауреомицин, третьим — стрептомицин, четвертым — новокаиновую соль пенициллина, пятым — экмолин. И все они заболели, — кроме тех, кому введен был экмолин. Экмолин убил возбудителей гриппа.
Такие факты позволили Ермольевой предложить экмолин, как
средство лечения гриппа у людей. Ряд врачей, применивших этот препарат у взрослых и детей для борьбы с гриппозной инфекцией, получили прекрасные результаты. Кроме того, оказалось, что экмолин ведет к быстрому выздоровлению от скарлатины.
Дальнейшие наблюдения над экмолином открыли у него еще одно неожиданное свойство: прибавление его, а также небольшого количества новокаина к пенициллину удлиняет время пребывания пенициллина в организме до 24 — 48 часов. А это, как известно, и усиливает действие пенициллина в организме и облегчает работу обслуживающего персонала. В настоящее время Ученым медицинским советом Министерства здравоохранения СССР экмолин рекомендован для лечебных целей, особенно в соединении с пенициллином.
Число антибиотиков непрерывно растет. В этой области предстоят большие и счастливые открытия.
Новая
Глава книги исцелений только начинается. Но имеются достаточные основания полагать, что ее страницы будут заполнены очень важными и плодотворными для человеческого здоровья событиями, в которых советские ученые сыграют важную роль.
Глава девятая. КОГДА МОЗГ СПИТ
Крепкие тормоза
В замечательном романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир», отразившем грандиозную эпопею Отечественной войны 1812 года, описывается смерть одного из главных действующих лиц — князя Андрея Болконского. Во время Бородинского сражения князь Андрей был ранен осколком гранаты. Через несколько дней он умер.
Отчего погиб князь Андрей? От тяжелого ранения? Конечно, судя по тому, что можно прочитать в романе, рана в живот и бедро была, видимо, серьезной. Но если бы в наши дни человека с такой раной доставили в больницу, то любой квалифицированный врач-хирург сделал бы нужную операцию и, вероятно, спас больного. И сама операция не явилась бы исключительной по своей сложности.
Князь Андрей умер не от ранения, а от гангрены, опасности которой доктор, осматривавший Болконского, не мог устранить, умер от общего заражения крови. Великий художник и тонкий наблюдатель Лев Толстой ярко нарисовал картину смерти Болконского.
В том же сражении под Бородином был ранен в бедро генерал Багратион. Мышцы, нервы и кость ноги получили большие повреждения. Хирурги, которые оказывали Багратиону помощь, понимали, что надо сразу же сделать операцию, удалить верхнюю часть разбитого бедра и, может быть, даже часть таза. Сложная это была операция? Сложная, но в наши дни ее выполняет любой квалифицированный хирург.
Почему же она не была сделана Багратиону? Тогдашние хирурги не решались сделать ее. Они очень хорошо знали, что операция не спасет раненого. Хирургам было ясно, что после операции неизбежно наступит гангрена, а за нею — смерть.
Вот почему Багратиона не оперировали. Хирурги были бессильны перед его раной.
27 января 1837 года на дуэли с Дантесом был смертельно ранен великий поэт Пушкин. Пуля попала в нижнюю часть живота. В чем выразилась бы в настоящее время лечебная помощь Пушкину? Ему сделали бы лапаротомию, то есть вскрыли бы брюшную полость, извлекли бы пулю, проверили бы целость кишечника, затем зашили бы рану, и самое большее через месяц-дева Пушкин выздоровел бы.
Но доктор Арендт, вызванный к поэту тотчас после дуэли, являвшийся одним из видных врачей Петербурга того времени, даже и не подумал об операции. И со своей точки зрения он был прав. Операция все равно ничего бы не дала. За ней последовало бы то, о чем мы говорили, — гангрена.
Гангрена, смертельное заражение крови — вот что связывало руки хирургов. Тогда не умели обезвреживать, предохранять раны от микробов, да и о самих микробах не имели правильного представления.
Существовала и вторая причина, парализовавшая хирургию того времени. Она играла не меньшую роль, чем первая. Это была боль.
В том же романе Толстого есть несколько интересных с этой точки зрения строчек. В них речь идет о другом действующем лице, об Анатолии Куракине. Ему во время Бородинского сражения отрезали раненую ногу, произвели ампутацию. Чтобы хирург мог выполнить операцию, несколько фельдшеров «навалились на грудь» лежащего на столе Куракина и держали его.
Иначе нельзя было оперировать. Раненый испытывал нечеловеческие боли, отчего он вырывался, дергался, крутился. Ампутация ноги — это сравнительно простая операция. Ее можно произвести даже при судорожных толчках и резких движениях оперируемого. Но операция большая, точная, сложная, требующая величайшей осмотрительности и осторожности, такая, например, как операция внутри брюшной полости, большей частью не может быть сделана, когда тело больного изгибается и корчится от невыносимой боли.
Дело заключается не только в естественной человеческой жалости, но и в том, что такая операция требует обязательно полной неподвижности оперируемого. Иначе операции не сделать. Боль же заставляет оперируемого корчиться и тем самым препятствует работе хирурга.
Гангрена и боль на протяжении многих сотен лет не позволяли хирургии идти вперед, тормозили ее развитие. Искусство операций развивалось очень медленно.
Конечно, это не означает, что врачи не пытались производить операции на внутренних органах. Думать так было бы непра-
вильно. И в самые давние времена врачи производили большие полостные операции. Известно, например, что Юлий Цезарь появился на свет необычным путем. Врачи древности извлекли его с помощью чревосечения, через вскрытую брюшную полость матери. Отсюда и название подобной операции, которую и в наши дни приходится иногда применять, — кесарево сечение. Время от времени на протяжении истории прибегали к полостным операциям всякого рода. Но результаты таких операций оказывались, как правило, печальными.
Неудивительно, что наука и искусство хирургии проявляли себя почти исключительно в той области, которая была более доступна для применения ножа — на конечностях. Крупнейшие врачи древних, средних и новых веков изобретали и предлагали новые способы операций большей частью только на руках и ногах, на лице и шее. И очень редко — в полости груди, живота, таза и, тем более, черепа.
Необходимо еще иметь в виду, что неимоверная боль, вопли, безумные крики, мольбы, сопровождавшие операции, заставляли хирургов, как бы они собой ни владели, спешить, не терять ни одного мгновения. А в известной мере и это мешало врачам быть вдумчивыми, изучать, проверять, улучшать на практике методы операций.
Поиски сна
Помещения, где производились в донаркозную эру операции, были скорее похожи на камеры пыток, нежели на больницы. С двух сторон расположенного посредине комнаты крепкого стола были вбиты в пол железные скобы с продетыми сквозь них широкими, толстыми ремнями из особо прочной кожи. Такие же ремни свешивались с колец, укрепленных на потолке. Все это служило для привязывания оперируемого к столу так, чтобы он не мог даже шевельнуться.
Во время операций стоны и крики больных разносились по прилегающим улицам. Прохожие торопились уйти прочь от этого здания пыток.
Сама операционная представляла собою страшное зрелище: и больной, и хирург, и его помощники были залиты кровью; кровью были залиты также стены и пол. Хирург должен был обладать или равнодушием к страданиям больного, или стальными нервами и необыкновенной выдержкой. В таких условиях вести опе-. рацию могли только наиболее мужественные врачи.
Неудивительно поэтому, что врачи во все времена стремились найти способ укрощать боль. Есть основания полагать, что египетские врачи умели приводить своих пациентов в бесчувственное состояние. В глубокой древности было известно как наркотизирующее средство сок индийской конопли. Гален, знаменитый врач из Пергама, живший во II веке нашей эры, знал, что из растения мандрагоры, или «Адамовой головы», можно изготовить напиток, обладающий усыпляющим действием. Тысячу лет спустя хирурги пользовались губкой, смоченной в экстракте, добытом из головок мака. Губку подносили ко рту оперируемого и заставляли его глубоко вдыхать испарения макового сока. Спустя некоторое время больной засыпал. В то время медики называли эти губки «яблоками сна».
Но все это, разумеется, не давало желаемых результатов. Все имевшиеся средства делать людей нечувствительными к боли действовали преимущественно лишь при поверхностных, несложных операциях или операциях, длившихся весьма короткий срок. Поэтому больных все равно приходилось крепко-накрепко прикручивать к столу, так как прикосновение ножа хирурга большей частью вызывало их пробуждение.
Но все поиски такого средства, которое действительно избавляло бы человека от боли, средства, которым можно было бы управлять, регулировать, удлинять или сокращать продолжительность глубокого искусственного сна, не приводили к цели.
И только в середине XIX века положение резко изменилось.
Победа над болью
В один из первых дней декабря 1846 года знаменитый русский хирург Николай Иванович Пирогов осматривал пришедшую к нему на прием больную. Лицо его было серьезно, а во взгляде мелькала жалость, когда он смотрел на стоявшую перед ним женщину, так как ей угрожала операция и страдания, причиняемые болью.
Тщательное и повторное обследование больной приводило к одному и тому же результату. Грудная железа была поражена раком, и ее нужно было удалить возможно скорее.
Удаление грудной железы со всеми близлежащими лимфатическими железами и лимфатическими узлами — это очень большая операция, захватывающая обширную поверхность.
Однако Пирогов обладал уже таким громадным опытом врача и искусством хирурга, что никто в благополучном исходе операции не сомневался. Для него она являлась обычной.
И все же операция, произведенная у этой женщины, оказалась не похожей на другие. В нее Пирогов впервые ввел нечто новое.
В назначенный день больная лежала на операционном столе, и шли последние приготовления. И вот тут ассистентов хирурга и его учеников, присутствовавших в операционной, начало охватывать удивление. Пирогов не приступал к операции и, видимо, был очень взволнован. Он нетерпеливо посматривал на дверь. Его всегдашняя твердость, выдержка и спокойствие как будто изменили ему.
Вдруг в операционную торопливо вошел служитель аптеки больницы. В руках он держал бутылку с бесцветной, прозрачной
жидкостью. Это было то, чего ждал Пирогов. Хирург быстро взял бутылку и направился к операционному столу.
— Делайте так, как я буду делать, — сказал он ассистенту.
Из бутылки Пирогов налил немного жидкости на носовой платок и приложил его к лицу больной. Острый своеобразный запах распространился по операционной.
— Дышите глубоко, — сказал Пирогов, наклоняясь к голове больной. — Не бойтесь.
Через несколько минут в операционной раздалось спокойное дыхание женщины.
Пирогов передал ассистенту бутылку с бесцветной жидкостью и сказал ему, что ею время от времени надо смачивать платок и подносить к лицу больной. Затем он взял скальпель и приступил к операции. И вот здесь произошло нечто поразительное. Хирург делал разрез за разрезом, а оперируемая не издавала ни единого стона. Она спала.
Все присутствовавшие были ошеломлены. Боль даже не разбудила больную. Боль оказалась как бы уничтоженной.
Через часа полтора все кончилось. Операция удалась как нельзя лучше. Больную отнесли в палату. Она продолжала спать.
Только через полчаса женщина проснулась. Первое, что она увидела, было склоненное над ней лицо Пирогова.
— Ну, как вы себя чувствуете? — спросил он голосом, выдававшим его сдерживаемое волнение. — Было вам больно во время операции?
Больная посмотрела с недоумением на большую повязку, окутывавшую ее грудь и плечо, и подняла брови.
— А разве операция уже была? — удивилась она. — Я ничего не чувствовала.
Хирург встал и ничего не сказал. Но на лице его, обычно строгом и сосредоточенном, появилось выражение полного удовлетворения. Казалось, он был растроган одним тем, что больная избегла страшных страданий.
Так прошла первая пироговская операция, сделанная под наркозом. Для обезболивания был применен серный эфир, усыпляющие свойства которого были обнаружены незадолго перед этим.
Правда, года за два до этого уже стало известно, что существует особое химическое вещество, закись азота, также позволяющее погрузить человека в сон, ве время которого ему можно безболезненно произвести операцию. Но оказалось, что действие закиси азота, или «веселящего глаза», продолжается короткий срок. Следовательно,. он пригоден только для небольших операций, таких, например, как извлечение зуба или вскрытие нарыва на пальце. «Веселящим газом» закись азота называют потому, что в начале при вдыхании его возникает у больного приподнятое, веселое состояние.
Серный эфир был введен в медицину как наркотизирующий препарат в 1846 году, закись азота — в 1844 году. А в 1847 году появилось еще одно вещество, погружавшее человека в глубокий сон и делавшее оперируемого совершенно нечувствительным к боли, даже самой резкой. Это была густая маслянистая жидкость, получившая название хлороформа.
Пары закиси азота, серного эфира, хлороформа явились чудесным даром, который медицина принесла страждущему человечеству.
Но пути распространения
Встретило ли введение в медицину средств, устраняющих боль, всеобщее признание?
Нет. Открытие болеутоляющих свойств хлороформа и эфира встретило у множества врачей отрицательное отношение. Противники наркоза утверждали, что искусственное усыпление должно быть запрещено, так как оно идет вразрез всему тому, что существовало со дня сотворения мира. Кроме того, — и это, пожалуй, было самое главное — уже появились сведения, что применение хлороформа и эфира дает осложнения и отмечались даже смертельные исходы. А такие случаи, действительно, имели место, и никто не знал, почему осложнения возникали и как с ними бороться.
Неудивительно, что наркоз был мало распространен. Его применение носило случайный характер. Огромное большинство больных попрежнему оставалось обреченным на муки и страдания.
Совершенно другое получилось, когда вопрос о наркозе стал разрабатываться русскими учеными, особенно гениальным русским хирургом Николаем Ивановичем Пироговым. Можно сказать без всякого преувеличения, что он был, по существу, истинным творцом наркозного метода борьбы с болью.
В декабре 1846 года Пирогов произвел под эфирным усыплением большую, очень сложную операцию удаления грудной железы. Несмотря на длительность операции, больная все время спала и ничего не почувствовала.
За этой операцией последовали и другие во все возрастающем количестве. Уже в марте 1847 года появилась в печати статья Пирогова, где описывались случаи употребления с огромной пользой серного эфира.
С присущей ученому пытливостью он проверил его действие не только на животных и больных людях, но и на самом себе. Этого тоже ему показалось мало. Он выискивал людей, готовых добровольно подвергнуться испытаниям, и на них изучал тщательно и всесторонне явления, связанные с наркотизированием.
Результатом всей его гигантской работы явилось опубликованное им на разных языках сообщение о своих обширных клинических и экспериментальных исследованиях. Они позволили
сделать чрезвычайно важные выводы о влиянии наркоза на организм и содержали практические указания, имевшие ценнейшее значение для хирургов при пользовании наркозом.
Это была первая в мире обобщающая научная работа о применении эфирного наркоза.
Труды Пирогова и в этой области получили известность во всех странах и сыграли решающую роль в распространении способов обезболивания в хирургии. Началось во всех странах применение наркотизирующих средств. В медицине наступила новая эпоха, обещавшая небывалые плодотворные перспективы.
Есть все основания называть Пирогова действительным основоположником производства операций под наркозом.
Работы великого хирурга носили разносторонний характер и внесли много нового в область применения наркоза. Так, он усовершенствовал технику применения эфира и предложил свой способ усыпления, который во многих случаях оказался наиболее удобным. А когда до него дошли сведения о хлороформе и он познакомился с последним на практике, применив его тотчас в своей клинике, то ему сразу стали ясны не только превосходные качества этого препарата, но и ошибка, которую допускали почти все врачи, применявшие при операции хлороформ. Ошибка заключалась в том, что платок, на который наливали хлороформ, плотно прижимали к губам и к носу больного. Считалось, что чем концентрированнее хлороформ, тем наркоз лучше. Пирогов быстро разгадал ошибочность такого взгляда. Он доказал, что надо обязательно хлороформ разбавлять кислородом, т. е. смешивать его с воздухом. Хлороформ в такой концентрации вызывал спокойный сон и давал меньше осложнений.
Способ Пирогова стал позже, даже когда вместо платка стали применять специальные наркозные маски, законом для всех, кто занимался и занимается хлороформированием оперируемых.
Еще одна крупнейшая заслуга принадлежит Пирогову. Он впервые применил наркоз в боевой обстановке, во время сражений. Это произошло в 1847 году на Кавказе при осаде крепости Салты. Вот что он написал в своем «Отчете»:
«Россия, опередив Европу, показывает всему просвещенному миру не только возможность в приложении, но и неоспоримость благодетельности действия эфирования на раненых на поле самой битвы».
Пирогов не был одинок в России. И другие передовые русские хирурги решительно встали на защиту наркоза. 9 декабря 1847 года московский профессор Поль провел операцию под хлороформом, и очень удачно. А в Крымскую войну 1854 — 1855 гг. уже ни одна операция не проводилась Н. И. Пироговым без хлороформа. За все время войны было сделано до десяти тысяч наркозных усыплений — цифра для тех времен грандиозная! Ведь это было только на заре наркозной эры. Такое число операций под наркозом показывает, что русские врачи и в этой области медицины шли в первых рядах.
Известный русский физиолог А. Филомафитский успешно изучал действие эфира. Его работы в области наркоза имели особенное значение для борьбы с осложнениями, сопутствующими операции. Именно Филомафитский первый заложил основы учения о противопоказаниях к применению хлороформа и эфира. Как оказалось, не во всех случаях можно пользоваться этими усыпляющими средствами. При ряде болезней внутренних органов-легких, печени, сердца и других — к наркозу нельзя прибегать. Иначе возникают разные осложнения вплоть до самых тяжелых.
Благодаря трудам Филомафитского стали возможными борьба с осложнениями при даче наркоза и их предупреждение. Это означало спасение жизни многим людям.
Следует отметить еще одну заслугу Филомафитского. Он сконструировал и ввел в медицину ту маску для наркоза, которой пользуются и теперь и которая неправильно называется маской Эсмарха.
Техника наркотизирования, умение погружать в наркозный сон находились в России тоже на большой высоте. Пирогов, например, сделавший, вероятно, самое большое число операций, не потерял ни одного оперированного, т. е. ни один больной не скончался от осложнений, связанных с применением самого наркоза, хлороформа или эфира.
Московская статистика 1896 года показала, что один случай смерти от хлороформа падал примерно на шесть тысяч операций, что составляло меньше, чем две сотые процента. Это очень немного. Подобный факт бесспорно свидетельствовал о высоких технических качествах русских наркотизаторов. Конечно, и в других странах значение техники наркотизирования всегда оценивалось высоко. Ведь от умения давать наркоз часто зависит исход операции.
За последние десятилетия нашего времени благодаря наркозу были введены в хирургию такие операции, о которых не могли мечтать не только в начале, но даже в середине и конце прош-шлого века. Для рук хирурга стали доступны все внутренние органы и даже центральная нервная система.
Обезболивание способствовало прогрессу в области хирургии. Наркоз сыграл роль стимулятора в хирургии даже тогда, когда размах оперативного вмешательства сдерживался серьезнейшими препятствиями в виде всяких инфекционных осложнений ран, устраненных впоследствии только антисептикой и асептикой.
Наркоз был и остался великой силой.
Трудная задача
Вернемся еще раз к началу наркозного века. Вспомним, что закись азота стала известна как средство для наркоза в 1844 г., серный эфир — в 1846 г. и хлороформ — в 1847 году. Таким образом, наркоз стали применять немного более ста лет назад.
Естественно, что все виды наркоза изучались и изучаются на протяжении всего столетия. Время от времени появляются новые наркотизирующие вещества, и они тоже всесторонне изучаются.
Это совершенно понятно. Ведь наркотизирующие средства отнюдь не безразличны для организма. В большом количестве — это сильнодействующие, даже вредные вещества. Для наркоза надо применять их с величайшей осмотрительностью. Как мы говорили, техника наркотизирования, умение с наименьшим количеством наркотического вещества получить нужный результат играют большую роль. Иногда несколько лишних капель наркотического вещества уже причиняют вред.
Вот почему так тщательно изучают действие наркоза, стараясь найти способы уменьшить опасность при его применении.
В то же время исследователи стремятся отыскать новые виды наркоза и новые способы обезболивания, лучшие, чем существующие.
В течение периода, прошедшего с начала применения хлороформа, закиси азота и серного эфира, появился такой способ, как местная анестезия, когда обезболивают только тот участок тела, где непосредственно производится операция.
Обезболивание здесь достигается впрыскиванием раствора кокаина или, еще лучше — новокаина.
Применяется также спинномозговая анестезия, которая заключается в том, что новокаином как бы перехватывается спинной мозг в каком-либо определенном месте. Через спинной мозг проходят все нервы, управляющие движением и чувствительностью туловища, рук, ног. Следовательно, выключение того или иного участка спинного мозга прекращает передачу в головной мозг болевой чувствительности этих частей тела.
Если не нужно допустить передачу в головной мозг болевых раздражений, например, от ноги, то в спинномозговой канал, точнее, в так называемое подпаутинное его пространство, впрыскивается раствор новокаина на уровне поясничных позвонков. Если нужно обезболить область живота, то новокаин впрыскивается на уровне нижних грудных позвонков.
Чем выше область операции, тем выше в спинномозговой канал вводится анестезирующее вещество.
При местной и спинномозговой анестезии человек не спит, но боли не чувствует.
Это было еще одним значительным успехом в разрешении проблемы обезболивания.
Однако все способы уничтожать боль имели большие недостатки. Например, сама дача хлороформа или эфира сопровождалась весьма неприятным состоянием больного: при проникновении хлороформа или эфира в дыхательные пути больной испытывал удушье, возбуждение, ощущение падения куда-то. Пробуждение после наркоза сопровождалось тошнотой, рвотой, тяжелой головной болью и другими расстройствами, длившимися иногда
не только часами, но и днями. Оперируемые долго чувствовали себя очень плохо уже не от самой операции, а от наркоза.
Местная и спинномозговая анестезия тоже имеют свои недостатки при больших операциях: довольно длительный процесс введения обезболивающего препарата, волнение, страх, тяжелые переживания больного, сознающего, что он подвергается операции. Бывают случаи, когда у оперируемого вдруг наступает обморок, хотя он даже не чувствовал прикосновения ножа.
Разумеется, ученые искали такой вид наркоза, который был бы лишен всех этих недостатков. Предлагались те или иные средства в различных сочетаниях, с различными способами применения. Однако каждый раз наступало разочарование.
Задача, действительно, являлась очень трудной. Во всех странах ученые стремились ее разрешить, но цель оставалась недостижимой. И все же задача была решена. Это произошло лет тридцать пять назад в России.
Успеха добился петербургский профессор Н. П. Кравков.
Другая сторона
Кравков был фармакологом. Он занимался изучением действия на организм различных химических веществ и возможности их использования как лекарств. С этой целью он производил множество опытов на животных.
Работы над препаратом, называемым гедонал, носили тот же характер. Гедонал принадлежит к числу успокаивающих лекарств. Его прописывали нервным больным при бессонице, если только она не вызывалась сильными болями, так как в этих случаях гедонал оказывался бесполезным.
Испытывая на лабораторных животных действие гедонала, Кравков ввел его раствор прямо в вену. Это был период, когда ученый как раз все свое внимание уделял изучению средств, годных для получения общего наркоза путем действия их на мозг через кровь. До гедонала ученым уже были применены другие вещества, которые вызывали сон, но эффект от них не удовлетворял профессора: усыпление оказывалось или неполным или непродолжительным. Если увеличивали дозу препарата, чтобы вызвать глубокий сон, то наступало отравление.
Опыты продолжались. Шли месяцы за месяцами.
И вот гедонал оказался тем кладом, который искали. Со свойственной ему тонкой наблюдательностью Кравков заметил по почти неуловимым признакам — по движению грудной клетки, дыхательному ритму, а потом по вполне отчетливым данным — по бесчувственности к боли, зрачковой реакции, состоянию животного после пробуждения, что применение гедонала дает очень хорошие результаты. Собака находилась в состоянии, очень похожем на глубокий нормальный сон и в то же время сопровождающемся полной анестезией.
Дальнейшие опыты показали, что это не ошибка, не случайность. Гедонал давал быстрое продолжительное усыпление, не нарушавшееся при самых серьезных больших операциях.
Теперь предстояло перемести исследования в клинику. И тут Кравкову пришел на помощь один из виднейших хирургов того времени профессор С. П. Федоров.
Федорову ясно было, какие неисчислимые преимущества несет с собой новый метод — введение наркотизирующего вещества в ток крови, представляющий прямой путь в мозг. Отпадает все: длительная процедура начальной часта общего наркотизирова-ния и местного анестезирования, переживания больного, после-наркозные осложнения. Если только действительно найден нужный препарат, то сон будет наступать быстро, в течение двухтрех минут. После операции больной, проснувшись, станет чувствовать себя бодро, почти так, как после обычного крепкого здорового сна.
В клинике Федорова гедонал подвергся тщательнейшему изучению и был впервые в мире применен на человеке. Локтевую вену больного прокололи иглой и влили в кровь раствор гедонала. Через две минуты, ничего не успев почувствовать, он уже спал. Операция началась, и до конца ее сон был ровный, глубокий, спокойный.
Победа ученого была полная. Она тем более представлялась заслуженной, что Кравков не имел предшественников и являлся, в сущности, единственным творцом нового метода. Тысячи людей, вынужденных лечь на операционный стол, обязаны ему избавлением от неприятных, порой мучительных ощущений, сопровождающих общее и местное обезболивание.
В дальнейшем были найдены препараты, еще более успешно служившие для внутривенного наркоза: например, пентотал, гек-сонал и другие. В настоящее время чаще всего пользуются гексоналом — более эффективным средством, чем гедонал, который уже почти не применяется.
Но изучение наркотизирующих средств на этом не остановилось. Огромная исследовательская работа продолжается. Изучаются не только сами эти средства, но и состояние организма при их применении, состояние отдельных органов.
И хлороформ, и эфир, и гексонал, и все остальные наркотические препараты могут, как мы уже говорили, вызывать — одни в большей степени, другие в меньшей — изменения в печени, в почках, в сердце, в селезенке, крови, мозгу. Значит, надо знать, где какие изменения происходят, и как их предупредить, а также как от них избавиться, если они уже наступили.
Наука о наркозе и развивается вокруг этих проблем. Все исследователи занимаются тем, что определяют, как лучше давать наркоз, сколько давать, какие болезненные нарушения происходят в органах по вине того или иного наркозного препарата, какие еще могут быть найдены вещества, погружающие в сон.
Предполагалось, что в проблеме наркоза только эти задачи, связанные с операциями, и следует себе ставить. Никому в голову не приходило, что явления наркоза могут быть еще чем-нибудь интересны.
Но в явлениях наркоза стала обнаруживаться другая сторона, о которой никто не подозревал, — сторона, совершенно новая, неожиданная.
Потеря свойства
А. М. Безредка и Э. Ру — ученики Мечникова и Пастера, великих борцов с микробами, — всю свою деятельность посвятили изучению невидимых врагов человека и поискам способов борьбы с ними. Ру известен тем, что вместе с Берингом нашел и применил ценнейшее средство для лечения дифтерии — противодифтерийную сыворотку.
Безредка известен тем, что развил учение Мечникова об иммунитете и предложил сравнительно простой способ предупреждать холеру, брюшной тиф, дизентерию при помощи специальных таблеток. В этих таблетках находятся в обезвоженном виде сильно ослабленные или убитые микробы.
Среди бесконечного количества исследований и экспериментов, произведенных Ру и Безредка, имелся следующий опыт.
Морской свинке впрыснули под кожу несколько капель сыворотки, полученной из крови лошади. Можно предположить, что это впрыскивание никакого вреда морской свинке не должно было причинить. Впрысните любой морской свинке не только десять капель, а хоть целую столовую ложку сыворотки, ничего дурного от этого не приключится. Но морская свинка в этом опыте Ру и Безредка после впрыскивания судорожно задвигала лапками, и околела, словно ей впрыснули не сыворотку, а сильнейший яд.
Почему так случилось?
Дело в том, что любой морской свинке несколько капель сыворотки действительно не причинили бы никакого вреда. Но Ру и Безредка взяли не первую попавшуюся морскую свинку, а так называемую сенсибилизированную, т. е. такую, которую они сделали особо чувствительной.
За несколько дней до опыта свинке впрыснули порядочную дозу лошадиной сыворотки. Ничего со свинкой тогда от этого не произошло, вернее, не произошло ничего видимого. На самом же деле организм свинки претерпел изменения. Свинка стала сенсибилизированной, т. е. сверхчувствительной к этой сыворотке.
То, что в первый раз прошло для свинки совершенно безобидно (введение чужеродной сыворотки), теперь, во второй раз, оказалось смертельным.
Организм морской свинки стал настолько восприимчивым к сыворотке, что даже ничтожная доза ее при повторном впрыскивании мгновенно убила животное.
Вот почему так печально окончился опыт с морской свинкой. Вместо иммунитета, т. е. невосприимчивости к сыворотке, у свинки появилась анафилаксия — чрезмерная восприимчивость к ней.
Спустя некоторое время Ру и Безредка повторили опыт. Они сенсибилизировали другую такую же морскую свинку, а затем ввели ей несколько капель лошадиной сыворотки.
И что же, морская свинка погибла? Нет. Она осталась живой и невредимой.
Почему же? Разве у нее не появилась анафилаксия?
Дело в том, что экспериментаторы не допустили возникновения анафилаксии.
Они добились этого при помощи наркоза. Им пришла в голову мысль проверить, как действует наркоз при анафилаксии. Вторую, ничтожную, но убийственную дозу сыворотки они впрыснули морской свинке, предварительно дав ей понюхать серного эфира.
Вдохнув немного эфира, свинка погрузилась в глубокий наркозный сон. Вот тогда ей и ввели под кожу вторую, смертельную дозу сыворотки. Но морская свинка продолжала спокойно спать.
А когда наркоз был прекращен, она спустя некоторое время проснулась в совершенно нормальном состоянии. Никакого анафилактического, как говорят в этих случаях, шока, несшего смерть, у свинки не наступило и позже, после сна.
Таким образом, перед исследователями обнаружился странный факт. Во время наркоза организм морской свинки неожиданно утерял одно свое свойство — приобретать сверхчувствительность, или сенсибилизироваться.
Перестройка механизма
В клинике Ленинградского института хирургической невропатологии профессор Молотков лечил отеки кисти различного происхождения оперативным путем. Он перерезал нервные веточки, ведущие к кисти. И отеки, которые не поддавались никакому обычному лечению, ваннами, электризацией, теплом, компрессами, исчезали бесследно в течение двадцати четырех часов.
Это было настолько необыкновенно, результат оказался таким эффективным, что врачи, которые подобное лечение отека видели впервые, были совершенно изумлены.
В чем смысл операции Молоткова? В том, что хирургическое воздействие на нервы, повидимому, каким-то образом перестраивает и изменяет условия, поддерживающие отеки.
Можно оказать иначе. Перерезка нервных волокон кисти прерывает связь между кистью и центральной нервной системой.
Это, очевидно, прекращает действие тех причин, которые вызывают отек.
Можно сказать еще иначе. Стоит выключить влияние центральной нервной системы на процессы, проходящие в кисти, как отеки исчезают.
Чтобы доказать правильность подобного положения, лучше всего, конечно, прибегнуть к опыту. В данном случае нужно поставить такой опыт, при котором вызывается отек и одновременно производится воздействие на центральную нервную систему, т. е. главным образом головной мозг — точнее, кору больших полушарий головного мозга.
Опыт должен быть прост и ясен, тогда он окажется убедительным.
Первая часть опыта может быть выполнена без особых затруднений. Вызвать искусственно, по желанию, отек удается очень быстро, например таким сильным ядом, как люизит — известное боевое отравляющее вещество.
Капля люизита, попавшая на кожу, вызывает в течение одной-двух минут заметный воспалительный отек, а спустя еще некоторое время на месте отека появляется более глубокое поражение кожи, даже с омертвением ткани.
Вторая часть эксперимента решается наркозом. Наркоз в известной мере выключает на время центральную нервную систему.
Ленинградский профессор Всеволод Семенович Галкин поставил такой опыт с люизитом в своей лаборатории при кафедре патологической физиологии Военно-Морской медицинской академии.
Опыт провели на двух кошках. На бедре каждой из них выбрили нужный участок. Получилась гладкая, как площадка, полоса кожи. Затем одной кошке дали эфирный наркоз. Она заснула глубоким сном... Другой кошке наркоза не дали. Она служила для контроля, для сравнения. Обеим кошкам на выбритые места нанесли по капле люизита. У контрольного животного на коже началось покраснение, раздражение и вскоре образовался большой местный отек.
У наркотизированной кошки никакого отека не появилось. Кожа оставалась здоровой.
Опыт был ясен, прост, убедителен. Он подтвердил, что выключение центральной нервной системы действительно влияет на причины, вызывающие или поддерживающие образование отека.
Но вместе с тем экспериментатор понял, что в его опыте кроется более глубокий, более широкий смысл. Было совершенно очевидно, что при наркозе кожа перестала реагировать на раздражитель, даже на такой сильный и обжигающий, как люизит.
Но кожа ведь только часть единого целого, часть организма. Следовательно, напрашивается вывод: наркоз способен как-то изменять некоторые нормальные свойства организма.
Как видите, это вполне похоже на то, что получилось у Ру и Безредка в их случае с анафилаксией.
Но есть и разница. Ру и Безредка на этом остановились, а советский исследователь Галкин пошел дальше. Вместе со своими сотрудниками он поставил ряд опытов, которые давали интереснейшие, часто совершенно неожиданные результаты.
Бездействие лейкоцитов
Что такое отек, вызванный каплей люизита? Это реакция кожи на раздражение.
Наркоз лишил козу способности реагировать на раздражитель. Но ведь в организме имеется много других тканей и клеток, обладающих способностью реагировать на раздражение. Что происходит при наркозе с ними?
Известно, какой большой реактивностью отличается кровь. Как только человек заболевает, особенно если заболевает серьезно, тотчас берут для исследования его кровь. Врачи смотрят, как реагируют на болезнь элементы крови. Больше всего их интересует, что происходит с лейкоцитами, с белыми кровяными тельцами. Становится ли их больше, т. е. наблюдается ли лейкоцитоз или число их уменьшается, т. е. наблюдается ли лейкопения. То и другое важно знать врачу; то и другое имеет известное значение для выяснения течения болезни.
Посторонний белок является для организма резким раздражителем. Если впрыснуть в мышцу или под кожу немного, хотя бы чайную ложку, обыкновенного коровьего молока, то у человека поднимается температура, появятся боли и покраснение в месте укола, ломота во всем теле, плохое самочувствие. Причина этого явления ясна. В молоке много белковых веществ, которые всасываясь под кожей или в мышцах играют роль сильных раздражителей.
Однако этим дело не ограничивается.
Возьмите у человека, которому впрыснули молоко, каплю крови и посмотрите на нее в микроскоп. Вы увидите огромное количество лейкоцитов. Вместо нормального количества 5 — 6 тысяч в одном кубическом миллиметре, их будет 10 — 12 тысяч, а то и больше. Это лейкоцитоз. Белые кровяные тельца мобилизовались для уничтожения постороннего белка.
Жар, боли, ломота в теле — видимое, ощущаемое выражение борьбы организма с болезнью. Лейкоцитоз — это скрытая невидимая реакция организма на молоко.
В лаборатории профессора Галкина кошке впрыснули молоко в мышцу бедра и стали следить за поведением животного. Через несколько часов посмотрели в микроскоп на кровь кошки. Количество белых кровяных телец в ней достигло почти 25 тысяч в одном кубическом миллиметре, а до впрыскивания молока их было 12 тысяч — норма для кошки. Впрыскивание молока вызвало резкую лейкоцитарную реакцию.
В дополнение к этому был поставлен еще один опыт.
Другую кошку при помощи эфира погрузили в глубокий и долгий сон. Через полчаса после начала наркоза ей впрыснули молоко.
Прошло еще полчаса, час, два, три. Во время сна кровь кошки исследовали несколько раз; никакого лейкоцитоза не находили. А между тем в мышцу было впрыснуто молоко — посторонние белки, раздражитель. Сколько бы раз впрыскивание ни повторяли, результат оставался прежним. Лейкоцитарная реакция отсутствовала. Ее остановил наркоз.
Какой же вывод напрашивается из всего изложенного? Оказалось, что органам, вырабатывающим лейкоциты, импульсы, сигналы об усилении выработки защитных элементов, посылает головной мозг. «Спят» клетки головного мозга под наркозным торможением — нет сигналов. Нет сигналов — выработка лейкоцитов не увеличивается.
Прерванная связь
Люизит, молоко — все это раздражители, так сказать, внешнего порядка. Они действуют на организм извне.
Но есть раздражители, находящиеся в самом организме, которые вырабатываются внутри него. Таковы, например, гормоны.
Гормоны — это вещества, которые вырабатываются так называемыми железами внутренней секреции — надпочечниками, щитовидной, гипофизарной, поджелудочной, половыми железами.
Гормоны, попадая в кровь, разносятся ею по всему телу и влияют на работу мышц, кровеносных сосудов, сердца, мозга.
Что происходит с этими внутренними раздражителями при наркозе? Останавливается их действие? Исчезает реакция на них со стороны органов?
Исследователи нашли метод, который позволил приступить к решению этой задачи. Они воспользовались инсулином.
Инсулин — это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, вернее, той частью поджелудочной железы, которая называется «лангергансовскими островками». Само название — инсулин происходит от латинского слова «инсула» — остров.
Инсулин необходим для организма. Без него человек погибает прежде всего от истощения. Сколько бы человек ни принимал пищи, ее углеводы не могут быть использованы организмом, если в нем нет инсулина.
Углеводы в теле человека превращаются в сахар. В мышцах и в печени сахар превращается в гликоген. Это как бы запас углеводов в организме. Гликоген, распадаясь, дает энергию организму. Без гликогена, например, не может функционировать нервная система, не могут работать мышцы.
Если нет инсулина, то и при наличии в крови огромного количества сахара он не будет использоваться тканями тела. Сахар из крови через почки выделится наружу. В крови всегда есть некоторое количество сахара, поступившего из пищи. Стоит ввести в кровь инсулин, как процент содержания сахара начнет понижаться. Такое явление понятно. Инсулин помог органам поглотить из крови сахар и перевести его в гликоген. В крови сахара остается меньше.
Существует такая болезнь — диабет, или иначе — сахарная болезнь. У диабетиков поджелудочная железа вырабатывает очень мало гормона инсулина или совсем не вырабатывает его. Диабетик от истощения с трудом поднимает руку или ногу. У него в крови много сахара, а в нервной системе и в мышцах нет гликогена, нет питательного материала. Им нечем работать, без инсулина они не могут усвоить сахар, использовать его.
Как лечат диабетиков? Еще в 1901 году русский ученый Л. В. Соболев впервые высказал такую мысль: перевязав выходной проток поджелудочной железы, можно будет изолировать ту ее часть, которая выделяет гормон. В будущем уровень науки позволит извлекать гормон и применять его как средство для лечения диабета.
Вот подлинные слова Соболева: «До сих пор все попытки лечить диабет посредством введения в организм большого экстракта из целой поджелудочной железы не дали результатов. Перевязывая же проток, мы обладаем теперь средством анатомически изолировать островки, что позволит использовать их для лечения диабета». Соболев даже указал, какие животные подходят для такой задачи: надо брать железы у «новорожденных телят, у которых островки развиты хорошо».
Спустя два десятка лет эта мысль Соболева была использована канадским врачом Бантингом. Изолируя лангергановские островки железы телят, он стал извлекать в чистом виде гормон поджелудочной железы. Применение инсулина спасает жизнь миллионам людей.
Диабетику впрыскивают добытый гормон железы — инсулин — и тогда восстанавливается нормальная работа организма.
Профессор Галкин вводил инсулин кошкам. У них в крови сразу же падало содержание сахара. Сахар в форме гликогена усиленно поглощался мышцами.
Затем опыт видоизменялся. Кошкам вводили сахар в большом количестве, перенасыщая им кровь. После этого животных усыпляли эфиром и впрыскивали им инсулин. И опять следили за тем, что происходит с сахаром в крови.
С ним ничего не происходило. Все его количество, даже увеличенное, оставалось целиком в крови. Можно было подумать, что никакого инсулина и не впрыскивали, что его вовсе нет в организме.
На самом деле он имелся, но ткани не реагировали на его присутствие. Создавалось впечатление, что реакция тканей на присутствие инсулина исчезла. Для мышц инсулина как бы и не было.
Эфирный наркоз прекратил реакцию тканей на инсулин. Галкин сделал вывод, что и действие инсулина целиком зависит от центральной нервной системы, от больших полушарий головного мозга.
Вот почему «сигналы» от инсулина не доходили до тканей. Мозг спал. Сон прервал сигналы. Это сделало торможение наркозом.
Укрощение цианистого калия
В течение почти ста лет никто не подозревал об удивительных явлениях, которые могут наблюдаться при применении наркоза.
Они были настолько удивительны и новы, что профессор Галкин и его помощники многократно проверяли свои собственные опыты, снова ставили их и опять проверяли.
Множество исследований было проведено и на людях, и на животных. Опыты подтверждали первоначально полученные факты.
Одним из наиболее интересных был опыт с гормонами. Брали не только инсулин, но и гормон яичников — фолликулин, гормон щитовидной железы — тироксин.
Были произведены очень сложные, очень тонкие наблюдения и анализы. Все они давали один и тот же результат. Стоило только выключить мозг, как действие гормонов прекращалось. Гормоны попадали в кровь, но клетки тех органов, на которые обычно эти гормоны действовали, теперь как бы переставали их воспринимать. Клеши на них не отзывались. Это меняло представления о механизме влияния гормонов на ткани. Считалось, что гормоны «автономны», что они не нуждаются ни в каких посредниках, чтобы воздействовать на органы. Опыты Галкина показали иное: раз мозг спит, гормон бессилен, и хотя он и циркулирует в крови, но не оказывает на организм никакого действия.
Между тем влияние даже ничтожно малых количеств гормонов исключительно велико.
Что такое, например, один грамм инсулина? Это количество едва заметно будет на дне чайной ложки.
У скольких кроликов может снизить содержание сахара в крови этот грамм инсулина? У ста, у тысячи? У десятка тысяч?
Нет, у 22 000!
А на какое количество мышей действует, вызывая у них явления со стороны половой сферы, одна капля фолликулина? На 10 000!
Такова сила воздействия гормонов. В то же время мысль ученых направляется к одной весьма серьезной и интересной проблеме.
Существует вещество огромной смертоносной силы. Оно называется цианистый калий.
Цианистый калий представляет собой один из самых сильных ядов, убивающих очень быстро, а в больших дозах — почти мгновенно. Цианистый калий можно назвать ядом для всех клеток. Под его действием клетки перестают поглощать кислород, т. е. дышать. Дыхание тканей останавливается.
Если цианистый калий впрыснуть в вену кошке, она погибает, словно сраженная ударом.
Двенадцати кошкам впрыснули цианистый калий. Шесть кошек погибли одна за другой в течение нескольких секунд. Но другие шесть кошек остались живы, точно им впрыснули не сильный яд, а воду. Эти кошки во время впрыскивания яда находились под эфирным наркозом. Проснувшись, они продолжали жить, как будто ничего не произошло. Наркоз как бы укротил действие цианистого калия. Раствор сильнейшего яда превратился в безобидную жидкость.
Впрочем, две из шести усыпленных кошки погибли; причем они пали тотчас по прекращении наркоза, как только их разбудили.
Это очень существенное обстоятельство. Оно раскрывает одну важную особенность процессов, разыгрывающихся в организме во время наркоза.
Вспомним о лейкоцитарной реакции организма на молоко. Во время наркоза эта реакция отсутствовала. А после наркоза?
У одних подопытных животных она исчезала, у других нет. Она исчезала у тех, которые находились под наркозом не менее четырех часов. У тех, которые спали только два-три часа, она после наркоза сразу же проявлялась.
Как это объяснить? Если появилась реакция, значит, в организме еще существовал раздражитель, т. е. находилось молоко, его остатки. Раз оно было, естественно, наступал лейкоцитоз.
Кто спал четыре часа и больше, у тех молоко из мышц уже ушло, оно всосалось в кровь.
В опыте с цианистым калием две кошки погибли потому, что они были рано выведены из наркозного сна, через десять минут после того, как заснули. У них яд еще не успел покинуть организм. Пробуждение было для них смертью. Раннее прекращение действия наркоза, восстановив реакцию тканей на раздражитель, позволило остаткам цианистого калия проявить свою убивающую силу.
У остальных четырех кошек наркоз действовал столько времени, сколько нужно было, чтобы в организме не оставалось даже следов цианистого калия. Для этого потребовался час.
Когда четыре кошки проснулись после наркоза и принялись бегать, как ни в чем не бывало, и уже было очевидно, что никакая опасность им не угрожает, сами исследователи были ошеломлены.
Не будь они участниками опытов, они, пожалуй, не сразу поверили бы тому, кто рассказал бы им об этом.
Так возникла серьезная проблема: возможность обезвреживания некоторых раздражителей, даже очень сильных.
Несостоявпгаяся эпилепсия
Эпилепсия — болезнь центральной нервной системы, болезнь головного мозга. Эпилептический приступ наступает тогда, когда в головном мозгу возникает чрезмерное возбуждение.
Чрезмерное возбуждение, достигнув известного предела, вызывает приступ: внезапное помрачение сознания, резкие, толчкообразные судороги всего тела.
При эпилепсии в центральной нервной системе, очевидно, появляются какие-то вещества, раздражители, на которые мозг дает бурную реакцию. Припадок и есть проявление реакции мозга.
Сумеет ли наркоз предотвратить реакцию мозга? Можно ли добиться того, чтобы предупредить приступ эпилепсии?
Это вопрос совершенно естественно возник перед исследователями.
Ведь и раздражение, и ответ на него, и остановка реакции — все эти процессы теснейшим образом зависят от одного и того же органа — головного мозга.
И вот начались опыты — серия за серией. Прежде всего надо было вызвать искусственно приступ эпилепсии у животных.
Есть такой простой препарат — камфарное масло. Оказалось, что это средство, попадая в организм кошки, делает животное эпилептиком. Будучи впрыснуто кошке, камфарное масло всасывается в кровь, а с кровью добирается до мозга. И тогда у животного начинаются, один за другим, приступы — до 20 — 24 и больше приступов, очень бурных. Они приводят кошку к гибели.
Есть другой способ. Заключается он в том, что в спинномозговую жидкость вводится раствор высушенной желчи. Для этого производят спинномозговой прокол в области, расположенной ниже большого затылочного бугра. Желчь очень быстро вызывает тяжелую эпилепсию с обязательным смертельным исходом после известного числа приступов. Это многократно устанавливали и на кошках, и на собаках.
Но вот желчь ввели кошкам и собакам, предварительно усыпленным при помощи наркоза. И то, что исследователи вправе были предполагать, то и произошло. Никакой эпилепсии ни у кошек, ни у собак не наблюдалось. При абсолютно смертельной дозе камфоры и желчи даже намека на эпилепсию не обнаружилось.
Припадков не было ни во время наркоза, ни после наркоза, если, разумеется, наркоз длился достаточно долго. Наркоз не допускал возникновения эпилепсии. Он предупреждал возможность ее появления.
Опыты дали ожидаемые результаты. Но одновременно выяснилось другое, не менее важное и неожиданное обстоятельство.
У одной кошки вызывали беспрерывные эпилептические припадки. Она погибла. Тогда обратили внимание на те изменения, которые обнаружились после припадков в клетках ее головного мозга. Оказалось, что эпилепсия наносила нервным клеткам большие повреждения. Клетки разрушались — не все, но многие; не целиком, но в достаточно заметной степени. Все зависело от длительности эпилепсии, от количества приступов.
Это было очень интересным и важным открытием.
Если кошка переносила от 6 до 10 приступов, то изменений в клетках отмечалось сравнительно немного. У кошки, перенесшей 14 — 18 приступов, изменения в клетках были гораздо большими. Если сильнее разрушались клетки после 22 — 24 приступов, т. е. перед самой гибелью животного.
У одной кошки после 18-го приступа остановили эпилепсию. Животное погрузили в наркоз. Кошка спала три с половиной часа, а затем ее умертвили и вскрыли. Никаких изменений в ее нервных клетках не было.
Восемнадцать приступов, конечно, повредили ткань мозга, его клетки. В этом не было никаких сомнений. Но три с половиной часа наркозного сна позволили клеткам избавиться от болезненных изменений и снова стать нормальными клетками, способными жить и выполнять все свойственные им сложные функции. В этом тоже не было никаких сомнений.
Отсюда следует, что наркоз не только предупреждает приступы искусственно вызванной эпилепсии. Наркоз, своевременно использованный, уничтожает последствия эпилепсии, возвращает, как говорят врачи, клетки мозга к норме.
Теперь напрашивается следующий вывод. Если наркоз вызывает превращение изменившихся, пострадавших при эпилепсии клеток мозга в нормальные, то почему такого восстановления клеток не может быть с клетками других тканей и при других болезнях?
Пока что ответа на такой вопрос не получено, но надо полагать, что дальнейшие исследования дадут его.
Сокращение дыхания
Животные, являющиеся объектами лабораторных опытов, иногда испытывают удивительные приключения. Так, коту, по кличке Собик, пришлось однажды совершить высотный полет.
Это было спокойное, крепкое, выносливое животное, вполне подходящее для необычайного путешествия.
И вот на высоте пяти километров коту стало не по себе. Он начал проявлять беспокойство. Изменилось дыхание: обнаружилась одышка. Однако передвигаться кот еще мог; бодрость до известной степени еще не покидала его.
Но на высоте восьми километров Собик явно сдал. Состояние его ухудшилось. Одышка резко усилилась. Появилось неудержимое слюнотечение. Кот забился в угол.
Десять километров высоты для Собика оказались очень тяжелыми. Стоять кот уже не мог. Он падал на бок, и судороги сотрясали его тело. Животное дышало прерывисто, с длинными паузами, иногда дыхание совсем прекращалось.
На высоте около двенадцати километров Собик несколько раз судорожно вздохнул и неподвижно застыл.
Начался спуск. Через восемь минут кот был на земле, но дыхание к нему не вернулось, сердцебиение не возобновилось. Собик был мертв.
Надо сказать, что полет в субстратосферу совершался не на самолете и не на дирижабле. Он происходил в барокамере.
Барокамера — это помещение, из которого можно выкачать воздух, а тем самым и резко уменьшить его количество. По желанию можно и накачивать воздух. Следовательно, в барокамере создается воздух любой степени разреженности, соответствующей любой высоте над уровнем моря. Находясь в помещении с таким воздухом, живые существа чувствуют себя так, словно они, поднявшись на самолете, попали в атмосферу именно такой плотности.
Так, не выходя из барокамеры, можно «подняться» на любую высоту.
Десять кошек совершили подобные полеты. Некоторые из них, подобно Собику, погибли. Другие поправились, остались живыми. Но и у них еще долго наблюдались тяжелые расстройства: судороги, сильная одышка, перебои сердечной деятельности, падение кровяного давления.
Вызывали ли у исследователей удивление эти нарушения жизненных процессов? Нет, нисколько. Они были совершенно закономерными. Когда нехватает воздуха, такие явления должны наступать и у животных и у людей. Все это — результат недостатка кислорода и изменения атмосферного давления.
Вслед за десятью пострадавшими кошками в барокамере появились другие путешественники — новые двенадцать кошек. Их также заставили проделать тем же способом «полет» примерно на ту же высоту.
Но эти воздушные пассажиры иначе перенесли свое субстра-тосферное путешествие. Их самочувствие ничуть не изменилось. Они вели себя на самой высшей точке «полета» так же, как и внизу, на земле. Дыхание оставалось спокойным, ритмичным, только на уровне двенадцати километров слегка замедленным, глубоким. Сердце все время работало нормально.
Кошки ничем не отличались от своих предшественниц. Условия полета у тех и других были одинаковыми. Новым было только одно обстоятельство — сон. Двенадцать кошек спали. Они были предварительно погружены в наркозный сон и совершали «полет» усыпленными.
Таков был основной опыт применения наркоза в условиях нехватки кислорода. Он показал, что наркозный сон меняет реакцию организма на уменьшение кислорода.
Но этим эксперимент не закончился. Было важно установить еще некоторые дополнительные подробности.
Теперь в барокамере появились более крупные животные — собаки. Их было тоже две группы — по шести в каждой. Все они довершили в свою очередь субстратосферный полет.
Собаки первой группы погибли почти все, как погибли неусыпденные кошки. Оставшиеся же в живых собаки долго не могли прийти в нормальное состояние. Зато собаки второй группы все время дремали, спокойно и ровно дыша.
Причиной этого снова был наркоз? Нет, не совсем так. Глубокого наркозного сна здесь не было. Ни хлороформ, ни эфир не применялись. Собакам второй группы дали легкое снотворное: дюминал, мединал, морфий.
Даже этих средств оказалось достаточно, чтобы опасное странствование в субстратосферу, грозившее смертью или довольно длительным расстройством функций организма, превратилось в сравнительно безобидное путешествие.
Новое толкование
Так шаг за шагом стали открываться неожиданные последствия наркоза.
В свете этих открытий новое объяснение получили такие факты, которые раньше казались непонятными или которые не обращали на себя должного внимания. Хотя они относятся не к животным, а к человеку и, следовательно, требуют особой осторожности в толковании, но все же некоторые сопоставления напрашиваются сами собой.
Профессору Бушу приходилось иметь дело в клинике с людьми, пострадавшими при различных автомобильных и трамвайных двариях в железнодорожных катастрофах.
Он был не только хорошим хирургом, но и наблюдательным врачом. Он заметил, что хотя у некоторых пациентов ранения и были очень серьезные, но протекали довольно легко, а у других — те же ранения протекали гораздо тяжелее.
Буш стал доискиваться причины и обратил внимание на очень странный факт. У тех, которые доставлялись к хирургу в состоянии сильного опьянения, травмы протекали легко.
Буш не знал, чем объяснить это непонятное явление. Такие же случаи наблюдались и в Московском институте имени Скли-фосовского, но там объяснить их также не могли.
После работы Галкина и его сотрудников многое стало понятным.
Сильное алкогольное опьянение — это также своего рода наркоз, а наркоз, изменяя реакцию организма на травму, тем самым ослабляет развитие болезненных процессов.
В старину врачи при общем заражении организма, при сепсисе, давали больным водку и коньяк. Очевидно, врачи и тогда обратили внимание на то, что в таких случаях болезнь как бы затормаживается. Теперь мы можем сказать, что эти врачи, пожалуй, не ошибались. Алкогольный наркоз изменял реакцию организма на инфекцию.
Существует так называемая горная болезнь, которая наблюдается у людей, живущих на больших высотах. Она выражается стеснением в груди, затруднением дыхания, слабостью, головокружением. Возникает она от того, что на большой высоте очень разрежен воздух и организму нехватает кислорода.
Профессор Жуков совершил ряд экспедиций на Кавказский хребет, на гору Эльбрус. Он заметил, что такое лекарство, как люминал, помогает легче переносить горную болезнь.
Люминал дают людям, страдающим бессонницей. Это снотворное средство.
Профессор Жуков не знал тогда, почему люминал помогает справляться с горной болезнью. Но нас это явление уже удивить не может, особенно если мы вспомним о «полетах» животных в барокамере. Сонное состояние, вызванное люминалом, ослабило через центральную нервную систему реакцию организма на недостаток кислорода.
Лет сорок-пятьдесят назад новокаин еще не был известен. Для местного обезболивания прибегали к впрыскиванию раствора кокаина. А кокаин — вещество, сильно действующее, с побочным вредным влиянием на организм. Кокаин, всасываясь в кровь, нередко вызывал так называемое кокаиновое отравление, что являлось довольно грозным осложнением.
Как боролись с кокаиновым отравлением? Впрыскивали, например, сердечные средства, давали возбуждающие лекарства, боролись и другими способами. Но некоторые хирурги на основании своего опыта тотчас погружали таких больных в хлороформенный сон и это приносило быстрое облегчение. Признаки отравления как бы таяли на глазах у врачей.
Хирургов поражало такое действие наркоза, но объяснить его они не могли.
Об этом рассказал, вспоминая начало своей хирургической деятельности, видный деятель советской медицины действительный член Академии медицинских наук СССР Николай Николаевич Петров на одном из докладов профессора Галкина.
Теперь мы, пожалуй, можем понять то, что не понимали хирурги того времени. Наркоз, охранительное торможение искусственным сном центров главного мозга, прекращал реакцию тканей на всасывающийся ядовитый кокаин.
Великий физиолог Павлов предложил лечить некоторые душевные болезни длительным искусственным сном. Психиатры нашли, что это действительно приносит пользу.
Нам понятен успех такого лечения сном. Глубокий длительный сон останавливает процессы, неправильно протекающие в мозгу.
Конечно, здесь сон вызывается не хлороформом или эфиром. Ведь лечебный сон длится — с перерывами на еду, умывание, уборку — не час, не два, а много дней. Поэтому хлороформ или эфир, как сильнодействующие вещества, не могут применяться для этой цели. Сон, например, при так называемой шизофрении, особой психической болезни, вызывается обыкновенными безвредными снотворными средствами — небольшими дозами люминала, бромистых препаратов, мединала, веронала, хлоралгидрата.
Удлинение ежедневного сна до пятнадцати-восемнадцати часов такими лекарствами можно применять в течение пяти, десяти и даже пятнадцати дней. Подобный сон и является целебным.
Отсюда видно, что усыпление при наркозе и сон, вызванный снотворными средствами, очень сходны по некоторым своим проявлениям и свойствам. Но во многом и не сходны.
Надо помнить, что нас в данный момент интересует не любой вид усыпления, а наркоз, погружение в глубокий, непробудимый на период действия наркоза сон, хлороформенный или эфирный. Он отличается от слабого, спокойного сна, вызываемого обычными снотворными. Он имеет свои особенности, свои свойства. Эти свойства оказались во многом необыкновенными.
Сотрудники лаборатории патологической физиологии Военно-Морской медицинской академии, разрабатывая проблемы науки на основе учения великого Павлова, внесли и свою долю в дело разгадки сущности этих явлений. Еще на группе фактов была подтверждена ведущая роль головного мозга.
Так открылась связь между событиями, ранее представлявшимися непонятными.
Главный вопрос
В течение почти ста лет наркоз ценился только как средство, укрощавшее боли при операциях. Он был величайшим благодеянием для тех, кто должен был лечь на операционный стол. Но ничего больше, никаких других качеств в наркозе не видели.
Даже Ру и Безредка, установившие необыкновенное свойство наркоза снимать анафилактический шок, не придали этому замечательному факту особенного значения. Они не сумели углубиться в него, понять его смысл, увидеть перспективы, которые открывались за этим фактом.
Группа советских ученых, изучающих жизненные функции з больном организме, принялась за разработку проблемы наркоза. И тогда обнаружились новые чрезвычайно интересные свойства наркоза. Оказалось, что хлороформ, серный эфир, гексонал, хлор-этил, хлоралгидрат — одни в большей степени, другие в меньшей — не только погружают мозг в сон, не только укрощают боль. Подтвердилось, что наркоз во многом меняет течение про-
цессов в организме. Оказалось, что под влиянием наркоза орга= низм перестает реагировать на многие раздражители.
Конечно, все, что мы об этом рассказали, происходило не так просто. Мы рассказали о десятилетней работе одной крупной кафедры патологической физиологии кратко, лишь в общих чертах.
На деле все обстояло гораздо сложнее и труднее. Было установлено и описано значительно больше фактов, чем здесь упомянуто. Мы рассказали только об основном; оно заключается в изменении при наркозе реакции организма на все те раздражители, которые действуют через центральные пути, через мозг, и в изменении внутренней среды организма, связанном с влиянием наркоза на нервную систему.
Возникает главный вопрос: какую практическую ценность имеет это открытие советских ученых для медицины? Удастся ли использовать эту новую особенность наркоза в качестве оружия в борьбе с болезнями?
Первые шаги
В военно-морской госпиталь доставили тяжело обожженного матроса. Пульс больного был сильно учащен, прощупывался с трудом. Сердце работало плохо.
Больному угрожал шок, главным признаком которого, как мы уже знаем, является падение кровяного давления, т. е., другими словами, упадок сердечной деятельности. Нужно было опасаться и других серьезных осложнений.
Когда матроса привезли в госпиталь, наступил очень ответ ственный момент. Надо было надрезать пузыри, очистить постра давший участок от кусков омертвевшей ткани и принять меры к тому, чтобы не допустить развития возможной инфекции, т. е. сделать то, что у хирургов называется обработкой обожженной поверхности.
В чем была сложность положения? Не забудем, что матросу угрожал шок. Обработка ножом — лишняя травма для пострадавшего организма. Она способна лишь ускорить появление шока.
Тогда хирург дал больному наркоз и произвел обработку раны, не вызвав шока.
Наркоз предупредил возникновение шока.
Чтобы объяснить причину успеха, надо ясно представить себе картину шока в данном случае.
Шок, как мы знаем, болевой удар по нервной системе. Для нервной системы матроса таким ударом явился огромный ожогг Шок выражается резче всего в нарушении и крайнем замедлении кровообращения. У доставленного в госпиталь больного обожженная поверхность выделяла массу сукровицы, называемой на медицинском языке серозным отделяемым. Это значит, что из крови выделялась жидкость, плазма; следовательно, кровь-сгу-
щалась, так как организм терял много воды. Сгущение крови еще более ухудшало работу сердца.
Из раны в кровь всасывались продукты распада тканей. Это в свою очередь осложнило и без того тяжелое состояние больного.
Вот почему шок был почти неизбежен. Но наркоз предупредил его наступление. Наркоз, если и не остановил все реакции организма на ожог, на болевой удар, на всосавшиеся продукты распада, то значительно ослабил их.
Чтобы еще лучше использовать это свойство наркоза, хирург госпиталя продолжал усыплять матроса еще некоторое время и после обработки обожженного участка кожи.
Результатом своих трудов врач остался очень доволен. И когда после этого к нему поступали такие же пострадавшие, он уже шел по знакомому и испытанному пути.
В клинику доставили маленькую пациентку. Эта была девочка восьми лет. Ее привезли в состоянии начавшегося столбняка. Столбняк — болезнь ужасная, обычно неизлечимая, если во-время не сделать предохранительного вливания сыворотки.
Врач, в палате которого находилась маленькая больная, одновременно с запоздалым вливанием в вену столбнячного антоксина стал лечить девочку наркозом. Дважды в день он усыплял ее гексоналом. Так продолжалось восемь дней.
В данном случае единственным средством борьбы со столбняком был наркоз; способ применения его на этой стадии болезни отличается от всех других способов, обычно ничего не дававших и не приносивших спасения. На девятый день прекратили лечение наркозом. Девочка была вне всякой опасности. Никаких признаков столбняка не осталось.
Возможно, что в предупреждении шока у матроса главную роль играл наркоз, прекративший боли; отсутствие же реакции организма играло роль вспомогательную. Можно допустить, как редчайшее исключение, что и без наркоза девочка осталась бы жива, что гексонал лишь способствовал исцелению.
Но даже и тогда позволительно трактовать оба случая, как первые шаги намечающегося нового метода, как первые шаги применения наркоза уже не только с целью обезболивания, а с целью прямого и решительного воздействия на болезнь.
Этих шагов еще очень мало. Они еще настолько робки, что о них не знают даже широкие круги врачей.
Для тех же, кто знает их, они настолько необычны и удивительны, что вызывают законные сомнения. И это вполне понятно. Не следует забывать, что новое поразительное открытие советской медицинской науки еще очень молодо.
Вторжение
Тем не менее неожиданные свойства наркозного сна обнаруживают свою силу все в новых случаях, в таких, в которых еще недавно их участие и не предполагалось.
В списке болезней есть так называемый посттрансфузионный шок. Лет сорок тому назад такого заболевания в словаре врачей не существовало. Оно появилось вместе с переливанием крови. Посттрансфузионный — значит, наступающий после переливания крови. На заре применения крови для переливания такой шок был явлением очень частым и опасным. Теперь он встречается только как исключение и в более слабой форме. Выработаны хорошие способы, парализующие вред этого осложнения и даже предупреждающие возможности его появления.
Но при колоссальной распространенности, которой достиг теперь метод переливания крови, подобные осложнения даже в более слабой форме крайне нежелательны. Они все же являются большим злом. С ними надо бороться. И врачи ищут новых способов для этого.
Но что такое посттрансфузионный шок с интересующей нас точки зрения? Это реакция сыворотки крови на посторонние красные кровяные тельца, внесенные переливанием.
Так, по крайней мере, думали раньше. Павловское учение дает другое, верное объяснение возникновению посттрансфузионного шока. Заключается оно в следующем. Несовместимая кровь является ненормальным раздражителем для воспринимающих нервных окончаний, заложенных в стенках кровеносных сосудов. Здесь возникают патологические импульсы, идущие в большие полушария головного мозга и нарушающие тем самым нормальную работу клеток мозговых центров. Неправильная работа мозговых центров влечет за собой расстройство физиологических процессов в организме, в тканях и органах: расстройство дыхания, обмена, сердечно-сосудистой деятельности.
Это и дает картину посттрансфузионного шока.
В шестом номере медицинского журнала «Хирургия» за 1945 год можно прочитать об очень любопытных фактах, описанных доктором Хромовым. 100 переливаний, проведенных им с соблюдением всех требуемых правил, дали 16 процентов очень легких посттрансфузионных осложнений. Осложнения были у каждого пятого реципиента. Затем Хромов сделал еще 100 переливаний, но уже другим больным. И тут оказалось, что осложнения совсем исчезли. У этой второй группы посттрансфузионный шок отсутствовал.
Загадка перестает быть загадкой, если добавить, что переливание крови второй группе реципиентов происходило в состоянии наркозного усыпления. Те неприятности, которые, безусловно, угрожали многим ив них, были предотвращены наркозом.
Наркоз вызвал охранительное торможение в мозговых клетках. Благодаря этому импульсы от неадэкватных, ненормальных раздражителей, каковыми являются элементы несовместимой крови, не поступали в мозговые клетки и не вызывали, следовательно, нарушений в течении физиологических процессов.
Неудивительно, что некоторые врачи, руководствуясь накопленным опытом, даже не зная о работах Галкина по изучению механизма действия наркоза, производили перед трансфузией впрыскивание пантопона или морфия, т. е. погружали больных в сон. Эти врачи ощупью выходили на новую, но многообещающую дорогу.
В связи с этим следует рассказать об удивительном событии, имевшем место во время войны, на Ленинградском фронте.
В мае 1943 года в один из медсанбатов доставили раненого, находившегося в очень тяжелом состоянии. Его немедленно положили на стол и приступили к операции. В этот момент обнаружилось опасное падение крозячого давления. И тогда хирург решил, не прекращая ни на минуту работы, сделать больному переливание крови тут же на операционном столе, во время самой операции. Но вдруг выяснилось, что консервированная кровь требуемой группы — кровь второй группы, которая нужна была раненому солдату, вся израсходована. Тогда немедленно дали свою кровь двое врачей. У них как раз была кровь той же второй группы. У каждого из них спешно взяли по 350 граммов крови и получившуюся огромную для одной трансфузии дозу в 700 граммов влили раненому.
_ И операция, и переливание прошли удачно, без осложнений. Раненый чувствовал себя хорошо. Через несколько дней состояние больного было удовлетворительным, и его решили эвакуировать в тыл. Но солдат был бледным, малокровным, и врачи пришли к заключению, что следовало бы произвести ему еще одно переливание крови. Как и полагается, опять определили группу его крови. И тут врачи ахнули. Они не верили своим глазам. У раненого оказалась не вторая группа крови, а третья. Произошел исключительно редкий случай: ему влили нечаянно на операционном столе кровь второй группы и влили целых 700 граммов!
700 граммов крови второй группы, влитые человеку с кровью третьей группы, т. е. 700 граммов несовместимой крови — это верная смерть!
Смятение врачей было совершенно понятным, но к нему присоединилось и величайшее недоумение. Раненый не испытал ничего неприятного. Никаких явлений посттрансфузионного шока у него не наблюдалось. Наоборот, после переливания наступило заметное улучшение. Несовместимая кровь почему-то дала не гибельные, а хорошие результаты.
В 1943 году хирурги медсанбата отказывались понять смысл происшедшего.
Но в 1944 году они уже могли бы понять, в чем дело. Интереснейшие и неожиданные по своим результатам исследования профессора Галкина и его учеников проливали свет и на случай с солдатом.
Существует так называемая язвенная болезнь: язвы желудка, двенадцатиперстной кишки. Лечат их разными методами. Язву
желудка, например, нередко приходится вырезать; лечат ее и покоем, и диэтой, а чаще всего тем и другим сразу.
Но язвенную болезнь можно рассматривать как результат реакции тканей кишечника через кору головного мозга, на какой-то длительно действующий раздражитель.
В клинике ленинградского профессора Черноруцкого имеется несколько необычных палат. В них почти всегда тишина, не слышно шагов медсестры и сиделки. Очень часто там царит такое безмолвие, что возникает представление о полном отсутствии живых людей.
Но живые люди в этих палатах есть. Они лежат на своих кроватях, глаза их закрыты, они спят. Здесь лечат язвенную болезнь искусственно вызванным сном. Сон прекращает реакцию тканей кишечника на раздражитель. Благодаря этому язва может зажить.
Сон — это охранительное торможение. Он не допускает в клетке центров головного мозга патологические импульсы из язвенного очага; поэтому в них не возникают ненормальные ответные импульсы, которые вызывают в стенках желудка различные нарушения, поддерживающие язвенный процесс.
Таков смысл лечения сном.
Доктор медицинских наук Негевский разработал и предложил в высшей степени интересный метод борьбы со смертью, наступающей вследствие случайных причин, а не в результате изношенности организма или глубокого старческого одряхления. Способ Неговского пригоден не только при состоянии агонии, но даже и в случае клинической смерти, т. е. когда дыхание уже прекратилось и сердце остановилось.
Это — великолепное завоевание смелого и пытливого ума советского исследователя, о котором мы уже подробно рассказали выше.
Но всегда ли приносит успех метод Неговского? К сожалению, не всегда. Он часто опаздывает, потому что если клиническая смерть длится более 5 — 6 минут, то вслед за этим наступает смерть биологическая и тогда уже никакое вмешательство не поможет. Биологическая смерть — это разрушение клеток коры головного мозга. Оно наступает из-за отсутствия кислорода при остановке сердца и дыхания: 5 — 6 минут очень короткий срок При таком сроке опоздать с оказанием помощи очень легко.
Но ведь разрушение клеток коры мозга можно рассматривать в значительной мере как реакцию на отсутствие кислорода.
Опытами было установлено, что собак, попавших в воду в состоянии наркозного сна, можно было вернуть к жизни даже после того срока, после которого неусыпленные собаки, будучи извлеченными из воды, погибали. У первых собак наркоз, видимо уменьшил потребность в кислороде, он как бы позволил им удовлетвориться тем ничтожным остатком кислорода, который находится в тканях и без «подвоза» свежего кислорода кровью. Это
отодвинуло наступление биологической смерти. Наркозный сон ослабил и прекратил реакцию клеток мозга на недостаток кислорода, и срок клинической смерти удлинился.
Значит, законно предположить, что метод Неговского, дополненный усыплением эфиром или хлороформом, сможет возвращать человека к жизни и через 5 — 6 минут после клинической смерти. Больший запас времени позволит сократить опоздание с оказанием помощи, а это увеличит шансы для спасения жизни многих людей в том, конечно, случае, если подобное предположение оправдается.
Существует растение, носящее название болиголова; его научное наименование — «цикута вероза». У него есть своя легендарная история: знаменитого философа древности Сократа заставили в тюрьме выпить настой цикуты, от которого Сократ умер.
Цикута растет и в Советском Союзе. Ее много на Урале, Дальнем Востоке, в Карело-Финской ССР; встречается она и в Московской области. Корень цикуты похож на корневище сельдерея, поэтому их иногда путают и употребляют цикуту в пищу; в результате — смертельное отравление.
На Урале, в городе Верхняя Тавда, работает в поликлинике доктор Pop. В этих местах цикуты очень много. В медпункт к доктору довольно часто доставляются жертвы этого растения-убийцы.
Доктор Pop, как любой врач в таких случаях, пускает в ход все, что полагается для спасения человека: впрыскивание камфары, кофеина, чтобы возбудить деятельность сердца и дыхания, применяет искусственное дыхание, внутрь дает танин и все, что может хоть сколько-нибудь принести облегчение. Но известно, что медицина бессильна против яда цикуты. И когда в приемном покое лежит человек, тело которого сводят судороги, с пеной у рта, с синеющим лицом, без сознания, когда пульс так слаб, что его трудно уловить, когда дыхание становится хрипящим, врачу понятно, что положение безнадежно.
И вот 7 июля 1947 года к доктору Pop привезли больного. Он отравился цикутой. Слабое поверхностное дыхание, пена на губах, судорожные приступы через каждые пять минут. Через полчаса, самое большее через час он будет трупом.
Но через шесть часов отравившийся был уже вне опасности, а через три дня уехал домой. Через полтора месяца, когда доктор Pop снова увидела своего пациента, пришедшего показаться, трудно было себе представить, что этот цветущий, крепкий парень был почти мертвецом.
Чудо заключалось в том, что за несколько дней до 7 июля 1947 года доктор Pop прочитала о работах профессора Галкина. Когда она увидела человека, отравленного сильным ядом, после короткого колебания она приняла твердое решение применить наркоз. Тем более, что терять было нечего: жизнь покидала больного, лежавшего в судорогах.
Шесть часов с небольшими промежутками длился наркозный сон, вызванный серным эфиром. Когда Pop пришла к заключению, что весь яд уже удален из организма, дача наркоза была, прекращена.
В течение июля, августа и сентября 1947 года еще три жертвы цикуты были спасены тем же способом.
Противоположный взгляд
Когда человек заболевает, то все происходящее с ним рассматривается как реакция организма на причину, вызвавшую болезнь.
При гриппе, например, поднимается температура. Что это означает? Это — реакция организма на внедрившиеся возбудители гриппа. Врачи рассматривают такую реакцию как нечто положительное. Высокая температура показывает, что организм энергично мобилизовал свои силы для борьбы с микробами.
Попали в ослабленный организм человека микробы — пневмококки. Человек заболевает крупозным воспалением легких. У него повышается температура, появляется сильный кашель. Легкие становятся более плотными, в них появляется густая жидкость — экссудат.
Все это — результат реакции на внедрение пневмококков.
Если бы не было этой реакции, легкие не заполнялись бы экссудатом, воздух легко входил бы в них, сердцу не трудно было бы гнать кровь через легочные сосуды, не было бы изнуряющего жара, человек чувствовал бы себя нормально.
Значит, реакция организма на пневмококки должна рассматриваться не как положительное, а, наоборот, как отрицательное, нежелательное явление. Правильно ли это? Можно ли утверждать, что вся беда в том, что легочная ткань дала реакцию на внедрение микробов?
Существует одно очень интересное наблюдение, касающееся мира животных.
Суслик легко заражается чумой и быстро гибнет. Но если суслик заражается во время зимней спячки, то он живет и живет. Стоит только заболевшему суслику проснуться, как он вскоре погибает. Если бы у суслйка можно было каким-нибудь способом удалить во время спячки из организма возбудителей чумы, то он мог бы проснуться здоровым.
Так с некоторым правом можно думать не только о чуме суслика, но и о любой инфекционной болезни человека.
Исследования профессора Галкина и его сотрудников подводят нас достаточно близко именно к такому заключению. Они говорят о том, что когда нет реакции, нет и видимых проявлений болезни. Подобная зависимость может появляться не только при заражении микробами, но и при любом болезненном состоянии организма.
Вспомним опыты на кошках с таким страшным ядом, как цианистый калий. Если бы клетки тканей и органов ответили на его раздражение, откликнулись на появление цианистого калия, смерть была бы неминуемой и мгновенной. Отсутствие реакции было спасением для кошек.
Об этом же говорят эксперименты с высотными «полетами» кошек и собак, случай с переливанием несовместимой крови, наблюдения над язвенными больными.
Ясно, что опыты с наркозом сильно меняют наши взгляды на некоторые болезненные, патологические процессы. Но надо хорошо помнить, что наркоз как лечебное средство еще требует длительного, всестороннего изучения. Здесь далеко не все еще ясно. Широкие обобщения преждевременны. Сейчас еще рано требовать применения к людям наркозного лечения, каким бы многообещающим оно ни было.
Кроме того, не надо забывать и об опасностях самого наркоза, о том, что наркотические вещества не безразличны для организма, особенно для заболевшего, т. е. для уже ослабленного организма. Наркоз, действующий на патологически измененные нервные клетки, может дать тяжелые, даже непоправимые последствия.
Пока что вся работа еще не вышла из стен лабораторий. Да и здесь она еще не закончена и требует огромного количества длительных исследований.
Но те положительные результаты, которых уже достигли советские ученые, заставляют думать, что наркоз может оказаться действенным средством против ряда недугов.
Если это окажется справедливым, то в лечебной медицине откроется новая глава, творцами которой являются советские ученые.
Глава десятая. ПЕРЕД ПОБЕДОЙ
Опасный краг
Все ткани тела состоят, как мы знаем теперь после работ О. Б. Лепешинской, из клеток и живого неклеточного вещества, способного также превращаться в клетки.
Когда клетки в каком-нибудь месте начинают усиленно размножаться, то эти группы клеток могут образовать то, что мы называем опухолью. Но не всякая опухоль — раковая. Клетки могут перестать размножаться, опухоль больше не растет. С такой опухолью можно прожить всю жизнь, не испытывая особых неудобств или неприятностей.
Если посмотреть на тончайший срез подобной опухоли в микроскоп, то видно, что клетки ее лежат до известной степени правильно, почти как в нормальной ткани.
Это доброкачественная опухоль. Бородавки, например, представляют собой доброкачественные опухоли.
Рак — опухоль злокачественная. Самая главная, самая характерная ее особенность — это непрестанный, как бы беспредельный рост.
Из этого вытекает ряд серьезных последствий. Прежде всего, для создания все новых и новых клеток требуется материал, питательные вещества. Усиленное размножение клеток означает усиленное безостановочное питание. Чтобы росла опухоль, ее клетки должны беспрерывно поглощать питательные вещества.
За чей счет растет такая опухоль? За счет остальных тканей. Раковая опухоль отнимает некоторое количество питательных веществ от тканей других органов.
Клетки рака, хотя они происходят от тех же нормальных клеток, ведут себя в организме как чужеродные, как паразиты.
Однако это еще не самая опасная особенность раковой опухоли. Раковые клетки в своем непрерывном размножении прорастают в соседние ткани, в соседние мышцы, сухожилия, кости, что еще более ухудшает общее состояние организма.
Если посмотреть на срез такой опухоли в микроскоп, то видно, что она состоит из клеток, растущих в разные стороны, расположенных беспорядочно, чего в нормальной ткани не бывает. Кроме того, многие из них теряют свою обычную форму.
Разрушая своим ростом соседние ткани, раковая опухоль вызывает резкие изменения не только в органах, где она сама расположена, но и в близлежащих.
Другая особенность злокачественной раковой опухоли заключается в том, что в ней рядом с живыми растущими клетками имеются клетки, отмирающие и погибшие. Раковые клетки растут очень быстро, гораздо быстрее, чем нормальные. Но они недолговечны. Они так же быстро стареют, быстро гибнут.
Объяснить это можно отчасти и тем, что раковых клеток рождается слишком много; они растут так непрерывно, что им как бы нехватает в опухоли места. Они сдавливаются новыми растущими клетками. Кровеносные сосуды в опухоли, вначале расширенные, затем тоже сдавливаются этой массой стеснившихся клеток и плохо регулируют приток и отток крови, что еще более расстраивает питание клеток.
В опухоли появляются мертвые клетки. Они подвергаются распаду, гниению. Вот почему в раковой опухоли образуются очаги изъязвления, разложения, омертвения.
Продукты разложения распада клеток — это вредные, даже ядовитые вещества. Они всасываются в кровь и разносятся по всему телу. Организм отравляется ими, что еще более ослабляет его, нарушает весь обмен веществ, изменяет функции важнейших органов. Кроме того, очаги изъязвления представляют собой питательную среду для размножения микробов. Все это ведет к резкому исхуданию, к истощению организма.
Истощение при раке носит название раковой кахексии.
Опасные путешественники
Остановить рост раковой опухоли какими-нибудь лекарствами раньше не удавалось. Да и теперь не всегда удается. Советские ученые открыли такие замечательные препараты, как «Жидкость Гордеева» и эмбихин, которые излечивают от отдельных форм раковой болезни. О них мы скажем в дальнейшем. Но это касается только отдельных форм рака. К сожалению, в медицине нет такого верного средства, внутреннего или наружного, которое могло бы задержать развитие всякой злокачественной опухоли или вызвать обратное ее превращение вплоть до рассасывания.
Но вырезать раковую опухоль почти всегда можно. С раком можно успешно бороться путем операции.
Так было до открытия рентгеновских лучей и радия. При помощи радия и лучей рентгена тоже стали успешно лечить раковые заболевания.
Но и операция, и радий, и рентгеновские лучи достигают цели не всегда, не во всех случаях.
Для успеха в лечении рака нужны определенные условия. Если этих условий нет, то иногда не помогают все средства.
Об этом мы будем говорить еще подробнее в дальнейшем. Сейчас еще раз отметим, что энергия роста злокачественной опухоли очень велика.
Отдельные части опухоли скреплены между собой не очень прочно. И нередко кусочек раковой ткани, прорастающей стенку кровеносных сосудов, какая-нибудь группа клеток, внедрившись в этот сосуд, легко отрывается от материнской опухоли и уносится с током крови. Такие переносы, передвижения раковых клеток в организме представляют серьезнейшую опасность.
Как путешествуют раковые клетки? Оторвавшись от опухоли, они плавают в крови до тех пор, пока не застрянут в каком-нибудь узком месте кровеносного сосуда. Это может быть в любом участке тела: в мозгу, в селезенке, в почве, в легких. Задержавшись, они здесь оседают и начинают размножаться, образуя новую опухоль.
Раковые клетки могут путешествовать и другим способом — вместе с лимфой.
Лимфа — это жидкость, похожая по внду на разбавленное молоко. Течет она по лимфатическим сосудам. В нее поступают из кишечника питательные вещества. Лимфа разносит продукты питания по всему телу; из нее они попадают в кровь.
Лимфатические сосуды время от времени на своем пути пересекаются лимфатическими узлами. В них лимфа фильтруется, в узлах оседают все посторонние частицы, содержащиеся в крови и лимфе.
Раковые клетки могут тоже застрять в лимфатических узлах. Так как отдельные клетки злокачественной опухоли сохраняют свои злокачественные свойства, то и здесь проявляется их способность к непрестанному росту.
И вот спустя некоторое время вдруг где-нибудь в глубине организма обнаруживается новая опухоль. Это разрослись остановившиеся здесь клетки рака. Надо полагать, что в этих процессах образования опухоли существенную роль играет и живое вещество.
А может быть и так, что опухолей появится не одна, а две, и три, и четыре и не в одном месте, а в самых разных. Это зависит от того, сколько клеток оторвется от материнской опухоли и где они задержатся.
На врачебном языке говорят, что рак дал метастаз или метастазы. Метастаз — значит перенос.
У человека, например, рак челюсти. Опухоль вырезают. Удаляют даже часть окружающей здоровой ткани, чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что все пораженное раком удалено. Рана заживает. Все как будто бы хорошо.
И вдруг в области шеи начинаются боли, которые все больше усиливаются. Потом здесь уже нащупывается что-то плотное, кругловатое — опухоль. Это — метастаз рака челюсти в лимфатических узлах шеи. Иногда, например, при запущенном раке желудка метастазы могут появиться в легких или в печени.
Главная опасность таких путешествующих клеток в том, что неизвестно, когда они отрываются и отправляются в путешествие, неизвестно, где они останавливаются и начинают расти. Иногда все происходит в глубинах организма, в самых скрытых частях тела, куда не всегда можно своевременно проникнуть и узнать, что там делается.
Метастазы — это тяжелое осложнение злокачественной опухоли. Возникают они, когда болезнь запущена, т. е. когда опухолевый рост зашел уже далеко. На ранних стадиях развития болезни операция дает отличный результат, так как опухоль можно удалить полностью.
Кто виноват?
В чем причина появления рака? Что вызывает это тяжелое заболевание? Ответить на эти вопросы еще недавно было невозможно. Никто не знал истинных причин возникновения и роста злокачественной опухоли.
Ни над одной болезнью ученые так не ломали голову, как над раком. В клиниках и лабораториях всех стран мира тысячи исследователей бьются над проблемой рака в продолжение многих десятков лет.
Крупнейшие хирурги, терапевты, гинекологи, биохимики, физиологи, известнейшие патологоанатомы, цитологи и гистологи — все без устали изучают рак. Создалась целая обширная область медицины, занимающаяся изучением раковых опухолей — онкология.
Многочисленные опыты проделаны над миллионами лабораторных животных.
И все же тайна еще не раскрыта полностью. Бесспорная_ причина рака остается неизвестной.
Но работа этой огромной армии ученых не напрасна. За последние двадцать пять — тридцать лет сделаны очень ценные открытия и разработан ряд надежных методов лечения рака — в первую очередь оперативного.
Кроме того, установлена несомненная роль внешних условий в возникновении рака.
Однако мнения ученых по поводу одних и тех же фактов еще не составляют единого учения о происхождении рака. Исследователи дают различные объяснения возникновению роста злокачественной опухоли.
Так, например, был замечен ряд случаев рака языка у людей с испорченными зубами. Рак губы обнаруживали у некоторых курильщиков, почти не вынимавших трубки изо рта. У тех, кто умер от рака желчного пузыря, иногда в желчном пузыре при вскрытиях находили желчные камни.
Все это как бы говорило об одном и том же: что острые края выщербленных испорченных зубов все время раздражали слизистую оболочку языка, что трубка курильщика постоянно раздражала слизистую оболочку губ и щек, что желчные камни долго раздражали слизистую оболочку желчного пузыря.
Раздражение пробудило клетки к неудержимому росту.
Отсюда возникла теория раздражения. Она объясняла появление раковой опухоли длительным раздражением нормальной ткани.
Долгое время теория раздражения, которую поддерживали видные ученые, считалась наиболее правильной. Но слишком многого эта теория не объясняла.
Была предложена еще одна теория. Она доказывала, что рак — это результат того, что часть как бы выходит из повиновения целому.
По этой теории рак представляет собой нарушение согласованной гармонической деятельности. Какая-то часть ткани точно перестает вдруг подчиняться всему организму и начинает расти безгранично.
Но когда это может произойти? Чем это может быть вызвано? Ослаблением тканей.
Ослабляются же ткани в связи с возрастом. Вот почему рак — болезнь пожилого и старческого возраста. Виновник появления рака — это нарушение в старости гармонии между тканями.
Подобная теория может быть названа возрастной теорией.
Эта теория вначале имела много сторонников.
Но цифры опровергли эту теорию. Цифры, которые были собраны по клиникам и больницам, показали, что злокачественные опухоли вовсе не есть принадлежность только пожилого и старческого возраста. Раком болеют далеко не одни старики: он бывает и в сорок лет, и в тридцать и, правда редко, в двадцать и даже десять лет. Тут возрастная теория уже ничего не объясняет.
Затем появилась новая теория, основанная на особенностях строения некоторых опухолей.
Она ставила вопрос так: бывает ли у нормальных клеток могучий, кажущийся безудержным рост?
Бывает, а именно — в периоде зародышевой, эмбриональной жизни.
Известно, что каждое живое существо возникает из оплодотворенной материнской клетки. Человек тоже развивается из одной зародышевой клетки. Но когда ребенок рождается, то его тело состоит из триллионов клеток.
Как из одной материнской клетки за короткий срок получаются триллионы клеток? Благодаря непрерывному и ускоренному размножению. В зародышевом периоде очень быстро растут и размножаются все клетки.
Но бывает так, что некоторые клетки, как утверждала эта теория, почему-либо перестают размножаться. Они как бы застывают. Кругом продолжается деление клеток, появляются все новые и новые клетки, а эта группа клеток остается без движения.
Так человек, по этой теории, и рождается на свет. У него в организме где-то находятся зародышевые клетки. Человек с такими клетками живет и живет. Он может дожить до глубокой старости и скончаться, не страдая от болезни. Клетки так и не проявят себя.
Но может быть и иначе. Клетки эти вдруг начнут расти. Получится раковая опухоль.
В появлении рака, значит, виноваты зародышевые клетки.
Эту теорию можно назвать зародышевой, или эмбриональной, теорией происхождения рака.
Самое главное
Зародышевая теория объясняет некоторые факты. Действительно, попадаются и опухоли эмбрионального происхождения. Они так и называются — эмбриомы, или тератомы.
Но все же эта теория, как и предыдущие, не все может объяснить. Не удалось доказать, что все раковые опухоли развиваются из зародышевых частиц. Кроме того, и эмбриональная теория не объясняет, почему клетки с остановившимся ростом вдруг начинают размножаться.
И зародышевая теория, и теория раздражения, и возрастная теория отражают в лучшем случае — только часть истины. Некоторые злокачественные опухоли действительно могут происходить из сохранившихся элементов зародышевой ткани; появлению некоторых видов опухолей действительно могут способствовать хронические раздражения; в некоторых случаях могут играть роль старческие изменения тканей.
Но ни одна из перечисленных теорий не дает ответа на основной решающий вопрос: в чем же непосредственная причина рака?
И другие теории, даже долго существовавшие и имевшие большой успех среди ученых, тоже не открывали этой причины.
Была, например, микробная теория рака. Она говорила, что рак вызывается живыми возбудителями, микробами так же, как все заразные болезни. Стоит таким возбудителям попасть в тело человека — и раковая опухоль неизбежна. На этом основании полагали, что раком можно заразиться.
Теория эта в подобном виде не имела успеха. Ведь никто никогда микроба рака не видел, не мог его обнаружить, хотя его долго и настойчиво искали.
Но потом появились факты, которые легли в основу теории, напоминающей микробную. Толчком к этому послужило замечательное открытие русским ученым Ивановским в 1898 году таких ничтожно мелких микроорганизмов, которых нельзя увидеть ни в какой даже самый сильный микроскоп. Они получили название ультравирусов, или фильтрующихся вирусов. Это — сверхмель-чайшие микробы. Они представляют собой как бы бесклеточные организмы. Их пропускают специальные задерживающие микробов лабораторные фильтры.
Эти данные послужили основанием для появления новой теории рака, выдвинутой впервые в 1899 году Н. Ф. Гамалеей. Он утверждал, что рак вызывается особыми вирусами.
А потом были представлены доказательства, которые уже могли, до известной степени, служить подтверждением правильности этой так называемой вирусной теории.
В 1910 году один ученый взял курицу, у которой был определенный вид злокачественной опухоли — саркома. Он вырезал опухоль, растер ее, так что образовалась бесформенная кашица. Эту полужидкую массу он пропустил через тончайшие поры особого фильтра, через который не проходит ни одна клетка.
Ученый собрал то, что прошло через фильтр, и вспрыснул этот фильтрат здоровой курице. У нее выросла опухоль. Исследование показало, что опухоль была той же самой саркомой.
Откуда она взялась? Из клеток первой, больной, курицы? Нет, так не могло быть. Ведь через фильтр не прошла ни одна клетка, в том числе и ни одна саркоматозная, злокачественная клетка.
Значит, причиной явилось что-то такое, что, несомненно, находилось в опухоли первой курицы и что было в то же время меньше любой самой маленькой раковой клетки.
Это «что-то» очень походило на вирус, так как ничто другое не могло бы пройти через фильтр.
Таким образом, вирусная теория получила известную опору.
За последние годы московский профессор Л. А. Зильбер рядом тончайших опытов с фильтратом злокачественных опухолей получил интереснейшие результаты, тоже вполне объяснимые с точки зрения вирусной теории.
По этой теории, образование рака происходит очень своеобразным путем.
Известно, что простейшие живые организмы, состоящие из одной единственной клетки, размножаются делением. Это нормальный для них способ. Такое одноклеточное существо имеет оболочку, которая наполнена протоплазмой. В протоплазме находится ядро. И оболочка, и протоплазма, и ядро участвуют в делении. Какая-нибудь инфузория начинает, как говорят, перешнуровываться посередине, перетягиваются оболочка, протоплазма, ядро, перетяжка становится тоньше, наконец происходит разрыв и на месте одной материнской инфузории появляются две дочерние.
Но бывает и так, что инфузория делится не в процессе размножения, а по особой, на первый взгляд, даже удивительной причине: с целью самозащиты. Это случается тогда, когда в нее проникает враг. Оказывается, одноклеточные организмы имеют своих бактерий, своих мельчайших недругов. Бактерии не только проникают в инфузорию, но и поселяются в ее ядре. Такие жильцы угрожают ей гибелью.
Гибель, однако, ждет инфузорию лишь тогда, когда бактерия внедряется именно в ядро. В протоплазме тела инфузории бактерия, видимо, сама разрушается и гибнет. Спасение для инфузории заключается в том, чтобы бактерия переместилась из ядра в протоплазму.
Как же это может произойти?
Только при делении. В момент деления инфузории бактерия может попасть из ядра в протоплазму.
Вот почему иногда деление у простейших одноклеточных организмов играет роль защитного акта.
Но делиться — значит размножаться.
Вирусная теория рака следующим образом объясняет размножение раковых клеток.
Когда вирус попадает в тело человека или животного, он поселяется в клетках, в их ядрах. Вирус сам настолько прост по своему строению, что не имеет ядра, он не способен вести самостоятельный образ жизни и паразитирует в ядрах; ему нужны готовые пищевые вещества, которые как раз находятся в ядрах клеток.
И у человека, и у животного появление вируса в ядрах клеток тела вызывает, следовательно, усиленное деление клеток.
Усиленное деление клеток и дает опухоль. Если это деление продолжается, рост делается безграничным. Опухоль становится злокачественной.
Профессор Зильбер провел удивительно тонкий опыт. Он сумел выделить вирус из ядра клеток, взятых из ракового очага мыши, и привить другой мыши. На месте прививки выросла характерная злокачественная опухоль.
Вирусная теория, подкрепленная в особенности работами Зильбера, занимает сейчас видное место среди основных теорий происхождения рака.
Первое событие
Что же мешало успехам медицины в решении проблемы рака? Почему причина возникновения рака очень долго не могла быть установлена?
Огромное значение имеет следующее обстоятельство. Всякая трудная проблема поддается легче решению, если можно изучать ее экспериментально, на опытах.
В медицине найти способ борьбы с болезнью легче тогда, когда эту болезнь можно воспроизвести в эксперименте, в лаборатории, искусственно.
Но никто не умел раньше, на протяжении столетий, вызвать рак искусственно.
Рак начинается незаметно. Сперва ни сам человек, ни окружающие его не знают, что он болен. Ведь клетки тканей имеют микроскопический размер. Можно ли увидеть начало их размножения? Нет. Простым невооруженным глазом, без сильных увеличительных приборов этого не видно.
Изучить клетку в тот момент, когда она из обычного своего состояния переходит в состояние раковой клетки, раньше не умели.
Между тем именно в переходе клетки в раковое состояние и кроется вся тайна раковой болезни.
Выход был один: вызвать рак искусственно, воспроизвести его экспериментально у лабораторного животного.
Опухоль, получающуюся по нашему собственному желанию, можно изучать в любой момент: от начала, от первой появившейся клетки, до самого конца, до ее распада.
Но чем вызвать опухоль? Этого как раз никто долго и не знал. Ни одна теория не давала нужных указаний. Предпринятые попытки не удавались. Вот это и было самым серьезным препятствием в изучении рака.
Важное событие в истории борьбы против рака произошло только в 70-х годах прошлого века.
Русский ученый Новинский, работавший в лаборатории известного патологоанатома Военно-медицинской академии профессора Руднева, изучал развитие опухоли у животных.
Он проделал множество исследований злокачественной ткани. Его мысль больше всего привлекала проблема неудержимого роста раковых клеток.
Сила роста злокачественных клеток велика. Но сохраняется ли эта сила у вырезанных клеток? Если у больного раком животного отсечь от опухоли небольшой кусочек ткани и пересадить ее другому животному, будет ли на новом месте продолжаться размножение клеток?
Поставив себе подобную задачу, в то время казавшуюся очень трудной, почти недостижимой, Новинский решил во что бы то ни стало осуществить ее. На протяжении нескольких лет он проделал в самых разнообразных условиях множество опытов. Наконец, ему удалось выработать свой метод пересадки и тогда он добился цели. У больной собаки, у которой был так называемый мозговидный рак полости носа, он вырезал кусочек ткани злокачественной опухоли, который и перенес, т. е. привил, другой, здоровой, собаке.
И вот клетки рака продолжали расти на новом месте и вскоре превратились в большую опухоль.
Так, в 1877 году, впервые в мире, русский ученый произвел пересадку рака.
Этим было положено начало экспериментальному изучению злокачественных опухолей.
Уголь и камины
Второй шаг в изучении рака связан с наблюдениями, касающимися каменного угля и каминов.
На первый взгляд, между углем, каминами и раком ничего общего нет. На самом же деле связь существует.
Англичане в своих домах устраивали не просто печи, а камины.
Большие камины с широкими дымоходами без всяких особых колен, поворотов и изгибов топились каменным углем. Дымоходы каминов шли прямо вверх и оканчивались трубой на крыше.
Для того, чтобы очищать эти дымоходы от сажи, приглашали трубочистов. Стоя на крыше, невозможно щетками или метлой хорошо прочистить просторный дымоход. Поэтому трубочисты опускались с крыши в такие дымоходы на веревках или другим способом и уже внутри дымохода, сидя верхом на перекладинах, тщательно вычищали стены от копоти и сажи. Сажа в дымоходах была густой и сыроватой. Она от жары превращалась как бы в деготь или смолу.
Чтобы не запачкать платья или чтобы не было жарко, трубочисты чаще всего работали без одежды. И вот оказалось, что у них часто бывает кожный рак.
Впервые обратили внимание на такие факты примерно в середине XVIII века. В продолжение почти полутораста лет поступали все новые и новые наблюдения, подтверждающие, что кожный рак чаще всего встречался у трубочистов. Этот факт ставил в тупик всех, кто изучал в те времена злокачественные опухоли, но вместе с тем заставлял работать мысль исследователя в известном направлении.
И вдруг в 1916 г. среди врачей всего мира распространилось интересное сообщение, проверенное и подтвержденное. Группа ученых сумела вызвать у лабораторных мышей рак, настоящую злокачественную опухоль со всеми полагающимися признаками, с кахексией и с неизбежным концом — смертью.
Вызывали рак искусственно, длительным смазыванием того или иного участка тела мышей каменноугольной смолой.
Наблюдения над английскими трубочистами и заставили ученых обратить внимание на эту смолу.
Спутники рака
Оказалось, что кожный рак действительно не случаен у трубочистов. Данные экспериментов подтвердили, что смазывание каменноугольной смолой приводит к появлению злокачественной
опухоли. В сотнях лабораторий разных стран повторили эти опыты на животных, и сотни исследователей получили один и тот же результат.
Это был большой шаг вперед.
Но тотчас возник очень существенный вопрос. Что же такое систематическое длительное смазывание каменноугольной смолой? Как оно действует? Почему смола обладает свойством вызывать злокачественные опухоли? Не проявляется ли здесь просто раздражение клеток смолой, подобное, например, тому, какое производит трубка во рту курильщика?
Вокруг этого вопроса разгорелись ожесточенные споры.
Конец спорам был положен в 1932 году несколькими учеными. Они сделали то, что явилось знаменательным событием в изучении проблемы рака. Были взяты мыши и подвергнуты систематическому смазыванию, но уже не смолой, а веществом, похожим на воск или скорее на жир. Смазывание этим жироподобным веществом вызывало почти у всех подопытных животных настоящий рак.
Самое интересное заключалось в том, что применяемое для смазывания вещество было получено из обычной каменноугольной смолы. Оказалось, что дело не в смоле, а в этом самом веществе.
Если его извлечь из смолы, то смола становится безвредной. Тогда можно смазывать такой смолой лабораторную мышь — и никакого ракового заболевания у нее не возникнет.
Все дело и заключалось в этом жироподобном веществе. По химическому составу оно относилось к особого рода жироподобным веществам, носящим название стеринов.
Так было сделано важное открытие; установлено существование ракопроизводящих, или, по медицинской терминологии, канцерогенных веществ.
Эти опыты были не только сами по себе значительны, но и являлись началом дальнейших интереснейших и важнейших событий в разработке проблемы рака.
У одних мышей длительно смазывали кожу этим канцерогенным веществом, другим мышам смазывание не производили. Им просто вводили эго вещество под кожу. У первых появилась на коже опухоль, а у вторых — опухоль соединительной ткани, уже упомянутая саркома.
Одно и то же воздействие вызывало разные формы злокачественных опухолей соответственно местоположению в организме той ткани, на которой они росли.
Это было довольно неожиданно.
В то же время другие исследователи показали, что в органах часто содержатся вещества, каким-то образом связанные с злокачественным ростом. Так нашли вещество с очень длинным названием — ортоаминоазотолуол. Оно нередко обнаруживалось при раке печени. Ортоаминоазотолуол, по мнению некоторых ученых, и представляет собой канцерогенное вещество печени.
Так открывались, шаг за шагом, различные подробности процесса образования злокачественных опухолей. Все это были интересные открытия. Они пролагали пути к глубокому, всестороннему изучению рака.
Наряду с этим шло изучение других явлений, сопровождающих возникновение злокачественных опухолей и зависящих от химического строения раковой ткани.
Здесь также были сделаны важные находки.
В глубине клетки
В последние годы большой интерес вызывает работа биохимической лаборатории Центрального онкологического института в Москве. Коллектив его исследователей стремится проникнуть в самые глубины жизни раковой клетки, в те тончайшие химические процессы, которые в ней совершаются.
В ходе этих исследований стали раскрываться удивительные факты.
В жизни каждой клетки огромную роль играет белок — основная составная часть всякого живого существа. Оказалось, что белок в клетках злокачественных опухолей — это совсем не тот белок, который имеется в нормальных клетках, даже не тот белок, который находится в клетках, давших начало раковому образованию. Он построен иначе. Белок обычно можно разложить на более простые составные части, на ряд аминокислот. Оказалось, что в белок раковых клеток входят такие аминокислоты, которых в нормальных клетках не бывает.
Этот белок стали называть раковым белком.
Как известно, обмен веществ может совершаться лишь при участии ферментов. Ферменты превращают сложные неусвояемые органические соединения в усвояемые. Ферменты регулируют питание клеток, а от питания клеток зависит, разумеется, их рост.
И вот обнаружилось, что раковый белок, белок ненормального строения, не подвергается воздействию ферментов. Значит, ферменты уже не могут регулировать питание раковых клеток, а следовательно, не могут регулировать и рост клеток, управлять ими.
Так создаются условия для неограниченного роста этих клеток.
Постепенно углубляясь в изучение раковой клетки, ученые узнавали, что происходит в ее таинственных недрах. Стало выясняться, что и с ферментами здесь тоже совершаются необычные вещи. В раковых клетках и они подвергаются различного рода изменениям.
Есть в органах тела фермент цитохром. Это фермент, играющий важную роль в окислительных процессах, связанных с потреблением кислорода. Изучение этого фермента привело к очень любопытным фактам.
Цитохромом наиболее богаты сердце, мозг, почки, мышцы. А эти органы как раз меньше всех других поражаются раком.
Отсюда может напрашиваться вывод, что присутствие цитохрома как-то предохраняет нормальную клетку от превращения ее в злокачественную.
Если такое положение верно, то в раковых опухолях или не должно быть цитохрома, или его должно быть мало. Когда исследователи занялись этим вопросом, то действительно оказалось, что в раковых клетках количество цитохрома резко понижено.
Потом присоединились еще новые данные. Как удалось установить, растущая раковая опухоль, являясь патологическим раздражителем нервной системы, влияет на ферменты, содержащиеся и в здоровых, непораженных органах, и даже в органах, расположенных не по соседству с опухолью, а на далеком расстоянии. Без фермента каталазы, например, не могут правильно осуществляться функции печени и почек. И любая злокачественная опухоль, где бы она ни была, все равно ведет к снижению содержания каталазы в печени и в почках.
Таким образом, ферментная система, имеющая первостепенное значение в жизни организма, при раковой болезни дезорганизуется. Одни ферменты исчезают, другие появляются в чрезмерно большом количестве, как, например, фосфатаза из костной ткани, обильно поступающая в кровь при раке.
Раз нарушается ферментная система, то ухудшается, следовательно, питание всего организма.
Раковая кахексия, раковое истощение получает новое, химическое, освещение.
Так шаг за шагом открываются события, совершающиеся во внутриклеточной лаборатории раковой ткани. Наука все глубже проникает в тайны жизни и неудержимого роста злокачественных опухолей. Становится понятным механизм химических процессов при раке. Они протекают здесь патологически, не так, как в нормальной ткани, не так, как в здоровом организме. Какие бы факторы ни вмешивались в жизнедеятельность ткани — канцерогенные вещества, вирусы или еще что-нибудь — все они начинают, видимо, с того, что постепенно, исподволь, еще задолго до обнаружения опухоли, расшатывают внутренний химизм клеток В клетках появляется другой белок, действуют иначе ферменты.
Из всего изложенного можно сделать определенный вывод.
Совершенно ясно, что за много времени до того, как возникает злокачественная опухоль, в организме уже происходят невидимые изменения клеточного химизма и другие нарушения.
Этот период, следовательно, можно назвать предраковым состоянием.
Перед началом рака
Работы многочисленных исследователей решили за последнее время чрезвычайно серьезную задачу: они приоткрыли завесу над тем, что происходит в организме до того, как в нем обнаруживается рак.
Особенное значение имеет то, что в этом именно периоде появляются в организме жироподобные вещества — стерины.
Правда, они имеются и в условиях нормального обмена веществ. Но все хорошо до тех пор, пока не нарушается обмен веществ, пока в нормальном количестве поступают в организм, в его клетки, питательные вещества, пока они здесь нормально перерабатываются в белки, углеводы, жиры и в нормальном количестве выделяются.
Расстройство обмена — это есть или нарушение пропорции поступления питательных веществ, или нарушение их переработки, или нарушение их удаления из организма. Нарушение процессов переработки жиров, жирового обмена, видимо, и влечет за собой появление избытка стеринов. Если организм не успевает их удалить, избавиться от них, то чрезмерное накопление стеринов начнет вредно действовать на клетки.
Такое положение ведет, как теперь уже нам известно, к образованию опухолей.
Вот что разыгрывается в предраковом периоде. Имеется множество наблюдений, подтверждающих сказанное.
Особенно хорошо это изучено по отношению к раку пищеварительных органов.
Злокачественная опухоль, например, в желудке появляется обычно не сразу. Как правило, задолго до этого человек страдает тем, что называется катаром желудка, а потом лучи Рентгена обнаруживают вдруг опухоль.
Конечно, далеко не каждый катар желудка обещает рак. Однако каждому раку желудка обычно предшествуют признаки катара.
Но катар желудка — это явление, связанное, в конце концов, с нарушением питания, т. е. с нарушением обмена веществ.
Предраковое состояние можно понимать шире. Бывает ли так, что безобидная на вид бородавка начинает расти безостановочно, изъязвляется — словом, превращается в злокачественную опухоль?
Бывает. Значит, бородавка — это только до поры до времени простая маленькая опухоль. Она может находиться в стадии предракового состояния.
Даже какая-нибудь долго не заживающая язвочка может в конце концов дать злокачественный рост. Тогда, значит, и здесь мы имеем предраковое состояние.
Конечно, вопрос о наследственности не может быть обойден в решении проблемы раковой болезни.
Это очень интересный вопрос. Еще недавно он представлялся несложным. Считалось, что наследственность играет какую-то обязательную роль в возникновении рака. Это оказалось неправильным.
Несколько лет назад американские ученые провозгласили, что рак в очень многих случаях явление наследственное.
Исследователи брали мышей — самцов и самок, зараженных раком и скрещивали их. Мышиное потомство, появившееся от таких родителей, дало любопытный и, на первый взгляд, довольно убедительный результат: у большого числа мышат после рождения обнаруживались раковые опухоли. Это было неустойчивое против рака поколение.
Но мышей-родителей, зараженных раком, тоже можно назвать неустойчивыми против рака.
От неустойчивых против рака родителей появились неустойчивые против рака дети.
У потомства безраковых родителей этого почти не наблюдалось. Потомство было почти свободно от раковых опухолей. Это было устойчивое против рака поколение.
От устойчивых родителей появились устойчивые дети.
Подобные опыты призваны были поддержать реакционное учение о наследственности болезней, и рака в частности.
Но оказалось, что это далеко не так.
В 1934 — 1936 годах другие ученые опубликовали сообщения, которые если не совсем опровергли утверждение о наследственности рака, то значительно поколебали его. Они проделали следующие не очень громоздкие, но очень ясные опыты.
Мышат, которых произвели на свет родители, больные раком, тотчас после рождения отнимали у матери и подкладывали для кормления безраковым самкам. В результате выросли мышата устойчивые против рака.
Чем это объяснить?
Только одним — кормлением. Мышата питались молоком устойчивых против рака самок. Значит, все дело было в молоке, а не в наследственности. Очевидно, в молоке раковых самок содержалось какое-то канцерогенное вещество. А в молоке безраковых самок, естественно, этого канцерогенного вещества не находилось.
Так теории непредотвратимой наследственности раковых заболеваний был нанесен сильный удар.
Очень интересны работы профессора Н. Н. Петрова, связанные с вопросом о наследственности рака и направленные к проверке зародышевой теории. Эта теория, по мнению многих ее сторонников, говорит о том, что если есть в организме эмбриональные зачатки, то этого одного достаточно для появления опухоли. Правильно ли такое положение?
Профессор Петров со своей сотрудницей Кроткиной исследовали лабораторных животных, в теле которых имелись эмбриональные зачатки.
Превратились эти зачатки в опухоли? Нет, они не дали никакого злокачественного роста. Тогда мышам начали систематически вводить в организм незначительные, почти совершенно безвредные дозы мышьяка. Но, хотя дозы были незначительные, спустя некоторое время в эмбриональных зачатках вдруг обнаружился рост и они стали превращаться в злокачественные опухоли.
Таким образом, рост клеток и превращение их в раковые образования возникли только после хронического раздражения мышьяком, т. е. после воздействия фактора внешней среды.
Представление об опухоли, которая появляется независимо от всяких условий среды, оказалось несостоятельным. Раковый процесс, даже при наличии предрасположения, как можно было бы назвать присутствие эмбриональных зачатков, может развиться только под влиянием определенных условий окружающей среды. При этом важно отметить, что состояние центральной нервной системы, ее реакция на хроническое раздражение играет здесь решающую роль.
В искусственной среде
Можно вырезать у белой мыши кусочек ткани, например кожи или мышцы, поместить его в специальную питательную жидкость и наблюдать за его дальнейшей судьбой. Что же произойдет с таким кусочком ткани?
В его клетках процессы жизни не прекратятся. Рост ткани будет продолжаться. Если кусочек ткани взять из тела человека, то с его клетками произойдет то же самое.
Для чего нужны ученым подобные опыты?
Это очень ценный метод изучения биологических и физиологических законов живого организма, его органов и тканей. Помещая определенную ткань в те или иные условия, искусственно меняя внешнюю среду, в которой клетки живут, можно получать ответы на ряд важнейших вопросов, возникающих в процессе исследования. Такой метод изучения очень плодотворен. И очень много интересных открытий в области происхождения, развития, свойств тканей ученые сделали, наблюдая их жизнь в искусственных питательных средах.
Совершенно естественно, что внимание исследователей, стремящихся раскрыть тайны раковой ткани, направилось тоже в эту ■сторону. Началось изучение клеток злокачественных опухолей, помещенных в искусственную среду.
И вот первое, с чем столкнулись ученые, — это трудность задачи. Кусочки нормальных тканей человека росли в искусственной среде, выражаясь научным языком, давали культуру своих клеток. Кусочки же патологической ткани, кусочки злокачественных опухолей не росли, их клетки не размножались, культуры не получались. В разных странах ученые проделывали подобные опыты, и они не удавались. А там, где и удавались, успех был кратковременный. Проблема культивирования злокачественных опухолей вне организма стояла перед непреодолимым, казалось, препятствием.
Советский онколог, профессор Александр Дмитриевич Тимо-феевский, тоже столкнулся с этой трудностью. Но она не заста-
вила его отступить. Он неутомимо экспериментировал. И то, что представлялось невозможным, было им достигнуто.
С помощью разработанной им оригинальной методики, проверенной и многократно испытанной, он создал такие условия, при которых клетки злокачественной опухоли человека жили и размножались вне организма. Раковая ткань росла в искусственной среде на протяжении нескольких лет. Мало того, клетки разрастающейся культуры большей частью сохраняли все особенности строения клеток той ткани, из которой опухоль первоначально возникла. Это была первая блестящая победа профессора Тимо-феевского. Она заключалась не только в том, что получено было длительное культивирование злокачественной опухоли вне организма. Она решала еще один вопрос. Была окончательно разбита теория, которая допускала, что раковая ткань должна превращаться в ткань иного строения.
Имел ли значение подобный факт? Да, очень большое, особенно для диагностики, для точного определения характера опухоли. А ведь именно это нередко играет серьезную роль в решении судьбы больного человека.
Опыты Тимофеевского умножались. На них уходили годы. Но шаг за шагом ученый приближался к овладению тайнами, которые скрывает в себе злокачественная опухоль; особенно тайной беспредельного размножения ее клеток. Добиться этого — значило получить ключ к пониманию самого грозного свойства рака — его неограниченного роста.
В конце тридцатых годов профессор Тимофеевский опубликовал работы, показавшие, что он подошел к цели. Труднейшая задача в известной мере была решена. Путем ряда тонких экспериментов, изменяя внешние условия существования клеточных культур, созданные с помощью очень сложного состава питательных сред, ученый добивался того, что рост злокачественной ткани начинал сокращаться. Размножение опухолевых клеток совершалось все медленнее и медленнее. Наконец, оно останавливалось. Но раковая ткань не гибла. Она жила, однако жизнь в ней словно замирала, переходя в особое «покоящееся» состояние, как его стали называть онкологи.
Так удалось задержать непрерывное разрастание злокачественной ткани, т. е. парализовать ее опаснейшее свойство. И это было достигнуто средствами, которые не разрушают опухоль и, следовательно, не будут разрушать и соседнюю с ней нормальную ткань, если такие средства будут применены к опухоли и у человека.
Возможен ли возврат раковых клеток к их первоначальному нормальному состоянию? Добиться такого превращения никому не удавалось. А ведь это вопрос очень важный. И на него ответ сумел получить только профессор Тимофеевский. Он доказал на опухолевых клетках, развивающихся вне организма, что при известных условиях их строение может снова стать нормальны^.
Это — событие весьма большого значения, намечающее новые горизонты в решении проблемы лечения рака.
Успехи советского ученого открывают, таким образом, перспективы и для поисков путей воздействия на злокачественную опухоль, развивающуюся в живом человеческом организме.
Чрезвычайно важными представляются новейшие работы крупного советского биолога, действительного члена Академии медицинских наук профессора Ольги Борисовны Лепешинской. Как известно, в результате ее новаторских работ создана новая теория происхождения клеток. По экспериментальным данным Лепешинской, клетки размножаются не только путем деления, но и путем развития из бесклеточного живого вещества. Установление этого факта явилось огромным достижением науки, окончательно доказавшим полную несостоятельность долго господствовавших вирховских тезисов: «все живое из клетки» и «всякая клетка из клетки».
Вместе с тем работы одного из сотрудников Лепешинской, Михина, открыли еще одно любопытное обстоятельство. Оказалось, что простейшие одноклеточные существа обладают способностью размножаться не только путем деления. Они выбрасывают наружу из себя, из своей протоплазмы множество мельчайших тонких зернышек протоплазматического характера. Из каждого зернышка вскоре развивается целая клетка. Таким образом, может происходить необыкновенно быстрое размножение клеток, во много раз быстрее, чем при обычном делении.
Естественно, что открытие подобного способа размножения проливает некоторый свет на характер роста клеток злокачественной опухоли, на быстроту развития ракового процесса. И надо думать, что работы исследователей в этом направлении могут принести неожиданные, практически весьма важные результаты.
Смелые работы советских ученых, открывающие в науке новые пути, позволяют надеяться на благодетельные результаты и в этой трудной области медицины и биологии.
Пути воздействия
Интересны и многообещающи данные, касающиеся тончайших химических процессов, происходящих в клетках злокачественных опухолей, и ставшие известными в последнее время. Они открывают некоторые перспективы лечебного воздействия на рак. Исследования производились группой наших ученых в лабораториях Киевского рентгено-онкологического института и в биохимическом отделе Всесоюзного института экспериментальной эндокринологии.
Эти ученые обратили внимание на всем известный витамин С — на аскорбиновую кислоту. Она играет большую роль в химизме тканей, в процессах обмена веществ. Выяснилось, что эта кислота в нормальных органах претерпевает одни изменения, а в злокачественной ткани — другие. Так называемая восстановленная форма аскорбиновой кислоты в нормальных клетках исчезает довольно
быстро. Через 6 — 7 часов с момента ее поступления она там уже отсутствует. А в раковых клетках это происходит гораздо медленнее. И#через 24 — 26 часов в них имеется еще очень много аскорбиновой кислоты, в восстановленной форме.
Причину такого различия нашли. Она заключалась в том, что в ткани злокачественной опухоли почти отсутствует так называемое минеральное железо. В нормальных тканях его находится во много раз больше, чем в раковых клетках. Оно обладает способностью легко отщепляться от своих обычных сочетаний и легко присоединяться к восстановленной форме аскорбиновой кислоты.
Но если к восстановленной форме аскорбиновой кислоты присоединится минеральное железо, то получится уже другое вещество. Оно называется фе-аскорбиновая кислота.
Вот отчего в нормальной ткани исчезает восстановленная форма аскорбиновой кислоты. Она превращается, благодаря достаточному количеству минерального железа, в фе-аскорбиновую кислоту.
Имеет значение то, что в тканях будет находиться не та аскорбиновая кислота, а другая? Оказалось, что это имеет значение и притом очень существенное.
Всякая клетка состоит, как известно, из протоплазмы, ядра и других включений. В протоплазме клетки находится особая нуклеиновая кислота — рибоза, а в ядре — другая нуклеиновая кислота — дезоксирибоза.
Рибоза может переходить в дезоксирибозу. Существует очень веское предположение, что превращение рибозы в дезоксирибозу происходит только благодаря присутствию восстановленной формы аскорбиновой кислоты. Где имеется эта кислота, там идет образование дезоксирибозы из рибозы.
Теперь вспомним, что собой представляет раковая болезнь. Это — рост злокачественных клеток, образующих опухоль. Но рост есть не что иное, как размножение клеток. Клетки размножаются делением. А когда у клетки возникает момент деления? Тогда, очевидно, когда ядро к этому готово. Готовность наступает тогда, когда ядро созрело. Надо полагать, что одной из предпосылок, вызывающих деление, служит накопление в ядре нуклеиновой кислоты — дезоксирибозы. Ее избыток в ядре как бы побуждает клетку к делению.
Мы уже знаем, что в злокачественной ткани восстановленная форма аскорбиновой кислоты долго не исчезает, находится там почти всегда. Но ее присутствие ведь сопровождается переходом рибозы в дезоксирибозу. Другими словами, в раковой ткани идет непрерывное накопление дезоксирибозы. Отсюда — непрерывное деление клеток.
Таким представляется механизм роста раковой опухоли в свете некоторых биохимических фактов.
Можно спросить: какое место в этих процессах занимают канцерогенные вещества?
Вероятнее всего такое допущение: канцерогенные вещества, влияя на ткани, на находящиеся в них нервные волокна, вызывают определенную реакцию со стороны нервной системы и изменяют обмен веществ.
Если принимать вирусную теорию, надо предположить, что включение в клетку вирусных образований может повлечь за собой такие же нарушения деятельности нервной системы и клеток.
Все это — проблемы, разрешение которых принесет будущее. Пока же вернемся к работам, о которых мы говорили выше, и поставим такой вопрос; какие же из всего изложенного можно сделать выводы, связанные с борьбой против рака?
Вспомним, что при наличии минерального железа из восстановленной формы аскорбиновой кислоты образуется фе-аскорби-новая кислота. Фе-аскорбиновая кислота уже не превращает ри-бозу в дезоксирибозу. Если не будет этого превращения, не будет непрерывного накопления в ядрах клеток дезоксирибозы, то остановится и беспрестанное деление клеток. А тогда прекратится и рост опухоли.
Такое предположение подверглось проверке посредством экспериментов. И, надо сказать, поставленные опыты дали результаты, в достаточной мере обнадеживающие. Так, мышам привили раковую ткань, которая вскоре обнаружила явный рост. Затем этим животным систематически стали добавлять в пищу препарат фе-пирокахетин, по своим свойствам аналогичный препарату фе-аксорбиновой кислоты. Оба препарата содержат легко отщепляющееся минеральное железо. Через некоторое время привитые кусочки опухолей перестали увеличиваться. Вслед за этим наступило и рассасывание их.
Мыши, которые должны были погибнуть от рака, остались жить.
Когда после введения препарата фепирокахетина проверили в рассасывающихся опухолях содержание восстановленной формы аскорбиновой кислоты, то ее количество оказалось резко уменьшенным.
Куда же она исчезла? Надо было допустить, что она соединилась с минеральным железом фе-пирокахетина и потеряла, следовательно, способность переводить рибозу в дезоксирибозу. Другими словами, количество материала, необходимого для деления клеток, сократилось. Поэтому опухоль перестала расти.
Эти опыты советских ученых, стремящихся не только объяснить факты, но и управлять ими, открывают благоприятные перспективы в деле лечения злокачественных опухолей.
Но надо помнить, что все это пока лишь перспективы. Еще потребуется множество контрольных исследований. Самое главное — нельзя забывать, что опытов над мышами еще недостаточно, чтобы выводы сразу же переносить на людей. Работа предстоит долгая и трудная. Надо думать, что советская наука уже в недалеком будущем добьется здесь больших успехов.
Вмешательство ножа
Труды советских и других исследователей внесли много нового в область изучения раковых заболеваний. Если и не установлена еще бесспорная причина возникновения рака, зато, как мы видели, уже известен ряд обстоятельств, способствующих перерождению нормальных клеток в злокачественные и появлению у них неудержимого роста.
Очень многое сделано и в лечении рака. Правда, химические способы борьбы с отдельными формами раковой болезни дают полное выздоровление. Но, к сожалению, не всякую раковую опухоль можно остановить таким способом. Еще у многих больных злокачественная опухоль становится причиной гибели. Однако и здесь врач не стоит беспомощным перед этой грозной опасностью.
Самым старым и остающимся пока основным способом борьбы с развившейся опухолью является хирургический. Задача хирурга сводится к тому, чтобы не оставить ни одной раковой клетки. Поэтому вырезают не только опухоль, но и близлежащие лимфатические узлы, куда незаметно могли занестись оторвавшиеся от опухоли злокачественные клетки.
Оперативное лечение рака сделало большие успехи. Своевременная и правильная хирургическая помощь, как установлена статистикой, избавляет больных от развития тяжелого заболевания, от гибели. Цифры, полученные в клиниках всего мира, показали, что операции дают большое число выздоровлений, большое ? число полного освобождения от болезни. Причем длительные наблюдения над оперированными, на протяжении 5 — 8 — 10, даже 15 — 20 лет, не обнаруживали рецидивов рака.
Богатейший материал Ленинградского онкологического института, через который со дня его основания прошли десятки тысяч больных, подтверждает правильность этого положения.
Достижения медицины позволили онкологам выработать точные правила, связанные с техникой операций, принимать все меры, которые наилучшим образом обеспечивают успех применения хирургического ножа. В операционную практику введены теперь такие приемы, которые сводят почти к нулю возможность отрывания и рассеивания злокачественных клеток.
Особенно благоприятную роль в этом отношении сыграло внедрение в хирургию электрического тока. Операция производится не скальпелем, а инструментом, у которого имеется тонкий плоский наконечник и который соединен проводами с источником электричества. Когда аппарат включается, то на острие наконечника так сгущается ток, что там сразу происходит резкое нагревание. Если прикоснуться к ткани таким наконечником, то жидкость в клетках мгновенно нагревается и превращается в пар. Сила расширения пара тотчас разрушает клетку. Происходит как бы микроскопический взрыв. В этом месте, следовательно, ткань разделяется. Так, двигая наконечником, можно разъединить ткань на любом протяжении, на любую глубину. Получается рассечение ткани электрическим током. И все это совершается очень быстро.
Что же дает электронож? Каковы его преимущества?
От высокой температуры мгновенно свариваются и высыхают ткани по краю разреза. Значит, закупориваются тем самым концы кровеносных и лимфатических сосудов. Отсюда ясно, что операция протекает почти бескровно. Это, во-первых; во-вторых, закупорка, закрытие концов пересекаемых сосудов не позволяет проникнуть в них и разнестись дальше ни каким-либо микробам, если бы они случайно попали в рану, ни раковым клеткам. Кроме того, сами раковые клетки на линии разреза мгновенно погибают при соприкосновении с наконечником.
Профессор С. А. Холдин, который приобрел широкую известность своими успешными операциями в Ленинградском онкологическом институте, и другие хирурги-онкологи получили большой процент радикального излечения рака именно с помощью электрического ножа. Там, где к нему нужно прибегать, этот способ дает превосходные результаты.
Однако не всегда нужно и можно пользоваться электрическим ножом. Бывают случаи, когда обычный стальной скальпель проще, целесообразнее и быстрее достигает цели.
Значит, электрический нож не при всех операциях обязателен.
Но бывает и так, что хирург не применяет ни электричества, ни обыкновенный нож или применяет их, но считает это недостаточным.
Что же он тогда делает?
Икс-лучи
В 1896 году физик Рентген опубликовал чрезвычайно интересное сообщение о новых лучах, им открытых. Они возникали при прохождении электрического тока через особую трубку, из которой выкачан воздух, — трубку Кулиджа. Самое чудесное — это способность этих лучей проникать сквозь различные вещества. Человеческое тело под потоком этих лучей становилось как бы прозрачным. На светлом фоне потерявших свою непроницаемость тканей кожи видны были очертания внутренних органов, а также резкие тени костей скелета и сокращающейся мышцы сердца.
Так появились рентгеновские лучи, начавшие вскоре играть огромную роль при исследовании человеческого организма. Если в тело попадала иголка или пуля, то, сделав просвечивание, можно было легко обнаружить и точно определить местонахождение этих инородных тел, можно было определить место перелома кости, наличие тех или иных уплотнений во внутренних органах: в легких, печени, почках. Обычно пищевод, желудок, кишки не задерживают рентгеновских лучей, так как состоят из тонких и мягких тканей и поэтому не дают теневых отражений. Но если их наполнить так называемой контрастной массой, т. е. кашицеобразным раствором солей металлов, плохо пропускающих икс-лучи, то становятся хорошо заметными контуры пищевода, желудка, кишечника. Этим пользуются для выяснения наличия дефектов и каких-либо нарушений в этих органах. Свойство рентгеновских лучей давать изображение частей тела, обычно всегда скрытых, плодотворно служит делу борьбы с человеческими недугами.
Но вскоре оказалось, что лучи Рентгена не только приносят пользу, но могут являться источником опасностей. Ученые, в самом начале работавшие с икс-лучами, через некоторое время обнаруживали у себя на коже рук язвы, не исчезавшие, не заживавшие, не поддававшиеся лечению. Поражения кожи становились все глубже, потом наступали дальнейшие изменения, вплоть до распада тканей, так что иногда приходилось ампутировать всю руку или ее часть.
Так столкнулись с разрушительной для тканей силой рентгеновских лучей.
Чтобы избежать их гибельного действия, люди, работающие в рентгеновских кабинетах и при рентгеновских установках, защищают себя теперь ширмами из свинца, перчатками и передниками со свинцовой прокладкой.
Однако из такого опасного свойства икс-лучей вполне естественно вытекал следующий вопрос: если они разрушают нормальную ткань, то нельзя ли ими разрушать и злокачественную ткань?
Множество экспериментов, поставленных над животными, показало, что под влиянием потока рентгеновских лучей в опухолях действительно происходят изменения, останавливается рост раковых клеток, и в конце концов они гибнут, распадаются.
Во всех онкологических лабораториях началась работа. Она была очень сложной, очень нелегкой. Икс-лучи на самом деле оказались неизвестными, таинственными лучами, могучая сила которых дает целебный эффект, но может и причинить много беды. Потребовались усилия многих исследователей, пытливая, неутомимая настойчивость армии ученых, тончайшая методика наблюдений, чтобы узнать все свойства рентгеновских лучей, действие их на организм, изучить реакцию на них здоровой и патологически измененной ткани. Теперь созданы способы точно дозировать количество икс-лучей, изменять их так называемую жесткость, глубину их проникновения в ткани. Овладев этим знанием, рентгенологи умеют теперь укрощать икс-лучи, ставить их чудесную энергию на службу человеку.
В чем же суп их действия?
Всякое вещество состоит из молекул, а молекулы — из атомов. Как известно, атом очень сложной конструкции. В его центре расположено ядро, вокруг которого с огромной быстротой вращается рой электронов.
Живая клетка состоит, в основном, из сложных белковых молекул. Рентгеновский луч, направленный на живую клетку, выбивает своей энергией часть электронов из белковых молекул. Атомы теряют некоторое количество своих электронов. В физике такое явление носит название ионизации. Ионизация изменяет число электронов в белковых молекулах. Но, изменяя число электронов в молекулах белка, она изменяет и самые молекулы. Теперь это уже не те нормальные белковые вещества, которые присущи живым клеткам; их молекулярное строение изменилось. Совершенно естественно, что в результате изменяются и свойства клеток. В клетках нарушаются жизненные процессы.
Незначительное, непродолжительное действие рентгеновских лучей вызовет незначительные нарушения. Чем длительнее их применение, тем сильнее будут выражены изменения функций клеток, вплоть до их гибели, распада.
В результате долголетних исследований и накопившихся фактов можно было установить такой закон: малые дозы лучистой энергии возбуждают жизнедеятельность клеток, средние — тормозят, большие — убивают.
Для борьбы с раком пользуются, вполне понятно, средними и большими дозами, гибельными для злокачественных клеток.
Рентгеновскими лучами успешно лечат злокачественные опухоли кожи, губ, глотки, полости рта, верхних дыхательных путей, лимфатических узлов, молочной железы, щитовидной железы, органов половой сферы, некоторые формы опухолей костей и другие.
Это означает огромное количество спасенных человеческих жизней.
Энергия распадающихся атомов
Спустя три года после открытия икс-лучей произошло еще более замечательное событие. Молодые ученые Кюри-Склодов-ская и ее муж Пьер Кюри доложили в Парижской академии наук о новых лучах, которые получили название радиевых. Это были уже совершенно необыкновенные лучи. В их происхождении не играло никакой роли ни электричество, ни солнечный свет, ни какой-либо другой источник энергии. Элемент радий, добытый из урановой руды, не заимствуя никакой энергии, непрерывно, день и ночь выделял потоки невидимых лучей. Сообщение о таком явлении вызвало сенсацию среди ученых всего мира.
Изучение радиоактивности, как стали называть подобное явление, привело к поразительным выводам. Выяснилось, что лучи радия — это не один, а три рода лучей. Их назвали: альфа-лучи, бета-лучи, гамма-лучи. Испуская эти лучи, радий сам разрушается. Его атомы распадаются. Правда, процесс распада идет очень медленно. Для того, чтобы от грамма радия осталась половина, требуется 1600 лет.
Но и этого мало. Тщательные исследования показали, что распадающиеся частицы радия, в конце концов, превращаются в другие элементы, а именно: в свинец и гелий. Значит, налицо превращение элементов. То, к чему стремились поколения алхими-
ков; что являлось предметом их страстных поисков, было не фантазией, не бреднями, не бессмысленной мечтой средневековья. Превращение одних элементов в другие оказалось вполне возможным делом, научной истиной.
Здесь надо сказать об одном факте, который вначале едва обратил на себя внимание. Пьеру Кюри пришла в голову мысль — посмотреть, какое действие оказывают лучи радия на живой организм.
Он подставил руку под излучение кристаллических солей радия. На коже появилась краснота, а через несколько часов — язва.
Это явление, представлявшееся незначительным, вскоре указало онкологам новый путь для лечения рака.
И действительно, лучи радия, главным образом гамма-лучи, вошли в арсенал медицины как средство борьбы со злокачественными опухолями. Лучи уничтожают раковую опухоль и не только в том случае, когда она расположена на поверхности тела. Маленький кусочек этого чудодейственного вещества, соли радия, помещенный в крохотную металлическую трубочку, можно вводить в полость рта, если в нем есть опухоль, в полость прямой кишки, пораженной раком, наконец, в толщу самой опухоли, оставлять там на определенный срок и вызвать таким образом разрушение раковой ткани.
Механизм действия лучей радия, возможно, в основном таков же, как и у лучей Рентгена, т. е. сводится к явлениям ионизации сложных белковых молекул живой клетки и живого вещества.
Путем долгих, многократно проверенных опытов установили, какие количества радиевой энергии требуются при различных формах рака в различных органах. Придумано множество способов и приспособлений, чтобы защитить от неблагоприятного влияния лучистой энергии радия окружающие опухоль нормальные здоровые ткани. Ведь лучи радия, особенно в больших дозах представляют опасность для организма еще большую, чем икс-лучи.
Это, разумеется, ограничивает применение спасительных свойств радия.
Что явилось бы особенно ценным в лечении радием? Интенсивное облучение, но в условиях, когда оно не приносит вреда организму.
Можно этого добиться? Для этого был создан особый прибор — радиевая пушка.
Это очень сложной конструкции аппарат, требующий для окружающих отдельного помещения и специальной защиты. Таким аппаратом обладают немногие учреждения мира. У нас он имеется пока только в Центральном онкологическом институте в Москве. Радиевая пушка еще находится в стадии испытания.
Лучи радия все глубже проникают в онкологию. Им также обязаны своим спасением многие люди.
Проблема срока
И хирургический нож, и лучистая энергия успешно борются с раковой болезнью. Все время идет совершенствование методов их применения. И теперь часто достигают успеха в таких случаях, когда еще сравнительно недавно все средства были бессильны.
Так, например, всего лет десять назад никто и не думал, что рак легкого — очень тяжелую болезнь — можно излечить, а тем более — с помощью лучей Рентгена. И такое положение являлось вполне понятным.
На какие виды опухолей действуют лучше всего рентгеновские лучи? На такие, которые расположены поверхностно. А опухоль легкого находится глубоко в грудной клетке. Чтобы рентгеновские лучи могли проникнуть туда, к опухоли нужно послать мощный поток лучей. Но подобное количество лучей, подобная доза прежде всего нанесет тяжелые повреждения коже, причинит ей большие ожоги. Этого допустить нельзя. Если же уменьшить силу лучей, то нужного действия на опухоль они не окажут. Вот почему никто и не брался лечить рак легкого рентгеновскими лучами.
Однако московский рентгенолог Диллон решил эту, казалось бы, неразрешимую задачу. Он нашел такой способ, при котором дозы даются огромные, — в шесть раз больше прежнего количества — и кожа не повреждается. Это оригинальный и остроумный способ.
Что делает полководец, если ему требуется собрать в одном пункте большое количество войск, ударный кулак, и в то же время надо провести всю операцию незаметно? Он направляет маленькие отряды из разных мест с таким расчетом, чтобы они все к определенному моменту соединились в одном пункте.
Диллон поступил подобным образом. Огромную дозу рентгеновских лучей он разбил на мелкие части и послал их на кожу одновременно с разных точек. Но брался не один участок кожи, как раньше делали, а 35 — 40 участков. Таким образом, на каждый участок пришлось сравнительно немного лучей. Направление всех лучей рассчитывалось так, чтобы все они, пройдя кожу, каждый на своем участке в дальнейшем пересеклись в одном месте — в районе опухоли легкого. Тогда на раковом очаге концентрируется вся огромная доза лучей. И кожа не страдает.
Этот способ можно назвать многопольным концентрическим облучением.
Применяя его, Диллон добился удачных результатов.
В тех случаях, где способ Диллона применить почему-либо не удается, советские врачи идут на то, чтобы удалить у больного с помощью операции часть легкого с опухолью. Если нужно, то удаляют и все легкое. Профессоры Вишневский, Казанский, Лимберг и другие хирурги делают такие поразительные операции с успехом.
Рак пищевода принадлежит к наиболее тяжелым, почти безнадежным заболеваниям. Такую опухоль надо немедленно вырезе
зать. Но тогда вместе с опухолью удаляется и большая часть пищевода. Пищевод уже не может выполнять свою функцию — пропускать в желудок пищу. Человек обречен на голодную смерть или, если его питать искусственно, на тяжелую инвалидность.
И вот эти еще недавно бывшие безнадежными случаи перестают быть безнадежными. Наши хирурги разработали такую технику операции, которая позволяет через брюшную и даже грудную полости удалять пораженный раком пищевод и на его месте создавать новый пищевод, искусственно образуемый из петли тонкой кишки. Высокое мастерство советской хирургии позволяет совершать эти чудеса.
Такие операции уже спасли и спасают жизнь людям, которые считались бы еще десять-двадцать лет назад обреченными на гибель.
Но очень большое число людей все же умирает, потому что ни операции, ни лучи Рентгена, ни радий им помочь не могут. Эти больные опоздали со своим обращением к медицине. У них болезнь развилась настолько, что ничего уже сделать нельзя. Самое тяжелое и непоправимое у них — метастазы.
При запущенных злокачественных опухолях с многочисленными метастазами не помогают ни операции, ни лучи Рентгена, ни радий, ни другие средства лечения.
Но все было бы иначе, если бы рак был обнаружен в самом начале своего развития.
Словом, проблема спасения больного со злокачественной опухолью прежде всего связана со своевременным обращением к врачу.
Больной должен обращаться к врачу возможно раньше, в самом начале заболевания.
Но, как сделать, чтобы обнаружить самые первые «шаги» рака? Можно ли найти способ, который позволил бы заглядывать в тайники организма и извещал бы о самом начале злокачественного роста?
Тысячи исследователей во всем мире много лет бьются над этой задачей. Она казалась слишком трудной.
И вдруг стало известно, что можно улавливать сигналы о появлении первых раковых клеток.
Клетка и луч
Берутся две небольшие стеклянные пластинки и на каждую наносится по капле жидких пивных дрожжей.
Что произойдет с дрожжевыми клетками в этих каплях, скажем, спустя три часа? Их количество одинаково увеличится в обеих каплях.
Причина совершенно ясна: дрожжевые клетки в каждой капле должны были за это время размножиться.
Если подсчитать сколько клеток было в начале опыта и сколько в конце, то результат покажет, что число их действительно одинаково увеличилось.
Возьмем теперь обыкновенную лягушку, и царапнем иголкой по прозрачной роговой оболочке ее глаза. Образуется ранка. А затем через несколько дней придвинем лягушку к одной стеклянной пластинке так, чтобы заживающая ранка очутилась на близком расстоянии прямо против дрожжевой капли.
Что произойдет через три часа после этого? Число дрожжевых клеток в капле увеличится. Это естественно: ведь размножение ее клеток продолжается.
Но вот что интересно. В капле, против которой находится раненый глаз лягушки, клеток окажется гораздо больше, чем во второй капле, около которой нет лягушки.
Почему? Ответ может быть один: глаз лягушки влиял на размножение дрожжевых клеток. Он заставлял эти клетки размножаться быстрее.
Но делать это он мог только одним способом: глаз, видимо, испускал какие-то лучи. Эти лучи и ускоряли размножение дрожжевых клеток.
Правильность такого предположения можно доказать довольно простым путем. Поставьте между глазом лягушки и той же каплей дрожжей обыкновенное стекло. И ускорения роста дрожжей в капле не будет.
Совершенно ясно, что стекло задержало что-то, что ускоряло размножение. А стекло, как известно, задерживает некоторые лучи.
То, что не было пропущено стеклом, должно быть, следовательно, лучами.
Можно даже установить точно, какие лучи не прошли через стекло. Замените стекло прозрачной кварцевой пластинкой, и усиленное размножение дрожжевых клеток тотчас возобновится. Кварц, как известно, пропускает ультрафиолетовые лучи.
Можно даже сказать, что именно в глазу лягушки испускает лучи. Это — роговица, точнее, клетки раненой роговицы.
Если бы глаз лягушки был цел, то никакого влияния на рост дрожжевых клеток он не оказал бы. Ускоряет рост дрожжевых клеток только раненый глаз.
Это значит, что лучи выделяются теми клетками роговицы, которые сами усиленно размножаются. А усиленно размножаться они должны для того, чтобы закрыть царапину, образовать рубец.
Клетки не раненой роговицы тоже выделяют эти лучи, но в гораздо меньшем количестве, в таком, что их недостаточно, как мы уже говорили, для заметного ускорения роста дрожжевых клеток.
То, что следует из всех этих данных, можно выразить в нескольких словах.
Клетки живого тела испускают какие-то своеобразные лучи и особенно сильно в момент размножения. Эти лучи заставляют
также усиленно делиться другие живые клетки. Поэтому они и получили название «митогенетические лучи».
Митогенетический — значит рождающий деление. Открыты эти лучи советским ученым профессором Гурвичем.
Эти лучи существуют в каждой делящейся клетке: у животных, у растений, у микробов.
Это открытие было сделано около тридцати лет назад.
Удивительная кровь
Изучение митогенетических лучей обнаруживало все новые и новые их чудесные свойства.
Дрожжевые клетки под действием лучей, исходящих из раненого глаза лягушки, ускоряли свое размножение. Но в это же время растущие дрожжевые клетки сами являются источником митогенетических лучей. А это в свою очередь увеличивавало быстроту деления клеток роговицы лягушки.
Если головастику лягушки отрубить хвост, то через некоторое время вырастет новый.
Но этот новый хвост вырастет гораздо быстрей, если против раны расположить рану другой лягушки, у которой тоже отсекли хвост. Энергично размножающиеся клетки обеих раненых поверхностей взаимно облучают друг друга митогенетическими лучами.
Хвосты у головастиков, поставленных друг против друга в подобном положении, отрастают раза в два скорее, чем в обычных условиях.
Если через лапку лягушки пропустить электрический ток, лапка дернется, так как сократятся ее мышцы.
Против капли дрожжей поместили лягушачью лапку и заставили ее сокращаться.
После ряда опытов удалось установить, что сокращение мышц резко увеличивает рост дрожжевых клеток. Значит, работающие мышцы также сильнее излучают чудесные митогенетические лучи.
Но в мышце, когда она работает, происходит распад глюкозы, распад виноградного сахара и другие превращения. Это все, в основном, химические процессы.
Так было установлено, что биохимические процессы в живом организме сопровождаются излучением.
Возникает совершенно естественный вывод, что кровь, в которой совершаются биохимические процессы, тоже должна являться источником митогенетических лучей.
Такое предположение подтвердилось в 1925 году, когда лабораторные исследования обнаружили, что кровь посылает лучи, подобные ультрафиолетовым. Это были те же митогенетические лучи.
Но ведь кровь не всегда бывает одного и того же состава, не всегда в ней происходят одни и те же биохимические процессы. Кровь человека, страдающего, например, малокровием, не совсем похожа на кровь здорового человека. А кровь тифозного больного в известной мере отличается от крови рахитика. Отражается ли такое различие на митогенетических лучах?
Начались работы по выяснению этих вопросов. Стало ясно, что тут могут скрываться очень важные факты.
И действительно, выяснилось, например, что кровь больных общим заражением, сепсисом, дает мало митогенетических лучей. Оказалось, что в детстве излучение сильнее, чем в зрелом возрасте. У стариков оно падает еще больше. У детей-рахитиков лучей тоже немного, но после лечения кварцем излучение возрастает. Туберкулез также снижает митогенетическое излучение; при выздоровлении оно становится интенсивнее.
При помощи этих лучей, следовательно, можно даже контролировать ход болезни: можно видеть — помогает лечение или нет. Если излучение усилилось, значит больной поправляется.
Появились новые интереснейшие данные. У психических больных, например, у шизофреников, митогенетических лучей мало. Эти люди замкнутые, неподвижные, унылые, с постоянной усталостью.
У другой категории — у маниакальных больных — излучение очень сильное. А маниаки — это вечно возбужденные, страшно непоседливые, непрерывно двигающиеся люди. Здесь мы видим еще одно яркое свидетельство роли в организме высшей нервной деятельности.
Отсюда возникло предложение: лечить шизофреников вливанием крови, взятой у маниаков.
Так шаг за шагом исследователи обнаруживали новые и неожиданные факты.
И вот однажды вдруг наткнулись на очень странное обстоятельство. У одной лабораторной мыши наблюдалось непонятное явление: ее кровь совсем не дала митогенетического излучения.
Что же это была за мышь? Чем она отличалась от других мышей? Она отличалась тем, что ей была привита злокачественная опухоль.
Мышь болела раком.
Сигналы вторжения
Значение этих фактов сразу стало ясно иследователям.
Опыты на раковых животных один за другим подтверждали, что излучение у них действительно отсутствует. Клетки рака можно прививать, переносить от одного животного на другое. Привившись, клетки растут и превращаются в злокачественную опухоль. Уже на второй или третий день после прививки мышам крохотного кусочка раковой ткани кровь их теряет способность испускать митогенетические лучи.
Еще даже самый зоркий глаз наблюдателя ничего не видит, никакой опухоли, а в крови излучение уже погасло.
У людей, заболевших раком и подвергшихся наблюдению, были обнаружены аналогичные явления.
Все это говорило о том, что раковые клетки, где бы они ни находились, выделяют какое-то вещество, которое тушит мито-генетические лучи.
Разумеется, такое чрезвычайно серьезное положение надо было подвергнуть проверке.
Простой, на первый взгляд, но очень наглядный способ проверки нашелся. Взяли каплю крови здорового человека и прибавили ее к капле дрожжей. В итоге ничего не изменилось. Дрожжевые клетки размножались как обычно.
Потом взяли каплю крови ракового больного и тоже прибавили ее к капле дрожжей. Размножение дрожжевых клеток остановилось и в течение нескольких дней клетки не делились.
Значит, в капле раковой крови было что-то такое, что погасило излучение дрожжевых клеток. А это прекратило их деление.
Итак, предположение подтвердилось. В крови раковых больных находился тушитель митогенетических лучей.
Чтобы определить, где вырабатывался этот тушитель, белой мыши подсадили под кожу кусочек раковой опухоли. Через сорок восемь часов митогенетические лучи в крови у нее погасли. Тогда удалили весь кусочек пересаженной раковой ткани до последней клетки. И после этого митогенетические лучи появились в своем прежнем объеме.
Этот опыт дал точный ответ: тушитель митогенетических лучей вырабатывался раковыми клетками. И для этого достаточно было только двух суток. Рост опухоли не успел еще по-настоящему развернуться, раковые клетки только начали размножаться, а лучи уже были погашены.
Найти способ получать сигналы о начале возникновения рака, найти способ узнавать о том, что митогенетические лучи в крови потушены — это явилось большим успехом науки.
Применение митогенетических лучей может стать методом самого раннего распознавания злокачественных опухолей. Если это произойдет, то такой метод окажется чрезвычайно ценным.
Немного статистики
Однако найти метод ранней диагностики рака — еще не значит полностью разрешить проблему борьбы со злокачественными опухолями.
Ведь нужно, прежде всего, чтобы больные приходили к врачам не тогда, когда они уже бесспорно больны, а тогда, когда заболевание дает еще только слабые, мало заметные, не очень тревожные симптомы.
Вот для кого митогенетические лучи явятся особенно полезными. А иногда и явятся спасением.
В одной из наших крупнейших больниц была произведена следующая работа. Врачи просмотрели архивы хирургического отделения за 1918 год и подсчитали, сколько из числа оперированных по поводу рака в том году выздоровело. Оказалось — 8 процентов.
При подсчете таких же данных за 1926 год выяснилось, что удачных операций было 30 процентов. Другими словами, число спасенных от рака человеческих жизней в 1926 году увеличилось почти в четыре раза.
Почему? Чем отличались между собой 1918 и 1926 годы? Оперировали другие хирурги? Способы операций были лучше?
Нет, и хирурги были те же и техника операций, хотя и улучшилась, но в основном оставалась такой же.
Понять смысл разницы в исходах операций помогает другая статистическая справка.
В 1918 году из каждых ста раковых больных обращались к врачам в ранней стадии заболевания 3 человека; в 1926 году — 60 человек. Теперь все становится понятным. Причина роста в 1926 году числа успешных операций заключалась в том, что больше производилось операций над начальными, недалеко зашедшими формами рака. Это значит, что в 1926 году больных, у которых можно было распознать злокачественные опухоли, доступные удалению, явилось к хирургу в ранней стадии болезни во много раз больше, чем прежде.
Когда недавно занялись изучением данных за последние годы по клиникам и больницам, то выяснилась очень поучительная картина. Одна из самых неприятных злокачественных опухолей — это рак желудка. Его не так скоро можно заметить. При этой болезни было 30 процентов выздоровления. При раке же матки — получилось 50 процентов. Рак матки более доступен для исследования, он легче поддается ранней диагностике. Еще более доступен исследованию рак языка. Здесь было 75 процентов исцеления. При раке молочных желез — 80 процентов. Еще выше оказалось число излеченных больных раком губы — 90 человек из ста.
30 процентов и 90 процентов! Эти цифры не могут не поразить.
Однако здесь нет ничего загадочного. Что доступнее осмотру, что не так глубоко укрыто, то скорее можно заметить.
Раньше замеченное заболевание раньше приводит больного к врачу.
Раннее обращение больных за медицинской помощью и оказалось чудодейственным.
Таким образом, можно сказать, что среди различных способов борьбы с раком существует еще один способ — способ санитарного просвещения, пропаганда среди населения научных сведений о злокачественных опухолях. Он заключается в умении направлять внимание людей, еще не чувствующих себя больными, на различные мелкие отклонения от нормального состояния в функциях их организма. В случае наличия таких отклонений сомнения должны разрешаться в лечебном учреждении.
Чем шире этот способ распространится, тем выше будет успех выздоровлений, так как тем скорее больные с начальными формами рака будут обращаться к врачам.
По пути иммунитета
Исследования самых последних лет указывают на еще один путь раннего распознавания и борьбы с раковой болезнью. В его основе лежит учение об иммунитете.
Известно, что под иммунитетом понимается невосприимчивость к болезням, вызываемым микробами, к инфекционным болезням. Человек или животное не может заболеть той болезнью, против которой у него имеется иммунитет.
Чем объясняется явление невосприимчивости? Живой организм обладает биологическими свойствами, позволяющими ему успешно защищаться от возбудителей болезни. Когда микроб попадает в тело человека, то благодаря регулирующей роли нервной системы приходят в действие все защитные приспособления организма. В крови появляются особые вещества, обезвреживающие как болезнетворные бактерии, так и продукты их жизнедеятельности, их токсины. Человек, перенесший какую-нибудь заразную болезнь, не только выздоравливает; у него вырабатываются в течение более или менее продолжительного времени защитные вещества против этой болезни.
Защитные вещества называются антителами, а то, что служит причиной их появления, в данном случае — микробы, носит название антигенов.
Каждый микроб вызывает появление только ему соответствующих антител. Антитела, как говорят, специфичны. Вот почему человек, не восприимчивый к одной болезни — к брюшному тифу, например, — может легко заболеть, окажем, дизентерией. У него имеется иммунитет против брюшного тифа, но не против дизентерии.
Учение о невосприимчивости, об иммунитете родилось из учения об инфекциях, о микробах. Исследователи сделали в этой области множество открытий, столкнулись с весьма тонкими и любопытными фактами.
Что такое микроб с химической, если можно так сказать, точки зрения? Это кусочек живого белкового вещества, имеющий определенную структуру. Значит, реакцию появления антител при инфекции можно рассматривать как реакцию на микробный белок.
Тогда встает другой вопрос. Не является ли антигенность, то есть способность вызывать защитную реакцию, свойством каждого белка, а не только того, из которого состоит микроб?
Оказалось, что это так. Введением различных белков теплокровным животным можно вызывать образование антител.
Так был установлен общебиологический закон, который гласил, что всякий чужеродный белок, попадая в организм животного или человека, влечет за собой появление определенных антител. Другими словами, против каждого чужеродного белка, попадающего в организм, возникает защитная реакция. Особенного внимания, как мы увидим дальше, заслуживает то обстоятельство, что повторное введение одного и того же белка вызывает более сильные, более резкие реакции, то есть вызывает более бурное образование антител.
Оказалось, что реакция защиты, вызываемая белками, специфична. Белок определенного вида вызывает образование только ему свойственных антител.
Как мы уже говорили, антитела находятся обычно в сыворотке крови. Следовательно, вводя тот или иной белок, можно затем путем специальных исследований, применяя специальные реактивы, обнаружить в сыворотке крови наличие образовавшихся антител.
Теперь, опираясь на все эти данные, вернемся к проблеме рака.
Наиболее важный признак рака — это рост. Рак — это растущая ткань. Как и всякая ткань, она состоит из белков. Но в теле человека, в период его роста, растут все ткани органов. Происходит ли при таком росте, при таком увеличении количества белков, образование в организме защитных веществ, противобелковых антител?
Нет, не происходит, так как белки нормальной ткани являются частью самого организма.
Но при раке дело обстоит иначе. Раковая ткань — это ненормальная, патологическая ткань. И состоит она из белков, отличающихся, как мы уже знаем, от нормальных белков. Раковый белок, следовательно, представляет собой для организма необычный, посторонний, как бы чужеродный белок.
А если так, то он должен вызвать в организме появление противораковых антител.
И, действительно, проф. Л. А. Зильберу удалось подтвердить многочисленными опытами на лабораторных животных, что у больных злокачественными опухолями можно обнаружить наличие специфических раковых антител.
Доказано было это таким образом. Морской свинке под кожу ввели раковую ткань человека. Совершенно понятно, что у животного должны были выработаться антитела против чужеродного белка. Но одного ли типа антитела?
Нет, не одного, а двух типов.
В самом деле. Ведь кусочек опухоли, введенный свинке, содержит не только раковый белок, но и нормальный так, называемый видовой белок человека, из ткани которого опухоль выросла. Значит, в кусочке раковой ткани имеется белок раковый и белок нормальный, видовой человеческий, т. е. имеются два рода антигенов. А мы знаем, что каждый антиген вызывает только ему свойственные антитела. Значит, в организме морской свинки образовались одни антитела против ракового белка и другие — против видового человеческого белка.
Чтобы понять яснее дальнейшее, надо иметь в виду следующее. Появление в организме антител — это значит усиление защитных средств, а тем самым усиление реакции, увеличение чувствительности к тем антигенам, которые служат причиной появления антител. Чувствительность бывает обычно такой высокой, что при повторном введении животному раковой ткани возникает особое болезненное состояние, даже угрожающее жизни, острое шоковое состояние.
А в связи с шоковым состоянием происходит другой процесс. Антитела истощаются, как бы исчезают. И тогда организм становится на более или менее продолжительный срок нечувствительным к тому антигену, который еще недавно был причиной шока.
Теперь вернемся к морской свинке, которой ввели кусочек раковой ткани человека.
Как мы знаем, у нее образовались два типа антител: противораковый и видовой, против человеческого белка.
Зададим себе вопрос: можно ли после первого введения животному раковой ткани человека устранить видовые антитела так, чтобы остались только противораковые?
Сделать это оказалось возможным. Чтобы добиться цели, надо такому животному ввести белок только нормальной человеческой ткани. Шок наступит, но благодаря особому способу введения белка, он будет не опасный, слабый. Однако и подобного шока достаточно, чтобы произошло истощение видовых антител, т. е. потеря чувствительности к нормальному человеческому белку. Если нормальный человеческий белок снова ввести этому животному, никакой реакции не будет.
Так и поступил проф. Зильбер с морской свинкой, которой ввели раковую ткань. Введением по особому способу нормального человеческого белка он вызвал у нее слабый шок. После этого свинка потеряла чувствительность к видовому, нормальному человеческому белку. Реакция на такой белок в дальнейшем у нее уже не обнаруживалась. Но у нее сохранилась в полной мере чувствительность к раковому белку.
Что будет, если такой морской свинке ввести раковую ткань тоже повторно, но не применяя никакого особого способа введения? У животного наступит острое шоковое состояние и притом того типа, который свойствен только раковому фактору. Значит, реакция на раковый белок обнаружится.
Подобные опыты, проделанные с морскими свинками, дали действительно соответствующие результаты.
Отсюда намечаются практические выводы. Введение кусочка человеческой опухоли, подозрительной по злокачественности, лабораторному животному, у которого устранена чувствительность к видовому человеческому белку, будет решать вопрос о характере опухоли. Бели у животного наступят шоковые явления, значит здесь нужно говорить о раке.
Так работы профессора Зильбера и его сотрудников намечают пути создания нового метода распознавания, диагностики раковых заболеваний.
Неустанные поиски
Медицина обладает очень действенным оружием, чтобы помочь больным со злокачественными опухолями. Для этого пользуются операциями, лучами Рентгена и радия. Но, как мы уже говорили, при опоздании не всегда и этими средствами удается добиться успеха.
Совершенно естественно, что во всех лабораториях и клиниках, связанных с проблемой рака, идут неустанные поиски новых средств воздействия на болезнь. Мысль ученых напряженно работает над решением трудной задачи. Особенно интересны те попытки и предложения, которые показывают, что ученые пытаются найти и использовать для уничтожения злокачественной опухоли возможности, таящиеся в самом организме.
Существует у человека так называемая вилочковая железа. Она помещается за грудиной. Но если произвести вскрытие человека, умершего например, в возрасте 30 — 35 лет, то никакой вилочковой железы сзади грудины не окажется. Объясняется это тем, что вилочковая железа функционирует только в первые два десятилетия жизни человека. Уже в юношеском возрасте наступает ее атрофия — постепенное уменьшение и исчезновение.
Известно, что рак у молодых людей встречается гораздо реже, чем у людей старшего возраста. Нельзя ли причину такого положения видеть в том, что вилочковая железа каким-то образом мешает развитию рака? Тогда не попробовать ли вводить в организм при обнаружении рака препарат вилочковой железы?
Некоторые онкологи стали работать над этой проблемой.
Известные успехи от применения препарата вилочковой железы были получены. Однако они не были значительными.
Соединительная ткань, особенно так называемая ретикуло-эн-дотелиальная ткань чрезвычайно важна для защиты организма от всего постороннего, вредного. Селезенка очень богата ретикуло-эн-дотелиальной тканью. Нельзя ли усилить борьбу организма с раковой болезнью путем введения в него экстракта селезенки?
Общее состояние больных улучшалось при таком лечении. Но остановка роста опухоли, а тем более ее обратное развитие наблюдалось очень редко, и то обычно в случаях, когда врачи добавляли к этому еще и рентгеновские лучи. Собственно говоря, неизвестно было, что именно давало здесь успех — экстракт селезенки, лучи Рентгена или еще что-нибудь. Больших надежд применение селезенки не оправдало.
Некоторые ученые пробовали лечить рак по тому же принципу, по которому лечат, например, брюшной тиф, — вспрыскиванием вакцины, т. е. препаратов из ослабленных или мертвых брюшнотифозных микробов. Действие вакцины при том или ином инфекционном заболевании объясняется следующим образом. Защитные силы организма легко справляются с ослабленными или убитыми микробами. После этого организм успешнее борется и с живыми, неослабленными, микробами.
Следуя этому принципу, ученые стали прививать маленькие кусочки опухолей раковым больным. Нельзя сказать, что результаты такого вмешательства отсутствовали. Описаны случаи, когда злокачественные опухоли, значительно разросшиеся, постепенно исчезали после подобной пересадки. Но это были лишь отдельные случаи.
Довольно благоприятные данные получены от лечения гормонами — веществами, вырабатываемыми органами внутренней секреции. При впрыскивании экстракта некоторых желез внутренней секреции раковым больным злокачественные опухоли, особенно в области половых органов, останавливались в росте начинали уменьшаться и в некоторых случаях наступало полное выздоровление. Хотя успехи применения гормонов пока очень ограничены, но поиски в этой области продолжаются.
Очень действенными оказались новые средства, найденные советскими учеными для борьбы с отдельными видами злокачественных опухолей. Так, против раковой опухоли, развивающейся в кожной ткани, все чаще применяется теперь особый препарат — «жидкость Гордеева», названная по имени предложившего ее ученого. Эту жидкость вводят специально сконструированным шприцем в самое вещество опухоли и вокруг нее, на границе со здоровой тканью. Действие этой жидкости заключается в том, что она вызывает особый воспалительный процесс, в результате чего наступает гибель злокачественных элементов опухоли. На месте опухоли образуется обычный рубец.
Ленинградский онколог профессор Ларионов вместе с профессором Ленинградского технологического института химиком Немцем изготовил препарат, который получил название эмбихина. Он принадлежит к особым химическим соединениям — хлорэтил-аминам. Профессор Ларионов проделал с ним на животных, пораженных раковой опухолью, множество опытов. В результате было твердо установлено, что эмбихин обладает лечебным действием при ряде тяжелых заболеваний лимфатической системы. Весьма существенным явилось то обстоятельство, что этот препарат задерживал рост злокачественных опухолей некоторых отделов лимфатической системы, а затем вызывал и полное их рассасывание.
Как мы видим, и жидкость Гордеева, и эмбихин Ларионова представляют хорошие средства для лечения кожных раков и ряда злокачественных заболеваний лимфатической системы.
Мы перечислили только небольшую часть средств, предложенных против рака. Вместе с прежними, испытанными способами — хирургическими, рентгеновскими лучами и лучами радия — они спасают множество жизней. И все же этого недостаточно. Еще очень много людей гибнет от раковых заболеваний.
Разумеется, такое положение не может удовлетворить исследователей. Перед ними встает вопрос: как найти новые пути борьбы с раковой болезнью, такие методы лечения, при помощи которых можно было бы останавливать в самом начале развитие злокачественной опухоли, а — еще лучше — не допускать ее возникновения?
Существуют ли такие пути?
В настоящее время в некоторых онкологических лабораториях ведутся работы, которые открывают весьма обнадеживающие перспективы. Эти работы связаны с изучением таких специфических противораковых антител, которые были открыты профессором Л. А. Зильбером в крови заболевших раковой болезнью и о которых мы уже говорили. Эти работы сейчас привлекают серьезное внимание онкологов.
Мы знаем, что микроб, попавший в организм, вызывает инфекционное заболевание. В то же время происходит образование антител, защитных веществ. Антитела так влияют на микробов, что они гибнут в организме. Тогда заболевание прекращается. Наступает выздоровление.
Когда начинается раковая болезнь, то в организме тоже появляются специфические антитела. Однако оказывается, что, несмотря на наличие противораковых антител, раковая опухоль продолжает расти.
Причина этого заключается в слабом действии противораковых антител. Дело в том, что раковый белок человеческой опухоли, хотя и отличается от нормальных белковых организмов, но не очень сильно. Отсутствие резкого различия между раковым и нормальным белками ведет к тому, что при раковой опухоли иммунологические реакции слабо выражены, раковый белок не вызывает сильной защитной реакции организма. В результате, раковая опухоль может расти беспрепятственно.
К тому же есть основание полагать, что раковая ткань вырабатывает какие-то вещества, которые делают ее неуязвимой по отношению к защитным средствам организма. Но и этого мало. Оказывается, что злокачественная опухоль выделяет вещества, способствующие ее распространению и подавляющие сопротивление окружающих тканей.
Вот эти обстоятельства, поводимому, и обусловливают слабое действие противораковых антител.
Как же изменить такое положение? Можно ли добиться того, чтобы развитие раковой опухоли вызывало резко выраженную защитную реакцию со стороны организма? В этом направлении уже получены первые обнадеживающие результаты.
Установлено, что, применяя некоторые биологические и физические агенты, можно добиться значительного усиления защитных средств организма в такой степени, что во многих случаях развитие ракового заболевания приостанавливается. Так, например, действует облучение небольшими дозами рентгеновских лучей. Точно так же и некоторые препараты, вызывающие лихорадочное состояние и активное воспаление, обладают способностью останавливать рост опухолей. Подобный эффект дают иногда и малые потери крови. Кроме того, исследования профессора Зильбера намечают возможность специфических прививок против раковой болезни.
Разумеется, все это только первые шаги, первые попытки. Однако они рождают вполне обоснованные надежды.
Конечно, не надо забывать, что любое мероприятие, любой лечебный фактор действенны не сами но себе. Их эффективность определяется той общей реакцией, которую они вызывают в организме. Незыблемым остается положение, что главную роль в появлении и развитии раковой болезни играет общее состояние всего организма как единого целого. Только взаимодействие всех его частей, управляемых и регулируемых нервной системой, способно воспрепятствовать развитию патологического процесса, в том числе и росту злокачественной опухоли.
Предрак
Есть одно обстоятельство, которое открывает перед онкологами ценные перспективы. Оно уже нам известно. Это — наличие предракового периода, или, как его сокращенно называют, пред-рака.
Поставим такой вопрос: может ли у человека, совершенно здорового, вдруг появиться раковая опухоль? Нет, никогда. Нормальные клетки и ткани не могут давать злокачественного роста.
Изучение процессов, совершающихся в тканях, в которых развилась и развивается опухоль, установило бесспорно, что рак развивается, появляется только в патологически измененных тканях. Лишь при этом условии и может начаться рост злокачественной опухоли.
Но отчего происходят эти нарушения и изменения? Разумеется, под влиянием каких-нибудь вредно действующих факторов. Такое неблагоприятное воздействие, сказывающееся прежде всего, на нервной системе, должно осуществляться в течение длительного времени. Тогда в живом веществе клеток и тканей постепенно наступают изменения, которые, в конце концов, ведут к гибели клеток. Взамен погибших клеток вырастают новые, которые могут обладать большой быстротой роста.
Здесь наблюдается одно очень интересное явление. Вещества, образующиеся в результате разрушения клеток, способствуют формированию молодых клеток. Можно сказать, что смерть старого является условием появления новой жизни.
Но у новых клеток, вырастающих под длительным влиянием тех же отрицательных факторов, свойства начинают постепенно меняться. Это уже не совсем те клетки, которые развиваются и выполняют свои функции в нормальных для жизни условиях. Они приобретают способность быстро размножаться, становятся недолговечными.
Таким образом, появляются клетки, готовые к полному превращению в клетки, образующие раковую опухоль.
Это и есть предраковое состояние.
Из всего изложенного понятно, что если научиться вмешиваться в раковую болезнь в предраковом периоде, то будет реальная возможность прекратить развитие злокачественной опухоли.
Знание того, что происходит в предраковый период открывает перед медициной огромные перспективы профилактики рака.
Первые результаты
Распространен ли в настоящее время рак трубочистов в Англии или в других странах?
Нет, кожный рак трубочистов почти совершенно исчез. И вполне понятно почему. Техника отопления изменилась. Теперь не нужно прочищать дымоходы прежними способами и трубочисты не лезут в дымоходы каминов.
Когда были созданы первые рентгеновские кабинеты, то через несколько лет у тех, кто работал с рентгеновскими лучами нередко стал обнаруживаться рак ксжи. Это было результатом длительного действия лучистой энергии. Теперь кожный рак такого происхождения не встречается. Введение специальных приспособлений, не пропускающих рентгеновские лучи к коже рентгенологов, уничтожило это заболевание.
На часовых заводах у работниц, которые изготовляли светящиеся циферблаты, начал наблюдаться рак десен. Материал, которым покрывали цифры, состоял из радиоактивной смеси. Наносится такая смесь тонкой кисточкой. Чтобы сделать кончик кисточки заостренным, работницы обсасывали его ртом; у некоторых из этих работниц, и появлялся рак десен или языка.
Когда устранили необходимость прибегать к обсасыванию кисточек губами и радиоактивная смесь, содержавшая, видимо, канцерогенные, ракообразующие, вещества, перестала попадать в рот работниц, раковые заболевания у них исчезли.
У людей, много лет работавших на производстве анилиновых красок, нередко встречался рак мочевого пузыря. Почему? Потому что анилин, вдыхаемый в виде пара вместе с воздухом, выделяется из организма через мочевые пути. Дольше всего он находится в мочевом пузыре. Когда приняли меры для того, чтобы пары анилина не вдыхались с воздухом, этот вид рака почти исчез. Подобным образом обстоит дело и еще с целым рядом так называемых профессиональных раков.
Но есть ряд обстоятельств, связанных не с профессией, а с привычкой, с бытовыми явлениями, с какими-нибудь дефектами организма. Они тоже представляют собой факторы, которые служат причиной изменений и нарушений в тканях и клетках, т. е. вызывают предраковые процессы. Так, зубы с острыми выщербленными краями повреждают слизистую оболочку языка, на ней образуются язвочки, трещины, хроническое воспаление. В этих пострадавших местах клетки повреждаются. В таких местах может возникнуть злокачественная опухоль. Но если своевременно привести в порядок зубы и вылечить слизистую языка, то рак в этой области будет предупрежден.
При опытах с сухой перегонкой табака получается вещество, подобное дегтю. Если его втирать многократно лабораторным животным, то в месте втирания появляется раковая опухоль. Значит, в табаке содержится канцерогенное начало. Его обнаружили и в перегаре, оседающем в мундштуках трубок и папирос.
Теперь понятно, что курение на протяжении десятков лет может являться моментом, способствующим возникновению рака. Прекращение курения — это, таким образом, прекращение возможности наступления предракового периода, а в дальнейшем, может быть, и рака.
Что может повлечь за собой хроническое воспаление слизистой оболочки пищевода или желудка, например, вызванное систематическим обжиганием чрезмерно горячей жидкостью, крепкой водкой, грубой и плохо разжеванной пищей? Это может привести к раковому заболеванию. Значит, правильный режим питания предупреждает появление предраковых изменений слизистой этих органов.
Незаживающие трещины кожи, ссадины, язвы, внезапно начинающие расти бородавки — все это не что иное, как нарушение нормального состояния ткани. Они создают почву для раковых превращений клеток. Лечение подобных дефектов — это предохранение от опасности злокачественных опухолей.
Конечно, мы перечислили не все виды предракового состояния и не на все причины появления его мы указали. Но и того, что было сказано достаточно, чтобы (поставить вытекающий из всего изложенного вопрос. И даже ответить на него.
Что было бы, если удалось бы каждого, имеющего предраковые изменения, лечить до того, как у него образовался рак? Совершенно ясно, что тогда зловещая цифра раковых больных резко сократилась бы. Появление злокачественной опухоли стало бы редкостью. Рак мог бы считаться побежденным.
Вот что дает в руки врачей знание предракового периода.
Не будь его, обладай клетки рака способностью возникать сразу из клеток нормальной ткани, дело обстояло бы во много раз хуже.
Говоря о борьбе с раком путем профилактики, нужно сделать еще одно замечание.
Мы знаем, что из здоровых клеток злокачественная опухоль возникать не может. Следовательно, значительная доля успеха заключается в том, чтобы не допускать ни ослабления всего организма, ни нарушения нормальной работы отдельных органов, ни преждевременного старения.
Лучший способ достигнуть этого — гигиенический образ жизни, в частности физкультура, спорт, гимнастика. Постоянные и систематические упражнения утром и вечером поддерживают обмен веществ, питание клеток, предохраняют ткань от нарушений и изменений.
Так, устраняя шаг за шагом все, что может явиться очагом будущей опасности, мы можем ставить преграды появлению злокачественной опухоли.
Спасенные жизни
Итак, если бы все случаи предракового состояния попадали в поле зрения врачей, то можно сказать с полной уверенностью, что раковая болезнь была бы почти ликвидирована.
Почему же этого нет? Почему раковая болезнь продолжает уносить много жертв?
По очень простой причине. К сожалению, не все люди обращают должное внимание на некоторые исподволь наступающие в организме изменения. Выход представляется один. Если кандидаты в раковые больные не идут к врачу и не знают, что им следует делать, врач должен сам пойти к ним. Он должен сам отыскать их. А каким образом? Где он их найдет?
Для этого надо производить обследование, не дожидаясь приглашения. Нужны массовые осмотры. Вот где эти кандидаты найдутся. Массовые осмотры дадут возможность выявлять людей не только с имеющимися уже опухолями, но и с предраковыми изменениями.
Массовые обследования — вот ценнейший метод борьбы с раковой болезнью.
Ленинградский онкологический институт занялся этим мероприятием еще до Великой Отечественной войны. Специально подготовленный медицинский персонал проверял состояние здоровья рабочих и служащих целых фабрик и заводов. Остановленная войной эта работа после победы над гитлеровской Германией возобновилась.
Что же дала эта огромная работа? Обнаружили врачи хоть один случай злокачественной опухоли? Да, обнаружили несколько десятков людей, у которых имелась начальная форма рака, несомненно, проявившаяся бы в ближайшее время, если бы не у всех, то у многих из них.
К моменту осмотра опухоли еще не успели ни прорасти в соседние ткани, ни, тем более, дать метастазы. Следовательно, этим людям можно было оказать своевременную помощь так, чтобы ни один из них не пережил трагедии неизлечимости заболевания, ни один не погиб.
Произведенный осмотр, несомненно, спас жизнь многих людей.
Если бы врачи сами не пришли к ним, эти люди, надо думать, были бы жертвами раковых заболеваний.
Вот что дают уже теперь массовые обследования. По мере их распространения и улучшения самой постановки дела благодетельные результаты будут, несомненно, повышаться.
Не надо забывать, что в нашей стране как нигде распространено санитарное просвещение, читаются тысячи лекций, расширяется пропаганда правильного отношения к вопросам охраны здоровья. Основной тезис профилактики рака, заключающийся в том, что каждый человек, достигший 35 — 40 лет, должен являться к врачу для осмотра хотя бы раз в год, даже чувствуя себя совершенно здоровым, — этот тезис становится все более и более популярным.
В результате всего этого несомненно, что в настоящее время число раковых заболеваний, а тем более смертей от них, будет в нашей стране неуклонно падать. Быть может, не так уже далеко время, когда обследования охватят все население. И тогда каждый случай смерти от рака будет рассматриваться, как чрезвычайное происшествие, как редкий случай ошибки или недопустимого просмотра.
Таковы перспективы нового пути в борьбе против злокачественных опухолей.
Ученым, который в Советском Союзе особенно многое сделал для успеха профилактической борьбы с злокачественными опухолями, является крупнейший и старейший онколог нашей страны, заслуженный деятель науки, действительный член Академии медицинских наук, член-корреспондент Академии наук СССР Николай Николаевич Петров. Он является инициатором и неутомимым пропагандистом дела, связанного с вопросами предупреждения рака.
Наряду с ним ту же работу выполняют десятки профессоров, тысячи врачей.
Нет сомнения, что общими усилиями грозный враг будет побежден.
Основа успеха
В условиях советского строя имеются наиболее благоприятные условия для лечения и предупреждения раковых заболеваний, но все еще остается неизвестным медицине главное: основная причина возникновения злокачественной опухоли, то, что вызывает в клетках и тканях патологическое состояние, сообщает им неудержимый рост и превращает нормальную ткань в ткань раковую.
Конечно, напряженная работа ученых сделала много. Установлено наличие различных канцерогенных веществ, выяснены условия, ускоряющие развитие опухолей, созданы средства борьбы с отдельными формами этой болезни, выработаны лечебные методы, спасающие множество человеческих жизней. Но главное звено раковой проблемы все же не раскрыто.
Надо полагать, это объясняется тем, что исследователи, занимавшиеся до сих пор изучением- злокачественных опухолей, не уделяли должного внимания роли нервной системы в происхождении и развитии ракового заболевания. Теперь, в свете трудов великого физиолога И. П. Павлова и его сотрудников и продолжателей, нам совершенно понятно, что без выяснения участия нервной системы в процессах злокачественного роста происхождение и течение раковой болезни по-настоящему не могут быть раскрыты.
И в самом деле. Что происходит, по существу, в ткани, из которой растет злокачественная опухоль? В ней меняются, как мы знаем, биохимические процессы, нарушается соотношение питательных веществ, их переработка. Все это говорит о глубоком нарушении регуляции обмена веществ. А ведь регуляцией его ведает нервная система. Следовательно, важнейшим, решающим моментом в процессах, разыгрывающихся в злокачественной опухоли, является роль нервной системы.
Опыты профессора М. К Петровой, долголетнего и ближайшего сотрудника Павлова, давно уже приводили к такому закономерному заключению. Особенно показательными были эксперименты с группой собак, нервная система которых подвергалась продолжительному, в течение многих лет, и чрезмерному перенапряжению, постоянным психическим травмам, делавшим животных тяжелыми невротиками и приводившим к резкому нарушению у них деятельности коркового слоя головного мозга. У этих собак появлялся также кожный рак. И не только кожный. Еще при жизни, а главным образом на вскрытиях после смерти у них находили как доброкачественные, так и злокачественные опухоли в различных внутренних органах и на разных стадиях развития — от едва намечавшихся опухолей до полностью развившихся.
Все это происходило в результате чрезмерной непосильной и длительной перегрузки нервной системы.
Было установлено еще одно интересное обстоятельство. Если начинали своевременно лечить таких животных-невротиков, например препаратами брома, то опухоли — кожные, во всяком случае, постепенно уменьшались или переходили в доброкачественную форму.
Это результат воздействия на болезнь через посредство нервной системы.
Были проделаны опыты и с канцерогенными веществами. Его вводили экспериментальным животным: собакам, мышам. И оказалось, что во многих случаях, там, где кора головного мозга животных сохранялась от перераздражения, от патологического состояния, опухоли не появлялись, а если и появлялись, то почти всегда вскоре рассасывались.
Таким образом, приходила к выводу в своей работе профессор Петрова, ведущим звеном в образовании злокачественных опухолей является состояние центральной нервной системы. Возможность возникновения рака зависит в основном от процессов, связанных с функциями больших полушарий головного мозга.
Это вполне соответствует учению Павлова о всеобъемлющей роли нервной системы во всех функциях организма, нормальных и патологических.
Полный успех в изучении причин происхождения и развития злокачественных новообразований и в отыскании мер борьбы с ними может быть достигнут только на основе положений павловского учения. Лишь на этих путях найдет свое место, свое объяснение и свое применение все то, что открыто до сих пор в области онкологии: мы имеем в виду и канцерогенные вещества, и химические агенты, и местное раздражение, и профилактические мероприятия, и особенно — данные из биологии клетки и живого вещества.
И тогда, надо думать, проблема рака перестанет, наконец, быть проблемой.
Советская медицина, развивающаяся на путях павловской физиологии, безусловно, выполнит эту задачу.
Наилучшие условия
Рак — болезнь социальная. Ее возникновение и распространение зависят во многом от социально-бытовых условий, от вошедших в быт привычек, от общих внешних обстоятельств, от факторов профессионального порядка.
Следовательно, изменяя социально-бытовой уклад жизни, улучшая быт, питание, повышая культуру населения, совершенствуя охрану труда, можно сделать борьбу с раковой болезнью чрезвычайно эффективной.
Социальная болезнь требует для своего искоренения соответствующих социальных мероприятий.
Приведем небольшую справку. Сравнительно недавно в Англии были опубликованы данные о том, какой процент общей смертности составляет смертность от рака. Оказалось, что на каждые 100 000 жителей умирает больных из зажиточных групп — 146 человек. А чернорабочих 203 человека.
О чем свидетельствуют такие цифры? О том, конечно, что в капиталистических странах условия, в которых живут трудящиеся, влекут за собой резкое повышение как заболеваемости раком, так и смертности от него.
Так же обстоит дело с профилактикой рака. Можно ли говорить, например, об улучшении режима питания, о подъеме культурного уровня, о гигиене быта там, где массы рабочих живут впроголодь, в лишениях, где безработица, всегда существующая в большей или меньшей степени, обрекает миллионы на нищету и бездомность? Разумеется, нет. В буржуазных странах сам социальный строй является как бы фактором канцерогенности, фактором, способствующим увеличению числа раковых больных.
Только в Советском Союзе и в странах народной демократии, где из года в год множится богатство, принадлежащее всем трудящимся, растет благосостояние всего населения, могут быть проведены мероприятия, не допускающие возникновения раковой болезни.
Профилактические обследования призваны сыграть решающую роль в борьбе с раковыми заболеваниями. Как же организовано это важнейшее мероприятие за рубежом? Кто им занимается?
В Соединенных Штатах Америки, самой богатой капиталистической стране, противораковые мероприятия проводятся преимущественно частными клубами и благотворительными обществами. Вот кем собираются средства для покрытия расходов по этим мероприятиям. Успех дела зависит от щедрости дам-патронесс, от прихоти богачей. Совершенно очевидно, что подобный характер организации дела, случайность и неопределенность его материальной базы, не могут сулить большие надежды. Конкуренция врачей между собой тоже не является обстоятельством, улучшающим судьбы раковых больных. При всем этом каждый обследуемый должен уплатить за осмотр два доллара. Для того, чтобы пояснить, что значит в бюджете рабочего два доллара, напомним, что некоторые категории безработных получают пособие полдоллара в неделю.
Само собой разумеется, что такое ценное, спасительное для многих людей начинание, как профилактическое наблюдение, в той же Америке не получает и не может получить должного размаха. Так, например, в одном из крупнейших городов Соединенных Штатов, в Филадельфии, за 1944 — 1946 годы подверглись осмотру 4 203 человека. Для сравнения укажем, что за вторую половину одного лишь 1946 года только на 53 ленинградских предприятиях было обследовано 26 140 человек.
В Советском Союзе дело обстоит иначе. Наше правительство выделяет огромные средства на противораковые мероприятия. Весь медицинский персонал дружно ведет работу по борьбе с раком.
Для лучшего выполнения этой задачи к участию в ее разрешении привлечена Всесоюзная организация Красного Креста. 15 миллионов ее членов — вот актив санитарных работников, ведущих не только противораковую пропаганду, но и непосредственное наступление на рак. Это позволяет предпринимать осмотр больших контингентов населения, проводить, например, обследование подряд всех взрослых жителей целых городских улиц. И это делается, разумеется, без какой-либо оплаты за осмотр со стороны обследуемых.
Вот почему мы с гордостью говорим, что только социалистический строй создает условия, которые ведут к полному уничтожению грозного врага человечества, к полной победе над злокачественными опухолями.
Глава одиннадцатая. НАЙДЕННЫЕ СВЯЗИ
На водах
В романе Льва Толстого «Анна Каренина» у одного из главных действующих лиц, у Кити Щербацкой, произошел разрыв с офицером Вронским, которого она любила. Вронский увлекся Анной Карениной и перестал бывать в доме Щербацких.
Наступает крушение любви и счастья Кити. И вот молодая девушка худеет, теряет силы, как бы тает. Так проходит несколько месяцев. Ее посещают доктора, выслушивают, выстукивают; устраивают консилиумы. Но удивительная вещь: Кити слабеет с каждым днем, а доктора никаких заметных изменений не находят ни в легких, ни в печени, ни в нервной системе, ни в области сердца. В то же время деятельность этих органов, несомненно, нарушена.
Наконец, доктора решают отправить ее на курорт — на воды, как тогда говорили.
По великосветскому обычаю того времени, знать чаще всего ездила лечиться на заграничные курорты. И Кити отправляется в Германию, в городок Соден, известный своими минеральными источниками.
Через несколько месяцев она возвращается домой совершенно поправившейся. На ее щеках снова румянец; она прибавила в весе, исчезла угнетенность, вернулась живость, бодрость. Кити становится здоровой, как прежде.
Что же здесь произошло с врачебной точки зрения? То, что Кити худела, слабела, говорило об изменившейся работе внутренних органов, о нарушении обмена вещества в тканях, о неправильной функции клеток.
Так обстояло дело до путешествия на воды.
На водах Кити стала поправляться. Это значит, что деятельность внутренних органов начала принимать нормальный характер. Но отчего? Что изменилось в условиях жизни Кити? Изменились внешние обстоятельства. Появились новые люди, с которыми она встретилась на курорте, вокруг нее была другая природа. Иначе говоря, изменилась окружающая обстановка.
Но какое отношение эта внешняя обстановка имеет к работе внутренних органов? Разве перемена общества или переход от широких, необозримых просторов русской равнины к гористой местности, где расположен город Соден, новые впечатления, встречи могут влиять на деятельность внутренних органов, например печени или щитовидной железы?
Загадочный случай
Летом 1940 года миллионер Джонсон решил позволить себе отдых и стал советоваться с врачами. Врачи, получавшие у биржевика хороший гонорар за свои визиты, принялись тщательно изучать его здоровье. Самыми точными, самыми совершенными способами были исследованы сердце Джонсона, легкие, печень, желудочно-кишечный тракт, органы внутренней секреции, нервная система. Все оказалось в полном порядке. Точные лабораторные анализы мочи и крови показали, что миллионер совершенно здоров. Но все же врачи добавляли в заключение, что ему было бы полезно поехать попутешествовать, освежиться.
Смит Джонсон действительно чувствовал себя великолепно. Обращение же к врачам, возня с исследованиями и анализами все это только показывало, что он понимает, как должен заботиться о своем здоровье очень богатый человек. Точно так же он считал предписанное ему летнее путешествие неотъемлемой принадлежностью образа жизни миллионера.
Джонсон назначил уже день своего отъезда в Южную Флориду, оттуда в Калифорнию.
И вдруг, за два дня до того, как он должен был сесть в поезд, произошло непредвиденное событие: биржевой крах. Акции, которыми владел Джонсон, обесценились и стали стоить немногим больше, чем бумага на которой они были напечатаны. Джонсон разорился. Но интересно не это. Дело в том, что Джонсон стал ощущать какую-то физическую слабость, необъяснимую даже с учетом перенесенного им потрясения. Он быстро уставал, с трудом поднимался даже на второй этаж. У него появился кожный зуд, мучительный, не успокаивающийся, появилась странная неутолимая жажда. И все эти явления постепенно нарастали.
Биржевик обратился к врачам. Теперь это была уже не прихоть миллионера, а вопрос жизни.
Врачам не понадобились долгие и тщательные исследования. По всем признакам диагноз болезни вырисовывался довольно ясно. Анализ мочи и исследование крови подтвердили предположение: у Джонсона оказалась сахарная болезнь, диабет в очень резко выраженной форме.
Это значило, что поджелудочная железа перестала правильно функционировать.
Но откуда и каким образом появился диабет? Ведь за две недели до этого, когда Джонсон собирался путешествовать, никаких симптомов болезни у него не было. Щедро оплачиваемые миллионером врачи и профессора тщательно проверили состояние его здоровья, работу всех органов, в том числе и поджелудочной железы. Никаких отклонений от нормальных функций в организме Джонсона тогда не было. Никаких признаков сахарной болезни не нашлось.
Диабет, который обычно развивается исподволь, довольно медленно, у Джонсона возник внезапно, сразу же после биржевого краха.
Спрашивается: какая связь между разорением биржевика и работой поджелудочной железы?
Два упражнения
Человеку пришла мысль — поднять голову и посмотреть внимательно на фасад дома, расположенного на другой стороне улицы. Он исполняет свое желание. В лесу он хочет протянуть руку к дереву и протягивает ее, он ускоряет шаг, он расправляет плечи и широко дышит, наполняя легкие чудесным лесным воздухом. Ему приятно, ему хочется улыбнуться, и вот мышцы его лица складываются в улыбку.
Все это — произвольные процессы, зависящие от воли человека.
Процессами произвольного характера управляет та часть центральной нервной системы, которая называется корковым слоем, или просто корой головного мозга, те центры, которые помещаются в извилинах коры. Кора в то же время является органом психической жизни, органом, где формируются наши желания, ощущения, представления.
Но есть в организме широчайшая область процессов непроизвольных, от сознания, от воли не зависящих: например, деятельность печени, почек, желудка, кишечника, желез внутренней секреции; множество функциий, участвующих в кровообращении, в обмене вещества. Эти процессы имеют первостепенное значение для организма животных и человека.
Что же руководит ими, чем регулируется их работа?
Нервы, связанные с работой органов непроизвольного характера, составляют так называемую вегетативную нервную систему. Это, как предполагалось раньше, самостоятельный физиологический аппарат, совершенно автономный от нашего сознания; поэтому его еще называют автономной нервной системой. Он не подчиняется нашим желаниям, нашей воле. В самом деле, можем ли мы заставить желудочный сок выделяться быстрее и в большем количестве или кишечник — усилить перистальтические движения, или селезенку — сжаться, или печень — больше выработать желчи? Разумеется, нет. Нашему произвольному желанию все это не подчиняется. Раньше всегда и думали, что кора головного мозга, область высшей психической деятельности, никакого отношения к таким органам не имеет.
В вегетативной нервной системе различаются два рода волокон — симпатические и парасимпатические. И те и другие в известной мере различны и по своему строению, и по функциям, но назначение у них одно — иннервировать, обслуживать внутренние органы. Причем там, где симпатические волокна производят, например, усиление деятельности органа, парасимпатические замедляют, ослабляют, задерживают ее. И наоборот, если симпатические волокна тормозят функцию органа, то парасимпатические — усиливают ее.
Для нас в данный момент особенно важна одна подробность строения всей вегетативной нервной системы. Ее волокна до самой коры мозга не доходят. Они заканчиваются в подкорковых центрах. Этим раньше анатомически объясняли, почему психика, воля на них не влияет. Ни наши волнения, ни наши желания и чувства не управляют растительными, вегетативными функциями организма по вполне, казалось бы, естественным причинам.
Случай с миллионером, заболевшим после биржевой катастрофы сахарной болезнью, действительно мог бы казаться загадочным. Как могли психические переживания влиять на поджелудочную железу и на выработку ею инсулина, представлялось, разумеется, совершенно непонятным.
Точно так же невозможно было объяснить, почему новые впечатления, новые психические переживания, временная перемена изменили физическое состояние Кити Щербацкой.
Глубокое противоречие
Деление всех процессов, совершающихся в организме, на две независимые друг от друга категории: на произвольные, или связанные с психикой, и на растительные, с сознанием не связанные, существовало с давних пор. Хотя наука и двигалась вперед, но даже до последнего времени такое разделение признавалось многими исследователями.
Между тем существовали тысячи фактов, которые доказывали совсем обратное и говорили о том, что подобное учение о двух независимых друг от друга видах нервной системы глубоко противоречит множеству наблюдений и над здоровыми людьми, и над больными.
Известны, например, кожные болезни, высыпи и зуд, появляющиеся при душевном потрясении человека. Старые опытные врачи не раз замечали, что под влиянием скверного настроения та или иная болезнь резко ухудшалась, и наоборот. Подъем бодрости, радость, надежда нередко как бы исцеляет людей, т. е. ведет к исчезновению нарушений в организме, к восстановлению его нормальных функций.
Известный хирург-уролог профессор Хольцов при обходе оперированных им больных почти всегда мог предсказать, у кого из них раньше наступит выздоровление, у кого надолго затянется течение болезни. Его ученики, — в том числе и автор этих строк, — всегда поражались правильностью его предположений.
— Как вы себя чувствуете? — спрашивал Хольцов.
— Хорошо, профессор, — отвечал больной, стараясь улыбнуться, несмотря на то, что операция была произведена только вчера и боли в ране еще не совсем стихли.
Профессор довольно кивал головой: здесь дело скоро пойдет на поправку.
Другой больной на вопрос профессора вяло говорил:
— Плохо. Все болит, лежать трудно, мутит. Очень плохо, должно быть, не поправлюсь.
И в его голосе слышалось уныние, боязнь, тоскливость.
— У этого нашего пациента, — выйдя из палаты, говорил Хольцов сопровождавшим его врачам, — заживление будет идти очень медленно. С ним долго придется возиться, возможны даже осложнения. У него же нет воли к выздоровлению, нет оптимизма, все ему представляется в мрачном виде. А больной должен верить, что он скоро поправится, тогда он действительно скорее встанет.
И большей частью профессор не ошибался.
Кто из врачей не знает болезней, вызванных самовнушением людей! Мнительный человек болен то одной болезнью, то другой. Тот, кто вечно боится, нет ли у него, например, катара желудка, в конце концов начинает ощущать вздутие живота, отрыжку, тяжесть под ложечкой; потом у него исчезает аппетит, и в результате возникает расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта.
Студенты-медики впервые приступают к изучению болезней, лишь перейдя на третий курс. Знакомясь с проявлениями различных недугов, они начинают присматриваться и прислушиваться к себе, к собственным ощущениям. И тогда им нередко кажется, что они сами больны той или иной болезнью. Они даже обращаются к врачам с жалобами на недомогание. Эти жалобы так и называются — «болезнь третьего курса». Любопытно то, что врачи действительно находят иногда у таких пациентов некоторые нарушения со стороны внутренних органов; а до перехода на третий курс заболевшие студенты были совершенно здоровы. Их недомогания явились только следствием сильной впечатлительности при знакомстве с описанием симптомов болезней, т. е. следствием работы психики.
Все подобные факты показывают, что данные практической медицины не совпадают с утверждениями прежней теоретической науки. Физиология раньше учила, что деятельность органов вегетативной жизни автономна, независима от центров психики, от коры головного мозга, а множество наблюдений свидетельствовали, что такая зависимость существует, что центры коры мозга властно вмешиваются в вегетативную сферу организма.
Но это были лишь отдельные наблюдения, ничем между собой не связанные. Одних же таких наблюдений недостаточно. Надо доказать совершенно точно и неоспоримо научными фактами и экспериментами, что кора мозга действительно играет такую роль, и что здесь речь идет об общем для всех внутренних органов физиологическом законе.
Вот этого ученые на протяжении веков не могли добиться.
В последние годы за изучение проблемы взаимоотношений коры мозга и внутренних органов, выдвинутой И. М. Сеченовым и И. П. Павловым, взялся советский исследователь Константин Михайлович Быков.
Поиски метода
Работа головного мозга, высших центров психики — это наиболее сложное, наиболее замечательное проявление жизни человека — всегда, на всех этапах истории человечества привлекала внимание исследователей. Ученые всех стран и времен стремились вскрыть сущность психической и душевной деятельности, выяснить, как она создается, как развивается, какими законами она управляется. Проблема психики являлась в учении о человеческом организме самой увлекательной и в то же время самой трудной.
Виднейшие физиологи занимались изучением функций мозга. Однако, несмотря на большие успехи, очень многое оставалось неясным, темным, вызывающим возражения, опоры. Наиболее существенным революционизирующим вкладом в науку о работе головного мозга явилось учение знаменитого русского физиолога Сеченова, который впервые в истории науки доказал, что механизм психических процессов действует по типу рефлексов. Учение Сеченова направляло внимание исследователей на путь плодотворных открытий и в дальнейшем сыграло огромную роль в замечательных исследованиях великого физиолога Ивана Петровича Павлова. До работ Павлова изучение деятельности коры головного мозга не приносило заметных удач. Особенно темной представлялась область воздействия центров мозга на вегетативные функции организма.
В то время, когда уже были сделаны важнейшие открытия, позволившие точно узнать законы, по которым совершается деятельность почти всех внутренних органов, таких, например, как почки, печень, сердце, кишечник, железы внутренней секреции, селезенка с их тончайшими механизмами, — работа высших отделов центральной нервной системы представляла еще загадку.
Почему же изучение мозга не приносило нужных успехов?
Объясняется подобное положение, разумеется, трудностью самой задачи. Но самое главное препятствие заключалось в том, что отсутствовал такой метод исследования, который был бы пригоден для изучения высших отделов центральной нервной системы.
Первые шаги, которые дали бы возможность проникнуть в загадку мозга, были предприняты в середине XIX века несколькими учеными. Исследователи вскрыли череп собаки и удалили оболочки мозга. Перед ними обнаружились выпуклости и извилины больших полушарий. Где же находятся таинственные центры, управляющие движениями мышц, когда животное хочет бегать, нападать, скрыться? Как найти их в однообразии серой поверхности коркового слоя мозга?
Ученые применили электрический ток. Раздражая электричеством различные точки обнаженного мозга, они искусственно вызывали сокращения тех или иных мускулов.
Так была установлена связь определенных мышечных движений с отдельными участками коры мозга.
Другие ученые прибегали в своих исследованиях к методу экстирпации, удаления, отсечения. Они вырезали тот или иной кусочек мозговой ткани и следили за тем, что получалось в результате. Возникал паралич различных мышц. Это указывало, что разрушались именно те центры, которые управляли парализованными теперь мышцами.
Подобным способом определялось и местонахождение в коре центров органов чувств.
Если удаление каких-либо участков коры сопровождалось потерей слуха, зрения или обоняния, то ясно было, где находятся центры, ведающие деятельностью этих органов чувств.
Приводили ли к цели такие методы изучения функций головного мозга, как метод непосредственного раздражения коры с обнажением мозга и метод экстирпации? С помощью этих и подобных им экспериментов удалось установить наличие в коре мозга целого ряда центров, связанных чуть ли не со всеми мышцами тела и с органами чувств.
Это разумеется, было достижением.
Однако оба метода обладали недостатками, которые резко ограничивали успехи. Применяли их на лабораторных животных: собаках, кошках, кроликах, мышах. Обнажение мозга для длительного раздражения и экстирпации превращало здоровых подопытных животных в больных. Таким образом, все получаемые реакции совершались уже не в нормальном состоянии экспериментальных животных, а в болезненном, патологическом. Задача же ученых заключалась в том, чтобы определить роль коры мозга в нормальных условиях.
Кроме того, операции, которым подвергались животные, не давали возможности вести длительные исследования. Через некоторое время после операции образовывались спайки, рубцы. А это тоже служило источником новых болезненных изменений. Значит, приходилось торопиться, т. е. ограничиваться короткими наблюдениями. Кратковременные же наблюдения в этой области были лишены главного — возможности установить постоянство явлений.
Наконец, самым значительным недостатком всех тогдашних способов изучения функций высших нервных центров надо было считать то, что исследователи могли изучать в своих опытах только связь коры с мышечным аппаратом туловища, головы, конечностей. Внутренние органы оставались большей частью недоступными. Какие у здорового существа имеются взаимоотношения между печенью, почками, селезенкой, внутрисекреторными органами, различными тканями, с одной стороны, и корой мозговых полушарий, с другой, — нельзя было, разумеется выяснить ни путем обнажения мозга, ни путем разрушения отдельных участков коры. Нужно было бы еще вскрывать брюшную и грудную полости, извлекать оттуда органы и манипулировать на них. Такие операции на внутренних органах, даже при очень большом хирургическом таланте экспериментатора, наносили огромные травмы нежным, чувствительным тканям с их тонкой дифференциацией.
Одним словом, методы, связанные с нанесением обширных ранений, больших травм, много дать не могли. Один ученый о подобных опытах говорил так: «Это все равно, что изучать механизм часов, стреляя в них из ружья».
Вот почему на самом деле настоящих успехов в изучении функций высших центров головного мозга физиологи того времени, занимавшиеся этой проблемой, не достигли, хотя в этом отношении уже имелись отдельные крупные достижения.
Замечательные работы русских ученых — Бехтерева и Мислав-ского — еще 50 — 60 лет назад показали, что кора мозга влияет и на сердечную деятельность, и на слюноотделение, и на движения мочевого пузыря, и на температуру тела, а ученик Бехтерева В. П. Осипов нашел в коре мозга центры, имевшие отношение к деятельности толстых кишок. Это были очень значительные для того времени работы, принесшие их авторам мировое признание.
Но, опять-таки, метод, которым пользовались эти ученые, — раздражение мозга электрическим током при вскрытой полости черепа, грубое химическое раздражение мозга и даже вырезывание частей мозговой ткани — не мог дать правильного представления о том, как протекают физиологические процессы в здоровом, нетравмированном организме. Поэтому полученные данные были относительными, спорными.
Нужно было отыскать особый способ исследования, особый метод, который бы позволял проникать в самые тонкие, самые скрытые, самые глубокие процессы, протекающие в коре мозга и во внутренних органах, и наблюдать их при совершенно нормальных условиях жизнедеятельности, не нанося организму никакого заметного повреждения.
Скромная железа
Великий русский физиолог Иван Петрович Павлов уже к началу XX века был крупнейшим мировым ученым. К этому времейи он подарил науке свое знаменитое учение о работе желез пищеварительных органов.
Занимаясь проблемой пищеварения, изучая деятельность желудочно-кишечного тракта, Павлов и обратил внимание на поведение одного небольшого органа, тоже участвующего в деятельности пищеварительного аппарата. Это была слюнная железа.
Ничего необычайного, никаких тайн слюнная железа в себе не заключала. Давным-давно уже было всем известно, что слюна увлажняет комок пищи во рту. Кроме того, слюна содержит ферменты — птиалин и мальтазу, действующие на сахарообразующие вещества, на углеводы пищи, и превращающие крахмал в виноградный сахар. Вот почему, если долго жевать, скажем, кусочек хлеба, то во рту появится ощущение сладкого вкуса. Как только пища поступает в рот, тотчас начинается раздражение окончаний вкусовых нервов, которое влечет за собой выделение слюны. Это совершенно закономерный акт автоматического рефлекторного порядка. Попадает в рот пища — непременно изливается в рот слюна.
Вот и все. Никаких загадок в функции слюнной железы нет.
Но вот что привлекло внимание Павлова в его опытах над собаками: когда животное в часы кормления видело пищу только издали, у него уже начиналось выделение слюны.
Было ли это с точки зрения науки того времени естественно? Разумеется, нет. Ведь выделительная рефлекторная реакция слюнных желез должна была следовать после раздражения пищей нервных окончаний во рту. Здесь же раздражение отсутствовало. Почему же появлялась слюна?
Вот что заставило Павлова, с его необычайной пытливостью, задуматься. Тысячи исследователей проходили мимо этого. Подобное явление всем казалось само собой понятным. Собака видит пищу, у нее возникает желание еды, а желание еды влечет за собой образование слюны, которая изливается в рот. Но Павлова такое объяснение не удовлетворило.
Он принялся изучать все процессы, сопровождающие слюноотделение. Оказалось, что дело не в том, что пища еще издали попадает в поле зрения собаки и у животного возникает желание еды. Обнаружился удивительный факт. Если несколько раз кормление собаки сопровождать, например, звонком, то потом один только звук звонка, без пищи, тоже вызовет выделение слюны. Она выделяется так же, как это бывает и при приеме пищи.
Такое, на первый взгляд, простое обстоятельство на самом деле физиологически очень загадочно. Ведь звонок ничего общего с процессами питания и пищеварения не имеет. Отчего же его звук заставляет работать слюнную железу?
Объяснение этому могло быть только одно. Почему при попадании пищи в рот начинает выделяться слюна? Потому что таково врожденное свойство работы слюнной железы. Это врожденная реакция, или, как принято говорить, врожденный рефлекс.
Но ведь звонок делал то же самое. Он вызывал ту же реакцию слюнной железы. Значит, и здесь имел место рефлекс. Но он не был врожденным. Он образовался лишь при условии предварительного неоднократного сочетания его с врожденным, пищевым рефлексом.
Это не врожденный, не безусловный рефлекс, а искусственно созданный.
Иван Петрович Павлов назвал рефлекс такого рода — условным рефлексом.
Как же действует условный рефлекс? В чем заключается его смысл?
Звуковое раздражение, вызванное звонком, или, иначе говоря, условное раздражение воспринималось органом слуха и передавалось в мозг по слуховому нерву. Клетки коры мозга приходили в возбуждение. Это возбуждение распространялось дальше. В коре мозга возникало, говоря словами Павлова, явление иррадиации.
Но оно уже несколько раз связывалось с тем возбуждением, которое вызывалось безусловным раздражителем, пищей, и которое шло к слюнному центру.
Поэтому волна возбуждения, рожденная звонком, теперь, при одном лишь условном раздражителе, тоже шла по привычному пути, достигала слюнного центра и возбуждала его. Возбуждение же клеток слюнного центра влекло за собой работу слюнных желез.
Так Павлов проследил за тем, что происходит в коре мозга, когда применяются те или иные условные рефлексы.
Это, конечно, самая простая схема. Можно получать бесконечно более сложные условные рефлексы и вызывать гораздо более тонкие и более чувствительные реакции на них в корковых центрах.
Открытие условных рефлексов было величайшим успехом в физиологии мозга и метод условных рефлексов явился замечательным способом проникать в сокровенные тайны поведения животных и человека, в тайны психических процессов.
Демонстрация торможения
Все новые и новые опыты Павлова и многочисленных его сотрудников постепенно раскрывали механизм явлений высшей нервной деятельности. Так, после процессов возбуждёния были изучены и процессы торможения — эти важнейшие функции больших полушарий головного мозга. После множества опытов и большого исследовательского труда роль и значение торможения стали ясными. В частности, особенно интересным и демонстратив-
ньгм оказался один опыт, поставленный и многократно повторенный в лаборатории Павлова.
В чем он заключается?
Если продолжить опыт со звонком и заставлять его звучать несколько раз, не давая при этом еду, то есть без подкрепления безусловным раздражителем, то получится следующее. Слюны с каждым разом будет все меньше и меньше. Наконец, ее выделение совсем прекратится, сколько бы звонок ни звучал. Условный рефлекс угаснет.
Возникает совершенно естественный вопрос: куда исчез условный рефлекс? Почему прекратилось его действие? Что его остановило? Оказалось, что получить точный ответ — дело довольно трудное. Потребовалось несколько лет напряженной исследовательской работы, чтобы выяснить точные причины угасания условных рефлексов.
Торможение, возникшее в клетках больших полушарий головного мозга, — вот что остановило действие условного рефлекса.
Следующий опыт, выполненный учеником Павлова Н. И. Красногорским, дал убедительное тому подтверждение.
На задней ноге собаки укрепили кололку. Это маленький приборчик, задача которого ясна из самого названия: раздражать кожу покалыванием. Прикрепили кололку внизу ноги, над самими лапами. Второй приборчик прикрепили на три сантиметра выше. Третий — на 23 сантиметра выше, почти у колена.
На все три приборчика выработали условные рефлексы: пускали в ход приборчик и затем тотчас давали еду. Разумеется, после нескольких таких сочетаний пуск в ход только приборчика и без кормления уже гнал слюну. Появился условный рефлекс.
После этого нижний приборчик, укрепленный над лапой, стали применять без еды. Слюна выделялась все в меньшем количестве. Наконец, ее совсем не стало. Условный рефлекс угас. Пускание в ход кололки еще и еще раз не вызывало ни капли слюны.
Но с двумя остальными приборчиками этого не происходило. Здесь до последней минуты существовал условный рефлекс. Подкрепление его едой продолжалось и тогда, когда у нижнего приборчика оно отсутствовало. К тому моменту, когда приборчик над лапой, приведенный в действие, не возбуждал слюнотечения, оба прибора, расположенные выше на ноге, усиленно гнали слюну.
Такова была подготовка к опыту. Затем перешли к самому опыту.
Снова пустили приборчик, находящийся над лапой. Как и следовало ожидать, слюны не было ни капли. А второй, средний, приборчик, пущенный через секунду, вызвал обильную слюну. Но через 3. секунды, приведенный в действие снова, он тоже ничего не дал. Ни одной капли слюны не выделилось.
Вот это было удивительно. Ведь только что, три минуты назад, средний приборчик гнал обильную слюну, условный рефлекс работал полностью!
Прошла секунда, другая, третья, пятая — ничего не было. Условный рефлекс исчез.
Тогда наступила очередь третьего приборчика, расположенного довольно далеко от лапы, на 23 сантиметра выше на ноге. Когда его пустили сразу вслед за вторым, уже не дававшим условного рефлекса приборчиком, слюна потекла обильно. Третий приборчик вызывал условный рефлекс в полной мере. И это понятно: так могло продолжаться несколько часов.
Но прошло всего пятнадцать секунд — и все было кончено. И третий приборчик, пущенный в действие, не дал ни одной капли слюны. Условный рефлекс отсутствовал. Можно было подумать, что его за эти пятнадцать секунд что-то погасило. Как же все это понять? Что разыгралось здесь?
Совершенно очевидно было, что благодаря отсутствию подкрепления едой действия самого нижнего приборчика — в головном мозгу вместо возбуждения от раздражения кожи возникло торможение. Вот почему не было условного рефлекса. Но процесс торможения не ограничился местом своего возникновения, а стал распространяться в коре головного мозга. Угасший условный рефлекс, связанный со средним приборчиком, показал, что торможение добралось до мозговых клеток, возбуждение которых участвовало в этом условном рефлексе. Через пятнадцать секунд торможение достигло и той области мозга, куда поступало раздражение, вызываемое самым верхним приборчиком. Условный рефлекс угас и здесь.
Это было так ясно, точно все происходило на экране. Экраном служила кожа ноги. Следя за тем, как исчезало слюноотделение, связанное сперва с нижним приборчиком, затем со средним приборчиком, наконец с самым верхним, наблюдатель словно видел распространение торможения все дальше и дальше по центрам головного мозга.
Интересно было еще одно обстоятельство. Когда экспериментатор пустил через две минуты в ход верхний приборчик, слюна потекла. Условный рефлекс снова обнаружился.
Что это значило? Разумеется то, что по истечении некоторого времени торможение стало сокращаться, как бы стягиваться, освобождать захваченные мозговые клетки.
То же самое, спустя еще некоторое время, произошло и со средним приборчиком. Теперь, пущенный в ход, он также гнал слюну. Условный рефлекс появился. Значит, тормозной процесс опустился еще ниже.
Но приборчик над лапой, самый нижний, сколько его ни приводили в действие, не вызывал слюны. Здесь торможение проявляло свою функцию полностью. Оно здесь сконцентрировалось.
Следовательно, можно сказать, что процессы торможения сопровождаются процессом распространения, иррадиации, который затем сменяется процессом сосредоточения, концентрации.
Дальнейшими работами по изучению процессов возбуждения и торможения удалось установить еще один замечательный факт. Оказалось, что процессы возбуждения и процессы торможения обладают способностью влиять друг на друга. Возбуждение нервных клеток в одном участке мозга вызывает торможение в других. Точно так же и процессы торможения сопровождаются появлением возбуждения в соседних областях мозга. Получается так, точно процессы одного вида, возникшие где-либо в определенной точке, наводят, индуцируют процессы противоположного вида на расположенные рядом участки мозга.
И действительно, здесь проявляет себя так называемый закон индукции.
Открывая и изучая упорно, последовательно, шаг за шагом явления, связанные с условными рефлексами, Павлов открыл основные закономерности высшей нервной деятельности.
Работа коры
В лаборатории произвели опыт, который состоял как бы из трех серий. В первой серии у собаки выработали ряд условных рефлексов: слуховой — на звонок, зрительный — на зажигание электрической лампочки и другие. Каждое условное раздражение заставляло слюну выделяться.
Вторая серия опытов началась с операции: у собаки ©окрыли череп и удалили кору мозга. Это была очень трудная операция, но она удалась. Когда собака совершенно оправилась, у нее стали вызывать выработанные раньше, до операции, условные рефлексы. Но напрасно: рефлексы исчезли. Их словно никогда и не было.
Тогда наступила очередь третьей серии опытов. У животного стали методически, с большой настойчивостью, заново вырабатывать прежние условные рефлексы, и ничего не выходило. Сколько ни старались, не удалось вызвать ни одного рефлекса. Когда собаку кормили, слюна у нее выделялась. Безусловный рефлекс, существовал, он сохранился, несмотря на операцию. Условные же рефлексы не создавались. Сколько бы раз ни сочетали дачу пищи с каким-либо добавочным условным сигналом, с тем же звонком, с показом издали пищи, с подготовкой дачи пищи, ничего не получалось.
Собака, лишенная коры мозга, потеряла способность вырабатывать условные рефлексы.
Так было доказано вполне убедительно, что в образовании условных рефлексов должна обязательно участвовать кора мозга.
Подобное заключение явилось одним из кардинальных положений, найденных Иваном Петровичем Павловым.
Учение об анализаторах
Среди экспериментов, связанных с удалением коры головного мозга больших полушарий, особый интерес представляли те, в которых хирургически устранялась не вся кора целиком, а только ее часть, точнее, отдельные участки. Что происходило при этом с условными рефлексами? Сохранялись они или нет?
Да, сохранялись, но не все. Некоторые совсем исчезали. Пускали, например, в ход звуковой сигнал, звонок, на который раньше слюна выделялась обильно, животное поворачивало голову, навостряло уши. Но после операции собака на звонок совершенно не реагировала. Не появлялось ни слюны, ни движения головы.
В то же время сигналы другого рода, например световой, давали должный результат. Этот сигнал продолжал служить возбудителем условного пищевого рефлекса. Слюна выделялась. Все протекало так, как будто никакой операции частичного удаления коры мозга ие делали.
В первом случае можно было бы думать, что для собаки слуховой сигнал как бы не выделялся из всей массы внешних раздражителей, падавших на наружный аппарат слухового органа чувств. Его словно не воспринимала та область коры мозга, до которой доходят нервные импульсы, возникающие в слуховом органе чувств, и которая отзывается именно на эти импульсы. Вот отчего и не проявился условный рефлекс.
Совершенно ясно отсюда, что при эксперименте был вырезан в коре мозга тот участок, который отличает определенные звуковые раздражения, который обладает свойством выделять, как бы анализировать, поступающие сюда сигналы из внешнего мира.
Исходя из подобных опытов с частичным удалением коры мозга, И. П. Павлов и создал свое учение об анализаторах. В понятие «анализатор» входят периферический аппарат органов чувств, нервные пути, идущие в центральную нервную систему и несущие туда соответствующие нервные импульсы, и клетки коры мозга, куда эти импульсы поступают и где они преобразуются в ощущения. Получается единое целое, единый орган, анализирующий раздражения, исходящие из внешнего мира. Вот павловское определение анализаторов: «Анализаторы — это такие аппараты, которые разлагают внешний мир на элементы и затем трансформируют раздражение в ощущение».
Таким образом, кора есть как бы совокупность всех анализаторов. Благодаря ей вся масса влияний, падающих извне на организм, распределяется на отдельные сигналы. В силу этого и происходит различение всего мира явлений или, как говорит Павлов, его дробление. И чем выше по строению животное, тем такое дробление тоньше и точнее. В результате мир распадается на краски, запахи, звуки, прикосновения со всеми их мельчайшими оттенками и особенностями, что позволяет живым существам разбираться в предметах и явлениях окружающей среды.
Изучение анализаторов привело к очень интересным фактам. Оказалось, например, что одни анализаторы могут быть более развиты, чем другие. Так, собаки ищейки различают до полумиллиона различных запахов. В то же время многих цветов собаки не воспринимают. Они не отличают красного цвета от зеленого и желтого и все предметы видят только в черно-белых оттенках. Можно сказать, что человеку действительность представляется как на экране цветного кино, в красках, а собакам — как на обыкновенном экране нецветного кино. Ученые объяснили причину малокрасочности, если можно так выразиться, зрения у собаки. Суть заключается в условиях исторического развития царства животных, в условиях их существования. Собаки произошли от таких диких животных, как волки. А эти дикие животные вели в основном ночной образ жизни. Отсюда и получилось то, что у них сформировались те части органа зрения, которые воспринимают только зрительные ощущения, существующие ночью, когда нет многообразия красок.
Рефлекс и поведение
Человека сажают за стол и кисть одной руки кладут на металлическую пластинку. Потом включают ток. Ток по проводу идет в металлическую пластинку и проходит через кисть. Человек мгновенно отдергивает руку. Это происходит рефлекторно.
Есть еще одно обстоятельство, участвующее в этой процедуре. Перед тем, как включить ток, нажимают кнопку звонка. Раздается громкий переливчатый звон. Он длится пять секунд. После этого включается ток.
Так повторяют несколько раз, и каждый раз рука, получив удар током, невольно отдергивается.
И вдруг человек, сидящий за столом, человек, рука которого получает электрический удар, бледнеет. Тот, кто включает и звонок и ток, прекращает процедуры, подходит к нему и спокойно говорит:
— Вы прекрасно слышите. Отпираться бесполезно.
Что здесь произошло? Человек за столом утверждает, что страдает полной глухотой. Его начинают проверять. Отдергивание кисти при ударе током — это безусловный, врожденный рефлекс. Присоединенный к действию электричества, звонок создал у испытуемого условный звуковой рефлекс на почве безусловного.
Но в последний раз, когда прозвучал звонок, ток включен не был, а сидевший за столом отдернул руку ровно через пять секунд. Это значит, что действовал условный рефлекс, условный звуковой раздражитель. Другими словами, никакой глухоты здесь нет. Иначе звуковой условный рефлекс не мог бы образоваться.
Так с помощью условных рефлексов можно проверить симулянтов, заявляющих о своей глухоте.
Рабочий утром отправляется на завод. Он не боится опоздать — даже не торопясь, он придет на работу во-время. Но, услышав гудок, предвещающий близкое начало смены, он невольно ускоряет шаги, хотя знает, что спешить ему нечего. Это делает условный рефлекс, которым стал заводской гудок.
Вы перешли железнодорожный путь и удалились от полотна на достаточное расстояние. Вдруг доносится из-за деревьев грохот поезда и пронзительный свисток паровоза. Вы вздрагиваете и делаете два-три шага, похожих на прыжки, хотя вам ничто не угрожает. Это тоже результат условного рефлекса, вызванного неоднократным видом мчавшегося поезда, грохот и свисток которого заставляли вас раньше бросаться в сторону от рельс.
Лет пятьдесят назад в Париже произошел пожар в театре «Большая Опера». В публике возникла страшная паника, все кинулись спасаться, думая только о своей жизни. Давка была неописуемой. Охваченные страхом погибнуть в огне, все старались пробиться к дверям. Мужья отталкивали своих жен, родители бросали детей без помощи.
Как объяснить такое состояние?
Совершенно несомненно, что крики «Пожар!», «Горим!» являлись необычайно сильным раздражением, которое вызвало сильнейшее возбуждение мозговых центров, связанных с рефлексом защиты. Такое огромное возбуждение сопровождалось, естественно, сильной иррадиацией в остальных участках больших полушарий головного мозга. Это затормозило все условные рефлексы, даже воспитывавшиеся десятилетиями. Существовала только иррадиация всеподавляющего возбуждения рефлекса «защиты».
Известно, что дети,- разыгравшиеся перед сном, долго не могут заснуть. Что это такое? Ясно, что здесь виновато распространившееся в коре мозга возбуждение, виновата иррадиация возбуждения.
К концу однообразного, скучного школьного урока порядок в классе неудержимо нарушается. Ученики начинают двигаться, шалить. Это результат торможения внимания, вызванного монотонностью урока. Торможение в одних центрах мозга влечет за собой, по закону так называемой индукции, появление возбуждения в других центрах.
Такова работа условных рефлексов и других механизмов высшего отдела центральной нервной системы. Психическая, душевная деятельность оказалась объяснимой чисто физиологически.
Теперь понятен обобщающий вывод. Возбудителем условного рефлекса может стать любое внешнее обстоятельство, если оно было хотя бы на некоторое время связано с каким-либо безусловным рефлексом, например пищевым рефлексом, защитным или ориентировочным. Весь внешний мир — это возбудитель огромного числа условных рефлексов, создающихся у человека. Одни из них угасают, другие только возникают, третьи крепнут, стано-
вятся прочными, четвертые тормозятся, исчезают. Все они, вместе взятые, и определяют поведение живых существ, особенно высокоорганизованных. Все явления внешнего мира воздействуют на органы чувств и, следовательно, на центры коры мозга и вызывают ту или иную реакцию, тот или иной поступок.
Таков смысл действия условных рефлексов, этих временных связей между организмом и окружающей его средой. Без них существование животных и человека превратилось бы в нечто случайное, стало бы непрочным, не приспособленным к взаимоотношениям с внешним миром.
Другая область
На протяжении нескольких десятков лет Павлов и его ученики поставили тысячи опытов, произвели тончайшие эксперименты над функциями центральной нервной системы. Они подробно установили законы, условия выработки у высших животных условных рефлексов, изучили, когда рефлексы угасают, тормозятся и усиливаются. Было открыто явление концентрации, т, е. сосредоточения возбуждения в определенных, строго ограниченных областях, явление дифференциации, т. е. разграничения возбуждения по отдельным точкам коры. Была выяснена роль сна как общего торможения условных рефлексов, дающего отдых нервным клеткам, охраняющего их от чрезмерного возбуждения и, следовательно, от истощения.
Замечательные исследования павловской школы постепенно вскрывали одну за другой физиологические закономерности деятельности головного мозга.
Стало многое понятно в поведении и животных и человека. Изменяя порядок действия возбудителей условных рефлексов, нарушая правильное чередование явлений возбуждения и торможения в коре мозга, можно было течение нервно-психических процессов делать неправильным, патологическим. Кем же становятся те, у кого вызывается неправильное течение нервно-психических процессов? Они становятся так называемыми невротиками. И вот из подопытных животных, вызывая у них вместо реакции возбуждения реакции торможения и, наоборот, меняя реакции, перебивая одни реакции другими, создавали больных животных со всеми подробностями нервных заболеваний, очень похожих на такие же проявления у больных людей.
Подмеченные общие явления у животных и человека позволили думать о возможности применения некоторых мероприятий для борьбы с нарушениями нервно-психических процессов у человека при ряде заболеваний, связанных с корой головного мозга. Лабораторные работы Павлова получили продолжение в клинике. Изменение хода условных рефлексов, введение в клинику тормозящего действия длительною сна стали лечебными средствами.
Все эти интереснейшие факты, добытые на протяжении многих
лет, свидетельствовали о крупнейших успехах группы ученых, руководимых изумительным исследовательским талантом главы мировой физиологии. Механизм влияния внешнего мира на кору полушарий был изучен и раскрыт.
Громадная ценность этих работ подняла значение павловской школы на небывалую высоту.
Но в достигнутых успехах, какими бы значительными они ни представлялись, содержалось решение только части проблемы. Вся задача была направлена на то, чтобы найти законы реакции коры мозга на раздражения, поступающие через органы чувств, т. е. из внешнего мира.
Однако, кроме внешнего мира, существует внутренний мир, мир внутренних органов, область сложных и тончайших процессов, совершающихся в тканях и клетках.
Но все работы физиологов XIX века и начала XX века оставляли в общем в стороне связь этих органов и тканей с корой головного мозга.-
Почему? Может быть значение внутренних органов ничтожно?
Нет, наоборот. Они играют первостепенную роль в жизни организма, во всей его деятельности.
Перед учеными проблема связи внутренних органов с центрами коры мозга не вставала потому, что никакой проблемы тогда не было. Считалось бесспорным, что, например, печень, почки, селезенка, обмен веществ, газообмен, температурная регуляция никакого близкого отношения к коре мозга не имеют, что всей этой областью управляет совершенно самостоятельно вегетативная нервная система.
Вот почему такой проблемы, как связь внутренних органов с корой, до работ павловской школы не существовало.
Доказать полностью, что это глубокое заблуждение, сумел один из виднейших учеников Павлова, Константин Михайлович Быков.
Первая неожиданность
В чем была трудность положения? Почему никто из ученых не занимался проверкой правильности такого долго существовавшего взгляда?
Да и как это можно было сделать? Ведь внутренние органы — это не слюнная железа, секреторную деятельность которой легко наблюдать в любой момент. Как проследить за выделением печенью желчи или щитовидной железой ее гормона?
Никому из исследователей не могло прийти в голову, что возможно добиться искусственного управления такими глубоко скрытыми органами.
Острый взгляд Быкова открыл путь к решению задачи.
Новая интересная цепь событий в науке началась с довольно скромного и даже как-будто случайного обстоятельства.
В лаборатории Павлова один из сотрудников исследовал функцию мочеотделения. Задача была несложной. Следовало вводить подопытному животному воду и затем следить, как идет выделение мочи из почки.
Эта задача действительно несложна по существу, но по выполнению она не так проста. Она требовала большого хирургического навыка.
У собаки удалили мочевой пузырь, а концы мочеточников, открывающихся в пузырь, вывели наружу и прикрепили к коже. Моча поступала из почек в стеклянные сосуды. Теперь можно было наблюдать за тем, как работают почки. По делениям, нанесенным на стеклянных банках, можно было проследить степень их заполнения, что позволяло судить о выделительной функции почек.
Собака находилась в специальном станке. Воду ей вливали в прямую кишку.
Получилась вполне естественная картина: после введения воды количество мочи увеличивалось. Это видно было по тому, как заполнялись банки. Вода всасывалась через слизистую оболочку прямой кишки в кровь, проделывала свой путь в организме, выделялась в почках и, пройдя мочеточники, изливалась каплями в градуированные сосуды.
И вот тут произошло непонятное явление.
На пятом или шестом сеансе условия опыта изменились: воду влили в кишку, но сейчас же воду выпустили. Следовало ли ждать увеличения выделения мочи из почек? Конечно, нет. Ведь все произошло так быстро, что вода не успела всосаться в кровь и добраться до почек. Исследователи и не ждали увеличения мочи.
Но к величайшему своему удивлению они увидели, что приток мочи в банки стал нарастать. Можно было подумать, что воду не извлекли из кишки, а оставили ее там.
Опыт повторили еще и еще раз. Повторили и на других собаках. Все они давали те же результаты: после нескольких вливаний только одно прикосновение резиновой трубки и воды к стенкам кишки влекло за собой увеличение количества мочи, хотя всасывание не успевало произойти, так как вода тотчас удалялась.
Но вдруг все изменилось. С собакой проделали такую же манипуляцию: воду ввели и выпустили. А почка внезапно перестала увеличивать количество выделяемой мочи.
Но почему? Изменили характер опыта? Нет, все было как и в прежних экспериментах. За исключением, впрочем, одного обстоятельства, — того, что собаку перевели в другое помещение. Вот в новом помещении опыт и дал неожиданный результат.
Тогда весь эксперимент провели снова с самого начала. Животному опять несколько раз вводили воду в прямую кишку и там ее оставляли. В стеклянных сосудах при этом уровень жидкости резко поднимался. Затем воду в кишку ввели и сразу же выпустили.
Произошло то, что происходило в прежнем помещении. Воды
в кишке не было, а моча и в этот раз прибывала так, точно в почки поступала вода.
Теперь все стало ясно. Увеличение количества мочи при вливании воды в кишку — результат безусловного рефлекса. Прикосновение резиновой трубки к кишке, сопровождавшее безусловный рефлекс, стало условным раздражителем, начальным моментом выработавшегося условного рефлекса. Резиновая трубка в данном случае играла ту же роль, какую играл звонок в условном рефлексе выделения слюны. Перевод в новое помещение, нарушивший условия опыта, явился торможением условного рефлекса. Когда снова прибегли к безусловному рефлексу, т. е. когда им несколько раз подкрепили условный рефлекс, торможение было устранено.
Открытие пути
Живое существо, обладающее способностью вырабатывать условные рефлексы, может вступать в те или иные взаимоотношения с окружающей средой лишь в том случае, если оно в состоянии замечать все, что происходит вокруг. На каждое изменение в окружающей среде живые существа с помощью механизма условных рефлексов отвечают реакцией приспособления.
Для того, чтобы именно так все совершалось, в организме должен существовать механизм, воспринимающий внешние воздействия. В теле животных и человека подобные механизмы имеются. Это — органы чувств и нервная система. Периферические окончания органов чувств, на которые падают внешние раздражения, получили название рецепторов. От рецепторов тянутся нервные волокна, передающие раздражения в центральную нервную систему, а из центральной нервной системы соответствующие волокна направляются к тем органам, которые осуществляют вызванную реакцию. Органы, выполняющие реакцию, будь то железы, мышцы, кровеносные сосуды или что-нибудь иное, называются эффекторами.
В опытах Быкова и его сотрудника Алексеева-Беркмана над мочеотделением эффекторами являлись почки — такими же эффекторами, какими в опытах Павлова были слюнные железы.
Что же непонятного в этой, казалось бы, ясной картине?
Мы знаем, что при образовании условного рефлекса связь рецептора с эффектором проходит через кору мозга. Это обязательный путь. Без коры мозга не может быть условных рефлексов. Но что такое почки? Это внутренние органы. А внутренние органы управляются своей собственной, вегетативной, автономной нервной системой, независимой от головного мозга, не соединенной с ним. Это тоже была аксиома, принятая в физиологии.
Как же может кора мозга, обязательно участвующая в условном рефлексе, действовать на почки, с которыми она не имеет связи?
Вот это и было то непонятное, о чем мы говорили. Получалось препятствие, казавшееся непреодолимым.
Но в науке препятствие — это начало новой задачи, требующей нового решения. Быков стал добиваться такого решения. Одна из аксиом должна была отпасть. Нужно было выяснить со всей убедительностью и точностью, какая именно аксиома неверна.
Тут и пришел на помощь тот метод, который отсутствовал в физиологии до Павлова, — это метод условных рефлексов с применением внешних условных раздражителей.
Чтобы доказать участие коры мозга, требовалось поставить такой эксперимент, в котором, помимо внутренних органов, действовали бы органы чувств, зрение, слух, связанные с внешним миром, с одной стороны, и центрами головного мозга — с другой.
Теперь над собакой с выведенными наружу мочеточниками проделали следующий опыт. Ей опять ввели в прямую кишку воду, но за несколько секунд перед этим включили электрический свет. Зажигалась лампочка, затем вливали воду. Такое сочетание повторили несколько раз. Результат получился тот, который ожидался: увеличивалось выделение мочи. Так и должно было быть: вода нормально всасывалась в кровь.
Из всего предыдущего ясно, что проделали дальше. Лампочку зажгли, а воду не влили.
Прошло несколько минут. Сомнений не оставалось: на сеет лампочки почки ответили усилением мочеотделения.
Так зрительное восприятие, зрительный рецептор, заставил работать почки.
Осторожный экспериментатор проверяет полученные данные. На этот раз место органа зрения занимает орган слуха. Вливание воды производят в сопровождении равномерного стука метронома. Это сочетание дает должный эффект: количество мочи нарас-таеД.
И опять, как и в опыте с лампочкой, вливание воды выключается. Звучит один метроном. Глаз наблюдателя видит, как градуированные стеклянные банки, подвешенные к отверстиям мочеточников, заполняются мочой.
Так слуховое восприятие, слуховой рецептор заставил работать почки.
Но зрительное восприятие и слуховое имеют лишь один путь: в центры, расположенные в коре головного мозга Только там импульсы зрительных и слуховых нервов возбуждают клетки соответствующих областей коры мозга, импульсы которых, в свою очередь, идут к нервам почки и вызывают деятельность эффектора, то есть усиление функции мочеотделения.
Таким образом неоспоримо было установлено участие коры мозга в работе внутренних органов.
Утверждение о независимости вегетативной нервной системы от коры мозга отпало.
Обнаружение возможности воздействовать но воле экспериментатора через кору мозга на деятельность почек явилось интереснейшим и знаменательным событием в физиологии. Это был один из тех фактов, которые прочно входят в историю науки.
Существовавшее среди ученых на протяжении веков деление организма на две резко разграниченных части — область вегетативных процессов и область двигательно-произвольных процессов — оказалось несостоятельным. Опыты Быкова, проведенные над мочеотделением с помощью условных рефлексов, с помощью образования временных связей между рецептором и эффектором через кору мозга показали, что область сознания и психики вмешивается в тот мир, который раньше считался совершенно самостоятельным. Установленному издавна положению, что сознанию и воле подчинены только скелетные мышцы, а все внутренние органы и физиологические процессы находятся вне контроля мозговых центров, был нанесен сильный удар.
Но опыты на почках — только первый шаг. Почки могли быть исключением. Надо было идти дальше.
Вторым объектом исследований Быков и его сотрудница А. В. Риккель взяли печень.
Этот крупный тяжелый орган играет в организме чрезвычайносерьезную роль. Он обладает несколькими функциями. Значение хотя бы одной из «их станет ясно, если вспомнить о таком замечательном по простоте и наглядности эксперименте, как операция русского ученого Экка.
Это очень интересная операция. Заключается она в следующем.
Все кровеносные сосуды, идущие от кишечника, постепенно собираются вместе и образуют так называемую воротную вену. Она входит в печень и там в свою очередь распадается на множество мелких и мельчайших сосудов. Значит, воротная вена приносит в печень всю кровь от кишечника со всеми всосавшимися в нее веществами, продуктами пищеварения.
Из печени кровь выходит по печеночной вене, которая впадает в нижнюю полую вену, представляющую собой, как и печеночная вена, часть большого круга кровообращения.
Если у животного воротную вену, прежде чем она войдет в печень, соединить с нижней полой веной, устроить между ними сообщение, или, как говорят физиологи, соустие, то образуется как бы обходной канал. Предварительно воротная вена возле самой печени перевязывается. Тогда вся масса крови, идущая от кишечника, не попадает в печень, а поступает через образовавшийся обходной путь прямо в нижнюю полую вену, то есть в общий ток кровообращения, минуя печень.
Искусственное соединение воротной вены с полой веной и составляет операцию Экка. Дополненная и видоизмененная Павловым, она называется Эк к — Павловской операцией.
Что получилось с собаками, подвергнувшимися такой операции? Оставила она какой-нибудь след в их жизнедеятельности? Да, след оставался и чрезвычайно существенный. Животные гибли в течение нескольких дней. И ничто их не могло спасти.
Но не операция была виновата в этом. Сама операция с хирургической стороны удавалась очень хорошо. Причиной смерти являлось отравление. Собак убивали продукты распада белка и другие ядовитые вещества, такие, например, как индол, скатол, фенол, которые образуются в кишечнике в результате жизнедеятельности бактерий и проникают в кровь.
Если бы кровь, содержащая все эти вещества, прошла не обходным путем, не через искусственное соустие, а нормально через печень, то ничего опасного для жизни собак не произошло бы. В печени обезвредились бы все ядовитые продукты. Печень защитила бы организм от продуктов отравления, словно поставила бы перед ними барьер.
В этом и заключается барьерная, защитная функция печени.
Как видите, такое свойство печени имеет исключительное значение для организма.
Другая функция печени — превращение углеводов в необходимый для работы мышц гликоген.
Еще одна важнейшая функция печени — образование желчи. Эта довольно густая, зеленоватой окраски жидкость скопляется в желчном пузыре и по мере надобности вливается в двенадцатиперстную кишку. Роль желчи для процессов пищеварения очень существенна. Без желчи, например, плохо усваиваются жиры, так как липаза — фермент, расщепляющий жиры, — активно действует только в присутствии желчи. Желчь превращает жиры в эмульсию, т. е. в мельчайшие, находящиеся во взвешенном состоянии частицы, что опять-таки содействует их расщеплению, Без желчи затрудняется всасывание жиров; в таком случае, человек, например, может поглотить много питательных веществ, а будет оставаться тощим, вследствие жирового голодания. Желчь усиливает движение, перистальтику кишечника, что препятствует застою пищевой кашицы. При поступлении желчи в кишечник улучшается секреция поджелудочной железы, которая выделяет очень нужные для пищеварения ферменты: трипсин, действующий на белок и амилазу, мальтазу, лактазу, превращающие крахмал в различные углеводы.
Без участия желчи все эти процессы нарушаются.
Все функции печени протекают глубоко, скрыто, независимо от нашего сознания и воли. Никогда и никто не мог сказать, что можно, влияя на высшие центры мозга, по своему желанию задержать или ускорить сложную работу печени.
Теперь Быкову и Риккль предстояло установить, так ли это? Нет ли здесь сходства с почками?
Прежде всего, следовало открыть дорогу к желчи, отыскать возможность следить за процессом ее выделения. Этого достигли тем, что оперативным путем через брюшную стенку получили доступ к желчному протоку. Теперь желчь попадала в руки экспериментаторов. Ее можно было собирать в стеклянный сосуд.
Затем надо было найти такое средство, применение которого вызывало бы обязательное выделение желчи; другими словами, надо было овладеть безусловным рефлексом на печень.
У исследователей такие средства были. Сюда относились: соляная кислота, раствор гликохолевокислого натрия. Вслед за их впрыскиванием у животного начиналось усиленное выделение желчи.
Интересно, что сама желчь, даже в разбавленном виде, тоже давала такой эффект — желчегонный.
Теперь можно было перейти к решению задачи.
Собаку помещали в станок и тотчас после этого вводили под кожу гликохолевокислый натрий. Уже известно было по предварительному обследованию, сколько, например, за два часа поступает при обычных условиях в сосуд желчи. После впрыскивания это количество резко увеличивалось. Таково было желчегонное действие гликохолевокислого натрия.
Три дня подряд собаку ставили в станок и производили впрыскивание. Каждый раз наблюдалось нарастание выделения желчи. А на четвертый день животное также поместили в станок, но этим и ограничились. Гликохолевокислый натрий, т. е. безусловный раздражитель, не был пущен в ход.
И что же? Получился тот же результат: количество желчи увеличилось. Но здесь уже действовал только условный рефлекс.
Но откуда он взялся? Ведь в данном случае его не создавали. Не было зажигания света, не звучал метроном. Однако условный раздражитель имелся. Это — станок. Установка собаки в станок, сочетавшаяся несколько раз с введением желчегонного вещества, образовала условный рефлекс. Между помещением в станок и усилением работы печени создалась временная связь.
Это могло произойти, как мы уже знаем, только при участии коры мозга.
Сделали проверку еще одним путем. Во время действия услов» ного рефлекса, когда собака находилась в станке и желчь в усиленном количестве поступала в стеклянный сосуд, в руках экспериментатора появлялась кошка. И вот мгновенно желчеотделение прекращалось. Наступало торможение.
Но реакция на появление кошки — это испуг или гнев собаки. Значит, испуг или гнев, т. е. психические акты, тормозили функцию печени.
Итак, печень, как и почка, в своей деятельности оказалась подчиненной коре головного мозга.
Передвинутая селезенка
Конечно, пытливость ученого этим не могла быть удовлетворена. Работа продолжалась.
Селезенка — очень любопытный орган. Она имеет, прежде всего, близкое отношение к кровообращению. Это как бы склад, в котором находятся в резерве миллиарды эритроцитов — красных кровяных телец. В нужные минуты они могут в большом количестве поступить в общий ток крови. Те же эритроциты, но уже отжившие, потерявшие свою жизнеспособность, в селезенке распадаются. Куда деваются вещества, из которых состоят эритроциты, — главным образом гемоглобин, содержащий железо? Составные элементы эритроцитов частью используются на месте в виде железа для образования нового гемоглобина. В селезенке заключается железа больше, чем в каком-либо другом органе.
Вместе с тем селезенка имеет известное значение для сохранения жизни организма, для защиты его от болезнетворных микробов. В ней очень много так называемой ретикуло-эндотелиаль-ной ткани, мобилизующей свои клетки против микробов, против инфекций. Когда человек заболевает, например, тифом или малярией, селезенка увеличивается, иногда очень сильно, становится плотной и легко прощупывается под левым подреберьем. Это до известной степени показатель ее участия в защите организма. При выздоровлении селезенка уменьшается в объеме, уходит в глубь брюшной полости. Прощупать ее тогда уже не удается.
Это единственный орган среди внутренних органов, который и в нормальном состоянии резко меняет свой объем, то увеличиваясь, то сокращаясь под влиянием различных процессов, совершающихся в теле. Считалось всегда, что исключение составляют только процессы, протекающие в высших нервных центрах. Они с селезенкой не связаны. Селезенка обладала, как думали, даже еще большей независимостью от коры, чем почки или печень.
Разумеется, этот орган привлек внимание Быкова. Задача, казалось, не представляла особых трудностей после того, что уже было сделано.
Но существовало одно обстоятельство, которое коренным образом отличало предстоящие исследования от прежних. Это отличие сильно усложняло все дело.
Суть его в том, что селезенка не выделяет ничего такого, что можно было бы собирать и измерять. У нее не имеется ни жидкости, вроде мочи или желчи, ни протока, который можно было бы вывести наружу или в котором можно было бы сделать отверстие, наложить так называемую фистулу.
Если испытанные способы изучения не годились, то надо было добиться другого: поставить селезенку в такие условия, чтобы она стала доступна для непосредственного наблюдения за тем, что с ней происходит.
Разумеется, это трудная задача, но решить ее следовало.
И путь решения нашелся.
Селезенка лежит в левом подреберье, между кишечником, почкой и диафрагмой — грудобрюшной преградой. Экспериментаторы заставили селезенку покинуть свое место и совершить путешествие к другому месту, более удобному для наблюдения. Они хирургически передвинули ее из глубины подреберья вперед, под самую кожу.
Таким образом селезенку можно было в любой момент нащу пать и даже видеть ее выпуклую поверхность благодаря выпячщ ванию кожи над ней.
Операция удалась. Подопытное животное осталось здоровым. Его состояние было совершенно обычным, а селезенка стала до-ступной для наблюдения. Впервые в истории физиологии ее изучали в нормальных условиях жизнедеятельности.
Как было сказано, характерным для селезенки является изменение ее объема. Вот это свойство и послужило исследователям — академику Быкову и его сотруднику Кельману — ключом к решению.
Адреналин — вещество, вырабатываемое органами внутренней секреции — надпочечниками. Его можно назвать возбудителем активности организма. Он появляется в крови при гневе, возбуждении; он усиливает частоту ритма сердца и увеличивает амплитуду сердечных сокращений. Адреналин содействует повышению энергии мышц. Он — стимулятор действия. При актах защиты и нападения повышается выделение этого гормона надпочечников.
На селезенку адреналин тоже влияет — он заставляет ее сокращаться. И это понятно. Сокращаясь, селезенка весь резерв крови выталкивает в кровеносные сосуды. Количество гормона надпочечников, как мы сказали, повышается при защите и нападении, когда организм, разумеется, расходует больше питательных веществ. Увеличенное расходование сил требует увеличенного подвоза питательных веществ, т. е. увеличения количества крови.
Селезенка под влиянием адреналина это и делает, передавая весь свой запас крови в общий ее поток.
Есть в физиологических лабораториях небольшой прибор — онкограф. С его помощью можно записывать кривую, показывающую изменения объема органа. При впрыскивании адреналина онкограф отмечает сокращение селезенки.
Так был установлен безусловный рефлекс селезенки на адреналин. Действие этого рефлекса можно было видеть, ощущать, записывать.
Задача непосредственного наблюдения над селезенкой в основном получила свое решение.
Теперь оставалось образовать условный рефлекс. Для этого взяли метроном. Его звуки — 60 ударов в минуту — сочетали с
инъекцией адреналина. Метроном начинал звучать за 3 минуты до впрыскивания и действовал еще 3 минуты после него.
Семь раз сделали впрыскивание и семь раз на четвертой минуте после инъекции происходило сокращение селезенки.
На восьмой раз только прозвучал метроном. Он отбил свои удары — первые три минуты и вторые три минуты — и также еще через минуту селезенка сжалась, точно в нее влился адреналин.
Но никакого адреналина не было. Сокращение селезенки вызвали удары метронома. Это явилось результатом условного звукового рефлекса.
Была проделана выработка условного рефлекса также и на свист. Собаке кололи иглой заднюю ногу. Селезенка отвечала на
укoл своим сокращением. Это была безусловная реакция защиты, перед уколом раздавался звук свистка. Так поступали десять раз. На одиннадцатый раз укола не произвели, но свист раздался. И линия онкографа сделала скачок вверх: селезенка сократилась.
Условный рефлекс дал нужный результат. Метроном, свист, звуковые явления внешнего мира, действуя через кору мозга, влияли на функцию внутреннего органа.
Интересна и очень показательна одна подробность. Когда пускали в ход метроном со 120 ударами в минуту, ничего не получалось. Селезенка оставалась без изменений. Только 60 ударов в минуту являлись условным возбудителем. 120 ударов вызывали торможение.
Совершенно очевидно, что различение 120 ударов и 60, т. е. различение частых ударов от медленных, тоже осуществляется благодаря работе высших центров мозга.
Труд и кислород
Факты, добытое в лаборатории Быкова по его указаниям и под его руководством, подтверждали, что исследования идут по правильному пути. Разнообразные опыты над важными для жизни органами приводили к одному и тому же определенному результату.
Но все это были отдельные органы. А ведь в организме происходят процессы, в которых участвуют целые системы органов, которые являются выражением деятельности всего организма, процессы связанные с функциями многих тканей.
К таким процессам принадлежит, например, газообмен — в основном поглощение кислорода и выделение углекислоты.
В первые секунды появления ребенка на свет его еще связывает с организмом матери пуповина, несущая кровеносные сосуды: артерии с кислородом и вены с углекислотой. Когда перерезают пуповину, то в этот момент прекращается доступ кислорода в тело новорожденного. Образовавшаяся углекислота тоже не имеет выхода. Накопление углекислоты раздражает дыхательный центр ребенка. Это влечет за собой первое движение дыхательных мышц грудной клетки. Происходит вздох, первый вздох родившегося человека. Со вздохом поступает в легкие кислород. Жизнь новорожденного, жизнь еще одного человека на Земле, начинается.
Углекислота — это раздражитель безусловного дыхательного рефлекса. Зависит этот рефлекс от желания, сознания? Нет, конечно. Разве человек дышит тогда, когда он хочет? Можно задержать движение мышц, выполняющих акт дыхания, но сам дыхательный акт совершенно автоматичен. Никогда никому не приходило в голову, что можно повысить по своей воле поглощение кислорода клетками или выделение углекислоты из тканей тела.
В лаборатории Быкова его сотрудница Р. П. Ольнянская подошла к выяснению достоверности того, что газообмен независим от психики, от высшей нервной деятельности.
Произведенные усилия, затраченная организмом энергия определяются в физиологии количеством поглощенного кислорода. Во время работы оно вырастает в два-три раза. Все это мы прекрасно знаем. Чем больше физическое напряжение человека, тем сильнее и глубже его дыхание; таким образом вводится в организм больше кислорода.
Но вот удивительная история. Люди спокойно сидят, не заняты никаким трудом, а у них резко увеличилось потребление кислорода: газообмен повысился. И это вовсе не больные, у которых нарушены нормальные процессы поглощения и выделения газов. Это вполне здоровые рабочие завода, которых обследуют сотрудники академика Быкова. Они не в цеху, они в комнате над цехом, превращенной временно в лабораторию. Освобожденные от работы, явившиеся до начала работы, они, собственно, отдыхают. Но расход кислорода у них такой, точно они напряженно и сильно управляют рычагами, передвигают тяжелые детали, куют и штампуют — словом, такой, как у работающих в это время за станками.
Вам, конечно, уже понятно, в чем здесь дело. Эти люди в эти часы обычно стояли у своих рабочих мест. Будучи сейчас в лаборатории, они слышали заводской гудок. И сама комната лаборатории, помещавшаяся над цехом, была так устроена, что сквозь ее стены доносились все звуки действующего завода: шум машин, грохот тележек, голоса мастеров и бригадиров.
Все эти шумы, голоса, заводской гудок — условный раздражитель. Он и вызвал в клетках тела неработающих людей усиленное поглощение кислорода и отдачу углекислоты.
Когда тот же опыт произвели в выходной день, результат получился другой. Газообмен не поднялся. И люди были те же, и обстановка лаборатории та же, и обследователь тот же. Условия отличались только в одном отношении — был нерабочий день. Это и явилось торможением условного рефлекса. Но знание того, какой день выходной и какой не выходной, уже относится к работе психики.
Значит ясно, что деятельность коры в том и в другом случае вмешивалась в процессы газообмена, то повышая их, то понижая.
Все представлялось убедительным. Можно было считать доказанным, что и тканевые процессы подчинены тем же законам, которые были установлены для почек, печени, селезенки.
Но Быкову это казалось недостаточным. Явление только тогда становилось неоспоримым, когда его можно было воспроизвести в условиях точного опыта.
У Ольнянской в лаборатории появились обычные объекты экспериментов — собаки.
Предстояла длительная предварительная подготовка. Надо было изучить газооТэмен у животных в состоянии покоя, при полном отсутствии мышечных движений. Это значило заставить собак спокойно и неподвижно лежать на протяжении нескольких часов. Лежали они с надетой на морду особой дыхательной маской, соединенной трубкой с прибором, с так называемыми газовыми часами и реагирующим аппаратом. Для собаки это, конечно, сложные и неестественные условия.
И все же терпеливые исследователи добились своего. Через шесть месяцев можно было приступить к делу. Собаки были приучены к неподвижному лежанию.
Тироксин — это гормон щитовидной железы. Когда его вводят в организм, газообмен повышается. И не на короткий срок. Действие тироксина длится до шести дней.
Пять раз впрыскивали собаке под кожу тироксин. И каждый раз газообмен резко усиливался: увеличивалось как поглощение кислорода, так и образование углекислоты. Сильнее всего это проявлялось на 2 — 3-й день. Затем газообмен постепенно падал и становился нормальным.
Но в шестой раз впрыскивания не произвели. И все же регистрирующий аппарат показал, что потребление кислорода увеличилось так же, как и выделение углекислоты.
Ничего загадочного здесь не было. Свою роль в этом сыграла электрическая лампочка.
Все пять раз за две минуты до инъекции тироксина вспыхивал свет в затемненной комнате. Условный раздражитель присоединялся к безусловному рефлексу. На шестой раз действовал только выработанный условный рефлекс.
Доказательство не вызывало уже никаких сомнений. Это было свидетельство участия коры головного мозга в процессах газообмена.
В то же время экперименты над газообменом навели исследователей еще на одну крупную проблему.
В описанных только что опытах газообмен стимулировался введением тироксина. В обычных условиях, в жизни, ничего вводить не надо: тироксин по мере надобности поступает в организм
из самой щитовидной железы. Это вое понятно. Но когда с помощью условного рефлекса усиливается газообмен, то что здесь происходит? Ведь тироксин не вводится. Отчего же повышается газообмен? Он может активизироваться благодаря выработке гормона щитовидной железы в большей дозе, как и следовало полагать. Но ведь газообмен может явиться и результатом того, что начинают действовать какие-то другие причины, какие-то особые, не известные еще механизмы, способствующие захвату клетками кислорода и выделению углекислоты. Так тоже могло быть.
А как происходит на самом деле?
Подобный вопрос, раз он возник, разумеется, не мог остаться без ответа.
И вот в лаборатории Быкова началась серия очень тонких, очень сложных работ, представляющих большой интерес.
Двойное управление
В том, что свет лампочки пускает в ход всю систему повышения газообмена, сомнений, конечно, никаких не было. Но свет лампочки воздействует на рецепторы, на органы чувств, воспринимающие зрительное раздражение. Оно доходит до коры мозга и возбуждает соответствующие нервные центры. Оттуда новые импульсы бегут к физиологическому аппарату, который вызывает подъем газообмена.
Что же представляет собой этот аппарат? Можно доказать, что им является щитовидная железа?
Можно. Импульсы из коры мозга передаются по нервным волокнам. Надо лишить щитовидную железу всех ее нервных связей с мозгом, перерезать нервные волокна. Не будет нервных волокон, импульсы не дойдут до щитовидной железы. Не дойдут импульсы, не будет подъема газообмена.
Такое рассуждение совершенно логично. Несомненно, пользуясь им, можно достигнуть цели: доказать, что на газообмен влияет щитовидная железа.
И помощница Быкова, ассистентка Ольнянская, проделывает нужную операцию. Она хирургически открывает доступ к железе собаки и перерезает все нервы, идущие оттуда к головному мозгу. Щитовидная железа выключается из нервной сети.
После того, как животное совершенно оправилось, повторили прежний опыт: впрыскивание тироксина с одновременным зажиганием лампочки в затемненной комнате. Все сделали, чтобы образовать условный рефлекс. И вот вспыхивает лампочка, а тироксин не вводится. Совершенно очевидно, что условный рефлекс теперь ни к чему не поведет. Его просто не будет. В самом деле, влияние щитовидной железы благодаря операции перерезки ее нервов выключено. И импульсы коры до нее не доходят. И тироксин не впрыснут. Газообмен не может измениться.
Но, к удивлению экспериментатора, вышло совершенно иначе. Получилось так, точно железа не была выключена. Газообмен усилился и больше всего на третий день, а затем стал, как обычно, снижаться. Такое явление было неожиданно. Для объяснения требовались дальнейшие поиски.
Невольно возникало предположение, что существуют еще какие-то пути воздействия коры мозга на щитовидную железу, но они упущены экспериментатором. Щитовидная железа лишилась нервных связей с корой, но эти другие пути сохранились и действуют. И заставляют работать щитовидную железу.
Что же делать? Как устранить всякое участие железы в газообмене?
Выход в конце концов придумали. Надо совсем удалить железу, вырезать ее целиком. Тогда станет ясно, какую роль в газообмене она играет. Не обнаружатся ли тогда другие возбудители газообмена?
Так Ольнянская и поступила. Щитовидная железа была удалена. И это оказалось действительно тем обстоятельством, которое принесло точный и убедительный ответ. Введение тироксина под кожу поднимало газообмен, но ни свет лампочки, ни любые другие условные раздражители ничего не давали.
Импульсы из коры мозга оставались безрезультатными, если была удалена железа.
Значение щитовидной железы как основного фактора газообмена нужно было считать признанным. Без гормона железы газообмен повышаться не может. Разумеется, если при этом не впрыскивали тироксин.
Все это было бесспорно и явилось замечательным экспериментаторским достижением. Но опять оставалось невыясненным одно темное место. Оно имело прямое отношение к перерезке нервов щитовидной железы, или, как говорят физиологи, к ее денервации.
Ведь денервированная железа, когда ее не удаляли, усиливала газообмен при условном рефлексе, при зажигании лампочки. Как же к железе поступали сигналы, импульсы коры мозга, если все нервы были пересечены? Это казалось совершенно непонятным. И вполне естественно, что Ольнянской пришлось затратить много усилий для выяснения этого вопроса.
Кора мозга посылала импульсы щитовидной железе. Нервные связи с железой были прерваны, а импульсы до нее, несомненно, доходили. Значит, сигналы мозга нашли другой путь к железе, помимо передачи возбуждения по нервным волокнам. Ольнянской следовало обнаружить этот второй добавочный путь.
В конце концов, после долгих поисков, она обратила внимание на так называемый гипофиз, на нижний мозговой придаток. Это тоже железа внутренней секреции. Расположена она в ямке дна черепа, в углублении, которое носит название турецкого седла. Гормон гипофиза имеет существеннейшее значение для роста организма и для жирового обмена. Нарушение его функций харак-
теризуется задержкой роста или, наоборот, чрезмерным ростом. Почти все карлики и великаны — это результат или недостаточности работы гипофиза или его чрезмерной деятельности. У людей с ненормальной функцией гипофиза могут иногда увеличиваться отдельные части тела — руки, ноги, нижняя челюсть, — получается то, что называется акромегалией. Развивается иногда непомерное ожирение.
Почему же Ольнянская проявила такой интерес к гипофизу?
Это не было случайностью. Между придатком мозга и щитовидной железой есть какая-то связь. При некоторых нарушениях работы щитовидной железы тоже наблюдается карликовый рост. Такие карлики, правда, отличаются от гипофизарных карликов, но во всяком случае несомненно, что и щитовидная железа и мозговой придаток влияют на рост.
Существуют указания на то, что разрушение щитовидной железы сопровождается усилением деятельности гипофиза.
Одним словом, эти два органа внутренней секреции безусловно связаны друг с другом. Ничего странного, следовательно, нет в том, что Ольнянская стала искать разгадку функций денервиро-ванной железы в существовании гипофиза. Нет ли здесь ключа к раскрытию тайны?
В лаборатории появился еще один объект исследований: новая собака, совершенно здоровая, с неповрежденной щитовидной железой, с нормальным гипофизом. Впрыскиваниями тироксина и зажиганием лампочки в затемненной комнате у животного выработали условный рефлекс на газообмен. Все проделали, как обычно. А затем, когда этот рефлекс укрепился, собаку подвергли операции удаления гипофиза.
Исчезли после этого условные рефлексы? Нет, не исчезли. Когда в положенный час, в привычной обстановке помещения загорелась лампочка, газовые часы показали, что у собаки начался подъем поглощения кислорода. Все было как полагается.
Вот теперь у нее денервировали щитовидную железу.
Что случилось с условным рефлексом после денервации? Он исчез. Он перестал оказывать какое бы то ни было действие на расходование кислорода и выделение углекислоты. Загадка была раскрыта. Чтобы вызванные условным раздражителем импульсы коры мозга совсем не доходили до щитовидной железы, надо было и перерезать нервы железы и удалить гипофиз.
Значит, импульсы центров коры имели два пути к щитовидной железе. Один — непосредственный, через нервы, другой — как бы с промежуточной инстанцией, через гипофиз. Когда перерезали нервный проводящий путь, действовали те импульсы из коры мозга, которые достигали гипофиза и усиливали его гормональную функцию. Увеличенное количество гормона гипофиза, поступая в кровь, достигало денервированной щитовидной железы и пробуждало ее к усиленной деятельности, т. е. к большей выработке тироксина.
Это и есть так называемая гуморальная связь органов внутренней секреции, осуществляющаяся через жидкости организма, через кровь и лимфу.
Теперь не оставалось никаких сомнений. Кора мозга обладает двумя путями воздействия на функции внутренних органов: основным, определяющим — нервным и добавочным — гуморальным.
Возвращение домой
Это был обыкновенный товарный поезд, каких много на каждой железной дороге, и кондуктор любого его вагона ничем особенным не отличался от всех кондукторов товарных поездов. Это были люди обыкновенного сложения, и со стороны здоровья никаких отклонений у них не наблюдалось.
Когда же сотрудники Быкова — Слоним и Понугаева — занялись их исследованием, обнаружилось очень много интересного.
Терморегуляция, или, что то же самое, теплорегуляция — это приспособление организма к тому, чтобы сохранять постоянную нормальную температуру тела независимо от колебаний температуры внешней среды, конечно, в известных пределах. Это очень важное для организма свойство. В самом деле, если организм не обладал бы теплорегулирующими физиологическими механизмами, то жизнь его была бы совершенно невозможна или необыкновенно ограничена. Где-нибудь на юге температура тела, нагревшегося до температуры воздуха в 50, например, градусов, быстро вызвала бы смерть. Уже при температуре около 52 градусов белки тела, как известно, свертываются, что несет гибель организму. И, наоборот, зимой, даже при морозе всего в 10 градусов человек превратился бы в кусок льда.
Но организм обладает очень чуткой системой регуляции тепла, в которой участвуют и сердце с кровеносными сосудами, и вегетативная нервная система, и железы внутренней секреции; есть, в организме и, так сказать, главный пост — теплорегулирующий центр, расположенный в так называемом промежуточном мозгу. Благодаря теплорегуляции организм может приспособляться к внешней температуре. Сколько бы градусов холода или тепла ни было в воздухе, тело человека в границах возможной теплорегуляции сохраняет свойственную ему температуру. У человека и на суровом севере и на знойном юге она равна, примерно, 36 — 37 градусов.
Что происходит, когда на улице очень жарко? Человек потеет. Пот испаряется. Для превращения жидкости в пар требуется затрата тепла; увеличивается, значит, теплоотдача. В итоге, температура тела понижается. Одновременно уменьшается выработка тепла клетками организма. Значит, понижается деятельность клеток. А это влечет за собой падение газообмена. Температура тела не может в таких условиях повышаться.
На холоду увеличивается выработка тканями и клетками
тепла, на что уходит больше энергии. Ясно, что газообмен усиливается. Температура тела в таких условиях не может понижаться. В этом суть терморегуляции.
Однако, вернемся к товарному поезду. Поставим вопрос: если в Ленинграде 30 градусов мороза и в Любани 30 градусов мороза, одинаково должно быть холодно здесь и там одному и тому же человеку? Ответ как будто бы очевиден. Конечно, и в Ленинграде и в Любани человеку при 30 градусов в одной и той же одежде будет холодно в одинаковой степени.
Но кондукторы железнодорожного участка Ленинград — Лю-бань, обслуживающие товарные поезда и находящиеся поэтому всегда на тормозных площадках, опровергают это ясное и естественное положение. С ними происходят интересные вещи. Какой бы мороз ни стоял в Любани, даже более крепкий, чем в Ленинграде, кондукторам, едущим в сторону Любани, всегда становится жарко. Они даже растегивают вороты полушубков.
Зато, когда поезд идет к Ленинграду, холод становится ощутимее. Кондуктора дрожат, ежатся, кутаются. Они мерзнут, хотя мороз в Ленинграде может быть и гораздо слабее, чем в Любани.
Как понять такое странное явление?
Когда у этих железнодорожников произвели измерение газообмена, то установили, что при направлении на Любань газообмен у них действительно повышался, т. е. выработка клетками тепла усиливалась: поэтому кондукторам, хотя они и находились на тормозных площадках, становилось жарко.
Когда же поезд шел в сторону Ленинграда, газообмен у них значительно падал, т. е. выработка тепла ослабевала и температура тела снижалась, отчего им действительно должно было быть холодно.
Объяснить эти «чудеса» теперь, после работ школы Быкова, нам довольно просто. При уходе поезда из Ленинграда людям предстоял долгий путь. Их теплорегуляторный центр, словно зная это, готовился к длительному охлаждению тела. Поэтому он как бы сигнализировал о большой выработке тепла. Человеку приходилось расстегивать полушубок.
Возвращение в Ленинград — это возвращение домой. А дома ждет тепло, согретая комната. Теплорегуляторный центр, как бы осведомленный об этом, заблаговременно понижал выработку тепла. Получался недостаток тепла, поэтому тело сильно чувствовало холод.
Но откуда теплорегуляторный центр мог принимать такие сигналы о приближении к Ленинграду или об удалении от него? Конечно, только из центров коры головного мозга, только из области головного мозга, связанной с сознанием.
Условные раздражители — приближение к Ленинграду и удаление от него — и условные температурные рефлексы производили все эти «чудеса» с кондукторами.
Терморегуляция, ее скрытые, где-то в глубинах организма совершающиеся процессы, тоже оказались под контролем коры мозга.
Кишечная петля
Исследования Быкова и его учеников проводились в лабораториях в очень своеобразных условиях, и основными объектами опытов являлись животные. Как правило, это были собаки.
Но однажды Быкову сообщили о случае с жертвой трамвая. В результате аварии у пострадавшего оказался большой дефект в стенке брюшной полости. Рана так зарубцевалась, что между ее краями образовалось отверстие. Когда снимали повязку, из стенки живота выпадала часть тонкой кишки, одна ее петля. Быков над ней и произвел свои наблюдения.
Известно, что тонкий кишечник совершает так называемые перистальтические движения. Это волнообразные движения, играющие очень важную роль в продвижении по кишке пищевой кашицы. Движения эти обусловливаются своеобразием строения мышц кишечника и наличием в нем особого нервного аппарата.
Быков приходил в палату перед самым обеденным часом. Больной, освобожденный от повязки, лежал на кровати. Быков рассматривал рану и обнаружившуюся петлю. Разговор заходил об обеде, который сегодня попадут больному. И по мере того, как развивалась беседа на эту тему, поведение кишечной петли менялось. То она начинала усиленно двигаться, усиленно перисталь-тировать, то ее движения замедлялись, то потом вдруг снова учащались.
Секрет был, на первый взгляд, прост. Когда называлось вкусное блюдо, перистальтическая волна становилась живее, словно делала скачок. Упоминание о чем-нибудь мало для еды привлекательном как бы тушило движение, перистальтика стихала.
Это условный раздражитель заставлял кишечную петлю вести себя так, точно в желудок и кишечник попадала пища то вкусная, то несъедобная.
Однако встает вопрос: где же здесь условный раздражитель? Ведь, собственно, никаких условных рефлексов не создавалось, не было никаких зрительных, слуховых, осязательных возбудителей органов чувств, предшествующих или сопровождающих акт еды. Был простой разговор. И все. Где же условный раздражитель?
Здесь мы сталкиваемся с очень интересным явлением. Оно открывает нам существование особой системы условных рефлексов.
Опыты с глюкозой
Однако прежде чем к ним перейти, расскажем еще об одном опыте, подтверждавшем участие психики в деятельности кишечника. Это был тонкий, можно сказать, изящный опыт, проведенный на собаке. Он позволил исследователю понять самые сокровенные свойства кишечной стенки.
Собаке сделали операцию, с помощью которой у нее очень умело вывели наружу кишечную петлю. Кишечную петлю не только вывели наружу, но и открыли доступ в ее полость: прорезали в стенке отверстие, сделали так называемую фистулу. Так как ни нервных волокон, ни артерий и вен кишечника не повредили, то в петле физиологические процессы протекали так, точно она оставалась на своем месте в брюшной полости. Все в ней совершалось нормально, как и в остальном, не оперированном отделе кишечника. Такова была подготовка к опыту. Сам опыт заключался в следующем.
Через отверстие в петлю влили значительное количество раствора глюкозы. Глюкоза, как известно, — один из видов сахара, питательное вещество. Что с ней происходит в кишечнике? Она всасывается в кровь. Кишечная стенка проницаема для глюкозы. Через определенный промежуток времени большая часть введенного количества глюкозы проникает в кровь.
Но если к глюкозе прибавить особый препарат — сапонин, то за тот же период времени всосется вся глюкоза, без остатка.
На введение сапонина стенка кишки отвечает увеличением своей проницаемости. Это — безусловный рефлекс на сапонин.
Теперь к сапонину присоединили удары метронома. На основе безусловного рефлекса выработали условный звуковой рефлекс. Для этого потребовался довольно большой срок. И вот однажды, когда влили в выведенную наружу петлю кишки глюкозу, прозвучал метроном. Раствор же сапонина не пустили в ход.
И все же глюкоза ушла в кровь, ушла вся, без остатка.
Произошла удивительная вещь. Проницаемость стенки кишки, сложнейший, тончайший, можно сказать, интимнейший механизм деятельности клеток слизистой оболочки подчинился ударам метронома, то есть звуковому раздражению.
Вторая сигнальная система
Теперь вернемся к больному с выпадавшей кишечной петлей. Что же являлось у него возбудителем условного рефлекса?
Условным раздражителем в случае с данным больным было слово. Слово — это возбудитель самых разнообразных, простых и сложных условных рефлексов.
Такая роль слова объясняется тем, что человек существо, не только биологическое, обладающее высоко развитой центральной нервной системой, но и общественное, социальное. Его поведение определяется не только обычными раздражителями внешнего мира, действующими на органы чувств — на зрение, слух, осязание, обоняние и так далее, но « специфическими, только у человека существующими раздражителями. Это — слово, речь.
Ощущения и‘представления, появляющиеся в мозгу благодаря обычным чувственным раздражителям из внешнего мира, являются как бы сигналами окружающей среды. Их можно, следовательно, назвать первой сигнальной системой. Она существует как у животных, так и у человека.
Слово служит тоже сигналом, но сигналом особого рода, добавочным по отношению к ощущениям и представлениям обычного рода. Такой сигнал возникает в результате отвлечения и обобщения конкретных качеств того или иного предмета. Когда мы произносим слово, например, «яблоко», то самого яблока перед нами нет. Но у нас может появиться все то, что происходит при виде реального яблока: желание еды, выделение слюны. Слово «яблоко» является в данном случае как бы знаком тех- конкретных раздражителей, тех, по выражению Павлова, сигналов действительности, которые свойственны натуральному яблоку во всей его реальности, которые связаны с его цветом, вкусом, запахом.
Слово, написанное или произнесенное, вызывает поэтому все те последствия, которые подчиняются обычным законам условных рефлексов.
Но слово связано с мыслительной деятельностью, совершающейся в коре больших полушарий головного мозга. Эта деятельность, неотрывная от слова, составляет тоже сигнальную систему, но уже вторую, речевую.
Если обычные раздражители внешнего мира, такие, какие мы имели в нашем примере с яблоком — цвет, вкус, запах, можно назвать раздражителями для первой сигнальной системы, то слово является раздражителем для второй сигнальной системы, сигналом сигналов.
Проиллюстрируем это следующим примером. Вы пришли вечером посидеть к своим друзьям и ведете беседу. Разговор вас очень занимает. В это время входит кто-нибудь из семьи хозяина и сообщает, что скоро будет подан ужин. И вот у вас, только что не думавшего ни о какой еде, не видящего перед собой никаких блюд, не слышащего даже стука вилок и ножей, звона посуды, то есть при отсутствии обычных возбудителей условного пищевого рефлекса, вдруг появляется желание еды, аппетит, «текут слюнки».
Как истолковать такое явление? Это — результат словесного сигнала, то есть сообщения о предстоящем ужине. В нем, как мы видим, не участвуют ни зрительные, ни слуховые, ни вкусовые, ни прочие ощущения, связанные с едой. Он строится на словесных понятиях. Условный рефлекс здесь возникает на основе второй сигнальной системы.
Вот как сам Павлов излагал эго положение о второй сигнальной системе:
«В развивающемся животном мире на фазе человека произошла чрезвычайная прибавка к механизмам нервной деятельности. Для животного действительность сигнализируется почти исключительно только раздражениями и следами их в больших полу-
шариях, непосредственно приходящими в специальные клетки зрительных, слуховых и других рецепторов организма. Это то, что и мы имеем в себе как впечатления, ощущения и представления от окружающей среды; как общеприродной, так и от нашей социальной, исключая слово, слышимое и видимое. Это — первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными. Но слово составило вторую, специальную нашу, сигнальную систему действительности, будучи сигналом первых сигналов».
Ту же самую идею Павлов высказал в своем докладе на XIV Международном физиологическом конгрессе в Риме в 1932 году: «Если наши ощущения и представления, относящиеся к окружающему миру, есть для нас первые сигналы действительности, то речь, специально прежде всего — раздражения, идущие в кору от речевых органов, есть вторые сигналы, сигналы сигналов. Они представляют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, что и составляет наше лишнее, специально человеческое, высшее мышление, создающее сначала общечеловеческий эмпиризм, и наконец, науку — орудие высшей ориентировки человека в окружающем мире и в себе самом».
Значение этих положений Павлова о второй сигнальной системе вырисовывается в полной мере в свете труда Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам языкознания. Как указывает И. В. Сталин, «звуковой язык в истории человечества является одной из тех сил, которые помогли людям выделиться из животного мира, объединиться в общества, развить свое мышление, организовать общественное производство, вести успешную борьбу с силами природы и дойти до того прогресса, который мы имеем в настоящее время»
Совершенно понятно отсюда, какую чрезвычайную роль выполняет слово в жизни каждого человека.
Также ясно, что в лечебной медицине, где огромную роль играют расспросы больного, словесные указания, речевое воздействие на больного, учение о второй сигнальной системе приобретает серьезнейшее значение. Слово служит возбудителем множества сложных физиологических механизмов.
Существует ли у животных вторая сигнальная система?
Нет, и это вполне естественно: у животных нет никаких отвлеченных» понятий. Если собака на приказание — «ложись», опускается на пол, то это она делает вовсе не оттого, что понимает смысл слова «ложись». Она опускается на пол потому, что у нее выработан условный рефлекс на определенное сочетание звуков, то есть на слуховое раздражение определенного тона, звучания, силы. Стоит отдать собаке приказание то же самое по смыслу, но другими словами, например, «перестань стоять на лапах» или «займи лежачее положение», как ничего не получится.
1 И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1952, стр. 46.
Собака останется стоять. Условнорефлекторной реакции не будет. И вполне понятно, почему собака не «понимает» смысла слов. Она обладает лишь первой сигнальной системой. А на звуковое раздражение словами «займи лежачее положение» у нее условный рефлекс еще на выработан.
У человека же имеется и первая и вторая сигнальные системы.
У человека возбудителями условных рефлексов являются раздражители зрительные, слуховые, вкусовые — все, что относится к первой сигнальной системе, и раздражители, которые заключаются в самом символе слов, произнесенных, написанных или услышанных, — это связано уже со второй сигнальной системой.
Вторая сигнальная система допускает образование весьма сложных цепей из наслаиваемых друг на друга сочетаний одних словесных раздражителей на другие, тоже словесные, приобретенные ранее: эти сочетания и составляют форму нашего мышления.
Разумеется, первая и вторая сигнальные системы существуют у человека не обособленно, не изолированно друг от друга, а в тесной взаимной связи, влияя одна на другую. Надо помнить, что словесное мышление тесно связано и с образным мышлением.
Вместе с тем слово является для человека возбудителем условных рефлексов, таким же реальным условным раздражителем, каким для животных служит любой фактор внешнего мира: звонок, вспышка света, звук шагов.
Труды Павлова раскрыли еще один физиологический механизм высшей нервной деятельности.
Важные особенности
Нужно однако сказать, что установление у людей, в связи с наличием первой и второй сигнальных систем, двух типов не исчерпывает всего вопроса о типах нервной деятельности. Кроме разделения их на две группы по преобладанию в них первой или второй сигнальной системы, нервная деятельность может еще иметь особенности, зависящие от характера протекающих в ней основных процессов: возбуждения и торможения. Эти особенности также создают тог или иной тип нервной деятельности.
Здесь мы подходим к одной из весьма существенных страниц передовой физиологии, созданной павловским гением.
Каковы главные свойства нервной ткани? Способность к возбуждению и способность к торможению. Процессы возбуждения и процессы торможения в различных сочетаниях составляют самые характерные стороны деятельности высшей нервной системы.
Проведя многочисленные опыты, наблюдения, исследования над собаками, Павлов установил, что не у всех животных одинаково протекают процессы возбуждения и процессы торможения,- — различны их сила, скорость, взаимное соотношение.
В зависимости от силы нервных процессов, от силы возбудимости типы нервной деятельности распределяются прежде всего
на две основные группы: на сильный тип и слабый. Сильный тип в свою очередь распадается на несколько групп. По быстроте протекания процессов в коре головного мозга, по степени уравновешенности процессов возбуждения и торможения, по преобладанию возбуждения над торможением и наоборот — различаются сильный возбудимый неуравновешенный тип, сильный возбудимый уравновешенный, сильный спокойный уравновешенный. Для слабого типа характерна инертность процессов возбуждения и торможения.
Так Павлов установил на животных существование типов высшей нервной деятельности и дал им физиологическое объяснение.
Возникает вполне законный вопрос: можно ли считать такую классификацию пригодной и для людей?
После многих лет изучения этого вопроса и всестороннего его исследования Павлов дал точный ответ. Вот слова великого физиолога:
«Вопрос о типах нервной системы имеет для всех нас огромное значение... Мы должны считать это точным фактом. Мы с полным правом можем перенести установленные на собаке типы нервной системы на человека... Это согласие фактов на человеке и животных до последней степени убедительно говорит за действительность этой классификации, за правильность этой систематизации».
Таким образом, положение, что люди различаются по характеру нервной деятельности и образуют как сильный, так и слабый тип, а сильный тип в свою очередь разделяется на возбудимый неуравновешенный, возбудимый уравновешенный, спокойный уравновешенный, является неоспоримым.
Как в жизни выглядят люди сильного типа нервной деятельности и люди слабого типа?
Вообще надо сказать, что установление типа нервной деятельности у людей — задача очень трудная. Но все же некоторые вехи дает нам их поведение — в тех условиях жизненных трудностей, — социальных, служебных, бытовых, — в которые человек попадает.
Что характерно для сильного типа нервной деятельности? Умение противостоять тяжелым обстоятельствам, возникающим препятствиям, проявление инициативы, настойчивости, смелости. Если выполняется работа, требующая большого напряжения сил, то человек такого типа нервной деятельности не только выполняет ее, но делает это охотно, получая удовлетворение от преодоления затруднений.
Человек слабого типа, наоборот, склонен уклоняться от трудностей и опасностей.
Различие силы нервной деятельности сказывается, например, при публичных выступлениях. Сильный тип стремится сделать свое выступление наиболее острым, вызвать и выслушать возможно большее число возражений, привлечь возможно большее
внимание к своему докладу. Слабый тип хочет, чтобы его выступление прошло спокойно, тихо, незаметно.
Сильный тип охотно ставит себе трудные, сложные задачи; слабый — уклоняется от них, его привлекают цели, не требующие напряжения для их достижения.
Люди сильного типа нервной деятельности упорны в борьбе; люди слабого типа стараются избегать активной борьбы. Она для них весьма мучительна, поэтому они легко уступают.
Таковы некоторые проявления двух основных видов нервной деятельности:, сильного и слабого.
Но представители сильного типа нервной деятельности, как было оказано, не все одинаковы. Есть такие, которые умеют обуздывать даже горячие свои желания. Подобный тип нервной деятельности нужно отнести к сильному уравновешенному типу, в котором возбуждение уравновешивается торможением. Наоборот, в тех случаях, когда вспыхнувшее возбуждение ничем не ограничивается, не сдерживается, мы имеем проявление сильного неуравновешенного типа нервной деятельности, когда процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Это те люди, которые лишены выдержки, нетерпеливы, вспыльчивы, раздражительны.
Однако этим не кончается характеристика типов высшей нервной деятельности. Имеется еще подразделение. Так, человек сильного уравновешенного типа может обладать способностью быстро применяться к меняющимся условиям среды, легко пересматривает свои навыки и привычки, безболезненно приспосабливается к новым, даже трудным условиям жизни. Это будет подвижный, сильный тип нервной деятельности.
Конечно, другим будет инертный тип. Его привычки очень прочны, медленно меняются, приспособление к новой жизненной обстановке совершается крайне медленно и неохотно. Для людей такого типа нервной деятельности переезд на другую квартиру, даже перестановка мебели в комнате уже представляется крайне сложным актом.
Таковы некоторые черты гениального учения Павлова о типах нервной деятельности, примененного к человеку.
Роль среды
Тип высшей нервной деятельности это не есть что-то неизменное, предопределенное, раз навсегда данное с момента рождения. Основные черты нервной деятельности могут меняться, тем самым меняя и весь тип, меняя его свойства, меняя все поведение живого существа. Делает это внешняя среда, обстановка, окружающие условия. Под их воздействием формируются и видоизменяются типы нервной деятельности. Типы создаются прежде всего средой, условиями существования.
Известен следующий интересный опыт. Щенята, родившиеся от одной собаки, были вскоре после рождения разделены на две группы. Каждую группу поместили в особую обстановку.
Щенята первой группы жили в естественных условиях, на свободе; они бегали по двору, находились и среди чужих собак, общались с людьми, резвились ничем не стесняемые. Щенки второй группы находились почти все время в клетке.
Щенята стали подрастать. И тогда над обеими группами начали ставить опыты с условными рефлексами.
Прошло некоторое время и тут обнаружилось, что собаки первой группы, выросшие на свободе, не похожи по своему поведению на собак второй группы. Щенки первой группы выросли веселыми, жизнерадостными, охотно подбегали к людям, проявляли любопытство к другим животным. На условные раздражители они давали нормальные реакции.
Собаки, выросшие в замкнутых, обособленных условиях, в клетке, в условиях как бы тепличных, вели себя совсем иначе. При появлении в лабораторном помещении незнакомых людей или животных они прижимались к полу, у них были заторможенные движения, сильные звуки вызывали дрожь всего тела. Они вели себя так, словно кругом все было полно опасности. Все неожиданное, новое их пугало. Они боялись всего неизвестного.
Так на этом весьма поучительном опыте подтвердилось, что поведение, характер, те или иные черты вырабатываются в зависимости от обстановки, от условий воспитания, от среды.
Вместе с тем становилось ясным, что под влиянием этих же причин складывается тот или иной тип нервной деятельности, определяются реакции живых существ на явления внешнего мира.
Новый мир
Таким образом, окончательно рушилось прежнее представление о том, что в организме живых существ, особенно высших млекопитающих и человека, имеются две независимые друг от друга системы органов: произвольной деятельности, управляемые корой головного мозга, и непроизвольной деятельности, подчиняющиеся автономным, вегетативным, нервам.
Основываясь на работах Павлова, академик Быков, его ученики и сотрудники открыли закономерности взаимоотношений внутренних органов и тканей с высшими отделами головного мозга.
Многочисленные эксперименты были произведены и для изучения других функций организма: обмена веществ, расширения и сужения кровеносных сосудов, таких периодических явлений, как сон, как суточный ритм понижения и повышения температуры тела, как автоматическая работа дыхательного аппарата.
Остроумные, тщательно подготовленные опыты иногда приводили к поразительным результатам. Так, например, удавалось
добиться того, что прикосновение холодных предметов вызывало не ощущение холода, а тепла, и наоборот. В некоторых экспериментах кровеносные сосуды руки, опущенной в горячую воду, не расширялись, а суживались. Удавалось также получить отсутствие болевых ощущений кожи при нанесении сильных болевых раздражений. И все это совершалось благодаря участию условных рефлексов, участию коры головного мозга.
Отсюда совершенно ясно вытекало положение, что организм это не механическое соединение двух независимых одна от другой областей. Это единая целостная система, деятельность всех частей которой управляется, координируется единым высшим нервным механизмом — корой головного мозга.
Это физиологически вполне целесообразно. В самом деле.
Представьте себе следующее: перед живым существом возникает внезапная опасность, от нее необходимо спастись. В таком случае нужно повернуться и бежать или, наоборот, собрать силы и напасть на врага, но для этого недостаточно одной работы скелетных мускулов. Чтобы суметь убежать или напасть, необходима мгновенная мобилизация сердца, селезенка должна сократиться и вытолкнуть в сосуды тела свои запасы крови, надпочечники должны усилить свою функцию и выделять больше адреналина, повышающего потребление мышцами сахара, этого источника энергии. Остальные внутренние органы также должны принимать самое интенсивное участие в борьбе организма за свое спасение. Так и происходит. Известно ведь, что в минуту грозной опасности силы удесятеряются. Человек тогда способен, например, перескочить забор, который в обычных условиях представляет для него непреодолимое препятствие; способен сопротивляться с успехом противнику, более сильному, который в другое время легко бы с ним справился.
Чтобы все органы, внешние и внутренние, привести в действие и притом весьма согласованное в короткий срок, управление ими должно совершаться из единого центра. Только такая целостность функций обеспечивает сохранение и развитие жизни, создает наилучшие условия приспособления организма к обстоятельствам внешней среды.
Работы Быкова, являющиеся развитием учения Павлова, раскрывают действительный смысл управляющей и регулирующей роли коры головного мозга, в клетки которой поступают через органы чувств все сигналы из окружающего мира.
Обеспечение связи
Становится понятным еще одно очень любопытное, заслуживающее чрезвычайного внимания обстоятельство, установленное в ходе исследований.
Вспомним эксперименты над газообменом, над денервирован-ной щитовидной железой, которые обнаружили замечательное
свойство железы: к ней доходили импульсы от коры мозга не только по нервным волокнам, но и через промежуточную инстанцию — через придаток мозга. Гормон гипофиза выделялся в кровь и с кровью добирался до щитовидной железы. Это, как мы говорили, есть гуморальный способ связи.
Оказалось, что так происходит не только в опытах со щитовидной железой, но и с почками, селезенкой, кровеносными сосудами и многими другими органами. Их лишали нервных связей с корой — перерезали нервные волокна. Но условные рефлексы действовали. Сигналы из высших нервных центров достигали эффек-торных органов благодаря деятельности гипофиза, надпочечников и еще некоторых внутрисекреторных желез.
Нужно ли такое двойное сообщение? Не является ли оно лишним? Какой в нем смысл?
Смысл огромный. В этом факторе — тоже жизненная целесообразность. На протяжении миллионов лет в процессе борьбы за существование и естественного отбора выработалась бесперебойность согласованного управления органами тела. Естественный отбор — эта могущественная сила развития — выковывала совместность, точность и быстроту реакций защиты организма, их готовность, их приспособляемость к постоянно изменяющимся условиям внешней среды.
Наряду с всеобъемлющей, организующей, ведущей формой связи — нервной — существует еще добавочная — гуморальная. Наличие той и другой связи способствует борьбе за существование, охраняет безопасность и жизнь организма. Оно может рассматриваться, выражаясь словами К- М. Быкова, как «явление величайшей организованности, обеспечивающей самые сложные проявления жизни».
Сигналы в центр
Каждому из нас знакомы те неясные, «темные» чувства, какие-то непонятные, смутные ощущения, возникающие где-то в глубине организма. Человек здоров, а ему как-то не по себе. Иногда такое состояние проходит, не оставляя следа, но иногда через некоторое время обнаруживается недомогание, а спустя еще некоторое время врачи устанавливают заболевание печени или сердца, почек или легких.
Как это понять? Надо предположить, что все начинается с каких-то нарушений функций, какие-то процессы в глубинах организма начинают протекать неправильно. И органы, с которыми это происходит, посылают в кору мозга необычные импульсы. Необычные импульсы и дают неясные, смутные ощущения.
Значит, кора мозга не только посылает регулирующие приказания тому или иному внутреннему органу, но и получает от него сигналы.
Кора мозга, наш психический мир, наше сознание и воля не только влияют на работу внутренних органов, но и сами находятся под известным воздействием импульсов, идущих оттуда.
Так утверждают последователи Павлова. И не только утверждают, но и доказывают правильность этого рядом интересных опытов.
Сотрудниками академика К. М. Быкова, Е. С. Ивановой и другими, был проделан, например, следующий эксперимент. Образовав с помощью операции фистулу желудка, получили доступ в него сквозь брюшную стенку. Операция была произведена технически так хорошо, что собака вскоре мало чем отличалась от совершенно нормальной.
Через образовавшееся отверстие — фистулу — вливали в желудок воду, которую тотчас выпускали. Получалось, собственно, не вливание, а орошение. Одновременно с этим заднюю правую лапу животного раздражали электрическим током. От удара током лапа отдергивалась — появилась оборонительная реакция.
Спустя некоторое время, после 5 — 10 таких сочетаний, достаточно было влить воду в желудок, как собака отдергивала ногу, несмотря на то, что никакого тока не применяли. Мы уже хорошо знаем, в чем здесь дело. Это результат условного рефлекса. Но нас сейчас интересует одна деталь данного опыта.
Условным раздражителем в данном случае явилось орошение водой. Но как это раздражение могло передаться в кору мозга? Разве стенки желудка имеют нервный аппарат, который воспринимает раздражение и посылает его в кору мозга, имеют свои рецепторы?
Да, имеют. Без рецепторов условный рефлекс, как мы знаем из всего предыдущего, не образовался бы. И хотя ни анатомы, ни физиологи не раскрыли еще полностью их строения, доказано, что они существуют. Их нашел видный советский ученый Б. И. Лаврентьев.
Рецепторы, расположенные в стенках желудка, т. е. в ткани внутреннего органа, получили название интерорецепторов, или, сокращенно, интероцепторов, т. е. внутренних рецепторов, в отличие от рецепторов органов чувств — экстероцепторов, т. е. внешних, наружных рецепторов.
Но раз есть интероцепторы, которые воспринимают раздражения из внутренних органов, то должны быть и нервные проводники, по которым воспринятое раздражение передается в кору мозга.
Таким образом, весь ход опыта показал, что желудок не только получает сигналы от центров коры мозга, но и сам посылает туда по нервным волокнам свои импульсы.
Те же свойства
Работы над внутренними органами в намеченном направлении открывали широкие перспективы. В этом отношении особенную роль сыграли исследования ученика академика Быкова Э. Ш. Айрапетьянца, давшие новые, очень интересные результаты. Здесь эксперименть1 были сложнее, зато они с большой убедительностью приводились к определенным выводам.
У лабораторной собаки не только была сделана желудочная фистула, было еще выведено наружу отверстие слюнного протока. Таким образом, слюна попадала не в рот, а через приспособленную для этого маленькую воронку в стеклянный цилиндрик, подвешенный тут же, у угла рта животного. По делениям на цилиндрике можно было точно устанавливать количество слюны, выделяемой слюнными железами, т. е. определять работу слюнных желез. Это обычная методика опытов, созданная Павловым.
В желудочную фистулу вставили трубку и через нее наполняли желудок водой. Но дело не только в том, что можно было желудок наполнять водой. В эту трубку помещали еще две тоненьких трубочки. Через одну из них вода под известным давлением втекала, через другую — вытекала.
Таким образом, было легко и удобно орошать водой внутренние стенки желудка.
Сами опыты заключались в следующем. Желудок в течение 45 — 50 секунд орошался водой. В это время собаку кормили мясосухарным порошком, который животные очень любят и на который у них выделяется много слюны. Корм подавался из особой автоматической кормушки без участия и присутствия человека. Все совершалось беззвучно, в немой тишине лабораторной камеры, без шума текущей через трубки жидкости.
Пока собака ела, орошение продолжалось. Конец еды означал конец орошения. На языке павловского учения, как мы уже знаем, это значило, что раздражение стенок желудка орошением сопровождалось подкреплением едой. Так повторили несколько раз.
А затем все так же беззвучно, при той же полной изоляции животного опыт видоизменялся. Орошение желудка продолжалось, но мясо-сухарный порошок отсутствовал. Его убирали. Кормление прекращалось. Произошло ли после этого что-либо достойное внимания? Да, безусловно. Через двадцать секунд, несмотря на отсутствие еды, из слюнной железы начиналось обильное выделение слюны.
Нетрудно понять, что здесь произошло. Выделение слюны явилось результатом условного рефлекса. Клеши, откуда поступают сигналы к слюнной железе, расположены в коре головного мозга. Чем эти сигналы были вызваны? Орошением желудка.
Принять раздражение стенок желудка водой и передать их в центры высшей нервной деятельности — это может, разумеется, произойти только там, где имеются концевые воспринимающие нервные аппараты, т. е. рецепторы, точнее — интероцепторы.
Такое образование условного рефлекса с раздражителем не из внешнего мира, а из стенок желудка показывает, что интеро-
депторная связь внутреннего органа с мозгом вызывает в коре такой же процесс, который вызывает и импульсы, идущие от экс-тероцепторов, от органов чувств.
Но в коре мозга под воздействием внешних раздражителей образуются не только условные рефлексы; так протекают еще многие другие процессы, сопровождающие эти рефлексы, такие как торможение, дифференциация, иррадиация. Возникают ли подобные акты и при интероцептивных импульсах — при сигналах, идущих из внутренних органов?
В этом направлении опыты Айрапетьянца, как и ряд работ других исследователей, дали убедительные результаты. Вот, например, как проходил один эксперимент над собакой в лаборатории Быкова.
У животного образовали с помощью орошений интероцептив-ную условную связь желудка с корой мозга. После нескольких орошений желудка, подкрепленных мясо-сухарной едой, слюна выделялась и без пищевого подкрепления. Все происходило должным образом. Но однажды, в таком же точно опыте слюна не появилась.
Все было, как и в предыдущих экспериментах: орошение в сочетании с едой, а потом орошение без еды. Но секунды проходили за секундами, а ни капли слюны в пробирку не стекало.
В чем же дело? Дело в том, что в этот опыт внесли новый элемент — температуру. Кормление сопровождалось орошением-водой в 36 градусов, а потом, когда кормление прекратили, пустили в желудок воду только в 26 градусов. И эта разница решала все дело. Орошение более холодной водой уже не гнало слюну, а наоборот, задерживало. В коре мозга возник процесс торможения условного рефлекса.
Таким образом, интероцепторные импульсы, сигналы из внутренних органов не только создают условные рефлексы, но и погашают их. Кроме того, при них в коре вырабатывается также и дифференцировка, различение орошения водой 36-градусной, подкрепленного едой, и 26-градусной без подкрепления едой.
Можно оказать совершенно определенно, что интероцепторы обладают теми же основными свойствами, какими обладают и рецепторы, связанные через органы чувств с внешним миром.
Установление этого обстоятельства и бесспорное его подтверждение явились важным событием в физиологии высшей нервной деятельности.
Распространение границ
Как ни значительны были факты, добытые экспериментаторами, они все же говорили о том, что происходило с одним только органом, с желудком. Можно было бы, конечно, сказать, что желудок не является исключением из числа остальных внутренних органов. А раз так, то и они, значит, снабжены интероцепторами.
Но наука требует доказательств. Следовательно, предстояла дальнейшая работа. Нужно было доказать, что и другие внутренние органы обладают способностью посылать сигналы в мозг. Только тогда отдельные факты превращались в общее явление, давали основание для выведения физиологического закона.
Объектом опыта стал кишечник. Даст ли он те же результаты? Обнаружится ли и здесь наличие нервных импульсов, идущих в кору мозга от воспринимающих аппаратов кишечной ткани?
Существует операция образования изолированной кишечной петли по особому способу.
Операция заключается в том, что кусок кишки перерезают с двух сторон. Получается участок кишки, отделенный от всего кишечника. Этот отрезок не омертвевает. Операцию производят таким образом, что сохраняют все нервные волокна и кровеносные сосуды куска кишки целыми, связанными со всей остальной нервной и сосудистой системой организма. Питание и нервная регуляция отрезка не нарушаются, хотя сам этот кусок кишки изолирован от всего кишечника.
Оба пересеченных конца изолированной петли вшивают в кожную рану, т. е. выводят их наружу. А оставшийся в брюшной полости кишечник соединяют вместе, так что в полной мере восстанавливается его непрерывность и проходимость. Техника этой операции так разработана, что по заживлении раны животное возвращается к обычному состоянию, нормально ест, пьет, спит. А изолированный и выведенный наружу кусок кишки находится в распоряжении экспериментатора.
Таким способом не раз пользовались в своих исследованиях сотрудники академика Быкова. На изолированной петле кишки получил интересные результаты и Айрапетьянц, изучая вопрос об интероцепторах кишечника.
Выведя наружу кусок кишки, он поместил в него резиновый баллончик. В баллончик наливалась вода температурой в 6 градусов тепла. Когда впускали воду, то одновременно раздражали электрическим током заднюю лапу животного. Вливалась вода, и тотчас вслед за этим ток шел в ногу и заставлял ее дергаться.
После нескольких таких сочетаний электричество исключалось из опыта. Ток не пускали в ход. И все же как только вода наполняла баллончик, лапа отдергивалась.
Условный рефлекс образовался и действовал. Значит, из стенок кишки в кору мозга шли нервные сигналы. Интероцепторная связь кишки с корой была установлена.
На таком изолированном отрезке кишки обнаружили и другие процессы, обусловленные действием интероцептивных импульсов. Опыты в этом направлении были поставлены с использованием тонкой экспериментальной техники. В то же время они отличались полной убедительностью. Изложим один из них, проведенный Н. Василевской.
Изолированную кишку орошали слабым раствором соляной
кислоты определенной температуры. Это сопровождалось одновременно подкармливанием собаки мясо-сухарным порошком. После нескольких десятков таких сочетаний выработался прочный условный рефлекс. Стоило начать делать орошение, как слюнй начинала обильно течь. А между тем еду животному уже не давали. Слюну гнал условный рефлекс.
Затем в эксперимент ввели изменения. Для орошения брали не раствор соляной кислоты, а обыкновенную водопроводную воду. Вода имела ту же температуру, что и соляная кислота.
И все же ни капли слюны не появилось. Интероцепторы кишки посылали в мозг импульсы, но корковые клетки пищевого центра как бы сумели различить, отдифференцировать эти сигналы от сигналов, вызванных соляной кислотой. Условный рефлекс не проявлялся.
И здесь, значит, интероцепторные импульсы из стенок кишки не только возбуждали условные рефлексы, но и сопровождались другими корковыми процессами: дифференцировкой, торможением.
Дальнейшие шаги
Изучение таких органов, как желудок, кишечник, а в дальнейшем — почки, мочевой пузырь, показало, что организм действительно обладает рецепторами, расположенными в этих внутренних органах. Но ведь имеются процессы, играющие важнейшую роль в существовании живых организмов и связанные с работой не отдельных органов, а целых физиологических систем.
Здесь прежде всего нам встречается сердечно-сосудистая система, имеющая всеобъемлющее значение. Посылают ли кровеносные сосуды импульсы в кору мозга? Отвечают ли на них высшие отделы головного мозга, ведающие нервно-психической деятельностью? Одним словом, существуют ли сосудистые интероцепторы?
Перед исследователями стояла трудная задача. Сами условия экспериментирования над сосудами представлялись весьма сложными. Необходимо было найти новые пути, другие приемы, особые способы воздействия на стенки артерий и вен.
Имеется в кровообращении один фактор, значение которого для жизнедеятельности организмов огромно. Это — кровяное давление. В здоровом организме кровяное давление есть величина более или менее постоянная. У человека среднего возраста давление крови в артериях равно примерно 130 — 140 миллиметрам ртутного столба. При нарушении сердечной деятельности или при изменениях в сосудах кровяное давление меняется — повышается или падает, иногда очень значительно. Длительное, а тем более постоянное нарушение кровяного давления есть признак серьезных расстройств функций важнейших для жизни органов, расстройств работы сердца, перерождения стенок кровяных сосудов, нарушения упругости артерий.
Все отделы сердечно-сосудистой системы тесно связаны между собой в своих отправлениях. Изменения деятельности не только крупных артерий или вен, но даже мельчайших сосудиков, даже капилляров, отражается на работе сердца, на частоте его биений, на размахе его сокращений. Точно так же и состояние сердца, ритм сердцебиений, кровенаполнение желудочков и предсердий, сила выбрасывания из сердца крови — все сказывается не только на больших сосудах, но и на самых мелких, вплоть до тех же капилляров.
Только при наличии взаимной связи нарушение процессов в одном отделе сердечно-сосудистой системы может вызвать компенсаторные изменения в другом.
Этим и обусловливается нормальная деятельность всей службы крови в организме.
Совершенно естественно, что проблема согласованности работы сердца и сосудов издавна привлекала к себе внимание исследователей. Как осуществляется регуляция разных отделов сердечно-сосудистой системы?
Самый большой кровеносный сосуд — это аорта. В ней может повыситься кровяное давление. Тогда, разумеется, нарушается правильность работы всего кровообращения. Что же происходит дальше? Остается ли повышенное давление без изменений?
Нет, оно падает. Оно стремится стать нормальным. Сердце начинает биться реже. В аорту, следовательно, поступает меньше крови. Кровяное давление, естественно, снижается.
Становится нормальным кровяное давление — не наступают в организме болезненные явления.
Может повыситься кровяное давление в другом крупном сосуде — в сонной артерии; это очень серьезное явление. Ведь ветви сонной артерии питают мозг. Резкое повышение здесь кровяного давления может вызвать разрыв какой-нибудь даже мельчайшей артерийки и причинить тем самым непоправимую беду — смерть.
Но обычно ничего плохого с ветвями и веточками сонной артерии не происходит. Дело в том, что вслед за повышением в ней кровяного давления опять-таки, как по сигналу, биения сердца начинают замедляться, и тогда кровяное давление выравнивается, становится нормальным.
Кровь приносится в сердце полыми венами, верхней и нижней. Собирающаяся в близких к сердцу отделах полых вен кровь сильно растягивает их стенки. Кровяное давление здесь повышается. Но если в этих местах собирается много крови, значит, в полости сердца ее остается мало. Нехватка крови может нарушить работу сердца и создать, следовательно, опасность для жизни организма.
И опять, вслед за растяжением полых вен кровью, автоматически, как по сигналу, начинается усиление биений сердца. Благодаря этому кровь усиленно перекачивается в сердце, а оттуда поступает в аорту, легочную артерию и дальше, в другие артерии.
В результате количество крови в полых венах уменьшается, кровяное давление в них опускается до положенной величины. Нормальная работа сердечно-сосудистой системы восстанавливается.
Каким же образом совершается такая перестройка? Почему сердце в нужные моменты бьется то сильнее, то слабее? Чем объясняется эта приспособляемость сердца к тому, что происходит в больших кровеносных сосудах?
Исследователи, занимавшиеся этими вопросами еще в середине и конце прошлого века, обнаружили механизм такой регуляции. Оказалось, что в стенках так называемой дуги аорты, вблизи самого сердца, и в полых венах в том месте, где они подходят к сердцу, и в определенном пункте сонной артерии заложены особые образования, чутко воспринимающие давление крови, изменения в нем. Они представляют собой конечные аппараты нервов, идущих из мозговых центров.
Это — рецепторные аппараты. Точнее — интероцепторы.
Механизм регуляции выяснился. Давление крови на стенки больших сосудов воспринимается соответствующими интероцеп-торами. Возникающие импульсы, сигналы, передаются по волокнам определенных нервов в мозговые центры, а оттуда — тем нервным проводникам, которые замедляют биения сердца, или тем, которые их усиливают, в зависимости от того, что требуется.
Так обеспечивается в каждый нужный момент должная работа сердца, необходимая для нормальной жизни организма.
Все это было установлено уже сравнительно давно точными экспериментами.
На этом успехи в данной области, по существу, временно кончились. Доказать наличие интероцепторов не только в дуге аорты, в полых венах, в сонной артерии, но и в других участках кровеносной сети не удавалось.
Решение задачи взял на себя Константин Михайлович Быков со своими учениками и сотрудниками.
Управляемое давление
Для достижения этой труднейшей цели прежде всего следовало иметь в руках надежный метод, который позволил бы экспериментатору овладеть возможностью по собственному желанию управлять давлением в любых сосудах любых органов.
Такой метод нашли. Он заключался в применении перфузии.
Перфузия дословно означает протекание. Если через какой-нибудь цилиндр или узкую трубку пропускать воду или любую жидкость, то это и будет перфузией. Ученик Быкова и ближайший его сотрудник В. Н. Черниговский и воспользовался перфузией.
На сосудах селезенки, например, опыты были поставлены следующим образом.
Селезенку животного изолировали от всех жидкостей тела; ни капли крови в ее сосуды попасть не могло. Для этого все артерии и вены, входящие в орган и выходящие из него, были перехвачены. Зато все нервные пути селезенки оставались нетронутыми. Нервная связь ее с организмом полностью сохранилась. Артерии и вены селезенки, отделенные от общей системы кровообращения, опустели. Тогда и произвели перфузию.
Через сосуды селезенки прогоняли жидкость особого состава. Она представляла собой насыщенный кислородом физиологический раствор, к которому был добавлен ряд важнейших солей. Этот раствор, циркулируя в сосудах селезенки, играл, следовательно, для ее тканей роль крови. При этом ни одна капля перфузируе-мой жидкости в кровь всего организма не поступала.
С помощью некоторых приспособлений, соответствующей аппаратуры и инструментов можно было уменьшать или увеличивать давление, под которым указанный раствор вводился в сосуды селезенки. Тем самым по воле экспериментатора понижалось или повышалось давление жидкости на стенки сосудов селезенки.
Как было сказано, все нервные связи селезенки с организмом остались в полной сохранности. Следовательно, если в ее артериях и венах имелись интероцепторы, которые воспринимали давление перфузируемой жидкости на стенки сосудов, то возникающие импульсы должны были передаваться по нервным волокнам в центральную нервную систему и вызывать рефлекторный ответ со стороны всей сердечно-сосудистой системы.
Все это блестяще подтвердилось в опытах Черниговского.
Когда повышали давление перфузируемой жидкости в сосудах селезенки, то вслед за этим наступало понижение кровяного давления в артериях, отходящих от сердца, например, в сонной артерии. Уменьшение давления в сосудах селезенки вызывало, наоборот, повышение давления крови в общем кругу кровообращения.
Опыты Черниговского и еще ряда сотрудников Быкова — Рикль, Делова, Лебедева, Архангельской, Меркуловой с перфузией — подтвердили и на других органах то, что было получено на селезенке. И в кишках, и в печени, и в почках, и в желудке, и в поджелудочной железе наблюдались явления, которые можно было объяснить, только допустив, что в стенках сосудов этих органов имелись интероцепторы, посылавшие импульсы в кору головного мозга и влиявшие на работу общих физиологических систем организма, таких, как сердечно-сосудистая, дыхательная.
Различаясь между собой в некоторых случаях по характеру, реакции центров коры одинаково свидетельствовали о наличии во всех кровеносных сосудах и даже в самой ткани внутренних органов интероцептивных образований.
Воздействие гормонов
Интероцепторы, импульсы которых возбуждаются кровяным давлением, имеют свое название — барорецепторы.
Но ими одними не исчерпывается разнообразие воспринимающих концевых нервных аппаратов, заложенных в стенках сосудов. Так, при изучении интероцепторных рефлексов были обнаружены интереснейшие явления, связанные с реакцией корковых центров на химические вещества, которые поступают в кровь различных внутренних органов и обычно вырабатываются внутри организма в процессе его жизнедеятельности.
Есть вещество, называемое ацетилхолином. Предположение, что деятельность нервной системы сопровождается его образованием и происходит при его участии, имеет под собой очень веские основания. Оказалось, что если ввести даже ничтожные доли ацетилхолина в сосуды селезенки животного, то вслед за этим начинается хотя и не очень длительный, но зато очень резкий подъем кровяного давления во всей кровеносной сети. Одновременно происходит усиление дыхания. Оно становится частым и глубоким. Эффект применения ацетилхолина и некоторых аналогичных препаратов можно получить не только на селезенке, но и на сосудах кишечника, почек и ряда других органов.
Напрашивается определенное объяснение: стенки сосудов таких органов обладают интероцепторами, дающими реакцию на подобные химические вещества. Их можно назвать хем”орецепто-рами. Они посылают импульсы, вызванные химическими агентами, в кору мозга, откуда соответствующие сигналы передаются нервам, усиливающим биение сердца, усиливающим дыхательные движения.
Особенно интересны были опыты над веществами, вырабатываемыми самими внутренними органами. Это относится главным образом к железам внутренней секреции.
Адреналин — есть продукция деятельности надпочечников, их гормон. Если подвергнуть селезенку перфузированию, а в перфу-зируемую жидкость добавить ничтожное количество адреналина, то вскоре появятся изменения со стороны сердца и дыхания: кровяное давление в больших артериях — аорте, сонной артерии и других — резко повысится, дыхание усилится и участится.
Но когда перфузировали надпочечник и ввели в перфузируе-мую жидкость небольшую дозу того же адреналина, то картина получилась иная: кровяное давление, например, в сонной артерии понизилось. Причем и частота, и глубина дыхательных движений не уменьшилась, а увеличилась.
Такая же доза адреналина, впрыснутая в яремную вену, расположенную на шее рядом с сонной артерией, вызвала резкое повышение кровяного давления. Зато дыхание, усиления которого можно было ожидать, замедлилось и сами дыхательные движения, их размах, уменьшились.
Эксперименты подобного характера, с применением той же методики исследования щитовидной железы, поджелудочной железы показали во всех случаях, что действие гормональных веществ на сосуды и на ткань самих внутрисекреторных органов дает изменения, не схожие, а порой и совершенно иные, чем при поступлении этих веществ в общую систему крови.
Таким образом, нужно признать, что органы внутренней секреции не только вырабатывают гормоны. В них также расположены воспринимающие нервные аппараты, которые импульсы от раздражений гормонами посылают в кору мозга, т. е. в них имеются интероцепторы. Они заложены в стенках сосудов, а может быть, и в самой ткани таких органов.
Это один важный вывод, который с неизбежностью следует из соответствующих экспериментов.
Не менее серьезен и другой вывод. Оказалось, что одни и те же внутренние раздражители не одинаково действуют на организм. Их влияние на физиологические процессы зависит от места приложения раздражителя, точнее, от свойств находящихся там интероцепторов. Адреналин, введенный в селезенку, резко повышает кровяное давление, а введенный в надпочечники, понижает его. Отсюда вполне естественно допустить, что действие адреналина может быть благоприятно для организма в одном случае, и неблагоприятно в другом.
А ведь это чрезвычайно знаменательный факт. Он заставляет по-новому оценивать действие таких важнейших для жизни веществ, как гормоны, их роль и значение даже как лекарственных факторов.
Надо вполне согласиться с К- М. Быковым, когда он предполагает, что здесь перед нами, возможно, «откроется совсем новый модус воздействия на болезнетворных агентов» и что уже первые полученные данные «вселяют в нас уверенность в обильной жатве новых фактов и новых представлений».
Найденное доказательство
Открытие тесной связи между корой мозга и внутренними органами, а также наличие в коре мозга, так сказать, представительства внутренних органов, бомбардирующих мозг потоками импульсов, явилось большим событием в физиологии. Оказалось, что кора мозга влияет на работу внутренних органов, на процессы, в них совершающиеся, а внутренние органы в свою очередь влияют на функции коры мозга. Непрерывная сигнализация внутренних органов в кору о своем состоянии, о своей деятельности, о ходе в них процессов, об их нарушениях вызывает образование временных связей, условных рефлексов, их возбуждение, их торможение. Стало ясно, что обнаружен механизм, который, перестраивая работу «внутреннего хозяйства», позволяет организму приспосабливаться к условиям и требованиям внешнего мира, который объясняет единство высшей и внутренней среды.
Многолетние исследования К- М. Быкова и его многочисленных сотрудников дали возможность установить существование интеро-цепгоров и идущих от них в мозг нервных путей, по которым импульсы из внутренних органов передаются в кору.
Однако в этой сложной и, казалось бы, убедительной картине нехватало одного существеннейшего обстоятельства. Все опыты приводили к мысли, что интероцепторы действительно существуют, но это, в конце концов, было только логическое заключение. Для того, чтобы оно стало научным фактом, следовало экспериментально его обосновать. Лучшим доказательством служила бы возможность показать, что интероцепторы по желанию экспериментатора могут быть устранены, лишены своих воспринимающих свойств.
В лабораториях института, где работал Быков, этим занялись. И доказательства были получены.
Помог успеху известный препарат новокаин.
Одним из первых был проделан такой опыт. Вывели наружу отрезок кишки собаки и в ней устроили фистулу. Мы уже знаем, что подобные операции, умело произведенные, хорошо переносятся животными, нисколько не влияя на их нормальное состояние. Через фистулу в кишку вводили слабый раствор соляной кислоты. Одновременно собаку подкармливали мясо-сухарным порошком.
И вот добились того, что одно вливание раствора соляной кислоты без подкармливания вызывало работу слюнных желез, т. е. гнало слюну. Условный рефлекс был создан. Условным раздражителем являлся раствор соляной кислоты.
Тогда вместо соляной кислоты влили раствор новокаина.
Что же получилось? Условный рефлекс исчез. Мало того, теперь, после введения новокаина, вливание снова раствора соляной кислоты долго никакого действия на слюнные железы не оказывало.
Объяснение этому представляется в следующем виде. Ведь новокаин есть не что иное, как анестезирующее, уничтожающее чувствительность вещество. Оно действует лишь на нервную ткань. И оно лишило в стенках желудка чувствительности что-то такое, что имело отношение к нервной ткани и что воспринимало раздражение соляной кислотой.
Значит, это воспринимающее «что-то» могло быть только нервами, оканчивающимися в стенках желудка, т. е. концевыми аппаратами нервов, — только интероцепторами.
Теперь понятно: интероцепторы желудка под влиянием новокаина потеряли чувствительность, они бездействовали, не отзывались на условный раздражитель. Условного раздражителя как бы не было. В кору мозга ничего не передавалось.
Исчез в результате и условный рефлекс.
В опытах Черниговского с сосудами селезенки был применен тот же способ. Вспомним эти опыты. В сосуды вводили перфузи-руемую жидкость под большим давлением; тогда падало кровяное давление в больших артериях, идущих от сердца.
Но когда к перфузируемой жидкости добавляли раствор новокаина, то ничего не происходило. Давление в сосудах селезенки увеличивалось, но в больших артериях ничего не менялось. Давление оставалось на прежнем уровне.
Совершенно ясно, что так могло быть только при наличии в стенках сосудов селезенки воспринимающих нервных концевых образований. Новокаин парализовал их чувствительность к давлению и тем самым не допустил появления условного рефлекса.
Такие же эксперименты над сосудами кишечника, поджелудочной железы, надпочечников и ряда других внутренних органов приводили к тем же последствиям.
Применение новокаина, выводившего из строя воспринимающие нервные окончания, доказывало, что в стенках сосудов и в тканях органов действительно заложены интероцепторы.
Все сомнения в этом должны были рассеяться. Точные опыты решили вопрос.
Под защитой порога
Итак, перед исследователями вырисовывалась ясная картина. Внутренние органы получают приказания от коры мозга. Посылая же в кору мозга свои импульсы, эти органы в свою очередь изменяют ее деятельность, влияют на сознание, психику, волю, поступки.
Становится понятным замечательное предвидение знаменитого русского физиолога Сеченова, который свыше полустолетия назад писал о «темных чувствах», зарождающихся во внутренних органах, о том, что мы не знаем, какими мыслями мы обязаны рефлексам от желудка, а какими от печени, от других органов.
Тут же уместно ответить на вопрос, который сам собой напрашивается. Если поток импульсов от внутренних органов непрерывно несется в кору мозга, т. е. в область сознания, в область психики, то почему они остаются для нас не известными? Почему мы их не ощущаем, не чувствуем, не знаем? Не лучше ли было бы, если бы каждую секунду мы могли бы по этим сигналам внутренних рецепторов следить за тем, как обстоит у нас с работой печени, желудка, селезенки, почек, надпочечников, поджелудочной железы, щитовидной, кровеносных сосудов? Это было бы очень плохо. Непрерывные и многочисленные сигналы, атакующие мозг, наполняли бы сознание хаосом разнородных ощущений, ничто другое не могло бы занимать мозг. Животных это отвлекало бы от того, что происходит вокруг, делало бы их беспомощными перед условиями внешнего мира. Человека это тоже обезоруживало бы.
Нет, это свойство сигналов интероцепторов доходить только до порога сознания, лишь иногда переступая порог, благодетельное и в высшей степени целесообразное свойство. Оно выработано миллионами лет естественного отбора. Оно является сложнейшим защитным приспособлением организмов к условиям существования.
Благодаря этому в психическую область коры мозга, в сознание поступают только те сигналы, те импульсы — как из внешнего мира, так и из внутреннего, — которые в данный момент необходимы. Мозг откликается в силу этого не на все сигналы; многие из них задерживаются, тормозятся.
Загадки перестали быть загадками
Этот инженер был совершенно здоровым человеком. Ни на что он не мог пожаловаться, все у него было в порядке. Удивительно было лишь одно: когда раздавался очень высокий, сверлящий звук автомобильной сирены, прорезывающий шум улицы, инженер падал в обморок. И ничего нельзя было с этим сделать. Другие, более низкие, более слабые автомобильные гудки он переносил спокойно.
Впервые подобная история с ним приключилась, когда в его присутствии грузовик наехал на прохожего. Водитель дал резкий отчаянный сигнал, но уже было поздно. Из-под машины извлекли изуродованное, окровавленное тело. При этом страшном зрелище инженер лишился чувств. С тех пор всякий резкий гудок автомобиля повергал его в обморок.
Врачи, выслушивая его, пожимали плечами. Они считали этого пациента чрезмерно нервным субъектом, излишне чувствительным.
Молодая стенографистка услышала из уст своего мужа, что они должны расстаться, что он любит другую. Это был жестокий удар. В комнате, где шел разговор, было полутемно. Она почувствовала, что ее горло сжалось, что ей нехватает воздуха. В то же время она ощутила в области желудка острый болезненный спазм.
И вот каждый раз, когда в полумраке вечера ей встречались на какой-нибудь тихой улице две фигуры, мужская и женская, идущие нежно рядом, болезненная судорога желудка едва не заставляла ее кричать.
Врачи прописывали стенографистке бром, отдых, диатермию желудка. Так как все это-мало помогало, врачи находили, что ей надо бороться с мнительностью. Это тоже было безуспешно.
Служащий садоводства однажды пересаживал желтые георгины. Внезапно им овладел бурный приступ тошноты. С тех пор при виде предметов желтого цвета его неудержимо тошнило.
Невропатологи, психоневрологи, психиатры — все, кто имеет дело с нервной системой, знают множество случаев совершенно
своеобразных болезненных явлений, странных, не поддающихся объяснению. События, давно прошедшие, лишенные в сущности значения, становятся источниками недугов, болевых приступов, неустранимых страданий.
Многие больные обращаются к врачам с жалобами, которые при самом тщательном обследовании лишены всяких оснований. В организме этих людей не находят заметных отклонений. Их убеждают не обращать внимания, прописывают им с целью успокоения какие-нибудь лекарства. Но ничего не выходит. Страдания продолжаются.
Учение Павлова, работы Быкова раскрыли смысл этих тяжелых нарушений. Это — не беспочвенные жалобы. Явления внешнего мира, случайно совпавшие с событием, которое произвело острое и глубокое впечатление, превращаются в условный раздражитель возникающих временных связей, условного рефлекса. Быков совершенно объективным способом, предложенным еще Павловым, подтвердил на новых фактах справедливость учения великого физиолога, показавшего, что так называемая соматическая область организма, мир внутренних органов, мир растительных процессов, и область нервно-психической жизни, представляют собой единое целое. Явления нервно-психической жизни могут глубоко влиять на течение вегетативных процессов, даже вызывать в них расстройство.
Теперь история американского банкира и его сахарной болезни, такая загадочная, становится объяснимой. Упрощая несколько суть дела, можно сказать, что биржевая катастрофа внесла смятение и путаницу в деятельность центров коры мозга, и это нарушило нормальное течение процессов вегетативных органов, в том числе и поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин.
Точно так же ясна причина улучшения физического состояния Кити Щербацкой, когда она после разрыва с Вронским уехала на воды. Привычная обстановка дома была связана с любимым человеком и как условный раздражитель всегда вызывала его образ, образ недавнего счастья. Перемена места уничтожила создавшиеся временные связи. Исчез условный раздражитель — исчезли импульсы угнетенной коры мозга, нарушавшие нормальную работу органов питания, обмен веществ. Только так, с позиций современной науки, следует понять историю болезни Кити. вопреки мнению самого Льва Толстого, который стремился показать, что выздоровление Кити явилось результатом сильного влияния на нее христианства.
Загадки перестали быть загадками в свете учения Павлова.
Побежденная судьба
Летчик потерпел аварию во время боевого вылета. Самолет его сбит. Сам пилот тяжело ранен. Обе ноги его сильно, повреждены. Однако ему удается путем страшного напряжения сил)
ползком, рискуя каждую минуту быть схваченным, добраться до расположения советских частей. Летчик попадает в госпиталь.
Жизнь его спасена, но обе стопы ампутированы и даже пострадали голени. Летчик, бесстрашный, сильный, решительный — теперь инвалид, калека. Навсегда для него недоступна небесная ширь, управление самолетом. Ужасная трагедия пилота представляется непредотвратимой: К чему нужна ему такая жизнь? Все кончено.
И вот он лежит в госпитале, подавленный, тоскующий. Мрачное настроение владеет им. Медленно тянутся дни и также медленно идет заживление израненных тканей.
Но происходит удивительная вещь. Через несколько месяцев летчик садится за штурвал могучей боевой машины. От болезни, которая должна была надолго приковать его к постели, не осталось и следа. Даже опытный глаз не может заметить, что вместо ступней на ногах у него протезы. Он летает попрежнему, ловкий, смелый, стремительный; его истребитель — гроза для врагов, напавших на советскую страну. Еще одиннадцать фашистских самолетов находят себе гибель, прошитые меткой очередью истребителя с пятиконечными звездами.
Таково содержание правдивой книги писателя Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», рассказывающей о летчике Мересьеве.
Что же случилось? Каким образом инвалид, тяжело больной мог вернуться к активной жизни? Почему процесс лечения, который должен был тянуться долго, может быть, годами, закончился в необычайно короткий срок?
Это сделало стремление раненого к выздоровлению, его жажда жизни, решение преодолеть слабость, сознание долга перед Родиной, звавшее в бой. Все усилие воли, вся неиссякаемая энергия героя-летчика были направлены к тому, чтобы скорее победить болезнь и добиться быстрого заживления ран.
У полковника Советской Армии обнаружили туберкулезный процесс в легких. Болезнь уже далеко зашла. Единственное спасение — создать условия, способствующие задержке процесса. Полковника направляют в Крым. Ему предстоит там долгое пребывание в обстановке полного покоя, полного освобождения от всякой, даже незначительной работы. Это больной, жизнь которого в опасности. Нарушение предписаний врачей угрожает ему серьезным, быть может, непоправимым ухудшением.
Проходит несколько месяцев. Что же, умер тяжелый туберкулезный больной?
Нет, он не только не умер, он выполняет огромнейшую работу. Сложная жизнь колхозов поглощает целиком его время. У него множество дел, множество забот, почти не оставляющих ему возможности отдохнуть, подумать о себе, заняться исключительно своими легкими.
Что же произошло с болезнью? Какими препаратами задержали ее развитие? Этот препарат — душевная сила советского человека. Не только Воропаев забывает о своей болезни, — болезнь как будто забывает о нем. Вот что удивительнее всего. Болезнь словно уходит, вытесняемая огромной жаждой жизни, большими успехами, радостью созидания, строительством новой замечательной жизни.
Человек победил болезнь энтузиазмом, волей, высоким чувством долга, счастьем, которое рождается у того, кто вложил свою долю в общее дело.
Таково содержание романа Павленко «Счастье», рассказывающего о жизни и болезни полковника Воропаева.
Можно ли сказать, что писатели выдумали своих героев, изобразили то, чего в действительности с больными людьми не бывает?
После работ академика Быкова и его коллектива, после изучения влияния коры головного мозга на течение тканевых процессов, так сказать нельзя. Творческое воображение писателя не разошлось с тем, что теперь знает наука.
Разумеется, это не значит, что энтузиазм, душевный подъем, бодрость, вдохновение излечивают всякую болезнь и заменяют лекарства. Это значит только, что состояние психики, безусловно, влияет на течение болезни.
Рождение невроза
В лаборатории Быкова был проделан следующий опыт.
Как известно, от холода кровеносные сосуды сужаются, от тепла расширяются. Руку человека вставили в сосуд со змеевиком, через кольца которого пропускалась холодная вода. Кожа руки побледнела. Это сузились от низкой температуры сосуды. Таково действие безусловного температурного рефлекса.
Все произошло так, как и должно было быть в подобном эксперименте.
Опыт изменили. В тот момент, когда пускали в змеевик холодную воду, начинал звучать метроном, отбивший 120 ударов в минуту. После двадцати таких сочетаний удары метронома стали условным раздражителем. Холодную воду не пускали, а сосуды сокращались. Это делали удары метронома.
Затем поставили другой опыт. В сосуд со змеевиком направляли теплую воду. Кожа руки краснела. Ее кровеносные сосуды расширялись. Потом к действию теплой воды присоединили одновременное зажигание электрической лампочки красного цвета. И опять выработался условный рефлекс. Одно зажигание красной лампочки без участия теплой воды расширяло сосуды руки.
Мы знаем, что возникновение условных рефлексов происходит при обязательном участии коры головного мозга. Без нее рефлексы образоваться не могут. Это можно было проверить и в данном случае. Если, например, на двадцать пятом сочетании холода и метронома, когда условные рефлексы уже выработаны, пущенный метроном давал 60 ударов в минуту, то цвет кожи руки не изменялся. Она не бледнела. Кровеносные сосуды в ней не суживались. Условный рефлекс, выработанный на 120 ударов в минуту, при 60 ударах не проявлял себя.
То же получалось при замене красной лампы зеленой.
Это значит, что 60 ударов и зеленый свет вызвали в коре мозга явления дифференциации и торможения. А такие процессы могут происходить только в коре мозга.
Все это совершенно естественно и уже известно нам из предыдущего изложения.
Но вот в опыты вводятся новые условия. Заключаются они в том, что вместо последовательного чередования серии безусловных раздражений холодом и условных — метрономом, а затем серии безусловных раздражений теплом и условных — красной лампочкой, начинается беспорядочное смешение отдельных раздражений. За первым же сочетанием на холод сразу идет сочетание на тепло. Звучит метроном, течет холодная вода — сосуды сузились; за этим — красная лампочка, теплая вода — сосуды расширились: и тут же после этого — метроном и холод — опять сужение сосудов; и снова — свет и тепло — расширение сосудов. И так подряд много раз, и все в разбивку. Спокойный ход событий заменяется скачущим.
А это ведь означает, что к мускулатуре сосудов и к их нервной системе предъявляются новые, повышенные требования, их как бы заставляют находиться в постоянном напряжении.
И вот обнаруживаются странные явления. Звучит метроном, но сосуды вместо того, чтобы сузиться, вдруг расширяются. Вспыхнула красная лампочка, но кожа руки бледнеет; сосуды не расширились, а сузились. Все как бы путается. Сосудистые реакции теряют нормальный характер. Рецепторные импульсы, посылаемые в кору мозга, вызывают неправильную работу кровеносных сосудов.
Возникает болезнь — сосудистый невроз.
Причина происхождения сосудистых неврозов, по крайней мере части их, становится, таким образом, до известной степени ясной: это чрезмерное воздействие и беспорядочная смена условных раздражителей.
Нормальная функция желудка связана с правильной работой желез полости желудка, с правильной выработкой желудочного сока. Известно, что как состав, так и количество желудочного сока зависят от характера пищи, ее вкуса и других свойств. Когда пища попадает в желудок, она действует в качестве раздражителя на интероцепторы в его стенках, и их импульсы, передающиеся в кору мозга, обеспечивают работу желез, выделение желудочного сока.
Ставя опыты над собаками, их стали кормить сахаром, медом. И вскоре у животных обнаруживались изменения в желудочном соке. Очень тонкими и интересными исследованиями было установлено, что в желудке имеются три района расположения желез: на малой кривизне, на большой кривизне и в так называемой пилорической части. Изменения появились в железах всех этих отделов. В итоге прежде всего уменьшилось общее количество желудочного сока, затем, что наиболее существенно, стал резко меняться состав его. Соляная кислота исчезла, а то, что выделялось в желудке, представляло собой кровянистую жидкость, имевшую мало общего с нормальным желудочным соком. Сладкую пищу собаки отказывались есть: они упирались, скулили, пищеварение у них нарушалось, они худели.
То, что с ними происходило, носило определенное название — невроз желудка.
Виновником являлась пища, точнее, качественный характер пищи. Сама по себе, по своим физико-химическим свойствам она была безвредна для организма. Но как раздражитель она вызывала такие интероцепторные импульсы, которые вели к глубоким нарушениям секреции желудка. И, действительно, стоило прекратить кормление животных сахаром или медом, как нормальная функция желудка восстанавливалась в течение нескольких дней. Все дело было в том, что сахар, мед являлись неадэкват-ным, несоответствующим пищевым раздражителем.
Происхождение неврозов желудка, по крайней мере части их, получило, таким образом, свое объяснение.
Работы Быкова и его сотрудников вносили должную поправку в существующую теорию неврозов.
Новая дорога
Являются ли работы Быкова и его сотрудников только теоретическим успехом или они позволяют уменьшить число человеческих страданий? Может ли медицина использовать в борьбе за здоровье человека новые данные, добытые крупным ученым?
Нельзя сказать, что уже сегодня во всех больницах и клиниках применяется лечение, вытекающее из положений павловского учения, развитого Быковым. Но его работы, безусловно, указывают новые пути исцеления от многих недугов. Для такого утверждения есть все основания.
В одну из ленинградских клиник поступил больной инженер с нарушением сердечно-сосудистой деятельности. У него было резко повышено кровяное давление и наблюдался ряд других явлений, по которым установить диагноз не представляло трудности. Он страдал так называемой гипертонической болезнью.
Есть разные способы лечения гипертонии. Один из них — применение токов высокой частоты. Действительно, инженеру, которого лечили токами высокой частоты, становилось лучше. Напряжение в кровеносных сосудах падало. Так было в первый день, второй, третий, десятый. Тоже наблюдалось и в одиннадцатый день. Это то и было самым удивительным, потому что никаких токов в одиннадцатый день не применяли. Все было, как и в предыдущие дни, за исключением электричества. Врач только щелкнул (выключателем, но тока в аппарате не было; он не был включен.
Между тем тонус, напряжение в кровеносных сосудах ослабело так, точно ток прошел в них и сделал свое лечебное дело.
И это можно объяснить. Щелканье выключателя было условным раздражителем, который десять раз до этого сопровождал применение токов высокой частоты.
В одиннадцатый раз уже один только звук выключателя помогал лечить тяжелую болезнь — гипертонию. Это действие условного рефлекса. Но вместе с тем здесь есть подробность, которая может иметь место только у людей.
Почему кровяное давление у инженера при щелкании выключателя изменялось? Конечно, потому, что больной был уверен в том, что ток пущен. Эта уверенность укрепила выработанный условный рефлекс, сделала его фактором глубокого действия.
Но откуда у инженера взялось убеждение в наличии тока? Оно было результатом внушения. Весь ход процедуры, обстановка, слова лечащего врача: «Включаю ток» — внушили ему это.
Внушение, участвующее в условных рефлексах как условный раздражитель, может приводить и к отрицательным последствиям и к положительным. В благодетельных руках умело проведенное внушение способно дать исцеление.
Благодаря работам Быкова и его сотрудников в новом свете представляются не только многие жалобы больных, но и роль внушения в арсенале средств врача. Это не таинственные манипуляции в полутемной комнате с монотонными движениями — пассами, погружающими пациента в сонливое состояние. Это борьба с распознанными условными рефлексами, нарушающими нормальное течение процессов в органах и тканях. Жалобы больных, какими бы странными они ни казались, во многих случаях не безосновательны, это не проявление каприза, а отражение импульсов, посылаемых в кору мозга и рожденных патологическим состоянием внутренних органов.
Когда врач говорит больному: «У вас все пройдет, у вас ничего особенного нет, вы будете совершенно здоровым», — и всем своим поведением, жестами, улыбкой, отношением заставляет пациента поверить в сказанные слова, то это является оздоровляющим воздействием на больного.
В свете исследований Быкова, по-иному выглядят взаимоотношения врача и больного. Врач должен учитывать влияние своего подхода к больному, своей манеры держаться с ним, как лечебного мероприятия. Умение обращаться с больным, умение вести беседу, задавать вопросы, завоевывать его расположение — все это становится одним из важных условий эффективности воздействия на болезнь, успешной мобилизации сил пациента для борьбы с недугом. Врач должен превращать больного с подавленной, угнетенной психикой в больного с психикой оптимиста. К старой поговорке — «В здоровом теле — здоровый дух» необходимо добавить: «Без здорового духа не может быть здорового тела», как справедливо указывал заслуженный деятель науки профессор А. В. Нагорный.
Надо полагать, что в некоторых тяжелых случаях загадочных, необъяснимых, мучительных психоневрозов допустимо прибегать и к внушению в форме гипноза. Так в ином свете предстает теперь проблема лечения гипнозом.
Труды действительного члена Академии медицинских наук СССР, лауреата Сталинской премии, академика Константина Михайловича Быкова, его учеников и сотрудников дают основание верить в то, что медицина плодотворно использует и эту открывающуюся перед ней возможность освобождения людей от страданий.
Многообещающий метод
Работы павловской школы подводят прочное основание под новый способ борьбы с болезнями: защиту клеток мозговых центров от нарушающих их деятельность ненормальных раздражений.
Такая защита возможна. Вспомним учение Павлова об охранительном торможении. Торможение — вот что защищает клетки мозга от чрезмерных или необычных раздражений. Следовательно, оно может остановить и возникновение патологических импульсов.
Но торможение — это сон. Быков, как и другие ученики Павлова, предлагает идти по пути, указанному великим ученым, — применять искусственно вызываемый длительный, глубокий сон для лечения болезней. И прежде всего это касается таких заболеваний, в которых наиболее ясна их зависимость от нервного фактора.
Профессор Ф. А. Андреев применил лечение сном к 400 пациентам, которые страдали язвенной болезнью. Такой способ лечения привел к замечательным результатам: у 90 процентов больных наступило значительное улучшение. У многих наблюдалось полное выздоровление.
Этот результат не может удивить, так как в происхождении язвенной болезни, несомненно, большую роль играет нарушение нормальных процессов в коре больших полушарий головного мозга.
Так называемая гипертоническая болезнь, сопровождающаяся повышенным кровяным давлением, — очень серьезное заболевание, — теперь тоже с успехом лечится сном. Опять-таки это становится понятным, если иметь в виду, что гипертоническая болезнь является следствием нарушения регулирующей работы корковых центров головного мозга.
Профессор А. А. Вишневский подвергал до операций и после них лечению сном больных с переломом костей голени, бедра, плеча, предплечья и получал очень хорошие результаты; под воздействием длительного сна ускорялось выздоровление при воспалительных процессах, при ожогах, при незаживающих так называемых трофических язвах и при ряде других заболеваний.
И это ведь только начало. Несомненно, что внедрение нового метода, углубленное изучение и широкое усвоение его внесет и свой богатый вклад в дальнейший расцвет лечебной медицины.
Результат развития
Учение Павлова и работы его учеников устанавливают с полной несомненностью, что все процессы в живом организме находятся под неустанным влиянием и под контролем нервной системы. Возникает вполне естественный вопрос: чем объясняется такая всеобъемлющая и решающая роль нервной системы и особенно высших ее отделов, таких, как кора больших полушарий головного мозга? В силу каких условий нервная система обязательно участвует, как ведущее звено, во всех физиологических и патологических функциях организма?
В поисках решения необходимо обратиться к данным, касающимся истории развития жизни на Земле.
Основным свойством каждого организма является его способность давать ответ на раздражения, давать реакцию при изменении среды. Без такого свойства существование организма было бы невозможно.
Изучение эволюции мира животных обнаруживает весьма любопытное обстоятельство. Чем проще построен организм, чем примитивнее его нервная система, тем сильнее способность остальных органов непосредственно отзываться на падающие на них раздражители. Животное с наименее дифференцированными органами и тканями дает прямую реакцию любой ткани на раздражение, какое бы оно ни было. Такой организм как бы не нуждается ни в каких посредниках между ним и средой, не нуждается в каком-либо специальном физиологическом механизме, не нуждается в резко обособленной нервной системе. На самых нижних ступенях жизни у организмов даже нет такого органа, как нервная система.
По мере того, как шло развитие животного мира от низших форм к высшим, появилась и нервная система, — сперва в самом примитивном виде. Затем она стала усложняться вместе с усложнением новых видов живых существ. Соответственно этому и ее роль как органа, воспринимающего воздействие внешнего мира, среды, выступала все резче и заметней.
В то же время шел и другой процесс: все остальные ткани и органы теряли способность давать прямую, непосредственную реакцию на падающие на них раздражители.
У человека, стоящего на самой высокой ступени лестницы животного мира в результате исторического развития на протяжении миллионов лет, это выделение нервной системы, — как специального органа, воспринимающего воздействие среды, — из числа остальных физиологических систем и тканей, лишенных свойств отвечать непосредственно на раздражение, достигло наиболее полного выражения. Нервная система как бы взяла на себя целиком задачу связи с внешним миром и внутренней средой. Именно она дает реакцию на все раздражители и посредством рефлекторного механизма перестраивает функции всех органов и тканей, координирует их, организует сообразно окладывающейся обстановке. Всякая реакция тканей, органов, любой части тела осуществляется, таким образом, только через нервную систему.
Этим создается и поддерживается высшая целостность сложного организма.
Иван Петрович Павлов охарактеризовал подобное положение нервной системы, ее роль, значение и происхождение следующими словами: «Чем совершеннее нервная система животного организма, тем она централизованней, тем высший ее отдел является все в большей и большей степени распределителем и распорядителем всей деятельности организма, несмотря на то, что это вовсе ярко и открыто не выступает».
Теперь нам ясно, как создалось такое всеобъемлющее значение нервной системы. Оно сложилось в результате исторического развития жизни на Земле. По этой же причине так велика роль нервной системы в возникновении и течении болезней. Ведь болезнь — это и есть реакция организма на вредоносное патогенное раздражение. А реакция организма в основном и определяется реакцией нервной ткани.
В этом смысле весьма показательны опыты, произведенные в Институте общей и экспериментальной патологии Академии медицинских наук СССР над мышами. Эти животные родятся недоразвитыми. Только к пятнадцатому дню у них заканчивается формирование важнейших физиологических систем, и они приходят в состояние полной функциональной готовности.
В организм таких мышей, еще неразвившихся, только что родившихся, вводили столбнячный яд, столбнячный токсин. Как должен был повлиять яд на беспомощных, еще слепых, не умеющих держаться как следует на лапках животных? Казалось бы, быстрая гибель от столбняка в этом случае неизбежна.
Но, несмотря на то, что количество впрыснутого токсина было так велико, что оно убило бы вскоре взрослое животное, только что родившийся мышонок оставался жив. Дальше местных явлений, то есть изменений на том месте, куда ввели токсин, никаких последствий не обнаруживалось.
Объяснение, наиболее достоверное, может быть одно: новорожденная мышь еще не способна отвечать типической реакцией на действие раздражителя даже такой большой силы, как столбнячный токсин. Аппарат, воспринимающий такие раздражения, еще находится у нее почти в зачаточном состоянии. Только через пятнадцать дней, когда нервная система достигнет полного развития, эта способность у подросшего животного сформируется в достаточной степени, станет полноценной функцией. Вот тогда введение мышонку пятнадцатидневного возраста того же столбнячного токсина уже вызовет обычное заболевание со всеми характерными для него явлениями.
Эти интересные эксперименты помогают понять значение нервной системы как в здоровом, так и в больном организме. Великий физиолог Иван Петрович Павлов мог оказать с полным правом: «Нервная система есть не только дирижер всех физиологических нормальных процессов, но и болезненных, патологических».
Две действительности
Покинем теперь лаборатории, клиники, больницы, выйдем на широкие просторы жизни и взглянем на человека в окружающем его мире.
С точки зрения основных положений Быкова, сформировавшихся на материалистическом фундаменте учения Сеченова и Павлова — этих великих основоположников физиологии, — окружающий мир не только формирует и развивает сознание, он также через кору мозговых полушарий создает условия или порождающие патологию внутренних органов, или не допускающие ее. Исходя из вполне научных оснований, надо думать, что причина многих внутренних болезней, источник которых пока еще не известен и не понятен, тоже заложена в условиях внешней среды.
При таком воззрении, что же представляет собой окружающий мир? Это — громадный комплекс условных раздражителей. Образуя временные связи, они влияют не только на область психики, но и воздействуют на течение физиологических процессов внутренних органов. Воздействие может быть благотворным; оно может быть отрицательным и тогда возникают те или иные болезни. Что же такое окружающий мир? Это действительность, в которой человек живет.
Но на Земле нет единой действительности. Есть действительность социалистического мира и действительность капиталистического мира. В странах буржуазного строя благоденствует только класс капиталистов. Огромное же большинство населения, особенно рабочий класс, живет в обстановке свирепой борьбы за существование, в обстановке угрожающей безработицы, кризисов, печальной старости, нищеты, в атмосфере неуверенности в завтрашнем дне, в разлагающей атмосфере конкуренции и благополучии одних, основанными на разорении других. Труд для подавляющей части населения является трудом подневольным, выматывающим силы, подрывающим жизнь.
Может ли такая среда, такая обстановка, такая действительность давать условные раздражители положительного характера, благоприятные для здоровья? Разумеется, нет. Вот отчего в странах капитализма растет число заболеваний, увеличивается смертность, особенно в годы после второй мировой войны, так жестоко обострившей все противоречия в жизни буржуазного общества. Неудивительно, что даже по данным американской медицинской статистики 1948 года одна треть жителей Соединенных Штатов болеет гипертонической болезнью, восемь миллионов человек страдают нервно-психическими болезнями, ежегодно в психиатрические больницы попадают полтораста тысяч человек.
Советская действительность, наоборот, это действительность страны, идущей по пути к счастью всего своего народа. Все в ней наполнено радостными событиями и делами. В ней нет паразитирующих классов рядом с нищенствующими миллионами людей. Труд здесь представляет собой дело доблести, дело чести, дело геройства. Он доставляет громадное удовлетворение, он несет с собой уважение, почет, славу, признание, он превратился в дело благородного соревнования, его всенародно награждают.
Счастливое, радостное детство, здоровая воодушевляющая работа, заслуженный отдых, обеспеченная старость — вот та среда, которая окружает человека в Стране Советов.
Совершенно очевидно, что сознание и психика советских людей свободны от угнетающих условных раздражителей.
Вот отчего цифры показывают уменьшение в СССР распространенности заболеваний, падение детской смертности и увеличение продолжительности человеческой жизни.
Советский строй — это вдохновляющий источник здоровья и цветущей жизни.
Глава двенадцатая. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
Первые факты
Примерно сто пятьдесят лет назад, в начале XIX столетия, врачи впервые стали обращать внимание на одно, казавшееся им очень странным явление при лечении некоторых болезней.
Это были болезни сердца, наиболее отличительным признаком которых служило расширение сердца, по медицинской терминологии — его гипертрофия. Объем сердца увеличивался, мышечные стенки становились толще, так называемый верхушечный толчок сердца при его сокращении совершался с повышенной силой.
Надо оказать, что утолщение стенок сердца, усиление его толчка нисколько не означало, что сердце стало крепче, мощнее. Наоборот, увеличение размеров сердца говорило как раз о его слабости, о том, что оно не в состоянии нормальными средствами выполнять обычную свою работу, а должно напрягаться, чтобы выталкивать из своих полостей кровь и заставлять ее бежать по артериям и венам. Такое сердце, конечно, больное. И чем дольше он работает, тем все больше расшатывается, а значит, и портится механизм сердца.
Что же здесь было странным для врачей? Дело было в том, что у больных с некоторыми заболеваниями почек, с некоторыми формами воспаления почек почти всегда наблюдалось и такое увеличение сердца. Этот факт врачи устанавливали и при жизни больных, а затем, когда больные умирали, то и вскрытие подтверждало, что при определенных поражениях почек действительно почти всегда наблюдалась и резкая гипертрофия сердца.
Когда подобных данных накопилось достаточное количество, врачи начали приходить к естественному выводу, гласившему, что между усилением работы сердца и определенными болезнями почек существует какая-то связь.
Но что такое увеличение, гипертрофия сердца? Какая причина вызывает утолщение мышечной стенки сердца? Очевидно, это может происходить лишь в силу того, что сердце вынуждено, как мы сказали, совершать большую, чем обычно, работу, гнать в сосуды кровь с большей силой, с большим давлением.
Но что вызывает такую потребность со стороны сердца? Отчего она появляется? Единственное правильное объяснение, которое здесь напрашивается, заключается в том, что, видимо, в кровеносной системе, в сети артерий, вен и их мельчайших разветвлений — капилляров — существует препятствие, мешающее крови двигаться нормально. Чтобы преодолеть это препятствие, чтобы кровь бежала с обычной скоростью и при обычном наполнении сосудов, сердце увеличивает свою мощность, напряжение своих мышечных стенок.
Вот отчего с течением времени при этих условиях и образуется гипертрофия сердца. Стало понятным, что сердце гипертрофируется для того, чтобы увеличивать свое давление на кровь, иначе в ткани ее будет поступать меньше, чем это необходимо.
Смысл возникновения гипертрофии сердца был разъяснен. Но что при этом происходит в кровеносных сосудах, как меняется давление крови в артериях, в сторону, например, повышения или понижения, в чем выражается здесь давление крови, как можно его измерить, какова роль кровяного давления, наконец, чем оно регулируется и к чему ведет, — этого определять тогда не умели.
А между тем с каждым годом становилось все яснее, что кровяное давление, связанное неразрывно с работой сердца, является крупнейшим фактором здорового состояния организма.
Но недоумение врачей попрежнему оставалось. Какова связь между воспалением почек и гипертрофией сердца?
Поиски метода
Что такое кровяное давление? Кровь, попадая из сердца в крупнейший кровеносный сосуд, в аорту, а оттуда в артерии, давит на упругие стенки сосудов, растягивает их с известной силой. Поэтому стенки артерий всегда находятся в состоянии большего или меньшего напряжения.
Величина этого напряжения стенок, вызываемого током крови, называется обычно, хотя и не совсем точно, «кровяным давлением».
Ясно, что сила кровяного давления зависит от сокращений сердца. Зависит она и от характера самой работы сердца. Совершенно естественно, что чем чаще будет сокращаться сердце, тем больше крови станет поступать в кровеносные сосуды, тем сильнее будет давление на их стенки. То же самое получится, когда энергия каждого сокращения будет больше. Более энергичное
сокращение сердца с большей силой наполняет кровью сосуды. Значит, и давление на стенки кровеносных сосудов станет возрастать. Кровяное давление увеличится.
Весьма существенное значение для кровяного давления имеет также ширина кровяного русла, то есть общая ширина просвета артерий, вен, капилляров в той или иной области тела. Чем эта ширина больше, тем свободнее растекается кровь по сосудистым путям, тем заметнее уменьшается напряжение стенок сосудов. Кровяное давление, значит, в этом случае понижается.
Существует особое патологическое состояние организма — шок. При шоке в ряду сопутствующих ему болезненных явлений наблюдается расширение крупных кровеносных сосудов в брюшной полости. Естественно, там скопляется много крови. Тогда кровяное давление резко падает. И наоборот, сужение сосудов в любых отделах кровеносной сети вызывает увеличение кровяного давления, так как усиливается напряжение их стянувшихся стенок.
Все это можно легко подтвердить. Если взять гормон надпочечников — адреналин и впрыснуть его человеку, то произойдет сужение периферических кровеносных сосудов. Общее русло крови тем самым уменьшается. И тогда повышается кровяное давление.
Все эти данные были известны уже давно. Но они устанавливали только общее значение давления для организма. Этого, конечно, было мало для того, чтобы выяснить, каково влияние кровяного давления при тех или иных болезнях, связанных с деятельностью сердца. Самое важное заключалось в том, что успех в этом отношении мог быть достигнут только тогда, когда удавалось бы в каждом нужном случае определять точно величину кровяного давления, то есть его силу. Это позволило бы знать величину нормального кровяного давления и выяснить, как оно изменяется при различных заболеваниях.
Но измерять кровяное давление очень долго не умели. Ученые бились над этой задачей. Она оказалась весьма трудной. Однако исследователи упорно добивались ее решения.
Предполагалось даже идти по такому пути. Кровяное давление — это сила струи крови, действующая на стенки сосудов. Вот ее то и надо измерить, чтобы определить давление. Но как? Проще всего, казалось бы, это можно сделать, если перерезать какую-нибудь артерию на ноге или на руке. Кровь из нее будет бить струей. Силу бьющей крови, свободно несущейся, уже измерить сравнительно несложно. Для этого надо перерезанную артерию соединить с так называемым ртутным манометром, — прибором, показывающим давление. И тогда вопрос решен.
Пробовали такой способ? Да, пробовали. Но кто же мог дать согласие на то, чтобы у него в целях определения величины кровяного давления перерезали крупную артерию и позволяли крови изливаться струей?
Разумеется, никакой человек на это не согласился бы. И все же удалось достигнуть цели. Но врачи воспользовались для этого артерией не нормальной здоровой конечности, а такой, которую все равно нужно было отрезать, ампутировать из-за несчастного случая. Вот перерезанную артерию ампутируемой конечности во время операции и соединяли с ртутным манометром.
Таким образом и сумели получить первые данные о кровяном давлении с точным вычислением его силы. Тогда впервые было установлено, что давление крови на стенки сосудов, в среднем, у взрослого человека равняется 110 — 130 миллиметрам ртутного столба.
Это, конечно, уже являлось крупным успехом. Но, разумеется, такой способ определения кровяного давления нельзя было считать решением вопроса. Он ведь давал возможность измерять давление крови у людей с поврежденными конечностями и только в отдельных случаях, весьма к тому же редких. Ни то, ни другое никого удовлетворить не могло. Поиски нужного метода продолжались.
Был предложен еще один способ. Известно, что кровь поступает в сосуды под определенным давлением. Чтобы вытеснить поступившую кровь из кожных сосудов, надо преодолеть это давление, для чего требуется приложить какую-то силу. Если это сделать правильно, то кожа в результате побледнеет. Высчитав, какую силу надо затратить для того, чтобы кожа побледнела, можно получить величину кровяного давления.
Ученые пробовали применить следующий способ. Они накладывали на кожу руки тонкую стеклянную пластинку определенного веса и затем нагружали ее все больше кусочками металла, как бы гирьками, тоже определенного веса. Как только сквозь стекло становилось видным наступившее побледнение кожи, нагрузку прекращали. Количество единиц веса кусочков металла переводили на миллиметры ртутного столба манометра, что было делом простым. Получалась величина кровяного давления.
Опять-таки и этот способ, конечно, был неудовлетворительным. Он давал не точную, а приблизительную силу кровяного давления. На величину давления влияли и глубина залегания кожных сосудов, и толщина самой кожи, которая у разных людей различна. Наконец, так можно было измерить кровяное давление только в капиллярах, а не в артериях и венах.
Были придуманы затем приборы, которые должны были показывать величину кровяного давления сравнительно точно; некоторые из них были более или менее удачными.
Однако полный переворот в этой области наступил только с введением в практику способа русского ученого Короткова. Это произошло в начале XX века. Коротков использовал особый прибор, сфигноманометр, устроенный по типу резиновой манжетки; она надевалась на руку и в нее накачивался воздух. При помощи специальной слуховой трубки, прикладываемой к уху, можно
было выслушивать так, как выслушивают шум воздуха в легких, пульсирующее движение крови в артериях. Накачиванием воздуха в манжетку легко было создавать в ней давление любой силы. Стенка манжетки, прилегавшая к коже, сдавливала мышцы руки и лежавшую среди них артерию. Это давление, в конце концов, останавливало движение крови в артерии. И тогда звук в слуховой трубке исчезал. Значит, ток крови прекращался.
Выпуская также постепенно воздух из манжетки и освобождая тем самым сдавленную артерию, можно было установить звук первого толчка крови, появление первой волны крови в артерии. Соединенный с манжеткой манометр показывал силу давления воздуха в манжетке. Это и была в тот момент величина кровяного давления.
Так, пользуясь способом Короткова, можно было в любой момент при любых условиях определить величину кровяного давления.
Это сыграло огромную роль в изучении ряда болезней. В клиниках начали выяснять значение кровяного давления при всех поражениях сердечно-сосудистой системы и их последствий во всех органах тела, которое создавало нарушение нормального уровня кровяного давления.
В связи с этим все большее и большее внимание стало привлекать к себе явление гипертонии, т. е. стойкого повышения кровяного давления.
Чуткая система
Измерение кровяного давления дает обычно две цифровых величины: одна — максимальное, другая — минимальное давление. Максимальное давление указывает на так называемое систолическое давление, т. е. на давление в момент сжатия, сокращения сердца, в момент систолы, когда кровь выбрасывается из полости сердца в аорту и артерии. Минимальное давление соответствует давлению крови в артериях в момент диастолы — расслабления сердечной мышцы, в момент ее короткого покоя.
Так и принято выражать кровяное давление — в двух цифрах. Когда называют только одну цифру кровяного давления, без указания на систолический период или диастолический, то обычно под этим подразумевают максимальное давление, как наиболее характерное.
Каково же нормальное кровяное давление, максимальное и минимальное?
Множество, производившихся обследований здоровья людей в разные периоды жизни показало, что в пятнадцатилетием возрасте максимальное давление составляет около 110 миллиметров ртутного столба манометра; от 16 до 40 — 120 — 126 миллиметров, а в 60-летнем возрасте цифра давления повышается до 135 — 140 миллиметров.
Есть любопытная и в общем довольно удачная попытка выразить в математической формуле зависимость кровяного давления от возраста, найти их постоянное соотношение. Формула родилась чисто эмпиричеоким путем, в результате массовых обследований жителей Ленинграда.
В этой формуле, предложенной научными сотрудниками Исаковым и Яковлевым и другими, постоянной величиной является условное число 102. Чтобы получить величину нормального кровяного давления, надо к числу 102 приплюсовать цифру возраста, умноженную на 0,6.
Вот как, например, для человека 30 лет выглядит эта формула:
102+ 30х6:10
По этой формуле, следовательно, максимальное кровяное давление в данном случае будет 120 миллиметров.
Разумеется, получаемые по формуле цифры будут средними для данного возраста. Минимальное давление, разное для разных возрастов, в среднем держится между 60 и 85 миллиметрами.
Интересно, что удалось измерить кровяное давление не только в крупной артерии руки, но и в различных пунктах сердечнососудистой системы, даже в артерии мозга. И оказалось, что месторасположение и размер кровеносных сосудов заметно влияют на величину в них кровяного давления. Так, у одного и того же человека в самом большом сосуде тела, куда сразу же из сердца попадает кровь — в аорте, среднее максимальное давление может, например, равняться 120 — 130 миллиметрам, в артериях верхней и нижней конечностей — 100 — 120, а в мелких артериях, таких, скажем, как артерии ладони или ступни, давление составляет только 70 — 90.
Имеет ли какое-нибудь значение подобная разница кровяного давления? Да, имеет и очень большое. Из всех этих данных совершенно ясно, что наиболее резко кровяное давление падает в мелких артериях в тех местах, где они вскоре разветвляются на капилляры. Такие мелкие артерии носят название — артериол. Значит, в подобных местах, где кровяное давление сравнительно низкое, всякого рода препятствия могут сильнее всего мешать току крови.
Именно эти обстоятельства, как мы увидим дальше, и влекут за собой серьезные последствия.
Изучение кровяного давления обнаружило очень любопытные подробности. Выяснилось, что эта физиологическая система обладает удивительной чувствительностью. Физический труд, например, повышает кровяное давление и чем напряженнее мышечная работа, тем больше кровяное давление. При отдыхе кровяное давление у здоровых людей быстро становится нормальным.
Это явление, конечно, вполне понятное. Работа требует от сердца усиленной деятельности, более частых его сокращений. Отсюда естественно и повышение кровяного давления.
Но оно меняется и тогда, когда, казалось бы, ему следовало оставаться без перемен. Так, например, кровяное давление, измеренное после обеда, дает не те цифры, которые получались до еды. Прием пищи повышает кровяное давление. Гнев, испуг, приступ злобы тоже повышают кровяное давление. Человек лежит, затем встает, т. е. совершает самое простое движение. Этот переход из горизонтального положения в вертикальное тоже заставляет кровяное давление повышаться. Большое количество выпитой воды тоже гонит вверх кровяное давление. Человек в спокойном состоянии заснул вечером и утром проснулся. Одинаковое у него давление при начале и в конце сна? Да, одинаковое. И это, действительно, вполне нормально. Но вот, что не может не удивить. Оказывается, в первые два часа сна у этого здорового человека кровяное давление понизилось миллиметров на пятнадцать, а часа за два до пробуждения оно вновь стало подниматься. Когда человек просыпается, у него кровяное давление обычное для него.
Все это показывает, что кровяное давление чутко реагирует на те или иные состояния организма, даже естественного порядка.
Разумеется, подобные изменения в уровне кровяного давления, носящие кратковременный характер, не представляют собой ничего патологического, болезненного. Они не говорят о каких-либо нарушениях работы сердечно-сосудистой системы.
Повышенное кровяное давление в виде болезненного процесса проявляется совсем иначе.
Сущность давления
Длительное, стойкое повышение кровяного давления составляет главный симптом, основной признак заболевания, называемого гипертонической болезнью.
Отсюда ясно, что держащееся более или менее короткий срок и потом исчезающее повышение кровяного давления — это еще не гипертоническая болезнь. Как мы только что видели, и у совершенно здоровых людей может временно подняться кровяное давление. Только держащееся месяцами и даже годами повышенное кровяное давление имеет отношение к гипертонической болезни.
Повышенное кровяное давление носит название гипертонии, от греческих слов: «гипер» — сверх, и «тонус» — напряжение. Но гипертония, как главный симптом, и гипертоническая болезнь, как заболевание — это не одно и то же.
При гипертонической болезни имеют место различные патологические процессы в организме: и в центральной нервной системе, и в сердце, и в других внутренних органах.
А может ли быть так, что у человека есть повышение кровяного давления, гипертония, а гипертонической болезни нет?
Да, так бывает довольно часто. Например, человек почувствовал боль в пояснице; затем у него обнаружилась слабость, нарастающая с каждым днем; поднялась температура до 38 градусов. Исследования показали, что человек заболел острым воспалением почек, острым нефритом.
И вот тут вдруг оказывается, что у больного имеется повышенное кровяное давление, скажем, максимальное — 150, минимальное — 110.
Это — гипертония, она в данном случае спутник нефрита. Но это не гипертоническая болезнь. Пройдет острый нефрит, человек выздоровеет; исчезнет и гипертония. Гипертония, вызванная нефритом, только симптом почечного заболевания.
Гипертония как симптом сопровождает многие болезни. Но важно то, что по выздоровлении проходит и гипертония.
Конечно, это еще не гипертоническая болезнь.
Гипертоническая болезнь тоже характеризуется вначале только одним симптомом — повышением кровяного давления. Однако на этом болезнь не останавливается, она вызывает развитие ряда очень тяжелых расстройств во всем организме, в работе почти всех важных для жизни органов. Без своевременного вмешательства медицины все это неизбежно ведет к резкому ухудшению здоровья.
Теперь поставим вопрос: почему возникает повышенное кровяное давление? Чем оно может быть вызвано? В каких случаях должно повыситься кровяное давление? И какой, наконец, физиологический смысл в этом повышении?
Повышение кровяного давления, несомненно, означает, что кровь передвигается по своему руслу в кровеносных сосудах, в артериях и артериолах с усилием. А это может произойти тогда, когда где-нибудь в кровеносных путях появляется препятствие для нормального движения крови. Но что может стать препятствием для тока крови?
Бывает так, что где-нибудь, в какой-либо вене, например в вене голени, образуется сгусток вследствие свертывания крови. Получается так называемый тромб. Такой тромб в состоянии закупорить кровеносный сосуд и мешать движению крови. Это сопровождается резкими болями, даже высокой температурой. Может образоваться большой отек тромбированной конечности.
Но это вовсе не такое препятствие, за которым следует повышение кровяного давления.
Надо иметь в виду, что обычно при заболевании гипертонической болезнью в начале никаких особых мучительных, болезненных явлений и не бывает; нет ни болей, ни высокой температуры, ни отеков. Нередко имеет место и такое явление: человек чувствует себя сносно и долго не знает даже, что у него уже повышено кровяное давление. И только спустя некоторое время,
большей частью при обращении к врачу по какому-нибудь поводу, обнаруживается, что этот человек гипертоник, то есть, что у него длительное время держится высокое кровяное давление.
Отсюда следует, что кровяное давление повышается не от того, что в кровеносных сосудах образовался тромб или что-нибудь вроде него, мешающее нормальному току крови. При гипертонии существует, очевидно, препятствие особого рода.
И действительно, такое препятствие в сердечно-сосудистой системе имеется. Это — спазм артерий, особенно мелких, тех самых артериол, которые, как уже говорилось, переходят" в сеть капилляров.
Сжатие, спазм этих сосудов, особенно расположенных в периферических органах, ведет к тому, что уменьшается просвет кровеносных сосудов, то есть уменьшается общий размер, общая вместимость, объем кровеносного русла. Кровь не может проходить теперь здесь в достаточном количестве.
Как же заставить нормальное количество крови двигаться с нужной быстротой сквозь такое уменьшенное русло. Конечно, только тем, что сила проталкивания крови должна возрастать. Кровь с большей силой должна давить на стенки сосудов, расширяя их.
Если спазм артерий и артериол захватывает большие области кровеносной системы и носит длительный характер, то давление крови на стенки сосудов также становится длительным. Появляется повышенное кровяное давление, упорно держащееся. Обнаруживается заболевание: гипертоническая болезнь.
Это и есть начальная стадия гипертонической болезни. Она протекает без всяких других явлений. Так может тянуться месяц, другой, третий, даже годы. Потом развиваются патологические изменения в различных областях организма. Гипертоническая болезнь прогрессирует.
Чем это сопровождается?
Если бы при гипертонической болезни всё ограничивалось повышением кровяного давления, то это заболевание не приносило бы никаких особо тяжелых последствий. Как мы уже говорили, нередко люди в начальной форме этого заболевания, то есть с наличием уже повышенного кровяного давления, чувствуют себя вполне нормально, не ощущают почти никаких расстройств, совершенно трудоспособны. Никаких болезненных симптомов они у себя не замечают. Только врач, если такие люди к нему попали, обнаруживает при обследовании, что у них налицо повышенное кровяное давление. Значит, выходит, что тяжесть заболевания не в самом повышении кровяного давления.
Тяжесть состояния нарастает при гипертонической болезни постепенно, по мере развития в различных органах нарушений их нормальных функций.
Обычно прежде всего страдает сердце. Почему? Кровь из сердца выбрасывается в аорту и дальше, в артерии, благодаря сокращению сердца. Чтобы все процессы совершались в организме нормально, вся кровь должна пройти через кровеносные сосуды в течение определенного времени, в среднем в 23 секунды, и попасть снова в полость сердца. Если в сосудистой системе оказывается затруднение для продвижения крови, то сердце работает с большей силой, чтобы преодолеть препятствие и выбросить в аорту и артерии всю кровь за те же 23 секунды.
Усиленная работа сердца и ведет, как мы уже упоминали, к гипертрофии сердца. Гипертрофированное сердце — это уже больное сердце. Оно начинает хуже работать, так как перегрузка приводит к переутомлению сердечной мышцы. Понятно, что переутомленное сердце в конце концов перестает выполнять свою задачу — передвигать кровь в сосудах с должной скоростью, доставлять во время кровь ко всем участкам тела в нужном количестве.
В результате появляются изменения в важнейших органах. Нарушаются их функции, — другими словами, в них обнаруживаются функциональные изменения. Если это происходит в печени, то замедленное движение крови дает там застойные явления: печень набухает, в ней развиваются отеки. Если — в легких, получается застой в легких.
Изменения в сердце, в печени, в легких становятся уже не только функциональными, но и структурными. Появляется одыш-) ка, затрудняющая движения, ходьбу, лишающая человека трудоспособности.
При таком течении гипертонической болезни все больше страдают и сами кровеносные сосуды. В чем это выражается? Здесь мы должны прежде всего снова вернуться к артериолам.
Мы уже знаем, что мелкие артерии, артериолы, при гипертонической болезни находятся в спастическом, суженном состоянии.
Проходит ли это безнаказанно для кровеносных сосудов?
Нет. Длительный спазм артерий ведь увеличивает рабочую нагрузку на их стенки. А это влечет за собой очень неприятные последствия, — в первую очередь для стенок артериол.
Под влиянием высокого давления стенка сосуда не только
растягивается; нарушается ее структура и стенка становится более проницаемой. В такую стенку просачивается плазма из протекающей крови. И тогда во внутреннем, эластическом слое стенки происходит образование отложений из так называемых гиалиновых веществ плазмы. Отложения эти постепенно отвердевают. Просвет артерий и артериол в конце концов еще более суживается, уменьшается до того, что превращается в узкую щель.
Получается то, что носит название артериосклероза, или, точнее, в данном случае — артериолосклероза. Стенки становятся плотными, твердыми, хрупкими, сравнительно легко разрывающимися. Стенки, как говорят тогда, склерозированы.
И в более крупных артериях происходит подобный процесс. И в них изменяется структура стенок так, что они делаются более проницаемыми для плазмы крови. Тем самым открывается доступ в слои стенок крупных артерий так называемым холестерин-эстерам и липоидам, особым веществам жирового характера. Вследствие этого в стенках крупных артерий тоже появляются отложения. Происходит изменение стенок, ведущее к уменьшению их просвета и к их непрочности.
Так страдают сами сосуды. Страдают, разумеется, и их функции.
И все это делает длительный, не исчезающий спазм артерий и артериол, захватывающий большие сосудистые площади в теле человека.
Но кровеносные сосуды ведь существуют не обособленно, не сами по себе. Они питают мозг, печень, сердце, почки, легкие, мышцы, железы внутренней секреции и остальные органы. Совершенно естественно, что при склерозированных сосудах нарушается кровообращение в этих органах. Нарушается кровообращение — страдает кровеснабжение, ухудшается питание органов и тканей, в них начинают появляться разрушительные изменения.
Те органы, в которых все эти явления при отсутствии врачебного вмешательства успевают развиться, теперь работают ненормально, патологически. Они становятся больными органами.
Выход из строя
Так происходит, если отсутствует вмешательство медицины.
В чем же выражается болезнь этих органов? По тяжести поражений на первом месте стоит сердце. И это понятно. Гипертония начинается со спазма артерий. Ясно, что изменения в них должны отражаться в первую очередь на главном органе сердечно-сосудистой системы, — на сердце. Что же с ним происходит?
Мы уже говорили, что мышца сердца от усиленной работы увеличивается. Образуется гипертрофия сердца.
Когда врачи еще мало знали о гипертонической болезни, они гипертрофию сердца называли по-разному, и в этом отражались различные представления того времени об этой болезни. Так, например, немецкий город Мюнхен славился своим пивом. Считалось, что жители этого города много пьют пива. Обилие вводимой в организм жидкости повышает деятельность сердца, нагружает сердце. Мышца сердца увеличивается. Поэтому гипертрофированное сердце получило название — «пивное сердце». По этой же причине немецкие врачи стали применять термин — «тюбингенское сердце». Там, где определенных причин гипертрофии сердца, даже приблизительных, нельзя было установить, появилось название — «идиопатическая гипертрофия сердца». Идиопатическая — значит зависящая от личных особенностей организма, от особенного предрасположения.
Несомненно, что большая часть этих гипертрофий сердца на самом деле являлась следствием гипертонической болезни.
Однако ущерб, причиняемый сердцу гипертонической болезнью, не ограничивается только его увеличением. Есть еще одна сторона работы сердца, изменения которой приводят к очень тяжелым функциональным изменениям. Вспомним простой физиологический факт: мышцу сердца питают кровеносные сосуды. Это осуществляют так называемые коронарные артерии. И вполне понятно, что с ними при гипертонической болезни происходит то же, что и с другими артериями, то есть они твердеют, склерозиру-ются. В их стенках появляются бляшки, отложения, суживающие просвет сосудов. В результате сердце лишается нужного питания.
Если сердце длительное время испытывает недостаток питания, то в его мышце появляются спазмы, возникают боли, необычные тягостные ощущения. Наблюдается то, что называется стенокардией, или грудной жабой.
Конечно, все это развивается не сразу, а исподволь, на протяжении более или менее долгого срока. И хотя человек может с такими явлениями жить многие годы и даже сохранять все время работоспособность, все же он серьезно больной человек, которому угрожают неожиданные опасные осложнения.
По частоте тех нарушений, которые вызываются длительным повышением кровяного давления, сейчас же вслед за сердцем идет головной мозг. Самый важный, самый сложный орган, он тоже почти всегда вовлекается в патологические изменения, приносимые гипертонической болезнью.
Объясняется это тем, что для головного мозга кровообращение играет чрезвычайно важную роль. Состояние сосудов, их кровенаполнение, напряжение, т. е. тонус стенок отражается немедленно на деятельности мозга. Даже незначительные колебания в притоке и оттоке крови, проходящие для других органов совершенно безнаказанно, вызыййют в мозгу болезненные явления, порой угрожающие продолжительным нарушением деятельности различных органов, весьма важных для жизни.
Вполне понятно, что долго держащееся повышение кровяного давления и сужение, а затем спазм мозговых сосудов, ухудшение мозгового кровообращения почти всегда сопровождаются симптомами поражения головного мозга. В начале обнаруживаются незначительные болезненные явления в виде частых головных болей, легких и скоропроходящих головокружений. Такое сравнительное благополучие может продолжаться не один год, даже если человек и не лечится.
Но очень часто при отсутствии лечебного вмешательства в гипертоническую болезнь картина может измениться. Появляются признаки более глубокого поражения мозга. Сказывается это в том, что иногда выключается работа отдельных участков мозга,
наступает временный паралич рук, ног, нарушается речь, происходит потеря памяти. Могут появиться психические дефекты. Все это есть следствие длительного изменения кровообращения и спазма мозговых сосудов.
Участие почек
Мы уже говорили в самом начале, что часто у больных гипертрофией сердца одновременно наблюдаются и нарушения со стороны почек — их воспаление, т. е. нефриты, острые или хронические.
Теперь, когда мы знаем, что увеличение размеров сердца вызывается большей частью гипертонической болезнью, можно заняться и вопросом, есть ли какая-нибудь связь между повышением кровяного давления и почками, отражается ли оно на функции почек.
Здесь опять-таки нужно вспомнить о спазме кровеносных сосудов при гипертонической болезни. Подвергаются ли артерии и артериолы почек спастическому сужению?
Множество исследований над больными гипертонией, огромное число вскрытий умерших от этой болезни и тщательное изучение у них кровеносных сосудов почек подтвердили, что и артерии и артериолы этих органов разделяют общую участь. Они также находятся при гипертонической болезни в состоянии длительного спастического сужения, их стенки также склерозиру-ются, просвет уменьшается, кровенаполнение сокращается.
Но вот, что еще очень важно. Почки получают с кровью не только питательные вещества. Кровь, поступая в почки, выполняет еще одну чрезвычайно существенную задачу: она приносит в почки все то, что должно быть удалено из организма. Ведь почки — это выделительный орган. Через почки организм освобождается от различных продуктов, использованных клетками, от всего того, что в процессах обмена веществ становится ненужным и даже вредным. Это и есть главнейшая задача почек.
Понятно, что спазм почечных артерий и развивающееся на этой почве склерозирование их стенок, уменьшают приток крови, ведут к задержке выведения из организма отработанных веществ. Почки плохо работают, заболевают.
Так получается, если при гипертонической болезни нет врачебного вмешательства, не проводится лечение.
Как видим, патологические процессы этого рода в почках в основном такие же, как и в остальных органах, в которых кровеносные сосуды находятся продолжительное время в состоянии спастического сужения.
Однако здесь же следует сказать еще об одном явлении, которое свойственно почкам. Это чрезвычайно интересная особенность почечной ткани. Она же вместе с тем показывает, как велики регуляторные силы организма, как многообразны и тонки его способы защиты против угрожающих жизни нарушений.
Химическая защита
В лаборатории, занимавшейся проблемой кровеснабжения и выделительной функции почек при различных условиях, особое внимание привлекли некоторые опыты, проделанные над животными.
Опыты заключались в следующем. У нескольких собак была проделана одна и та же операция. У каждой из них вскрыли брюшную полость и отыскали главные почечные артерии. Затем на них наложили специальные зажимы таким образом, что артерии были перехвачены не целиком, не с полным закрытием просвета, а частично. В результате, через уменьшенный просвет сосудов сократилось поступление крови в почки. Наступило частичное обескровливание почек.
Исследователи занялись изучением кровяного давления у животных. Вскоре выяснилось, что кровяное давление у всех этих собак, выражавшееся до операции в нормальной для них цифре — 100 — 150 миллиметров ртутного столба, после операции наложения зажимов постепенно поднялось и достигло 200 миллиметров. У собак обнаружилась длительная, ясно выраженная гипертония. Это нисколько не удивило экспериментаторов. Опыты в сущности подтвердили еще раньше установленное положение, что повышение кровяного давления всегда появляется там, где в кровеносной системе имеется препятствие для нормального тока крови. В данном случае, в опытах с собаками, такое препятствие создалось в результате частичного наложения зажимов на почечные артерии.
Но вот, что наблюдалось дальше. У одной из оперированных собак, с образовавшейся стойкой гипертонией, извлекли из почечной артерии немного крови и впрыснули ее другой совершенно здоровой, не оперированной собаке. После впрыскивания кровяное давление у нее резко поднялось.
Что могло значить такое явление? Как единственное, напрашивалось объяснение такого рода. В крови оперированной собаки, очевидно, имелось какое-то вещество, обладавшее свойством вызывать повышение кровяного давления. В крови нормальной, не оперированной собаки этого вещества нет. Вот почему до впрыскивания давление у нее было обычным.
Становилось очевидным, что наложение зажимов на почечные артерии обусловило появление в крови животных особых сосудосуживающих веществ. Ясно было также, что их вырабатывают сами почки.
Однако это было только предположение. Его надо было доказать. Это тоже удалось сделать и притом способом, не очень сложным. У собак с длительным повышением кровяного давления вырезали почку и из нее после специальной обработки получили экстракт.
Впрыснутое здоровой нормальной собаке даже небольшое количество такого экстракта быстро повышало кровяное давление. Экстракт получил название — «ренин» от латинского слова — «рен» — почка. Он относится к особым белкам, к глобулинам.
Подтвердилось, что почка, в которой при спазме сосудов уменьшается кровеснабжение, вырабатывает химическое вещество — ренин, которое суживает сосуды, что, в свою очередь, еще более повышает кровяное давление.
Правда, дальнейшее изучение ренина показало, что все происходит несколько сложнее. Было установлено, что ренин сам по себе не обладает сосудосуживающим свойством, а предварительно он соединяется в крови с другим белковым веществом, с альфа-2-глобулином. Тогда образуется новое, третье вещество — гипертенсин. Гипертенсин и обладает способностью суживать кровеносные сосуды, в частности артерии средней и малой величины.
Теперь можно задать вопрос: что представляет собой процесс выделения ренина и образования гипертенсина?
Бесспорно, это биологический процесс защиты и компенсации. Выделение ренина и образование гипертенсина способствуют выделительным органам, а именно почкам, выполнять свою функцию, нужную для сохранения нормальной жизнедеятельности организма. Недостаток кровеснабжения вызывает рефлекторно — через центральную нервную систему — сдвиги в биохимических процессах, совершающихся в почках, лишенных, из-за сужения сосудов, нужного количества кислорода. Вследствие этого и образуется ренин. А соединение ренина с альфа-2-глобулином и возникновение гипертенсина есть дальнейшее развитие биохимических процессов, ведущих к еще большему повышению кровяного давления, такому давлению, которое нужно, чтобы усилить, несмотря на препятствие, приток крови к почкам и увеличить снабжение их кислородом.
Вот те тончайшие процессы, разыгрывающиеся в почках при гипертонической болезни, которые были раскрыты исследователями.
Главный вопрос
Итак, мы видим, что гипертоническая болезнь, начинаясь только повышением кровяного давления, постепенно приводит к очень большим и серьезным поражениям различных органов, играющих в состоянии здоровья человека важную и даже решающую роль.
Надо, конечно, помнить, что не всякая гипертония приводит к таким тяжелым последствиям. Существует гипертоническая болезнь и в легких формах. В таком случае гипертония в течение долгого времени ничем не проявляет себя или проявляет так слабо, что человек, как уже указывалось, и не подозревает, что он гипертоник. Если болезнь будет все же обнаружена при ухуд-
тении состояния человека и даже окажется, что болезнь уже далеко зашла и вызвала нарушения в ряде органов, то и тогда принятыми мерами можно остановить дальнейшее развитие заболевания и добиться значительного улучшения здоровья.
И все же, при всех условиях, даже самых благоприятных, гипертоническая болезнь — заболевание серьезное, один из самых упорных врагов человеческого здоровья.
Разумеется, не всегда и не у всех при гипертонической болезни страдают и сердце, и мозг, и почки. В одних случаях сильнее поражается сердечно-сосудистая система. Тогда более всего выражены изменения со стороны сердца. Получается то, что врачи называют сердечной формой гипертонической болезни.
При симптомах, свидетельствующих о том, что имеются значительные изменения со стороны мозга, говорят о мозговой форме гипертонической болезни.
Наличие на первом плане симптомов, связанных с неправильной работой почек, указывает на почечную форму гипертонической болезни.
Это говорит о том, что в одних случаях гипертоническая болезнь больше поражает сердце, в других — мозг, в третьих — почки.
Но в каких бы формах ни проявлялась гипертоническая болезнь, остается незыблемым одно положение. Все явления при любой форме гипертонической болезни начинаются с изменений кровеносных сосудов, с тонического спазма, с сужения просвета артериол и капилляров. Все остальное есть следствие.
Но тут же непосредственно возникает вопрос: а чем вызывается спастическое состояние артерий, артериол, капилляров? Где причина этого? Почему изменяется тонус сосудов так, что возникает препятствие для тока крови?
Ответ на этот главный вопрос и укажет причину возникновения гипертонической болезни.
Варианты ответа
С тех пор как врачи стали все чаще и чаще сталкиваться с существованием гипертонической болезни, с тех пор как они стали отмечать, что у людей с самыми разнородными и совершенно несхожими между собой заболеваниями нередко имеется один общий симптом — повышенное кровяное давление, появилось стремление установить причины этого повышения.
Разные исследователи давали различное толкование. И каждое толкование подкреплялось множеством фактов. Наибольшее распространение получила почечная, или нефрогенная теория.
Мы уже говорили, что совпадение гипертрофии сердца с воспалением почек давно обратило на себя внимание. Затем все чаще стали обнаруживать и при гипертрофии сердца и при почечных заболеваниях повышение кровяного давления. Тогда и была предложена нефрогенная теория гипертонической болезни. Сводилась она кратко к следующему.
В почке возникают воспалительные явления, развивается острый или хронический нефрит или так называемый нефро-склероз. От этого меняется нормальный тонус артерий почек. Происходит спазм, суживание стенок сосудов. В кровеносной системе возникают препятствия для нормального тока крови. Это вызывает в известный момент повышение кровяного давления.
Так объясняли происхождение гипертонии сторонники нефро-генной теории.
Однако все чаще появлялись материалы, опровергавшие нефрогенную теорию. Оказалось, что у очень многих гипертоников никаких следов неправильной функции почек или воспаления почек не имеется. Почечные изменения, если и появляются, то лишь по мере развития гипертонической болезни. Разумеется, это разбивало нефрогенную теорию.
Следующее возражение связывалось с наблюдениями над кровеснабжением почек, над ослаблением в них кровотока. Из нефрогенной теории следовало, что уменьшение кровеснабжения вызывает повышение кровяного давления. И, действительно, специальными очень точными методами исследования удалось установить, что при гипертонической болезни кровоток в почках уменьшен, то есть, что почечное кровеснабжение нарушено. Это подтверждало, как будто, справедливость нефрогенной теории.
Но тут вмешалось одно обстоятельство, связанное с течением гипертонической болезни. Ведь эта болезнь характеризуется тем, что кровяное давление в начальной стадии неустойчиво: то повышается, то возвращается к нормальному уровню. Периоды подъема сменяются периодами снижения до нормы. И вот оказалось, что когда кровяное давление снижается, то вслед за этим и кровеснабжение почек становится нормальным.
Отсюда ясно было, что величина кровотока зависит от кровяного давления, то есть сужение артерий и повышение кровяного давления были причиной, а нарушение кровеснабжения — следствием, но не наоборот.
Эти факты нанесли еще один удар нефрогенной теории, которую отстаивали преимущественно зарубежные ученые.
Появлялись и другие теории. Одни из них объясняли возникновение гипертонической болезни наследственностью, другие — состоянием так называемой вегетативной нервной системы. Эти воззрения, как и нефрогенная теория, сохраняются еще и в настоящее время среди ученых капиталистических стран. Они характеризуют консерватизм научного мышления буржуазных исследователей и не дают правильного понимания действительных причин возникновения и развития гипертонической болезни, в первую очередь причин появления спазма артерий и артериол.
Верное объяснение происхождения этой болезни дал, опираясь на павловское учение о роли центральной нервной системы,
выдающийся советский ученый, крупнейший знаток болезней сердца, замечательный клиницист профессор Георгий Федорович Ланг.
Логический вывод
Как известно, первая мировая война сопровождалась участием в боях огромного количества артиллерии, небывалого до того времени. Батареи засыпали снарядами окопы, где укрывались солдаты. Изо дня в день, почти без перерыва, шел обстрел. Так продолжалось месяцами, даже годами.
И вот сохранились указания, что врачи, осматривая по тому или иному поводу воинские части, занимавшие передовые линии, отмечали у здоровых, т. е. не раненых, не заболевших солдат, странное явление. Почти у всех обнаруживалось повышение кровяного давления.
Стоило отвести эти же части в тыл, в безопасные районы, куда не долетали снаряды, не доносились звуки боя, как кровяное давление у тех же солдат снижалось и становилось нормальным. При этом во внутренних органах у них никаких признаков какого-либо заболевания, хотя бы уже благополучно закончившегося, не оказывалось.
Столкнувшись с такими странными фактами подъёма и снижения кровяного давления, врачи никакого объяснения им дать не могли.
С подобными явлениями встретились уже во время второй мировой войны многие ученые, врачи, работники клиник, в том числе и клиники профессора Ланга, изучавшие со своим руководителем сущность гипертонии. Они произвели многочисленные обследования бойцов. Обнаружилось, что в ряде случаев кровяное давление у участников боев повышалось. Интересным оказалось то, что в различных районах фронта частота повышения кровяного давления была разной. Бойцы одних участков фронта ничем не отличались по физическим данным, по условиям питания и т. д. от бойцов других участков, а на одних участках людей с повышенным кровяным давлением было гораздо больше, чем на других.
Было совершенно ясно, что секрет заключался в обстановке, в условиях среды, в том, ближе или дальше от поля боя была расположена данная местность. Несомненно, что переживания людей, зависящие от ощущения большей или меньшей опасности, и порождали такую разницу.
Очень любопытными представлялись и другие наблюдения периода второй мировой войны. Особенно убедительные данные получены были одним исследователем, работавшим в лечебном учреждении фронтового тыла. Ему удалось проследить в течение довольно долгого срока за 57 участниками войны, попавшими в госпиталь по болезни или из-за ранения.
У них у всех вначале, при поступлении в госпиталь, обнаружили повышенное кровяное давление, в среднем — 167/98. К концу пребывания в госпитале, когда им предстоял отпуск, когда, следовательно, мысли уже не связывались в такой мере с боевой обстановкой, цифры кровяного давления снижались почти до нормы — 148/83 в среднем. Эти больные уехали в отпуск, вернулись из отпуска и стали ждать отправки на фронт. И тут у многих из них кровяное давление опять повысилось.
Здесь надо сделать одно существенное замечание. Разумеется, приведенные факты вовсе не означают, что бойцы ощущали страх, боязнь при выполнении своего великого долга перед Родиной. Напротив, сознание опасности, нависшей над социалистическим отечеством, воодушевляло наших воинов, как и всех советских людей, на подвиги. Дело было в сознании серьезности положения, в глубоком напряжении всех душевных и физических сил человека, в сознании предстоящих испытаний, а также, разумеется, и предстоящих опасностей.
Все эти случаи, как и множество других фактов, относящихся к мирному времени и наблюдавшихся в течение ряда лет в клинике ленинградского профессора Ланга, тщательное и глубокое изучение всех форм гипертонической болезни и условий ее возникновения привели ученого к твердому выводу. Разгадку происхождения гипертонической болезни нужно было искать в той области, от которой зависит течение психических процессов — в области, связанной с большими полушариями головного мозга.
Немного анатомии н физиологии
В истории науки известен опыт над кроликом, произведенный очень давно, лет сто назад, физиологом Клодом Бернаром. Ученый перерезал нерв на правой стороне шеи кролика; разветвления этого нерва идут к ушам кролика.
И вот правое ухо животного покраснело, его кожа стала теплой, заметно теплее, чем кожа другого уха. Что означало это? То, что в коже уха увеличилось количество крови, поступившей в его артерии. Значит, сосуды правого уха расширились и впустили в себя больше крови. Произошло это в результате перерезки нерва.
Такой простой опыт с очевидностью показал, что тонус кровеносных сосудов, напряжение их стенок, их сужение и расширение зависят от нервной системы. Нервная система, ее сосудодвигательные нервы, регулируют тонус, упругость сосудов. Есть нервы, сосудосуживающие и сосудорасширяющие. Совместная работа этих нервов и обеспечивает регуляцию тонуса сосудов.
Но нервные волокна отходят от своих центров, которым они подчиняются в своих функциях, импульсы которых они передают в различные органы, в различные области тела. Где же находятся центры сосудодвигательных нервов? Физиологи нашли и точно
установили их местонахождение. Они расположены в том отделе головного мозга, подкорковой оболочки его, который носит название гипоталамуса, или подбугровой части. Здесь располагаются основные сосудодвигательные центры. Их называют гипотала-мическими, или подкорковыми, центрами.
Они и управляют тонусом артерий, сужением и расширением их стенок. Если сосуды где-нибудь чрезмерно расширились, вступают рефлекторно в действие сосудосуживающие центры. Это есть ответ на поступившее в них раздражение из периферии, то есть из стенок кровеносных сосудов. Импульсы из этих центров, суживая стенки сосудов, и выправляют положение. Также наоборот: при сужении сосудов импульсы сосудорасширяющего центра приводят их к нормальному тонусу.
Так совершается регуляция тонуса кровеносно-сосудистой системы. Только благодаря этому и может осуществляться правильное движение крови в сосудах, поддерживаться нормальный уровень давления крови, достаточное кровеснабжение органов.
Можно ли точно доказать наличие, например, сосудорасширяющих центров? Можно. Это и доказано в опытах над животными. Им вскрывали череп, обнажали подбугровый отдел, область гипоталамуса, и раздражали этот участок тонким электродом. Тотчас появлялся результат: расширение кровеносных сосудов и падение кровяного давления. Электрод, примененный на участке мозга возле ядра лицевого нерва в том же гипоталамусе, вызывал резкое сужение сосудов и повышение кровяного давления. Так экспериментатор, действуя на мозговые центры, по своему произволу управлял тонусом сосудов.
Итак, подкорковые центры регулируют напряжение и соответствующий тонус артерий и вен.
Изучение деятельности этих центров, открывшее много важных фактов, обнаружило еще одну сторону работы гипоталами-ческих центров сосудодвигательных нервов. Оказалось, что они не самостоятельны, не автономны. Они находятся в определенной зависимости от воздействия некоторых участков коркового слоя, или коры больших полушарий головного мозга. Было установлено, что в этих участках расположены еще группы мозговых клеток, имеющих отношение к тонусу кровеносных сосудов. А самое главное, эти группы клеток, которые можно назвать в известной мере корковыми центрами, обладают регулирующим влиянием на гипоталамические сосудодвигательные центры, могут их возбуждать своими импульсами, то есть усиливать их функции, или тормозить, то есть ослаблять.
Вот этот факт — наличие тесных анатомических и физиологических отношений между корковыми и подкорковыми, гипотала-мическими сосудодвигательными центрами и является для нас сейчас весьма существенным. Он позволяет понять, как возникает и развивается гипертоническая болезнь.
Эмоции и сосуды
Нужно считать твердо установленным, что в коре головного мозга расположены группы клеток, отдельные участки, имеющие отношение к сосудодвигательным функциям. Они оказывают руководящее и регулирующее влияние на сосудодвигательные подкорковые, гипоталамические центры.
Здесь следует вспомнить, что кора больших полушарий головного мозга есть орган психической жизни, сознания, мышления. А это весьма важное обстоятельство.
Если в коре мозга нормально протекают процессы возбуждения и торможения, то и функции всех центров, корковых и подкорковых, осуществляются нормально. Следовательно, нормально протекает и вся работа сердечно-сосудистой системы.
Что будет, если в большие полушария головного мозга станут поступать из внешнего мира необычные раздражения, такие, например, которые говорят об опасностях или даже об угрозе для жизни? В коре мозга возникают тогда процессы сильного возбуждения, преобладающие над процессами торможения, возникает то, что в психической сфере называется эмоциональным состоянием или даже аффективным.
Повышенная возбудимость коры мозга отражается на разных отделах мозга, а также и на связанных с нею гипоталамических центрах, что, естественно, нарушает их деятельность. И в них появляется состояние повышенной возбудимости и даже неустойчивости. В соответствии с этим они посылают по нервным путям необычные, усиленные импульсы, резко подстегивающие деятельность зависящей от них сердечно-сосудистой системы. Тонус кровеносных сосудов усиливается. От этого стенки артерий и арте-риол суживаются.
Совершенно понятно, что если причины, вызывающие повышенную возбудимость этих центров, действуют в течение длительного времени, то в соответствующих участках коры головного мозга образуется устойчивое состояние повышенной возбудимости. Их можно назвать застойными очагами возбуждения.
Длительные изменения в состоянии коры мозга влекут за собой дальнейшие нарушения и в гипоталамических центрах. Начинают неправильно работать те из них, которые находятся под прямым воздействием коры. И в них в конце концов возникают застойные очаги возбуждения. Деятельность гипоталамических, подкорковых центров вследствие этого извращается, их импульсы, регулирующие напряжение стенок кровеносных сосудов, усиливаются. Резко повышается напряжение мускулатуры стенок сосудов, особенно артериол, а затем могут развиться и спастические явления в них. Кровь с большим усилием должна проходить в таких сосудах, чтобы преодолеть это спастическое сужение. Кровяное давление повышается.
Если все это длится долго или повторяется часто, повышение кровяного давления принимает устойчивый характер. Оно держится, даже если причины, вызвавшие его, уже перестали существовать.
Так появляется гипертоническая болезнь.
Таким образом, вывод напрашивается сам собой. Гипертоническая болезнь есть следствие нарушения правильного функционирования высших корковых и подкорковых центров, регулирующих давление крови в артериях и артериолах да и во всей сосудистой системе.
В основе же нарушений нормальных функций указанных центров лежат эмоции и аффекты, психические состояния, вызываемые внешними условиями, раздражениями из внешней среды.
Все изложенное представляет собой краткие выводы из многолетних исследований, в результате которых сложилось учение ленинградского профессора Г. Ф. Ланга о механизме возникновения гипертонической болезни. В его основу легли положения Павлова о руководящей роли коры больших полушарий головного мозга.
Верное объяснение
Теперь, после трудов ленинградского ученого, его сотрудников и учеников, в новом свете предстали факты, которые раньше вызывали недоумения. В частности, это относится к наблюдениям, касающимся повышения кровяного давления у солдат на фронте.
Артиллерийская канонада, разрывы снарядов, зрелище взлетающей черной земли, рушащихся домов и укреплений — все это резкие эмоциональные раздражители. Они приводили в сильное возбуждение высшие корковые центры больших полушарий мозга. Пребывание на том или ином участке фронта длится не один, а много дней. Значит, и эти резкие раздражители действуют длительно. Возбуждение в коре мозга также принимает дительный характер. В результате в ней могут появляться очаги застойного возбуждения. Тогда меняется и тормозящее влияние этих участков коры мозга на подкорковые сосудодвигательные центры. В гипоталамических сосудодвигательных центрах могут создаться очаги застойного возбуждения.
Вследствие всего этого у некоторых людей и возникает длительное сужение артерий среднего и малого размера, и особенно, как мы уже знаем, артериол. Кровяное давление устойчиво повышается.
Но так бывает, повторяем, лишь при стойких резко выраженных эмоциональных состояниях. У тех, кто находился на фронтовом участке недолго, кровяное давление, поднявшееся даже значительно, затем постепенно падало до нормального уровня. Разумеется, это еще не гипертоническая болезнь; это «гипертоническое состояние», или гипертония «транзиторная», т. е. преходящая.
При благоприятных обстоятельствах такая гипертония проходит; при неблагоприятных — может превратиться в гипертоническую болезнь.
Воздействие блокады
Осенью 1941 года фашистские войска осадили Ленинград. Началась блокада города. Доблестные защитники колыбели Октябрьской революции отстаивали каждую пядь родной земли. Воодушевленные любовью к Родине, жители Ленинграда, города-героя, также проявили чудеса мужества и выдержки, строя укрепления и возводя фортификационные сооружения. Ничто не могло сломить храбрости и упорства осажденных, поклявшихся умереть, но не уступить врагу.
Конечно, это было очень большим испытанием для героического населения осажденного города. Совершенно понятно также, что существует физиологический предел выносливости и для людей, охваченных высоким чувством любви к Родине. Гул орудий, налеты бомбардировочной авиации, разрывы снарядов вошли в жизнь ленинградцев как источник тяжелых переживаний. Прекращение железнодорожной связи со страной, невозможность подвозить продовольствие, обрекали жителей на голодное истощение. Обстрелы, недостаток пищи, отсутствие топлива — все это делало очень тяжелой жизнь обитателей осажденного города.
В результате всего этого среди жителей Ленинграда насчитывалось много больных. Болезни были самые различные: у одних людей пострадали легкие, у других — печень, у третьих — желудок, кишечник, у четвертых — почки и так далее.
Но вот что в то время поражало ленинградских врачей. У лиц, страдающих самыми различными болезнями, почти всегда обнаруживался общий для всех симптом: повышенное кровяное давление. Множество людей в эти месяцы стали гипертониками.
Теперь, после работ Ланга, такое распространение в блокадном городе гипертонической болезни уже никого не поражает. Длительное перевозбуждение и перенапряжение регулирующих корковых центров больших полушарий головного мозга вследствие постоянных сильных и тяжелых эмоций приводили к длительному возбуждению коры мозга, а затем и к прочному образованию застойного возбуждения в неправильно работающих гипоталамических центрах.
А это, как нам известно, вело к спастическому сужению кровеносных сосудов, к повышению артериального кровяного давления.
Конечно, бывают и случаи острого развития гипертонической болезни. Это можно иллюстрировать отдельными примерами. Так, весьма показателен в этом смысле случай из времен блокады Ленинграда, описанный профессором Мясниковым.
Врач, молодая женщина, после обхода больных, сидела в углу большой палаты за столом и заполняла истории болезни.
Внезапно начался воздушный налет, на город в этом районе посыпались бомбы и одна из них попала в госпиталь. Она пробила два этажа и разорвалась под той палатой, где молодая женщина врач занималась историями болезни.
Разорвалась бомба, однако, так, что никто в палате не пострадал. Осталась нетронутой и женщина-врач. Ее даже не ранило. У нее только появились спустя некоторое время сильные головные боли. Но когда через четыре дня исследовали ее кровяное давление, то оно показало высокие цифры: 220/120. А до этого, по крайней мере в течение полугода, когда у нее неоднократно измеряли кровяное давление, оно держалось неизменно на нормальном уровне: 110/70.
Спустя несколько месяцев повышенное кровяное давление у женщины-врача снова стало нормальным.
Этот факт, один из множества таких же фактов, который явился как бы случайным экспериментом, показал, что резкое душевное потрясение может быть причиной острого развития гипертонического состояния. Но оно не превратилось в устойчивое состояние. Гипертония оказалась преходящей, транзиторной.
Во время блокады Ленинграда перед врачами и исследователями встал один вопрос, который представлялся чрезвычайно загадочным. Речь шла о странном изменении цифр, характеризующих заболеваемость гипертонической болезнью.
Странность была в следующем. В течение осени 1941 года количество гипертоников в городе быстро увеличивалось. Это являлось, конечно, вполне естественным. Воздушные налеты, все возрастающая опасность Ленинграду и, наконец, первый период блокады — все это послужило причиной значительной травмати-зации психики, а следовательно, и причиной перенапряжения высших центров нервной системы.
Но вот пришла зима 1941 — 1942 годов, суровая, страшная, первая блокадная зима со всеми ее многочисленными лишениями и страданиями. Что можно было ожидать? Конечно, число гипертоников должно было неизмеримо вырасти. Но на самом деле ничего подобного не произошло. Наоборот, число гипертоников заметно снизилось.
После зимы 1941 — 1942 годов наступило лето 1942 года. Внесло оно что-нибудь новое в существование осажденного Ленинграда? Да, внесло и немало. Улучшилось снабжение города продовольствием — сперва по ледовой «трассе жизни» через Ладожское озеро, а потом и другими путями. Питание жителей в блокированном Ленинграде поднялось.
Разумеется, надо полагать, что гипертоническая болезнь, по сравнению с осенью 1941 года, еще больше пошла на убыль. Улучшение условий жизни укрепило дух жителей, вызвало прилив бодрости, несколько сгладило тяжесть блокады. Казалось бы, это все должно было вести к уменьшению перенапряжения мозговых центров и отсюда к снижению количества гипертоников.
Однако к удивлению специалистов, число заболеваний гипертонической болезнью увеличилось. Оно росло и в 1943 году и даже дальше.
Только теория Ланга, исходящая из положений павловского учения, дала ключ к раскрытию этой загадки.
Играет какую-либо роль в происхождении и проявлении гипертонической болезни вопрос о питании, о большем или меньшем истощении человека?
Продолжительный недостаток питания отражается, конечно, на деятельности всего организма, на работоспособности всех органов и тканей, вызывая их ослабление. Значит, отражается и на функциях головного мозга, понижая уровень совершающихся в них процессов возбуждения, торможения и других.
Где наступают раньше всего эти явления ослабления функций? Конечно, там, где клетки наиболее чувствительны, наиболее хрупки. Такими являются клетки самой высокоорганизованной ткани, клетки коры больших полушарий головного мозга. При неблагоприятных условиях их функции ослабляются раньше всего. Раньше всего в них понижается и способность к возбуждению.
Но тогда ослабляются и регулирующие свойства коры мозга, уменьшается и степень возбудимости подкорковых сосудодвигательных центров, к тому же в свою очередь тоже ослабленных истощением. Следовательно, тонус стенок артерий не может усиливаться. Не повысится и кровяное давление.
Так ухудшение питания, истощение создают, несмотря на обстрелы и воздушные налеты, условия, неблагоприятные для возникновения гипертонической болезни. Вот почему в самый тяжелый в продовольственном отношении период блокады (зима 1941 — 1942 годов) наблюдалось уменьшение числа гипертоников.
Точно так же перестает быть загадочным и другое явление времени блокады Ленинграда: рост числа гипертоников после улучшения продовольственного положения.
По мере усиления питания, по мере более обильного поступления в организм питательных веществ, в коре мозга развиваются события обратного порядка. Ведь с прекращением голодания все отделы головного мозга начинают освобождаться от состояния истощения и слабости. В них начнется восстановление нормальных функций.
Но, понятно, раньше всего станут оправляться, выходить из состояния ослабления те отделы головного мозга, которые являются наиболее прочными, наиболее жизнеспособными, обладают наибольшей возможностью противостоять неблагоприятным условиям. К таким отделам относятся гипоталамус и расположенные в нем центры. Это наиболее древнее образование на продолжительном пути развития человеческого головного мозга. Наименее устойчивы клетки коры больших полушарий мозга, как более поздние в эволюционном отношении образования.
Поэтому центрам коры мозга требуется больше времени для возвращения к нормальному состоянию, чем гипоталамическим центрам.
Между сроками восстановления корковых областей и подкорковых получается разрыв. Создает его улучшение питания после долгого истощения.
Что происходит в результате этого разрыва? Гипоталамиче-ские центры уже функционируют в полной мере, а регулирующее их, сдерживающее, тормозящее влияние коры на эти центры отсутствует. Возникает то состояние, которое ведет к изменению тонуса артерий, то есть то состояние, при котором, ввиду более сильных сосудосуживающих импульсов, появляется повышение кровяного давления со всеми последствиями, свойственными гипертонической болезни.
Вот почему по мере улучшения продовольственного положения блокадного Ленинграда число гипертоников все же продолжало расти.
Теперь становится понятным, что уменьшение числа гипертоников вследствие истощения в первую военную зиму отнюдь не являлось положительным показателем. Наоборот, оно подготовило почву для увеличения числа больных гипертонической болезнью, наступившего после этой зимы.
Разумеется, не надо забывать, что главное не в этом, не в продовольственном снабжении. Главное в том, что во все периоды блокады играло роль основного источника возникновения гипертонической болезни. Это — перенапряжение коры головного мозга в результате действия часто повторяющихся раздражителей, сопровождавшееся тяжелыми эмоциями.
В свете событий периода блокады Ленинграда становятся еще более убедительными положения Ланга о происхождении гипертонической болезни.
Механизм защиты
Итак, волнения, порывы, возбуждение — все то, что носит название эмоций и аффектов, все является раздражителем для коры больших полушарий. Но ведь не все эмоции и аффекты однаковы. Есть эмоции и аффекты, связанные с радостными, приятными событиями; есть эмоции и аффекты, вызываемые мрачными, угрожающими обстоятельствами. А это, конечно, далеко не одно и то же.
Первую группу составляют эмоции положительного порядка. Вторую группу — отрицательного порядка.
Имеет ли значение для понимания причин возникновения гипертонической болезни это разделение эмоций на две группы?
Конечно, имеет. Эмоции положительного порядка — например, радость встречи, неожиданное приятное известие, разумеется, не вызовут у здоровых людей каких-либо нарушений патологического характера, не поведут к длительному спазму сосудов и к стойкому повышению кровяного давления.
Для центров коры мозга, а следовательно, и для гипоталами-ческих сосудодвигательных центров источником перенапряжения и перевозбуждения служат эмоции отрицательного порядка. Только такие эмоции вызывают резкие изменения в виде застойных очагов возбуждения в корковой и подкорковой областях.
Тогда интересен вопрос: есть ли какой-нибудь биологический смысл в том, что эмоции и аффекты отрицательного порядка ведут к таким резким реакциям со стороны сосудодвигательных центров? Может ли такое явление быть биологически объяснено?
Несомненно, может. Такая связь между эмоциями и аффектами отрицательного порядка и состоянием сосудодвигательных центров вырабатывалась у живых существ, обладающих высокоразвитым мозгом, на протяжении всей истории развития животного царства.
У животных и у доисторического человека эмоции и аффекты отрицательного порядка возникали при наступлении опасности, при неизбежности схватки с врагом, борьбы.
В беспощадной борьбе за существование необходимо было обладать способностью к действиям, связанным с резким усилением работы всех мышц тела, всей скелетной мускулатуры.
Эмоции и аффекты и помогали выполнять эту задачу. Они действовали через кору мозга на центры гипоталамической области и вызывали нервные импульсы, приводившие в состояние должной готовности все функции органов, необходимые для усиления мышечной работы. А последнее требовало прежде всего усиленного кровеснабжения скелетно-мышечного аппарата.
Для этого артерии внутренних органов должны были суживаться, ритм сердца учащаться, кровяное давление повышаться. Только в этом случае мог быть достигнут успех в борьбе. Благодаря повышенному давлению при сужении общего русла артерий внутренних органов кровь в сосуды мышц поступала в большем количестве. Так в борьбе за существование обеспечивалась готовность к чрезвычайным активным действиям.
После окончания напряжения наступало, естественно, расширение кровеносных сосудов внутренних органов. Кровяное давление понижалось. Эмоция заканчивалась, наступала как бы разрядка. Все возвращалось к нормальному положению. Возбуждение, напряжение регулирующей области коры мозга и подкорковых центров, тоже проходили.
Таков механизм функций гипоталамических сосудодвигательных центров, выработанный на протяжении миллионов лет. Он действует и поныне.
Теперь спросим: а если не наступает разрядка эмоции? Тогда не наблюдается торможения сосудодвигательных центров; возбуждение задерживается, не исчезает, как бы застаивается. Готовность всей системы кровообращения к усиленной функции остается. Сохраняется и повышенный уровень кровяного давления.
Если подобные ситуации становятся длительными и повторяются часто, то возникает состояние перевозбуждения сосудодвигательных центров, усиление их напряжения, застойность этого процесса.
Такое положение, в свою очередь, продолжает поддерживать во внутренних органах спазм артерий и артериол, повышение тонуса их стенок, со всеми последствиями, о которых мы уже говорили.
В таком виде представляется роль эмоций и аффектов отрицательного порядка в возникновении гипертонической болезни.
Типы нервной деятельности
Все ли люди, подвергшиеся длительному воздействию эмоций и аффектов отрицательного порядка на корковые области головного мозга, заболевают гипертонической болезнью? Нет, ведь далеко не все жители Ленинграда, пережившие блокаду, стали гипертониками.
Значит, дело не только в наличии тех внешних условий, которые являются раздражителями для высших функций головного мозга. Очевидно, должны быть налицо еще какие-то условия, содействующие возникновению гипертонической болезни.
Гипертоническая болезнь — это результат нарушения деятельности высших отделов нервной системы. Но ведь не у всех людей одинаково протекает нервная деятельность. Оказывается, что действительно между возможностью возникновения этой болезни и различием в характере высшей нервной деятельности есть определенная связь.
ЗДесь мы снова подходим к одной из важных страниц передовой физиологии, созданной И. П. Павловым и его учениками. Речь идет о типах высшей нервной деятельности.
Павлов установил, что существуют слабый тип высшей нервной деятельности и сильный. Сильный тип в свою очередь может быть возбудимым неуравновешенным типом, возбудимым уравновешенным, спокойным уравновешенным.
Такова, в общих чертах, классификация типов высшей нервной деятельности, по Павлову. Имеет она какое-либо значение для понимания гипертонической болезни?
Да, несомненно. В самом деле, одно дело, когда раздражения, сопровождающиеся эмоциями и аффектами, падают на кору мозга, в которой процессы возбуждения и торможения протекают уравновешенно, и другое дело, когда эмоции и аффекты влияют на кору, где эти процессы неуравновешены. Также неодинаково воздействие внешних условий на нервную деятельность подвижного типа и, наоборот, малоподвижного, инертного, у которого как возбуждение, так и торможение легко принимают застойный характер.
Несомненно, у людей сильного типа гипертоническая болезнь возникает и развивается не так, как у людей слабого типа.
Действительно, исследования показали, что в возникновении гипертонической болезни принадлежность к тому или иному типу высшей нервной деятельности играла, если не решающую, то во всяком случае заметную роль. Когда сотрудники клиники Ланга стали изучать тип нервной деятельности у гипертоников, то выяснилось, что 80 процентов из них принадлежали к слабому типу и только 20 процентов — к сильному.
Обследование, таким образом, показало, что люди слабого типа нервной деятельности скорее и легче заболевают гипертонической болезнью, чем люди, которых можно отнести к сильному типу.
Однако, тип высшей нервной деятельности не есть нечто неизменное. Условия среды могут сильно изменять его. Интересны работы сотрудников профессора Купа лова, — Яковлевой и Стожарова, — проделанные в Ленинграде в дни блокады. Изучению подверглась тоже большая группа гипертоников. Оказалось, что к сильному типу нервной деятельности принадлежало не 20 процентов гипертоников, а 46 процентов.
Почему получилось такое расхождение?
Дело в том, что в первой группе были использованы наблюдения довоенного времени. А наблюдения Яковлевой и Стожарова производились в Ленинграде в 1943 году и в первой половине 1944 года. За период блокады многие обследуемые из категории сильных типов высшей нервной деятельности перешли к моменту их обследования в категорию слабых типов и легче заболевали гипертонической болезнью.
Это был очень интересный факт. Он позволял сделать вывод, что тип высшей нервной деятельности не есть нечто, раз навсегда предопределенное. Он может меняться в зависимости от условий внешней среды, от длительных трудностей, таких, например, как голодание, инфекционные болезни, интоксикации, частые психические травмы.
Отсюда также следует, что иногда люди слабого типа нервной деятельности могут под влиянием условий жизни переходить в группу сильного типа.
Павлов это ясно представлял себе. Он говорил о нервной системе так:
«Наша система в высочайшей степени саморегулирующая, сама себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющая и даже совершенствующая. Главнейшее, сильнейшее и постоянно остающееся впечатление от изучения высшей нервной деятельности нашим методом — это чрезвычайная пластичность этой деятельности, ее огромные возможности: ничто не остается неподвижным, неподатливым, а все всегда может быть достигнуто, измениться к лучшему, лишь бы были осуществлены соответствующие условия».
Сильный тип в основном более устойчив, менее податлив для неблагоприятных внешних условий, вызывающих эмоции и аффекты отрицательного порядка. У людей слабого типа гипертоническая болезнь развивается легче и встречается чаще.
Надо, однако, сказать, что не только тип высшей нервной деятельности, но и другие особенности организма играют видную роль в развитии гипертонической болезни.
Другие факторы
Некоторые ученые, преимущественно зарубежные, изучавшие гипертоническую болезнь, утверждали, что ею заболевают те, кто имеет наследственное предрасположение.
Советские исследователи тоже занимались вопросом о наследственности при гипертонической болезни. Они изучали кровяное давление и другие признаки у родителей, заболевших, у их братьев, сестер и ряда близких родственников.
Полученные данные свидетельствовали о том, что никакой прямой наследственности в передаче гипертонической болезни нет. Однако отрицать полностью значение наследственных факторов тоже нельзя. Никаких особых носителей — генов гипертонической болезни не существует, как не существует генов вообще. Приобретенные в ряде поколений свойства, например, неустойчивость нервной системы, повышенная возбудимость, закрепляются благодаря условиям жизни, факторам внешней среды — прежде всего социальной среды — и обнаруживаются лишь в соответствующей обстановке.
Это создает известные предпосылки для возникновения в та ких же или аналогичных условиях жизни гипертонической бг лезни.
Таким образом, наследственное предрасположение ни в коем случае не есть причина заболевания гипертонической болезнью.
Интересно отметить, что профессор Мясников во время Великой отечественной войны наблюдал большое количество людей, у которых остро, в очень короткий срок, развивалась гипертоническая болезнь. Это были все молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Среди них имелись летчики, врачи, моряки. Профессор Мясников тщательно изучил всех этих больных и все данные, касавшиеся их родственников. Никаких данных, указывавших на наследственную передачу гипертонической болезни, не удалось найти. Гипертоническая болезнь у этих больных возникла в результате сильных психических травм, обусловленных обстоятельствами военного времени.
Когда проходит болезнь?
В одну из ленинградских клиник поступил больной. У него были головокружения, боли в области сердца. Болезнь развилась в течение не очень продолжительного срока. Больному измерили кровяное давление. Оно оказалось очень высоким. Налицо была картина гипертонической болезни. Удивительным здесь было только одно — возраст пациента. Ему исполнилось всего 17 лет.
Не врачи, да и многие врачи привыкли к мысли, что гипертоническая болезнь — это спутник пожилого возраста. Раньше даже считали, что гипертоническая болезнь бывает только у стариков. Такое мнение держалось очень долго.
Теперь оно. уступило другому взгляду, более соответствующему фактическому положению вещей. Разумеется, люди, достигшие «зимы своей жизни», чаще страдают этой болезнью. Но она встречается нередко и у людей 40 — 50-летнего возраста, то есть у тех, кто находится в самом расцвете обоих умственных и физических сил. Выходило, что гипертоническая болезнь свойственна также «осени человеческой жизни».
Потом потребовалась новая поправка. Выяснилось, что гипертоническая болезнь наблюдается и в 30 лет и даже в 20 лет, то есть она может быть названа в известной мере болезнью и «лета человеческой жизни».
Случай с подростком, поступившим в клинику, показал, что гипертоническая болезнь может возникать в любом возрасте, даже в период «весны человеческой жизни».
Мероприятие, которое было проведено несколько лет назад в Ленинграде, дало подтверждающие результаты. Заключалось мероприятие в том, что подверглось обследованию свыше 100 тысяч жителей с целью отыскать у них признаки гипертонической болезни. Среди обследованных были и старики, и пожилые, и молодые — люди самых разных профессий.
И вот оказалось, что гипертоническая болезнь в ее ранних стадиях и формах встречается и у очень молодых людей. Конечно, случаи заболевания ею в молодом возрасте очень редки. Были они отмечены и у мальчиков и у девочек.
Можно ли поставить такой вопрос: где чаще болеют гипертонической болезнью — на севере или на юге? Влияет ли географический фактор, как один из важных факторов среды, на частоту заболеваний?
Действительно, есть наблюдения, указывающие, что в южных районах гипертоническая болезнь встречается реже, чем в северных. В этом нет ничего удивительного, так как охлаждение, как известно, суживает кровеносные сосуды, а при высокой температуре сосуды расширяются. Все это может влиять на развитие гипертонической болезни в ту или другую сторону.
В сельских местностях гипертоническая болезнь, пожалуй, менее распространена, чем в городских. Объясняется это тем, что в деревне, в пригородах чище воздух, почти все жители занимаются физическим трудом и умственная деятельность обычно чередуется с физической, которая, как известно, является могучим оздоровляющим фактором.
У инженера треста, заболевшего на 52-м году жизни, обнаружились симптомы самой настоящей гипертонической болезни. Его угнетали головные боли, он чувствовал все время общую слабость. Исследование показало высокое кровяное давление.
Что явилось причиной возникновения у него гипертонической болезни? Частые эмоции или аффекты? Психические травмы? Чрезмерное возбуждение, непосильная перегрузка умственной деятельности? Тяжелые переживания?
Нет, ничего этого у инженера не было. Он жил спокойно, работа его удовлетворяла, бытовые и служебные условия не оставляли желать ничего лучшего. Откуда же взялась гипертония?
Через некоторое время у инженера обнаружилось еще одно патологическое явление: в левом боку появилось выпячивание. Врачи установили характер выпячивания: это росла опухоль почки. Рентгеновское обследование уточнило диагноз: опухоль относилась не к самой почке, а к надпочечнику.
Надпочечник — это, как известно, железа внутренней секреции, вырабатывающая несколько гормонов, в том числе адреналин — вещество, обладающее свойством суживать сосуды.
Для врачей, лечивших инженера от гипертонической болезни и обнаруживших опухоль надпочечника, сразу стала ясна причина гипертонической болезни, которая так долго оставалась скрытой. Разраставшаяся опухоль, видимо, вызывала усиление функции надпочечника. Увеличивалось, следовательно, количество сосудосуживающих веществ, поступавших в кровь. Это влекло за собой спазм артерий и артериол. После того, как инженера оперировали и опухоль удалили, повышенное кровяное давление снизилось до нормы. Гипертония исчезла. Таким образом, в гипертонии инженера была виновата надпочечная железа. Подобные случаи наблюдались не раз, и в результате некоторые ученые пришли к выводу, что гипертоническая болезнь, начинающаяся повышенным кровяным давлением, всегда обязана своим возникновением заболеванию надпочечников.
Есть болезнь, носящая название Адиссоновой. При ней постепенно угасают функции надпочечников.
Что происходит с кровяным давлением при Адиссоновой болезни?
Оно падает, становится ниже нормального. И это вполне понятно. Если ослабляется деятельность надпочечников, значит, уменьшается количество сосудосуживающих веществ. Поэтому тонус стенок кровеносных сосудов будет ослабляться. Произойдет вместо сужения артерий и артериол их расширение — появится вместо гипертонии гипотония, то есть кровяное давление упадет ниже нормы.
Течение Адиссоновой болезни подтверждало в свою очередь, что ослабление функций надпочечников является причиной изменения кровяного давления.
Но можно ли всякую гипертоническую болезнь рассматривать, как результат усиления функций надпочечников, а может быть, и других желез внутренней секреции?
Нет, достаточное количество фактов опровергает такое предположение. Существуют способы, позволяющие точно определять количество адреналина в крови. И вот исследования показали, что в подавляющем большинстве случаев гипертонической болезни не обнаруживается увеличенного поступления гормонов надпочечников в кровь. Значит, все эти случаи гипертонической болезни не были связаны с деятельностью надпочечников или других желез внутренней секреции.
К такому же результату приводило большое количество вскрытий людей, умерших от гипертонической болезни. Вскрытия показали, что в большинстве случаев у гипертоников нельзя было, даже при тщательном исследовании, найти какие-либо изменения в надпочечниках, в половых железах, в мозговом придатке.
И наоборот, нередко на произведенном по другому поводу вскрытии некоторых трупов находили перерождение надпочечников, опухоли и другие нарушения органов внутренней секреции, а при жизни у этих людей гипертонической болезни не было.
Таким образом, считать, что причина гипертонической болезни всегда лежит в изменении деятельности гормональных желез, нет достаточных оснований.
Известно, что и надпочечники, и половые железы, и гипофиз вырабатывают вещества, влияющие на тонус кровеносных сосудов, суживающие стенки артерий и артериол, и вызывающие подъем кровяного давления. Но наличие такого давления — это только временный симптом, но не гипертоническая болезнь.
Следовательно, правильным будет оказать, что гормоны играют известную, но второстепенную, роль в развитии гипертонии.
Основной причиной возникновения гипертонической болезни остается нарушение процессов высшей нервной деятельности в результате эмоций и аффектов отрицательного порядка.
Теперь можно вспомнить и ренин — то вещество, которое образуется в ткани почек при нарушении их кровообращения и которое обладает, как мы видели, сосудодвигательным действием. Одно время его принимали за первопричину гипертонической болезни.
В настоящее время советские исследователи выяснили, что ренин может играть роль фактора, дополнительно усиливающего гипертоническую болезнь, но не больше.
Основным, решающим фактором, вызывающим гипертоническую болезнь, остается патологическое состояние коры мозга и подкорки.
Порочный круг
Итак, в результате глубокого, всестороннего и внимательного изучения всех фактов, связанных с гипертонической болезнью, удалось установить с полной вероятностью как главный механизм возникновения болезни — нарушение процессов, протекающих в высших мозговых центрах, регулирующих кровообращение, — так и добавочные факторы: действие почечного вещества, ренина, участие гормонов, вырабатываемых железами внутренней секреции. Сюда же, к группе вспомогательных факторов, относятся и медиаторы.
Медиаторы — это особые вещества, появляющиеся при работе нервов. Они служат для химической передачи импульсов с нервов, скажем, на мышцу. Совершается такая передача жидким путем, через кровь. Медиаторы служат как бы посредниками между окончаниями нервов и органами.
При усиленной деятельности нервов медиаторы образуются в большем количестве, чем в нормальных условиях.
Интересно еще одно свойство медиаторов. Будучи продуктом работы нервов, они в то же время сами обладают способностью влиять на разветвления нервных окончаний в тканях и органах тела. Таким образом, медиаторы в известной мере являются раздражителями нервной системы.
Значит, если медиаторы вырабатываются в большем количестве, чем в нормальных условиях, то они будут поддерживать функцию нервной системы и состояние ее перенапряжения, то есть поддерживать патологический нервный процесс. А усиленная функция нервной системы в свою очередь увеличивает образование медиаторов. Получается так называемый порочный круг.
Так же обстоит дело и с ренином, и с гормонами. Являясь результатом спастического состояния артериол, они со своей стороны поддерживают и усиливают это состояние.
Исходя из всего изложенного, можно теперь более ясно представить себе механизм возникновения и развития гипертонической болезни.
Начинается она расстройством нормальной связи между корой головного мозга, в которой образовались очаги застойного возбуждения, и подкорковой областью. Это ведет к застойному возбуждению гипоталамических сосудодвигательных центров. В организме появляются первые изменения со стороны кровеносных сосудов — спазматическое сужение артерий и артериол, а впоследствии — склероз их стенок. Кровяное давление повышается. Обнаруживаются начальные симптомы гипертонической болезни.
Если принять меры, прекращающие такое состояние, то есть если устранить причину перенапряжения и застойности очагов возбуждения в корковых и подкорковых центрах, то наступает выздоровление.
Если болезнь предоставляется самой себе, то она развивается.
Тогда вступают в действие новые факторы, углубляющие патологическое состояние организма: изменения в почках с образованием ренина, увеличение количества гормональных веществ — надпочечников, секрета гипофиза, вмешательство медиаторов. Все это еще более ухудшает работу органов. Возникает тот порочный круг, о котором мы говорили. Все это ведет к тому, что болезнь переходит в более тяжелую форму.
Так постепенно ухудшая положение здоровья, тянется на протяжении ряда лет гипертоническая болезнь. Однако она может остановиться на любой стадии, в том случае, если применяются рациональные лечебные мероприятия.
Сила отдельных величин
Прежде чем, однако, перейти к вопросу о лечении гипертонической болезни, следует остановиться на одном существенном обстоятельстве. Речь идет о причинах, порождающих эмоциональные и аффективные переживания.
Мы знаем, что повышение кровяного давления обычно вызывается резкими психическими травмами: крупными огорчениями, I
смертельной опасностью, подавленным состоянием. Если подобная травма возникает однократно, кровяное давление спустя некоторое время снижается и становится нормальным. Если она повторяется часто, повышенное кровяное давление уже не спускается; оно закрепляется на высоком уровне. Человек заболевает гипертонической болезнью.
Всегда ли так происходит? Оказывается, не всегда.
Установлено, что очень часто виновниками гипертонической болезни являются не сильные эмоциональные состояния отрицательного порядка, а, на первый взгляд, мелкие, как будто даже малозначащие. Они кажутся по своему значению малыми величинами. А потом вдруг обнаруживается, что эти малые величины представляют большую болезнетворную силу. Именно они и ведут к повышению кровяного давления, именно в них причина перераз-дражения регулирующих отделов мозга, в результате чего развертывается картина гипертонической болезни.
Нередко бывает и так, что внешние события, которые должны дать резкую эмоциональную вспышку, проходят без особого следа. И, наоборот, незначительное, казалось бы, обстоятельство неожиданно сопровождается изменениями кровяного давления.
Вот примеры. Продавщица большого универмага постепенно стала чувствовать себя плохо — бессонница, сердцебиение, общая слабость. Она обратилась в поликлинику. Врач расспросил ее подробно; потом осмотрел, выслушал. Какие-то явления в области сердца остановили его внимание. Он измерил кровяное давление пациентки. Оно оказалось для тридцатилетней женщины
повышенным: 168/102. По ряду признаков врач установил начальную стадию гипертонической болезни. Он выписал ей лекарства и велел лежать.
На другой день врач пришел к больной. Хотя она чувствовала себя немного лучше, все же состояние ее было неважное.
Врач опять измерил кровяное давление. Результат его удивил: давление оказалось — 141/98. Это было почти нормальное кровяное давление.
Через два дня, как было условлено, женщина пришла к своему врачу в поликлинику. Выслушав ее, он опять измерил кровяное давление. И опять ему пришлось изумиться: кровяное давление было высоким — 172/1 М.
Чтобы выяснить, не случайность ли такая разница в цифрах, врач, не посвящая в свое удивление больную, стал у нее проводить параллельное измерение кровяного давления: и дома, и в поликлинике. Оказалось, что дома кровяное давление всегда было гораздо ниже.
Таким образом, посещения поликлиники — незначительного волнения, видимо, испытываемого больной в обстановке лечебного учреждения, — оказывалось достаточным, чтобы вызывать эмоции, отражавшиеся на сосудодвигательных функциях коры мозга и гипоталамуса.
Разумеется, посещение поликлиники не может само по себе быть причиной повышения кровяного давления. У этой женщины неблагоприятные предшествующие обстоятельства уже внесли изменения в корковые процессы, тем самым обусловив быстроту подъема кровяного давления и в обстановке поликлиники.
У библиотекарши клуба была установлена начальная форма гипертонической болезни. Она, ее муж — педагог, сестра мужа — корректор издательства, жившая с ними, весь день находились на работе. Все домашнее хозяйство лежало на домработнице.
На приеме, в кабинете врача, поставившего диагноз гипертонической болезни и назначившего лечение, произошла странная история: кровяное давление в разные моменты приема давало разные цифры. Исследование в первые минуты прихода показало — 138/102; к концу приема — 177/109.
На другой день врач стал следить за всеми подробностями поведения больной, за темами разговора, за характером вопросов. И тайна открылась. При любой, даже, казалось бы, волнующей теме уровень кровяного давления оставался неизменным, умеренно повышенным. Как только речь заходила о домашней работнице, цифра кровяного давления подскакивала.
Ясно, что и здесь повседневные, бытовые, мелкие, но постоянна повторяющиеся обстоятельства вызывали эмоциональное воздействие на регулирующий механизм мозга, создавая очаги застойного возбуждения и нарушая нормальную тормозящую связь с гипоталамическими, подкорковыми центрами.
иб этом свидетельствуют множество случаев, подобных только что изложенным.
Но тогда законен,вопрос: почему же в одних случаях некоторые события являются источником эмоциональных раздражений, влияющих на сосудодвигательные центры со всеми последствиями этого, а в других — нет?
Ключ к этому лежит в индивидуальных качествах, в свойствах людей. Те обстоятельства, которые для одного человека не имеют особенного значения, представляются несущественными, у другого в силу избирательного отношения, в силу различных глубоких ассоциаций, воспоминаний, переживаний, повторяемости — задевают самые чувствительные стороны личности. И тогда кажущееся обычным, незначительным событие внешнего мира вызывает эмоциональную «встряску», как бы с особой силой раздражает и возбуждает корковые и подкорковые области головного \ мозга. Высшие отделы нервной системы получают как бы удар большого напряжения.
А за этим идет, естественно, подъем кровяного давления.
Вот что придает силу отдельным мелким величинам.
В них, как этому учат труды профессора Ланге и других советских ученых, и надо видеть одного из главных врагов, нарушающих нормальное состояние высших отделов нервной системы.
Еще одна иллюстрация
К весьма существенным и поучительным выводам приводит изучение и других особенностей течения гипертонической болезни.
У пилота обнаружилась гипертоническая болезнь. Она была в начальной стадии. Пилот поступил в госпиталь для обследования. Во время его пребывания в госпитале произошло большое землетрясение в Ашхабаде. А в Ашхабаде жила как раз семья пилота.
Как сообщение об этой катастрофе прошло для него? Заставило его взволноваться, потерять покой, вызвало подавленное настроение?
Да, разумеется. Он был совершенно потрясен, не мог найти себе места. У него тотчас созрело упорное решение: немедленно выписаться из госпиталя и выехать в Ашхабад, к семье. И он этого добился.
А как же обстояло дело в это время с его гипертонической болезнью? Надо полагать, что кровяное давление сильно поднялось? Нет, этого не случилось. Волнение пилота было очень сильным, но это все же не дало подъема кровяного давления. Как оно стояло на цифрах — 146 — 90, так и осталось, несмотря на острую психическую травму.
По возвращении из Ашхабада, пилот снова поступил в госпиталь. Рассказывая врачам и соседям по палате обо всем виден-
ном им на месте землетрясения, пилот вновь тяжело переживал все и волновался. Но опять-таки на его кровяном давлении это почти не отражалось.
Через несколько дней предстояла выписка его из госпиталя. Вопрос о дальнейшей судьбе пилота решался на врачебной комиссии. Она должна была установить его пригодность к летной службе в связи с перенесенной болезнью.
И здесь, при прохождении через комиссию, кровяное давление пилота резко поднялось. Оно дало — 175/105. Это сделала мысль, что его могут лишить возможности заниматься любимой работой. Вот что оказалось наиболее сильным, наиболее травмирующим эмоциональным раздражением для его нервной системы.
О чем свидетельствует этот случай, сообщенный на заседании Московского терапевтического общества? О том, что пилот был равнодушен к судьбе своей семьи? Или о том, что состояние нервной системы не лежит в основе гипертонической болезни? Или о том, что резкие эмоции и аффекты отрицательного порядка не всегда ведут к нарушению функций регулирующих сосудодвигательных центров головного мозга?
Нет, случай с пилотом, да и случай с продавщицей, с библиотекаршей и еще многие другие, описанные в медицинской литературе случаи, говорят о том, что не у всех людей одни и те же внешние события, даже сопровождающиеся сильными эмоциями и аффектами, вызывают одинаково повышенную возбудимость, перенапряжение мозговых сосудов, нарушение регулирующего влияния на кровеносные сосуды высших отделов нервной системы. Вот о чем говорят факты. Они и объясняют все, что казалось таким непонятным.
Надо, следовательно, допустить, что для каждого больного имеется свой круг эмоций, к которым как бы особенно чувствительна его кора мозга. Такие эмоции и дают наибольший подъем кровяного давления.
Что же лежит в основе такой избирательности? Очевидно, она создается у человека на почве многократно повторявшихся в жизни сочетаний определенных обстоятельств, причем обстоятельства эти действовали как раздражители, за которыми всегда наступало эмоциональное возбуждение. Так, надо полагать, что у пилота, например, не раз на протяжении его биографии летчика создавались житейские ситуации, при которых вставала возможность вынужденной перемены любимой им профессии. И, несомненно, каждый раз за этим следовала эмоциональная реакция со стороны корковой и подкорковой областей мозга.
Следовательно, можно сказать, что избирательный характер некоторых эмоций заключает в себе элементы выработавшегося условного рефлекса. Это и обусловливает влияние на сосудодвигательные центры одних эмоций и отсутствие такого влияния со стороны других эмоций.
Вместе с тем подобные случаи приводят к вполне логической
мысли, что многие больные гипертонической болезнью принадлежат к людям, неправильно реагирующим на те или иные внешние раздражения. При отсутствии соответствующей устойчивости их нервной системы у них образуются в коре головного мозга даже от незначительных, но частых эмоций застойные очаги возбуждений, а затем возникает и ненормальная функция сосудодвигательных центров. А за этим следует повышение кровяного давления.
Глубокая связь
Теперь можно заняться следующим вопросом, который совершенно естественно встает перед нами.
Нервная система, особенно ее высший отдел — кора больших полушарий головного мозга, занимает, как известно, ведущее место во всей жизнедеятельности организма.
Почему же длительное психическое перенапряжение, частые психические травмы, приводящие к срыву нормальной деятельности коры мозга, к ее ослаблению, к нарушению функциональной связи между корой и подкорковой областью, почему все это сказывается главным образом на сердечно-сосудистой системе? Почему при застойных очагах возбуждения, образующихся в коре мозга и подкорковых центрах, заметных изменений патологического характера первоначально не происходит, например, в печени, или в легких, или в селезенке, или в поджелудочной железе? Почему результаты нарушений корковых процессов вследствие перегрузки эмоциями и аффектами отрицательного порядка выражаются прежде всего изменениями со стороны кровеносных сосудов в виде усиления тонуса стенок артерий и артериол, усиления, доходящего до спастического сужения?
И почему в то же время никаких болезненных явлений в других органах обычно не наблюдается в течение довольно продолжительного срока?
Все дело заключается в той роли, которую играют для живых существ биологические и физиологические механизмы, позволяющие организму приспосабливаться к окружающему миру, к внешним условиям. В результате длительного периода эволюционного развития жизни на Земле тончайшим и главнейшим органом, регулирующим взаимоотношения организма и внешней среды, стала нервная система с ее высшим отделом — корой мозга. Однако нервная система осуществляет свою задачу приспособления к внешней среде при непременном и всестороннем участии сердечнососудистой системы. Это создает тесную связь регулирующих областей коры больших полушарий с кровеносной системой.
Вот почему гипертоническая болезнь является наиболее резко выраженным, наиболее частым заболеванием при перегрузке коры мозга.
Только учение великого Павлова дает ключ к пониманию всей сложной проблемы гипертонической болезни.
Меры восстановления
Трудами советских ученых установлена бесспорность двух положений, касающихся гипертонической болезни.
Первое: в основе гипертонической болезни лежит болезненное, патологическое состояние коры больших полушарий мозга и подкорковых центров, сопровождающееся образованием в них застойных очагов возбуждения.
Второе: главный симптом болезни заключается в повышенном кровяном давлении, обусловленном длительным сужением артерий и артериол в различных отделах кровеносной системы.
Что следует из этих двух положений? Какие они диктуют лечебные мероприятия? Прежде всего надо восстановить нормальное течение процессов как в коре мозга, так и в подкорковых, гипоталамических центрах. Но отсюда же явствует, что должно быть устранено влияние на психику, на кору мозга повторяющихся эмоций и аффектов отрицательного порядка. Такова основная задача в профилактике гипертонической болезни.
Затем надо добиваться восстановления нормального крове-снабжения органов, чтобы устранить в кровеносной сети препятствие для тока крови. А что для этого нужно? Необходимо, чтобы артерии и артериолы вышли из спастического состояния, чтобы суживающее напряжение их стенок заменилось нормальным тонусом. Другими словами, нужно сосуды расширить.
Следует иметь в виду, что от начальной стадии гипертонической болезни до полного развития всех болезненных явлений проходит много лет. Вмешательство врачебной науки на всех этапах болезни дает успех. Болезнь ослабляется, потом исчезает. Человек выздоравливает. Но, конечно, чем раньше начнется это вмешательство, чем раньше будет применено лечение, тем вер-^ нее, тем скорее скажется результат. Выздоровление явится более прочным, так как не успеют наступить значительные изменения ни в организме, ни в отдельных органах.
Существует ли в медицине средство, действующее, цапример, наподобие пенициллина, которое решительно, быстро, безотказно прервало бы течение гипертонической болезни и в короткий срок превращало бы гипертоника в здорового человека?
Нет, такого средства или препарата нет и не может быть. Но зато медицина обладает многими средствами, применение которых дает весьма положительный лечебный эффект. Она также выработала ряд мероприятий, препятствующих развитию гипертонической болезни с помощью воздействия на высшую нервную деятельность.
И здесь, повидимому, на первом месте стоит лечение сном. Этот метод — большое достижение передовой советской науки.
Лечение длительным искусственно вызванным медикаментозным сном, сонная терапия, целиком основано на учении Павлова об охранительном торможении клеток коры головного мозга. Сон,
останавливая такие ненормально текущие процессы, прекращает состояние возбудимости в коре мозга и охраняет, таким образом, мозговые клетки от застойных явлений перенапряжения. Следовательно, импульсы из сосудодвигательных центров становятся нормальными. Повышенное кровяное давление снижается.
Этот замечательный способ в применении к гипертонической болезни разработал московский профессор Ф. А. Андреев.
Хороший результат дает употребление препаратов, успокаивающих нервную систему, таких, как бром, хлоралгидрат.
Специальным сосудорасширяющим средством является сернокислая магнезия. Это лекарство уменьшает спазм артерий и снижает на более или менее продолжительный срок повышенное кровяное давление.
Советские лаборатории работают над изысканием и созданием новых медикаментов для борьбы с гипертонической болезнью.
Так, в Ленинграде предложен препарат — дибазол. Он тоже уменьшает спазматическое сужение кровеносных сосудов и снижает кровяное давление, особенно в мозговых артериях.
Конечно, сказать, какое лекарство или какое мероприятие нужно применить в том или ином случае — это исключительно дело лечащего врача, который принимает во внимание все обстоятельства, а не только тот или иной симптом.
Не менее важны и другие способы воздействия на гипертоническую болезнь.
Вспомним, что гипертоническая болезнь менее распространена в сельских местностях, чем в городских. Поэтому понятно, что двух-трехмесячное пребывание за городом может значительно улучшить состояние больного. Также вспомним, что на юге гипертоническая болезнь встречается реже, чем на севере. Пребывание в санатории где-нибудь в южных районах нашей страны влечет за собой заметное снижение кровяного давления и улучшает общее состояние. Этому способствуют еще и укрепляющие водные процедуры, рациональный режим, отдых. Умеренные физические упражнения, прогулки, рациональное питание является для занимающихся умственным трудом прекрасным средством укрепления организма.
Нужные мероприятия
Из всего, что было сказано о причинах возникновения гипертонической болезни, совершенно очевидна огромная роль обстановки, окружающей больного, его служебные и бытовые условия.
Так, если на работе у человека сложились неприязненные отношения, если к тому же сама работа не доставляет удовлетворения, то все это может явиться источником постоянных эмоций и аффектов отрицательного порядка. Разумеется, что тут самый правильный выход заключается в том, чтобы переменить обстановку. Также понятно, что условия домашнего, семейного характера не должны служить возбудителями переживаний отрицательного
порядка. Гипертонику, больше чем кому бы то ни было, об этом следует помнить. Именно ему нужен психический покой. Об этом следует не забывать и тем, кто составляет его домашнее окружение. Правильный режим питания тоже имеет большое значение, как мы знаем, для гипертонической болезни. Нам ведь уже известно, что при повышении кровяного давления и сужении сосудов в стенках артерий образуются отложения и бляшки, ведущие к склерозу. Какие вещества содействуют этому? Липоидные, жироподобные вещества, такие как холестерин, например. Липоидов, много в яичном желтке, в жиру, в масле. Значит, надо ограничивать себя в этих продуктах, допуская их в пищу в меньшем количестве, чем обычно. Особенно вредно курение и неумеренное-употребление алкогольных напитков.
Большинство врачей-исследователей считает, что строгая диета при гипертонической болезни нужна лишь в отдельных случаях,
Но как бы ни были эффективны те или иные средства, самое главное для достижения наилучших результатов при лечении гипертонической болезни — это возможно более раннее обращение к врачу. Успешнее всего и быстрее всего с заболеванием справляются в его начальной стадии. Значит, очень ценным было бы выявление всех ранних форм гипертонической болезни.
Но, к сожалению, многие больные не обращают внимания или не придают значения первым признакам неблагополучия в состоянии здоровья. Эти люди являются к врачам обычно тогда, когда уже пострадали, и довольно сильно, те или иные органы, когда в них уже отмечаются различные изменения.
Что же делать для того, чтобы добиться своевременного врачебного вмешательства? Как помешать развитию у заболевших людей гипертонической болезни? В этом отношении необходимы такие же мероприятия, какие применяются для борьбы с другими серьезными болезнями, для их профилактики. Примером могут служить успехи, достигнутые в нашей стране в борьбе с раковыми заболеваниями. Ежегодно у нас спасают огромное число, человеческих жизней.
Объясняется это тем, что все большее число больных попадает к нашим врачам во-время, то есть в начальной стадии заболевания. Это достигнуто благодаря широкому распространению санитарного просвещения и массовым обследованиям населения.
Подобные мероприятия нужны и для борьбы с распространением гипертонической болезни; это санитарно-просветительная пропаганда, диспансеризация, массовые обследования.
Первые шаги в этом направлении в нашей стране уже сделаны и с успехом.
Вспомним, например, опыт массового обследования 100 тысяч жителей Ленинграда. Оно показало, что повышенное кровяное давление встречается и у молодых людей, и у подростков, и — в единичных случаях — даже у детей. Хотя число их было несравненно меньшее, чем людей пожилого и старого возраста, и хотя признаки гипертонической болезни у них только намечались, все же в дальнейшем некоторые из этих людей могли бы стать гипертониками. Обследование дало возможность своевременно принять лечебные меры, и избавить их от этой участи.
Но полная победа над гипертонией зависит от устранения из окружающей человека среды тех факторов, которые являются источником постоянного психического травмирования большей или меньшей силы, источником эмоций и аффектов отрицательного порядка.
Устранение этих источников и будет решением проблемы.
Ни в одной стране
Можно ли считать, что в буржуазных государствах удастся провести все профилактические и оздоровительные мероприятия в целях борьбы с гипертонической болезнью? И можно ли полагать, что эта борьба будет победоносна, что исчезнут все факторы, ведущие к тяжелым эмоциональным переживаниям?
Нет, таких результатов нельзя добиться ни в одной капиталистической стране, независимо от того, бедна она или богата, занимает обширное пространство или крохотное.
Этого не может быть, например, в Австрии, в маленькой стране, где даже по данным министерства здравоохранения к началу 1951 года насчитывалось более 200 тысяч безработных, а в январе 1953 года почти в два раза больше, где, начиная с 1947 года, правительство четыре раза снижало реальную заработную плату трудящихся, где цены на все товары первой необходимости в конце 1952 года были повышены почти на 40 процентов, где государственная медицинская помощь населению в сущности отсутствует. Достаточно красноречива следующая справка: округ Винер — Нейштадт с населением в 100 тысяч жителей имеет... трех детских врачей.
Этого не может быть, например, в Италии, где расходы на здравоохранение составляют в бюджете государства меньше трех процентов, где в соответствии с «планом Маршалла» закрываются заводы, фабрики и рабочие и служащие выбрасываются на улицу, где огромное большинство детей живет в ужасающих условиях, калечащих и психику и здоровье. Неудивительно, что в Италии во многих районах остаются неграмотными почти 40 процентов детей, живущих в трущобах и даже лишенных платья, в котором они могли бы выходить на улицу.
Вот что говорит в одном из своих выступлений профессор римского университета Ада Александрини:
«Дети болеют бери-бери, скорбутом, трахомой, туберкулезом, рахитом. Их нервная система расшатана, умы отравлены литературой, которая портит характер, извращает воображение, подстрекает к насилию и войне».
Этого не может быть и в маршаллизованной Франции, где
также расходы на нужды здравоохранения составляют около одного процента бюджета, где растет, особенно за последние годы, число больных психическими болезнями, тифом, туберкулезом, раком. Растет, как и во всех этих странах, детская смертность, повышается детская преступность. По мнению одних исследователей, «в тяжелом моральном состоянии» находится 800 тысяч детей; по мнению других, — 900 тысяч. Число детей, судившихся за уголовные преступления, в 1952 году достигло 40 тысяч, причем 70 процентов из них признаны врачами «физиологически» ненормальными.
Этого не может быть и в Англии, где тоже растет безработица, где неуклонно повышаются цены на товары широкого потребления, где все более обостряется квартирный кризис из-за сокращения жилищного строительства, где расходы на нужды здравоохранения, в угоду распухшему военному бюджету, все снижаются и снижаются. По некоторым английским данным, число психических, сердечных, раковых больных за три последних года увеличилось в среднем в 3,5 раза.
Совершенно понятно, как все эти обстоятельства действуют на психику большинства жителей Италии, Франции, Англии. Также не может быть сомнений и в том, что никакие лечебно-профилактические мероприятия не дадут здесь улучшений, пока сохраняются подобные условия жизни. Нужно отметить, что во всех этих странах врачи, оставаясь на старых, отсталых позициях, избегают выделять гипертоническую болезнь в особую категорию, относя ее по тем или иным признакам, к другим заболеваниям — сердечным, почечным, мозговым, нервным.
В США чаще, пожалуй, чем в какой-либо другой буржуазной стране, гипертоническое заболевание рассматривается как самостоятельная болезнь. Можно ли, однако полагать, что здесь существуют лучшие условия для проведения профилактических мероприятий, что здесь действительней борьба с причинами возникновения гипертонической болезни?
Нет, так полагать было бы грубой ошибкой. Да это и невозможно. И в США уровень жизни за последние годы снижается непрерывно, борьба за существование становится все более жестокой, эксплуатация трудящихся все более свирепой. Здесь не прекращаются забастовки, все более наполняются тюрьмы. Устрашение становится государственным методом укрощения недовольных, протестующих граждан. Миллионы людей живут в мрачных трущобах, рассадниках инфекционных заболеваний. Расходные статьи государственного бюджета по здравоохранению сократились до двух процентов, а за последний год — даже до полутора процентов. Статистика установила, что каждый седьмой американец страдает от голода, который он утолить не имеет возможности, а около трехсот тысяч человек умирает в год от истощения, в то время как тысячи тонн пшеницы сжигают в топках, миллионы литров молока выливают в океан, горы картофеля обливают керосином и поджигают, — и все это во избежание падения цен. В этой стране поджигатели войны успешно культивируют психоз, заражающий и взрослых и детей. Именно здесь маленькая девочка просит мать увезти ее туда, где «нет неба», чтобы там не могли падать атомные бомбы. Именно в этой стране одиннадцатилетний мальчик, Эдди Рутский, из Кливленда пишет президенту:
«Почему наше правительство не расходует миллиарды долларов для спасения жизней? Каждый год тысячи мальчиков и девочек становятся инвалидами от болезней сердца. Мы, мальчики и девочки, — будущие граждане нашей страны. Если все дети будут калеками, то что станет с нашей страной? Мы, дети, имеем право вырасти сильными и здоровыми. Почему же мы не только не помогаем спасать народ, а вместо этого уничтожаем его? Я не понимаю, почему миллиарды долларов тратятся на производство бомбы, которая будет уничтожать жизнь».
А мальчик 14 лет, Эдвард Стефан, пишет в газету «Дзе Вокер»:
«Я очень хочу кончить школу, а потом получить медицинское образование. Все мои друзья также мечтают о том, что они будут делать, когда окончат школу. С тех пор, как я услышал о водородной бомбе и о тех ужасных вещах, которые могут случиться с людьми и городами, если она будет сброшена по решению эгоистичных людей, которые думают только о себе, я хочу знать, стоит ли продолжать мои занятия и стоит ли строить планы на будущее? Если не будет будущего, то зачем к нему готовиться? Я хотел бы знать, будет ли какое-нибудь будущее для нас?»
Души многих подростков в США отравлены. Официальные материалы «Управления по вопросам просвещения»- устанавливают, что более трех миллионов детей старшего возраста страдают сейчас нервными заболеваниями. После этого уже не может показаться удивительной следующая статистика: в Соединенных Штатах Америки детская преступность в 1952 году была на 60,5 процентов выше уровня 1951 года. 24 процента всех арестованных были подростки моложе 17 лет.
Неудивительно, что число страдающих гипертонической болезнью в этой стране даже больше, чем в остальных капиталистических государствах. Недаром гипертоническая болезнь все более и более в широких кругах ученых уже не называется болезнью «зимы жизни» или «осени жизни», а болезнью «американской жизни».
По свидетельству американских статистиков, ежегодно в США умирает свыше 100 тысяч детей в возрасте до одного года. Уменьшение в государственном бюджете ассигнований на здравоохра-ние до 1,5 — 2 процентов позволило подсчитать, что означает такое снижение. Только по одному детскому сектору оно приводит к следующему. Десять миллионов детей, нуждающихся в лечении глаз, ослепнут; три миллиона детей, имеющих признаки нервного расстройства, кончат свою жизнь в домах для умалишенных; еще десять миллионов детей, которым необходимо лечение, погибнут.
Каким контрастом встает рядом со всеми этими фактами и перспективами величественная действительность Советской Страны. Все в нашем государстве направлено на улучшение положения трудящихся, на дальнейший рост их жизненного уровня. Достаточно сказать, что из сотен миллиардов национального дохода три четверти их получают советские люди для удовлетворения своих материальных и культурных потребностей. В ближайшие годы национальный доход возрастет еще на новые десятки миллиардов. Исторические решения XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза открывают широкие перспективы дальнейшего неуклонного роста благосостояния населения нашей страны. В свете этих великих забот партии и правительства о благе народа предстает и вся жизнь советских людей. Если принять в оценке роста благосостояния масс такой, например, критерий, как квартирный вопрос, то следующая справка дает очень красноречивые показатели. За послевоенную пятилетку восстановлены и построены вновь жилые дома общей площадью свыше ста миллионов квадратных метров. В новой пятилетке будут заселены дома площадью еще в несколько десятков миллионов квадратных метров, не считая сотен тысяч жилых домов, построенных в сельских местностях. Советское государство отпускает миллиарды рублей на содержание и развитие сети родильных домов, детских садов и яслей. Так, летом 1952 года в пионерских лагерях, на загородных дачах и других детских учреждениях отдыхало пять с половиной миллионов детей. Для детей создано более 1 200 дворцов и домов пионеров, свыше четырехсот спортивных школ, сотни парков и стадионов, станций юных техников и натуралистов, большое число детских и кукольных театров.
Отсюда вполне закономерны и другие данные. Так, смертность в Советском Союзе снизилась по сравнению с довоенным 1940 годом в два раза. Детская смертность упала еще ниже. Нигде нет такого счастливого детства, как у нас. Ежегодный прирост населения в нашей стране в течение последних нескольких лет составляет более трех миллионов душ.
Это все то, что является несбыточным и невозможным для капиталистических стран.
Нет, ни в каких буржуазных государствах с их кризисами, безработицей, с неуверенностью в завтрашнем дне, с преждевременной инвалидностью множества людей, с трудностями борьбы за существование немыслимы как широкие профилактические мероприятия против гипертонической болезни, так и действительная борьба с травматизацией психики, с эмоциями и аффектами отрицательного характера, вызывающими и поддерживающими перенапряжение высших отделов нервной системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разные времена
Во все времена, даже в самые давние, существовали болезни, существовали врачи.
В истории медицины известны имена очень крупных врачей, живших сотни и даже тысячи лет назад. Это были люди, которые упорно стремились облегчить страдания больных. Они сделали отдельные удачные наблюдения, открытия, во многом правильные даже с современной точки зрения.
Так, Гиппократ, величайший врач древней Греции, две с половиной тысячи лет назад уже применял банки, согревающие компрессы, горячие и холодные водные процедуры. Он производил вытяжения, накладывал неподвижные повязки при переломах костей рук и ног.
Римлянин Цельс, живший в царствование Нерона, был сведущ во многих науках, в том числе и в медицине. Он применял припарки, согревание, а чахотку лечил усиленным питанием и горным чистым воздухом, т. е. так, как лечат ее начальные формы в основном и теперь.
Во втором веке нашей эры Гален учил, что по биению пульса можно отличать здорового человека от больного.
В XVI веке хирург Амбруаз Парэ удачно производил ампутации рук и ног, ввел перевязку артерий и вен при операциях. При огнестрельных ранах он накладывал бальзамическую повязку, очень схожую с теперешней мазевой повязкой.
В том же веке Парацельс применял в лечебных целях препараты железа, цинка, меди.
Но все эти открытия были лишь первыми шагами науки. Это и понятно. Тогдашние врачи как следует не знали строения человеческого тела, не знали, как работают его ткани и органы, что происходит в больном организме. Еще меньше знали в старину о причинах болезней. Медики действовали по большей части вслепую, наугад.
Да и как могли они все это знать? Ведь тогда не было микроскопов, лабораторий, аппаратуры, не существовало почти никакого оборудования и приборов для исследований больных.
Науку заменяли большей частью догадки, предположения, часто мистические, в лучшем случае — лишь верные описания симптомов заболеваний. Искусство врачевания подменялось знахарством, а порой и шарлатанством. Отдельные ценные факты, которые были подмечены и накоплены, трудно было использовать в лечебных целях, так как врачи тех времен не понимали их действительного значения. Что могло, например, дать Галену открытие им значения пульса, если он не имел никакого понятия о роли сердца, о кровообращении, т. е. не знал даже, чем пульс вызывается?
Медицина стала подлинной наукой о болезнях и борьбе с болезнями лишь в XIX веке.
Основной стержень
В 1808 году французский врач Корвизар ввел в медицину предложенное еще в 1761 году исследование больных при помощи выстукивания, т. е. ввел способ определять состояние внутренних органов по звуку при их выстукивании. После многих споров и возражений этот метод — перкуссия — победил.
В 1819 году другой француз Леаннек предложил выслушивать через трубку сердце и легкие. После ожесточенной борьбы выслушивание — аускультация — также получило признание.
Это были два великолепных открытия. Одно время их даже называли «компасами медицины». Они положили начало новой эры в диагностике болезней.
Замечательными работами ряда деятелей науки, особенно Клода Бернара, Пирогова, Павлова, Боткина, Сеченова, Пастера, Коха, Мечникова и других ученых, было выяснено жизненное значение различных органов, установлена роль микробов в происхождении болезней.
Особое значение для развития некоторых особенно важных разделов науки о здоровом и больном организме имели работы великого Павлова. Они пролили свет на функции органов кровообращения и желудочно-кишечного тракта; гений Павлова впервые установил законы деятельности коры больших полушарий мозга, законы высшей нервной деятельности человека. Одна за другой раскрывались перед наукой тайны строения и работы человеческого тела.
Открытие во второй половине XIX века роли микробов помогло установить причину огромного числа заболеваний и найти правильные, точные пути борьбы с ними.
Введение наркоза, обезболивание явилось благодеянием для медицины, а антисептика и асептика дали могучий толчок развитию хирургии.
Рентгеновские лучи и лучи радия обогатили науку о болезнях замечательными диагностическими и лечебными средствами.
Учение о гормонах — веществах, вырабатывающихся в железах внутренней секреции, проложило путь к победе над такими болезнями, которые раньше считались совершенно неизлечимыми. Большое значение имеет открытие витаминов и изучение их значения для жизнедеятельности организма.
В современной медицине широко используются достижения техники. С помощью бронхоскопа — прибора, снабженного крохотной электрической лампочкой, можно исследовать дыхательные пути чуть ли не до самого легкого. Эзофагоскоп позволяет исследовать пищевод до самого желудка, гастроскоп — полость желудка. Появились и другие замечательные инструменты, многие из которых созданы советскими учеными и конструкторами. Теперь врач, видя, что происходит в заболевших бронхах или желудке, или толстой кишке, или мочевом пузыре, может правильнее решить, чем болен человек и как надо его лечить.
Изобретение электронного микроскопа и усовершенствование оптического микроскопа сделали доступными глазу тончайшие детали строения тканей и клеток, мельчайшие возбудители болезней.
Развитие науки и техники вооружило врача новыми и весьма эффективными лекарственными средствами: вакцинами, сыворотками, сульфамидными препаратами, витаминами, переливанием крови и, наконец, антибиотиками.
Техника лабораторных медицинских исследований достигла высокого совершенства.
Всем этим не могли располагать врачи в старину.
Что же является основным, главным показателем достижений медицинской науки? Он определяется прежде всего успехом лечения, числом выздоровевших. Чем совершеннее методы исследования и способы лечения, тем больше больных могут быть исцелены, если этому не препятствуют социальные, экономические, политические, культурные условия, тем выше процент выздоровления.
Именно числом выздоровлений определяется уровень медицины, ее успехи, ее научная и практическая ценность.
Во времена Гиппократа, Галена, Парэ и позже, вплоть до XIX века, выздоравливали после серьезных недугов лишь очень немногие больные. Выздоравливали преимущественно те, у кого был крепкий организм, кто мог поправиться и без всякого лечения, и даже вопреки лечению, иногда больше вредившему, чем помогавшему.
По мере прогресса медицины процент выздоровлений стал увеличиваться. И чем ближе к XX веку, тем все выше поднимался этот процент.
Почти повсюду угасали, за исключением, конечно, стран колониальных и полуколониальных, эпидемии чумы, холеры, брюшного и сыпного тифа, оспы.
В наши дни для увеличения процента выздоровлений уже имеют значение десятилетия и даже отдельные годы.
Так, например, лет сорок назад из каждых десяти случаев заболевания прободной язвой желудка девять заканчивались смертью.
С тех пор у хирургии появились такие помощники, как рентгеновские лучи, переливание крови, инфильтрационное новокаи-новое обезболивание и многое другое. И теперь из десяти человек, заболевших этой болезнью, умирает всего один.
Это — пример из хирургии. А вот примеры из других областей медицины.
Еще лет пятнадцать назад из /каждых десяти больных злокачественным малокровием умирало десять. Иными словами, умирали все. Теперь из десяти таких больных ни один не умирает. Выздоровление — стопроцентное.
Однако, медицина не во всех случаях, не повсюду, имеет право гордиться такими успехами.
Эпидемии чумы и холеры не опустошают больше европейских стран. Но они уносят- тысячи жизней в странах колониальных.
Буржуазная медицина дарит свои успехи только тем, кто может их хорошо оплатить, т. е. меньшинству, только представителям имущих классов, только эксплуататорским элементам общества.
Это верно, что из десяти больных, заболевших прободной язвой желудка, девять выздоравливают. Однако, эти больные могут поправиться лишь при одном непременном условии: они должны иметь средства, чтобы оплатить врачебную помощь и купить необходимые лекарства.
Из десяти больных злокачественным малокровием не умирают лишь те, кто в состоянии купить дорогой печеночный экстракт.
Для большинства трудящихся в капиталистических странах и лечение и лекарства являются недоступными.
Могут ли в капиталистических странах открытия ученых-медиков способствовать осуществлению благородной, гуманнейшей цели — продлению человеческой жизни? Нет, никоим образом! Благами медицинской науки там пользуются преимущественно эксплуататорские классы. Миллионы людей труда бедствуют, испытывают лишения, живут в нужде, преждевременно дряхлеют и умирают. Виноват в этом весь уклад капиталистического строя, которому чуждо бережное отношение к человеку. В погоне за высокими доходами капиталисты не заботятся о трудящихся. У рабочего потогонная система производства отнимает все силы, разрушает здоровье; а затем он оказывается выброшенным за борт жизни, лишенным в большинстве случаев возможности пользоваться средствами медицины.
В Америке, например, переливание крови больному, если он и находится в больнице, стоит 25 долларов. Даже не очень серьезное заболевание, требующее в среднем около месяца пребывания на больничной койке, обходится больному примерно от двух до трех тысяч долларов. Неудивительно, что в этих условиях любая болезнь становится еще одной причиной обнищания и разорения человека, а зачастую и полной катастрофы целой семьи. В своем послании конгрессу 5 января 1949 года бывший тогда президентом Трумэн вынужден был признать: «Наше здравоохранение далеко отстает от прогресса медицинской науки. Соответствующее медицинское лечение настолько дорого, что недоступно огромному большинству наших граждан». Это — одно признание. Другое признание гласит: «Поразительно, что в такой богатой стране, как наша, десятки миллионов людей лишены удовлетворительного медицинского обслуживания».
В официальном отчете за 1948 год, посвященном состоянию здравоохранения в США, имеются следующие сведения: только из-за отсутствия элементарной медицинской помощи ежегодно умирает более 350 000 американцев.
В других капиталистических странах дело защиты населения от болезней находится в таком же плачевном состоянии. Поэтому проблему продолжительности жизни в условиях капитализма решить невозможно, какими бы значительными ни были там достижения медицинской науки.
Только в Советском Союзе медицина служит делу народного здравоохранения. В Советской Стране каждый заболевший пользуется безвозмездно всеми средствами современной медицинской науки, обеспечивается нужными лекарствами, уходом, бесплатным лечением в больницах и клиниках.
Медицинская наука опирается на естествознание. Успехи естествознания во многом определяют успехи медицины. Только опираясь на передовое материалистическое естествознание, можно разгадать законы, определяющие функции здорового и больного организма. В нашей стране естествознание вооружено передовой научной теорией — теорией диалектического материализма. Поэтому у нас оно является подлинной наукой, на которую опирается медицина.
Десять лет назад американский врач Джиффорд впал в отчаяние. Он был окулистом. И хорошим. Но ему не удавалось возвращать зрение слепым. Конечно, некоторым он помогал, но таких было мало. А главное — Джиффорд не знал, кому из его пациентов поможет операция пересадки роговицы и на какой срок.
Тогда Джиффорд объявил, что он готов платить по пятьдесят долларов за каждый случай удачной пересадки роговицы, сделавшей слепого зрячим и вполне трудоспособным ка срок не менее трех лет. Джиффорд готов был платить свои доллары только потому, что он был вполне убежден в невозможности для медицины достичь такого успеха.
А советский ученый, академик Филатов, за эти десять лет вернул зрение многим тысячам слепых и проследил результаты на протяжении не только трех лет, но и гораздо большего срока.
Филатов достиг неизмеримо большего успеха, чем Джиффорд, благодаря использованию консервированной ткани, благодаря смелому новаторскому подходу к решению проблемы, встретившему полную поддержку со стороны Советской власти.
Государственная забота о предупреждении заболеваний, проведение широких профилактических мероприятий, огромный рост процента выздоровлений — вот чем характеризуются успехи советской медицины.
Этого не могло быть раньше, ни в древние века, ни в средние, ни даже в новые. Такие успехи стали возможными лишь в нашей: Советской Стране, в условиях социализма, после победы Великого Октября.
Честь и гордость
Плохо быть больным. Даже если можно сравнительно быстро-излечиться, все же лучше совсем не болеть.
Медицина в СССР стремится к тому, чтобы человек не заболевал. Основной принцип советской медицины: «легче предупреждать, чем лечить».
Отчего возникает болезнь? Всегда ли, например, микробы, попавшие в организм, вызывают болезнь? Нет, не всегда.
Чтобы человек заболел, нужны причины, сопутствующие возникновению болезни. Эти причины кроются в условиях жизни. Недоедание или неправильное питание, переутомление, плохое жилье, отсутствие теплой одежды, грязь, слабая закаленность организма — вот причины болезней. Они делают организм податливым, восприимчивым к заболеваниям. Но ведь все это в основном результат плохих социально-экономических условий. Плохие условия влекут за собой рост числа заболеваний. Именно так обстоит дело во всех капиталистических странах.
В Советском Союзе условия жизни непрерывно улучшаются. Поэтому уменьшается и число заболеваний. В нашей стране не-только снизилось число заболеваний, но и резко уменьшилась смертность, возросла средняя продолжительность жизни людей, повысилась рождаемость.
Почему произошли такие изменения? Потому что у нас забота о трудящемся человеке — основная задача государства. У нас нет и не может быть эксплуатации человека человеком, нет и не может быть кризисов и безработицы. Наша Конституция гарантирует охрану здоровья советских людей и помощь им в случае заболевания. Множество лечебных учреждений, профилакториев, диспансеров, яслей, детских садов, учреждений охраны материнства и младенчества неусыпно заботятся о здоровье советских людей. Обширная сеть курортов, здравниц, домов отдыха обеспечивают хороший отдых для трудящихся нашей страны.
Широкое развитие физкультуры и спорта в нашей стране делает людей физически устойчивыми, выносливыми, закаленными.
С каждым годом в СССР повышается уровень материального благосостояния. Все больше средств расходуется в нашей стране на осуществление мероприятий предупреждающей профилактической лечебной медицины, все меньшим становится число заболеваний.
Однако, существует еще много болезней, которые пока не побеждены и требуют упорной борьбы с ними. Они встречаются в СССР, но неизмеримо больше они распространены в капиталистических странах.
Это все тяжелые недуги, например, рак, некоторые инфекции, шок, сердечные заболевания, язвенная болезнь и другие.
Конечно, в XX веке эти болезни лечат не так, как в I, V или XVI веках, или даже десять-пятнадцать лет назад. Лечат гораздо искуснее, несравненно удачнее. Но полного, окончательного успеха не всегда удается достигнуть.
Перед советскими учеными стоят огромные задачи и чтобы решить их, нужны величайшие усилия творческой мысли и упорная целеустремленность.
Великий советский физиолог Павлов, обращаясь к молодежи, писал: «Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если бы у вас было две жизни, то и их нехватило бы вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека».
Значение этого великого творческого напряжения людей науки по-настоящему оценено только в стране социализма.
Наше Советское правительство создало работникам науки исключительно благоприятные условия для работы, и это дало свои результаты. В нашей стране сделан ряд замечательнейших открытий. Вот чем объясняются достигнутые нашей передовой наукой успехи.
Глубокое изучение функций человеческого организма дало в руки советских ученых ключи к познанию тончайших процессов, происходящих в организме, в его тканях и клетках, ключи к управлению этими законами в интересах охраны здоровья трудящегося человека.
Это — ключи здоровья. Они открывают дорогу к исцелению от тягчайших недугов.
Одновременно под практическую медицину подводится новый фундамент, в основание которого положено материалистическое учение гениального физиолога Павлова. Идея «нервизма» становится ведущим принципом предупредительной и лечебной медицины и обещает дальнейшие успехи в борьбе за здоровье людей. Уже теперь, следуя замечательным указаниям Павлова об охранительном и восстановительном торможении, советские врачи достигли крупных результатов при лечении язвенной болезни, шока, психических заболеваний, бронхиальной астмы, гипертонической болезни и других страданий.
Учение Павлова представляет собой оружие великой силы, которое медицине предстоит полностью использовать.
Овладение всеми этими ключами означает решение основной задачи, которая стоит перед медицинской наукой. Эта задача — еще больше повысить число выздоравливающих, еще больше снизить смертность. Стало быть, еще больше удлинить жизнь.
Это и есть тот эликсир долголетия, который безуспешно искали на протяжении веков кудесники, алхимики, изобретатели, философы, врачи.
Эликсир долголетия — это не ка-пли, не пилюли. Это успехи медицины, ее открытия.
Но, повторяем, успехи медицины сами по себе еще не решают проблемы успешной борьбы с болезнями. Самое важное, решающее — это те условия, в которых применяются открытия науки.
Можно ли представить себе, чтобы, например, в Америке к заболевшему рабочему, живущему за много сотен километров от железной дороги, вылетел на самолете врач, чтобы оказать ему скорую помощь? Нет, конечно. Разве хватит у больного долларов, чтобы оплатить такую помощь, иногда даже крайне необходимую, быть может несущую спасение от смерти?
Но если советский рабочий, колхозник, служащий или член его семьи, нуждается в неотложной помощи, самолет санитарной службы немедленно доставит врача, и даже крупного специалиста, в самый отдаленный пункт. И никаких денежных расчетов при этом не потребуется. Защита человека от болезней является у нас государственным делом.
Ничего подобного нет и не может быть в странах капитализма, там, где все, даже борьба с болезнями, служит лишь источником увеличения доходов, источником наживы.
Уродливость капиталистического строя можно продемонстрировать и на таком факте, как, например, завещание некоей Элис Болдуин. Эта богатая англичанка, скончавшаяся в январе 1949 года, оставила свое крупное состояние... бездомным кошкам. Жильцы огромного дома подлежат выселению со всем их имуществом. В дом должны въехать собранные отовсюду бродячие кошки. Все жилые помещения отводятся под кошачий приют. Новым четвероногим жильцам по завещанию обеспечиваются хороший уход и сытное питание.
И это — в то самое время, когда миллионы английских рабочих и безработных, их дети, жены, старики, лишены куска хлеба, живут в трущобах и даже под открытым небом.
Разумеется, в таких государствах открытия медицины не могут служить делу охраны здоровья народных масс.
Это осуществляется только в нашей стране, в стране победившего социализма.
Коллективность творчества
Есть еще одна особенность, которая помогает двигать вперед науку в нашей стране: коллективность творчества.
В буржуазных странах ученый трудится обычно в одиночку или пользуется услугами чрезвычайно ограниченного круга сотрудников. Если он находится на пути к открытию, то окружает свою работу тайной, чтобы ничей взгляд не проник в решаемую им задачу. И это вполне естественно для обычаев и нравов, создаваемых капиталистическим строем. Там и в науке царит звериный закон конкуренции с его жаждой обогащения и со страхом оказаться позади более удачливого соперника. Там наука тоже бизнес, выгодное дело. Успех одних — это поражение других. Успех же любого нашего ученого рассматривается как успех всей советской науки. Только опираясь на своих последователей, помощников, сотрудников, наши ученые в состоянии добиваться таких результатов, которые не под силу одному человеку, даже необычайно даровитому.
Наилучшим подтверждением сказанному может служить Иван Петрович Павлов. Гениальные открытия в области пищеварения сделали его мировым ученым. То, чего он достиг, хватило бы с избытком на всю научную жизнь нескольких ученых. Однако, Павлов сумел еще создать учение о работе больших полушарий головного мозга — грандиозное здание нового учения о физиологических законах, которые управляют высшей нервной деятельностью животных и человека. Но, несмотря на свои исключительные качества исследователя и экспериментатора, Павлов не смог бы столько сделать, если бы у него не было окружавших его многочисленных учеников, из которых многие затем стали самостоятельными первоклассными исследователями, основателями собственных направлений в физиологии. Почти нет в СССР ни одного научного центра, в котором не работают ученики Павлова, развивающие дальше идеи своего учителя.
Следует вместе с тем отметить, что в своих новаторских исканиях Павлов опирался на своих предшественников — Сеченова, Боткина, Введенского, используя творчески их богатое наследие. Такое отношение к прошлому отечественной науки тоже является неотъемлемым свойством наших ученых, подводящих твердое историческое основание под свои успехи. Очень хорошо и точно выразил эти черты русской науки сам Павлов, когда он получил приветствие Всесоюзного общества физиологов по поводу 60-летия своей научной деятельности. Павлов в ответе Обществу указал, во-первых, что он является продолжателем того, что начал Иван Михайлович Сеченов; а во-вторых, что он не отделяет своей работы от работы своих сотрудников. Вот слова Павлова:
«Да, я рад, что вместе с Иваном Михайловичем и полком моих дорогих сотрудников мы приобрели для могучей власти физиологического исследования вместо половинчатого весь нераздельно
животный организм. И это — целиком наша русская неоспоримая заслуга в мировой науке, в общей человеческой мысли».
Что Павлов понимал под приобретением для физиологии вместо половинчатого всего нераздельно животного организма? Это значило, что решена труднейшая задача — установление физиологических законов и для психической деятельности. Тем самым, следовательно, головной мозг становился таким же органом, подчиненным физиологическим законам, как и остальные органы. Другими словами, весь организм, без исключения, его и телесные, и психические функции становились нераздельно объектом физиологии. Это было то, чего не удалось достигнуть науке на протяжении веков. Павлов так писал о прежнем бессилии физиологии проникнуть в деятельность мозга: «Все высшее и сложное поведение животного, приуроченное к большим полушариям... осталось почти незатронутым». В другом месте Павлов характеризовал трудность нроблемы следующим образом:
«Можно с правом сказать, что неудержимый со времен Галилея ход естествознания впервые заметно приостанавливается перед высшим отделом мозга».
То, чего не могли добиться во все времена, сделал Павлов.
И вот, честь выполнения этого научного подвига Павлов считал принадлежащим не только ему, но и всем, кто с ним работал. Так могло быть лишь потому, что он представлял себе науку делом не одиночек, а общим делом. То, что у Павлова, в его методах работы, в его организаторском таланте было выражено наиболее ярко, является характерным для всех наших ученых и стало естественным и типичным в нашу социалистическую эпоху. Об этом говорят биографии и Мичурина, и Лысенко, и Жуковского, и многих других деятелей в различных областях знания.
«Массовость» кадров в коллективах наших институтов, лабораторий и других исследовательских учреждений и творческая связь прошлого и настоящего — неотъемлемая черта советской науки.
Кроме того, у нас наука обладает еще одной важной особенностью: она неразрывно связана с практикой. Открытия ученых подхватываются неисчислимым количеством работников, имеющих какое-либо отношение к данной отрасли науки, подвергаются проверке на практике, и все, что оправдывает себя на деле, становится достоянием широчайшего круга практиков.
Опять-таки очень поучительно в этом направлении учение Павлова. Казалось бы, что оно представляет собой весьма специальную дисциплину, имеющую применение лишь в физиологических лабораториях и, может быть, в нервно-психиатрических клиниках. А между тем Объединенная сессия Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, состоявшаяся в 1950 году и посвященная путям развития идей Павлова, показала, что врачи стремятся павловские положения использовать и для лучшей постановки курортного дела, и в физкультуре, и в применении физиотерапевтических процедур — электролечения, грязелечения, теплолечения, водолечения и т. д. Учение Павлова проникает и в сельское хозяйство, например, в животноводство, где оно имеет большое значение для повышения продуктивности животных.
В свою очередь, новаторские идеи практиков входят в арсенал научных достижений. Примером такого явления может служить деятельность врача Г. Е. Румянцева, работавшего в одном из сельских участков Ростовской области. На основе учения выдающегося ученого-академика В. П. Филатова и собственного практического опыта он создал свой метод применения тканевого лечения для ряда серьезных заболеваний и добился значительных результатов. И теперь способ Румянцева используется в практике многих лечебных заведений, становится предметом обсуждения на врачебных конференциях, предметом изучения и дальнейшего усовершенствования. Таких фактов новаторства рядовых работников, чей опыт получает широкое распространение, можно привести не один и не два. И не только в области медицины. Все" чаще бывает, что передовики производства — шахтеры, каменщики, строители, кузнецы, литейщики, ткачихи — читают лекции студентам институтов о собственных методах работы, дающих громадный рост производительности труда и являющихся новым словом в науке и технике.
Мы должны здесь вспомнить слова И. В. Сталина:
«Бывает и так, что новые пути науки и техники прокладывают иногда не общеизвестные в науке люди, а совершенно неизвестные в научном мире люди, простые люди, практики, новаторы дела»1
1 В. И. Ленин, И. В. Сталин, О социалистическом соревновании. Сборник. Госполитиздат, 1941, стр. 229.
Всем этим, помимо огромной помощи государства, и объясняются успехи науки в нашей стране.
Таких условий нет и не может быть там, где существует капитализм, где все блага предоставлены лишь небольшой кучке эксплуататоров, где массы не заинтересованы в открытиях и достижениях науки, которые не облегчают тяжести существования трудящихся, а являются лишь источником еще большего обогащения господствующих паразитических классов.
Принципы комплексности.
При чтении этой книги может возникнуть следующий вопрос. Человек заболевает, например, язвой желудка. Как его лечить? Прибегнуть ли к пересадке кожи, сделать ли новокаиновую блокаду, погрузить ли в наркозный сон? А может быть лучше всего лечить эту язву попрежнему — строгой диетой? Что выбрать из всех этих способов? Ставят ли врачей в тупик такие вопросы? Разумеется, думать над всем этим приходится. Но опытный и знающий советский врач, руководимый сознанием своего долга, учтет целый ряд обстоятельств — состояние сердца, сосудов, нервной системы, общее самочувствие, сопротивляемость организма, условия жизни больного — и только после этого остановится на средстве, наиболее подходящем для данного случая. Но это отнюдь не значит, что выбор одного лечебного способа отбрасывает в сторону все другие способы. Советская медицина не противопоставляет один метод другому; передовая научная мысль требует комплексной терапии, комбинированного применения всего того, что в совместном действии может оказать наилучшее влияние на течение патологического процесса. Комплексное лечение преследует цель воздействовать на все стороны заболевшего организма, на весь организм, как на единое целое. А это и влечет за собой необходимость сочетать все нужные методы, а не ограничиваться одним, даже если он и хорош.
Так, если мы возьмем, например, тот же шок, то уже известно, что максимальный успех дает такое лечение, которое соединяет в себе применение и снотворных средств, и успокаивающих, и тепла, и новокаиновой блокады, и переливания крови. Только подобное комбинированное воздействие на пораженный шоком организм гарантирует наибольший успех.
Организм человека очень сложен. В нем действует целый ряд физиологических систем. И болезнь — это не изолированное нарушение нормальной работы одного органа. Патологические изменения любого участка организма обязательно вызывают в большей или меньшей степени нарушение нормальных процессов в остальных органах и тканях. Но наиболее резко болезненные проявления могут быть выражены в одном каком-нибудь органе.
Точно так же и защитные функции организма нельзя сводить к какому-нибудь одному механизму, например, фагоцитарному или гуморальному. Пользуясь военной терминологией, можно сказать, что в живом организме имеется не один, а много фронтов борьбы. И на каждом фронте есть свое вооружение. Поэтому могут существовать и разные способы для того, чтобы приводить в действие защитные силы, защитные реакции организма, регулируемые и контролируемые центральной нервной системой. Деятели советской медицины постепенно открывают эти виды вооружения и эти способы защиты.
* * *
В нашей книге мы рассказали лишь о некоторых из тех исследователей, которые составляют славу и гордость советской науки, борющейся за жизнь и здоровье человека. Ими разрабатывались наиболее актуальные проблемы или непосредственно связанные с задачами практической медицины, или служившие благодарным материалом для лечебного применения. Эти деятели науки составляют только один из отрядов большой армии передовых советских ученых. Вместе с ними работает с успехом и много других видных исследователей, также сделавших замечательные открытия в области медицинской науки.
Их труды, их достижения — темы для новых книг.
_________________
Распознавание текста — БК-МТГК, 2018 г.
|