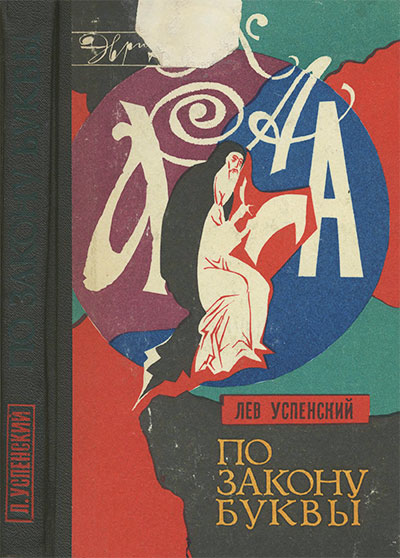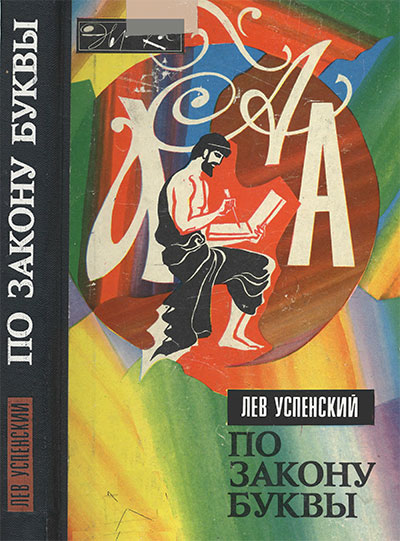Буквально два слова
Азбуку учат, на всю избу кричат…
Увидев этот заголовок, повздорили между собой три моих приятеля.
Первый, скептик и иронист, ехидно заметил:
— Ну конечно! «Буквально два слова»! А напишете две тысячи два. Зачем эти гиперболы: «буквально»?
— А затем, — откликнулся второй, — что вы-то и есть презреннейший из буквалистов. Вас смущает простейший языковой троп. Преувеличение. Или преуменьшение.
— Он не буквалист. Он — буквоед, — вступился третий. — Если сказано: «Петух сидел на коньке», он спросит: «На кауром или на саврасом?» Или потребует, чтобы сказал: «Сидел на стыке плоскостей двускатной крыши».
— Ни на йоту правды! Я этого не говорил…
— Неважно, кто сказал «а», тот скажет и «бе»…
Такого разговора не было. Но он мог быть, поэтому я и сочинил его. Зачем? Чтобы показать, что говорящим по-русски очень свойственно играть словами двух разрядов. Либо прямо произведенными от основы «буква», либо же теми, которые представляют собой «переносные значения» от самих названий букв в азбуке. Их «азбучные имена».
«Буквалист», «буквоед»… «Кто скажет «а», скажет и «бе». «Ни на йоту…» Для чего это мне понадобилось?
А разве пристрастие нашего языка к «букве» и ее производным не удивительно?
Как много у нас разных производных от этого слова! Как много всевозможных пословиц, крылатых слов с ним связано. Подумайте сами: в совершенно естественном диалоге сразу подряд и «буквально», и «буквалист», и «буквоед»… И тут же рядом «от а до я», «ни аза ты не понимаешь»… И не в одном русском языке.
Выражение «буквально» по-французски прозвучит: litteralement.
Можно передать его и по-немецки. Получится: buchstablich. Французское выражение связано с франко-романским словом littera — «буква». Немецкое происходит от Buchstabe, что опять-таки значит «буква».
А как поступили бы с нашим «буквально» итальянцы? Они сказали (или написали бы): alla léttera. Датчанин в этом случае выразился бы: bógstavelig. Иначе говоря, все народы Европы (каждый, конечно, на своем языке) воспользовались бы словами, тесно связанными все с тем же понятием «буква».
В романских языках они оказались бы напоминающими латинское littera. Говорящие на языках германского корня употребили бы слова, связанные родственными отношениями с немецким Buchstabe. В славянских языках мы встретили бы слова, очень близкие к нашим: по-украински — «буквально»; у болгар — «буквално»…
Возьмите теперь венгерский язык, никак не родственный остальным индоевропейским. У венгров «буква» — betű, а «буквально» — betűszerint.
Может быть, так получилось потому, что венгры много веков живут в кольце европейцев, испытывая влияние их языков?
Но поговорите с турками: турецкий язык всегда существовал, так сказать, на обочине европейского мира, за его пределами. И всё же, если «буква» по-турецки harf, то «буквально» прозвучит harf harfine.
А ведь это при чуть-чуть вольном переводе и получится «буква в букву».
Не знаю, что подумаете про все это вы, но мне такая общность в стремлении совершенно разных народов связывать между собою два совершенно различных представления — высшей точности, с одной стороны, и «письменного знака» — с другой, представляется и любопытной и поучительной.
Это такая редкость, что мимо нее равнодушно не пройдешь. Каждый, кто сталкивается с этим явлением, кого интересуют проблемы «психологии языка», так или иначе попытается найти ему какое-нибудь объяснение.
Мне кажется, что такая связь между далекими друг от друга представлениями может возникать в понимании говорящих лишь в определенных условиях их существования и на строго определенном уровне развития — как бы сама собою. И тотчас же становится в их глазах чем-то само собою разумеющимся. Почему?
Попробуем рассуждать вот как. На начальных ступенях культуры (так же, как и в малолетстве каждого из нас) люди прежде всего привыкают выделять из живого потока речи СЛОВО. Вначале именно оно осознается ими — людьми и народами — как некий «речевой атом», как неделимая первооснова языка. Лишь много позже (я говорю тут не об ученых, не о науке) они овладевают умением разлагать этот атом на его элементарные частицы.
Мы-то с вами теперь без труда и уверенно утверждаем: такими частицами, с которыми люди осваиваются раньше, чем они вырабатывают в себе способность находить более сложные элементы структуры слов, оказываются в их глазах звуки и состоящие из них слоги.
Но вспомните своё собственное прошлое. Когда у вас родилось представление о звуке, о звучащем слоге?
Я убеждён, вы скажете: не до того, как вы научились читать и писать, а после этого. В крайнем случае — в процессе обучения чтению и письму и в самой прямой связи с ним. В тот самый миг, когда мы вдруг уразумели, что такое «буква» и что такое «слог», не звучащий, а закрепленный на письме. Письменный.
Чему удивляться? Трудно вообразить положение, когда ребенку понадобилось бы разлагать слова, звучащие слова, на составляющие их звуки — слышать слово «мама» как ряд из четырёх звуков: м-а-м-а. Ведь мы, обучаясь говорить, никогда не «складываем» слов из звуков. Мы познаем их, сживаемся с ними, как с трепетными, неделимыми и живыми целыми.
И только при переходе к обучению письму дело осложняется самым прискорбным образом. Неожиданности подкарауливают нас на каждом шагу, и мы не сразу наловчаемся парировать их и избавляться от ошибок.
В двенадцать лет мне поручили обучить чтению деревенских ребят, брата и сестру, маленьких старообрядцев. Ученики были года на четыре моложе учителя.
Поначалу все пошло отлично: малолетки оказались смекалистыми и буквы разучили прекрасно. Я решил перейти к чтению слов.
У нас был букварь с картинками и подписями.
На букву П там фигурировала «пчела» —
На букву Ш — «шайка» —
Я вызвал первым Прокопа, парнишку. Мальчуган уставился в книгу:
— П-ч-е… Пче!.. — от усердия завопил он на всю комнату. — Л-а, ла…
— А что вместе будет?
— Восва, которая кусается, — последовал неожиданный для учителя ответ. «Восва» на псковском диалекте означает «оса».
И востроглазая Марфушка не принесла мне радости. Она точно так же назвала все буквы — «ш-а-й-к-а», но прочитала слово с милой улыбкой: «Кадочка!»
С той поры я начал подозревать, что между знанием названий отдельных букв и умением соединять их в слова лежит пропасть.
Думается, мой случай был далеко не исключительным. Весьма возможно, что и человечество — во время оно все до последнего жителя земли говорливое, но неграмотное — сначала в лице мудрейших своих открыло тайну письма. И лишь много позже, когда письмо это уже прошло долгий путь от рисуночного до звукового (буквенного), — лишь на одном из поздних этапов этого пути оно уразумело, что и живые слова делимы. Что их, оказывается, можно расчленять на звуки, потому что элементы эти, почти вовсе неслышимые порознь в сплошном потоке речи, начинают, применяя гоголевское словцо, «вызначиваться», как только вместо живых, пульсирующих, переливающихся всеми цветами радуги слов звучащей речи перед нами возникают их как бы засушенные таинственным волшебством подобия, призраки, отпечатки: слова письменного языка.
Только человеку, изощренному в наблюдениях окружающей жизни, чудом представляется само звучащее слово.
В одной из моих книг я уже поминал тончайший отрывок из купринского «Вечернего гостя».
Автор ожидает прихода какого-то посетителя.
«…Вот скрипнула калитка… Вот прозвучали шаги под окнами… Я слышу, как он открывает дверь. Сейчас он войдет, и между нами произойдет самая обыкновенная и самая непонятная вещь в мире: мы начнем разговаривать. Гость, издавая звуки разной высоты и силы, будет выражать свои мысли, а я буду слушать эти звуковые колебания воздуха… и его мысли станут моими…»
Надо быть даровитым психологом-аналитиком, да еще художником слова, чтобы так разглядеть необычное и таинственное в обыденном и привычном. Я не припомню где-либо еще в литературе нашей с такой силой переданное удивление перед чудом языка и мысли.
А вот ощущению волшебного характера письма посвящали строки и страницы многие мастера литературы.
Резче всего, пожалуй, чувства эти переданы М. Горьким. В книге «Мои университеты» он рассказывает, как, будучи подростком, взялся учить грамоте своего не умевшего читать старшего товарища — умного и пытливого волгаря, рабочего Изота.
Великовозрастный ученик горячо взялся за дело. И наконец Алеша Пешков застал Изота в великом потрясении. Изот научился читать.
«Объясни ты мне, брат, — жадно допытывался он у своего наставника, — как же это выходит все-таки? Глядит человек на эти черточки, а они складываются в слова, и я знаю их: слова живые, наши! Как я это знаю? Никто мне их не шепчет… Если бы это — картинки были, ну, тогда — понятно. А здесь как будто самые мысли напечатаны — как это?»
Судя по тому, что рассказывает Горький, мало вероятия, чтобы так же в свое время могла удивить Изота-ребёнка способность человека узнавать мысли собеседника через звучащее слово. Она казалась ему простой и естественной, как дыхание, как зрение. И понятно: это первое чудо все мы встречаем в столь раннем возрасте своем, что сперва не умеем ему как следует поразиться, а потом привыкаем к нему.
А вот письмо, обрушивающееся на нас позднее, производит на начинающего умственно созревать отрока куда более острое и жгучее впечатление колдовства.
Изот — Россия, Волга, 80-е годы прошлого века, мир безграмотных каталей и крючников, царство великой тьмы и великого страдания…
А вот Париж середины того же XIX столетия. Вот маленький интеллигент француз, сын врача, Пьер Нозьер, в лице которого Анатоль Франс в значительной мере изобразил себя — ребенка. Между этими двумя лежат и тридцать лет, и три тысячи километров, и противоположность классовая, возрастная… И тем не менее…
«Пока я не научился читать, — вспоминает, став взрослым, Пьер Нозьер, превратившийся в Анатоля Франса, — газета имела для меня… таинственную привлекательность… Когда отец разворачивал покрытые маленькими черными значками листы, когда он читал отдельные места вслух и из этих значков возникали мысли, мне казалось, что у меня на глазах совершается чудо. С этого новенького листа, покрытого такими узенькими… строками, слетали преступления, празднества, приключения… Наполеон Бонапарт убегал из крепости Гам. Мальчик с пальчик наряжался генералом. Герцогиню де Прален убивали…»
Разница в малом: маленький парижанин слушал чтение отца; волгарь Изот сам с трудом складывал строки уличных объявлений. Но для обоих связь напечатанных букв со спрятанным в них или за ними смыслом казалась неправдоподобной тайной, волшебством, чудом из чудес.
Вполне естественно, что такое отношение, свойственное каждому человеку в детские годы, — отношение к грамоте, к чтению, к письму — к буквам! — остается характерным и для всего человечества на определенных стадиях его развития. Остается потому, что в масштабах земного шара число его обитателей, стоящих в отношении к грамоте на уровне наших первоклашек, а то и дошколят, все еще чрезвычайно велико.
Вероятно также, что в давние времена, когда пленочка «грамотеев» на океане безграмотности была еще во много раз тоньше, подавляющее большинство тогдашнего человечества больше дивилось диву чтения и письма, чем многим самым сказочным чудесам.
Ведь недаром про все, что было закреплено пером на бумаге, говорилось с печальной иронией: «Не при нас оно писано!» — и в то же время благоговейно верилось, что «написанное пером не вырубишь топором!».
Из этого противоречия чувств и родилось то восторженно-смущенное отношение и к самому письму, и, в частности, к его волшебному первоэлементу — букве, к предмету, так странно несхожему с той реальностью мира, которую буква отображает, — со звуком.
В самом деле: вы вздумали овладеть колдовским искусством письма. Хотите вы того или нет, вам приходится начинать с изучения отдельных букв, с азбуки. Ведь и сегодня вместо «с самого начала» мы то и дело говорим, как когда-то наши предки: «с азов».
Да как же не чудо? Я пишу «у меня бОк ломит», и вы жалеете меня. Но я изменил в этих словах единственную буковку: «у меня бЫк ломит», и вы уже не понимаете, удивляться вам, не верить или смеяться: весь смысл стал совершенно другим.
Невольно приходишь к убеждению, что слова «точно» и «буква в букву» выражают одно и то же.
А допустимо, что большую роль сыграло и вот что.
Бессмысленно спрашивать: звучащее слово «кошка» похоже на кошку-зверюшку или нет? Кошка — предмет, существо. У нее есть вид, внешность, материя. А у слова «кошка» одно звучание. Как и что сравнишь?
А вот написанное слово «кошка» тоже предмет. По внешности оно явно ничем не напоминает кошку-животное. Но то, что грамотный человек, увидев пять странных закорючек — К-О-Ш-К-А, тотчас начинает «думать про кошку», поражает каждую наивную (или, наоборот, умудренную) душу.
Ощущение это только укрепляется оттого, что он, даже неподготовленный младенец, воспринимая звучащее слово «кошка» как нечто неделимое, в данном случае ясно видит, из чего слагается слово написанное. Из букв.
«Чудо звуков» для него не возникает, а вот «чудо букв» обрушивается на него нежданно-негаданно. И так как все это происходит не с одним-двумя, а со множеством людей и даже людских поколений, то вот поэтому мы твердо знаем «букву закона» и никогда не говорим о «звуке закона». Употребляем наречие «буквально», а не придумали слова «звукально». Называем педанта «буквоедом», но никого и никогда не окрестили еще «звукоедом». И нас не смущает, что, если рассудить «по науке», то все эти обыкновения покажутся и несправедливыми, и, пожалуй, оплошными…
Ведь никто не сказал и не доказал, что буква хоть в каком-то отношении важнее и первороднее звука. Наоборот, по отношению к нему она является скорее чем-то вторичным. Звук — истинная реальность речи; буква — бледный слепок с него, отпечаток, вроде прославленного в науке отпечатка древней птицы археоптерикса на куске окаменевшего сланца.
Да, бледный, но зато несравненно более долговечный!
Вот почему девять человек из десяти охотно повторяют выражение «буква в букву», скажут «от а до я», а никогда не выразятся более справедливо: «звук в звук» или «от знака, изображающего звук «а», до того, который обозначает созвучие «йа».
В большинстве случаев, желая определить повышенную точность, мы любим обращаться не к представлениям о звуках нашей речи, а к образам письменных знаков им соответствующих букв.
Буква вечнее звука — летучего, мгновенного, с трудом уловимого. Та птица, которая отпечаталась на литографском камне Золенгофена, где она теперь? Её и память исчезла. А отпечаток её — вот он: пережил в земле сто с лишним миллионов лет, с юрской эпохи, и теперь красуется в музее.
Сколько удалось просуществовать ей? А ему?
Звук искони веков в глазах человека был символом всего нестойкого, преходящего.
В словарях «звук пустой» так и поясняется: «о чем-либо, лишенном всякого смысла и значения». Так может ли быть, чтобы язык стал к такой «пустой и незначительной вещи» относиться с тем же почтением, что и к вещи солидной и «долгоиграющей», к букве?
Подумайте о древней как мир привычке вырезать, высекать, надписывать свои имена (даже инициалы) на стенах старых зданий, на коре вековых деревьев, на отвесных обрывах утёсов…
Дело это начал, может быть, еще Дарий Гистасп, увековечивший свои деяния и царское имя свое на Бехистунском утесе в Малой Азии за пять столетий до начала нашей эры. Пойдите сегодня на гранитные спуски набережных Невы, Москвы, Сены — всюду чернеют, синеют, лиловеют надписи, которые и верно трудно «вырубить топором» и многие из которых уже пережили своих творцов…
Культурный уровень этих «писателей» весьма низок. Но у меня, филолога, к ним отношение в душе двойственное. Они как-никак верят в волшебную силу надписи. А это хорошая вера.
Возьмите тот же Бехистун. Мне неинтересны те слова, которыми Дарий поименно клеймил своих разбитых врагов или восхвалял доблести собственных полководцев. Меня поражает в этой надписи другое.
Надпись состоит из ряда фигур и словесных пояснений к ним. Фигуры изображают и сподвижников царя, и врагов. На голове крайнего из этих последних что-то вроде шутовского колпака. Под человеком короткая надпись. Когда ее расшифровали, она оказалась крайне лаконичной: «А это — скиф Скунка».
С той поры прошло две тысячи пятьсот лет. Никому из ныне живущих людей не ведомо, кем был, что сотворил в своей жизни этот скиф, что сделал доброго и что — злого? Ни об одном из его близких до нас не дошло никаких сведений — ни о его женах, ни о его воинах, детях, внуках и правнуках. Но о том, что он был, двадцать пять веков кричали с высот Бехистуна письменные знаки, надпись. И едва нашелся хитроумец, сумевший ее прочесть, имя человека зазвучало вновь.
Бехистунская надпись — всемирное чудо. Но тысячи надписей меньшего объема и значения заставляют ученых, языковедов, историков, археологов поминать добром их авторов, случайно ставших известными и в то же время оставшихся безымянными.
…Бегали по новгородской улице XIII века двое мальчуганов. Один взял кусочек бересты и чем-то острым нацарапал на нем два ряда насмешливых и лукавых букв, видно дразнилку, бывшую в ходу между тогдашними школярами:
Н В Ж П С Н Д М К З А Т С Ц Т
Е Ђ Я И А Е У А А А Х О Е И А
Непонятно? А это шифр. Прочтите надпись «зигзагом» — первая буква верхней строки, первая — нижней и так далее. И в переводе на наш нынешний русский язык с тогдашнего русского получится:
НЕВЕЖДА ПИСАЛ, НЕДУМА КАЗАЛ, А КТО СИЕ ЧИТАЛ…
Конец этого «берёста» оторван, и нам неизвестно, какую каверзную пакость по адресу читавшего он содержал. Но ясно одно: опорочив своего друга, читателя, новгородский мальчишка, живший чуть позже легендарного Садко, много раньше прославленной Марфы Посадницы, не поверил бы глазам своим, увидев тех убеленных сединами ученых, которые сквозь сверкающие лупы и микроскопы «читали» написанные им буквы, найдя их через пятьсот лет после его короткого, как молния, существования. Нет, про них он не посмел бы сказать ничего дерзкого, хотя они-то и оказались теми, «хто се цита» в непредставимом для него будущем.
Всё, что окружало его, что было живо в его время, исчезло бесследно за полтысячелетия и никогда не воскресло бы заново, если бы…
Да, если бы не буквы, не письмо. Они только и перебросили мост между нашим и его существованием…
Ну что же? Пожалуй, причины великого почтения большинства народов мира, и, в частности, нашего, русского народа, к письменному знаку, к букве, причины того особого значения, которое они придают им теперь, как-то прояснились.
И вот уже предисловие мое вроде бы как подходит к концу…
Но здесь мне вдруг захотелось сделать еще одно — попутное! — замечание: может быть, оно представит некоторый интерес. Впрочем, это нельзя даже назвать «замечанием», так, скорее вопрос к самому себе… Да, неудивительно, что буквы в глазах наших давних предков казались чем-то не в пример более твердым и определенным, чем такая «воздушная субстанция», как звуки речи. Это понятно.
Но вот что заслуживает некоторого недоумения: почему для наших пращуров менее строгим и внушающим меньшее доверие эталоном точности показались цифры?
«Грамоте не знает, а цифирь твердит!» — неодобрительно отзывается пословица о любителях на пути познания перескочить через этап. «По грамоте осекся, так и цифирь не далась», — констатирует народная мудрость, как бы указывая на искусство чтения и письма как на фундамент к счётному делу.
Почему, желая указать на точное следование чему-нибудь (ну, скажем, какому-то подлиннику), мы говорим, что следование это «буквальное»? Почему мы не называем его «чисельным» или «цифирным»?
Правда, в наши дни, произнося определение «буквальный», мы нередко вкладываем в него немного иронический оттенок: мол, буквально — значит слепо, без рассуждений, всецело подчиняясь какому-то «закону буквы». Но это уж от нашей избалованности, изощренности. Это позднейшая добавка!
Так вот, и спрашивается: почему это так? Ведь математики вправе обижаться…
Казалось бы, именно число должно выражать представление о точности, о полном соответствии чего-нибудь с чем-либо. А подите же: и предкам нашим почудилось, и мы от них это смутное ощущение унаследовали, будто точнее сходства буквы с буквой ничего и на свете нет.
По-видимому, так праотцев наших поразило великие чудо письма. И память об этом удивлении — и древнем, во дни веселого новгородского «невежи», и сравнительно новом, поразившем Пьера Нозьера в Париже и Изота на Волге, — дожила до нашего времени. Если не в наших мыслях, то в нашем языке.
Недавно я слышал, как один очень авторитетный ученый-кибернетик сказал:
«Эта модель представляет собою буквальное изображение процесса, происходящего в обществе, но в удобообозримой форме…»
Я записал его формулу. Она поразила меня именно в устах математика. Было ясно, что он под «буквами» имел в виду не алгебраические символы. Он жил и рассуждал при помощи унаследованных от предков понятий и языковых образов. И подчинился инерции языка даже в той области мысли, в которой, казалось бы, ушел всего дальше от трафарета, — в математике.
Он подчинился ЗАКОНУ БУКВЫ. Силён же, по-видимому, этот старый закон!
От Ромула до наших дней
Буки-аз
Многие мои сверстники еще помнят строчки из прославленного «На лужайке детский крик…» Василия Курочкина:
Но я обследовал примерно полсотни лиц в возрасте от 30 до 50, и только семь (7!) смогли толково рассказать мне, что означают эти «буки-аз, буки-аз». Трое самых скептически настроенных ядовито пожали плечами: «Вы еще спросите, что значит «люшеньки-люли» или «ох, дербень-дербень калуга!». Такие припевы ничего не значат!..»
Ни один не знал, что «аз» — это название первой буквы азбуки, а «буки» — второй ее буквы. В лучшем случае я слышал: «Вольная вариация на слово азбука» или «С такими присказками раньше почему-то чтению обучали». Стало ясно: у нынешнего поколения нацело утратилась память о том, что еще для моих ровесников было реальностью их детства. Я не хочу гневно сказать: «Они не знают церковнославянского» (а откуда им его и знать?); я говорю о том, что мало кому теперь известно, почему именно совокупность наших букв именуется так странно: АЗБУКА, что обозначает именно ее первые два знака — старинные их имена: «аз» и «буки», и уж тем более — были ли раньше, — а если были, то какие именно — названия у остальных ее знаков, обозначавших и обозначающих все возможные звуки нашего русского языка. И — также! — откуда они взялись.
Знаю: вы, читающий эту книжку, вправе проворчать: «Ну уж, это просто автору не повезло… Я, например, отлично помню, что «аз», кроме названия первой буквы славянской азбуки, — это личное местоимение первого лица единственного числа. А «буки»…»
Нет, это вам повезло, ежели такое вам известно.
В 20-х годах, после декретированного ещё в 1918 году упразднения в русской азбуке букв «ять» и «ер», а также «и десятеричного» (знаете ли вы, почему «и с точкой» звалось «десятеричным» и чем заслужило титул «восьмеричного» наше обычное И?), орфографическая зыбь, поднятая этим декретом, никак не могла улечься: затухала и поднималась вновь. Выяснилось, что «тотальное» уничтожение «твердого знака» вместе с выгодами принесло и некоторые огорчения.
Так, например, стало ясно, что замена этой буквы апострофом всюду, где она играла, как говорилось в школьных грамматиках, роль «разделителя», не кажется удачной. Появление в русском письме непривычного «диакритического» знака резало глаз. В школах ученикам апостроф был труден. Заговорили о частичном возврате «ера» в этой специальной его функции. Кое-какие типографии произвели такой возврат явочным порядком (и тем вызвали молчаливое разрешение органов власти и науки).
Но воскрешение «твёрдого знака» вызвало негодование неоорфографических ортодоксов. В их глазах упразднение «ера» и «ятя» так тесно слилось со всем революционным преобразованием нашей жизни, что отказ от него представлялся им уже чем-то вроде «измены революции», ренегатством, ревизионизмом, а проще говоря — «контрой».
К таким резким «антиеристам» принадлежал поэт-сатирик Василий Князев. Он выступал в ленинградских газетах под псевдонимом «Красный Звонарь» и не преминул отозваться на «бесстыжую» пропаганду «ера». В одной из газет появилось его стихотворение, громившее сторонников этой «обратной реформы». Поэт призывал дать их поползновениям суровый отпор и напоминал о других, тоже бытовавших в российской азбуке буквах. Насколько я помню, он обращался к комсомольцам тех дней с пламенным призывом не поддаваться на уговоры защитников старого:
Я воспроизвожу это четверостишие по памяти и за точность цитаты не ручаюсь. Однако помню, что в те времена, на считанные годы отдаленные от «старого мира», читатели приходили в крайнее недоумение по поводу непонятных слов «кси» и «пси».
Любопытно, что скажете по этому поводу вы, мой читатель (если, конечно, вы не филолог)? Скорее всего слова «кси» и «пси» звучат в ваших ушах впервые. Разве только в некоторых статьях по астрономии они могли вам встретиться в качестве буквенных обозначений небольших звезд в обширных созвездиях: «тау Кита», «кси Лебедя», возможно, и «пси» какого-либо еще изобилующего звездами созвездия. «Фи» известно теперь преимущественно из физико-математического обозначения — «косинус фи».
А ведь было время, когда по поводу буквы «пси» наши предки ломали копья — ну, если и не с той яростью, с какой позднее их потомки спорили о «яте» или «твёрдом знаке» (темпы и страсти в старину не те были!), то, во всяком случае, с убеждённостью вполне сравнимою.
Вот «Азбуковник» XVI века. Там строго написано про букву «пси»:
«ВЕЗДЕ ПИШИ ПСА ПОКОЕМ (то есть через буквы П и С), А НЕ ПСЯМИ (не с буквы Ψ — «пси», которая звуки «п» и «с» обозначала одним знаком), КОЕ ОБЩЕНИЕ ПСУ СО ПСАЛМОМ?!»
Аргумент вполне в духе того времени, но требующий некоторого пояснения в наши дни.
Ξ и Ψ, «кси» и «пси», были греческими буквами, некогда позаимствованными у греков составителями первых славянских азбук и затем вместе с одной из этих азбук, прославленной кириллицей, перешедшими «на русскую службу».
Они для русского слуха (в Греции дело обстояло не совсем так) обозначали сочетание двух согласных звуков «п» (или «к») и «с». Нашим предкам было нелегко, когда им разрешали букву «пси» употреблять только в словах греческого корня — «кое слово русское, кое же — еллинское?!». Слова «псаломщик», «псалмы» они слышали не реже, чем «псарня» или «псина».
Вот ведь как просто не впасть в опасную ошибку: слова церковные надлежало писать «со псями», а обыденные — «покоем». Нельзя, чтобы на соблазн миру псарь выглядел как «ψарь», точно он-то и есть псалмопевец: кое общение поганому псу со святым псалмом?!
Прочитав такое гневное предостережение, любой «недоука» того времени сначала смеялся, потом припугивался («грех-то какой!») и под конец надолго запоминал поучение.
Я вернул вас в далёкие глуби истории, в допетровское время (как мы позже увидим, преобразователь старой Руси ни «ксей», ни «псей» не затронул в своем реформаторском рвении). А ведь «азы» и «буки» входили в «программу обучения» многих еще ныне живущих старых людей. Я не говорю о том, что в гимназиях старой России был курс церковнославянского языка. Я говорю о том, что во всех церковноприходских школах ее церковная книга была основным учебным пособием, «закон божий» — главным предметом, и легко было встретить в мире пожилых людей, читавших по-старославянски куда свободней, чем «гражданскую печать». А такие люди и своих детей-внуков начинали обучать по правилу «на всю избу кричат».
Пожалуй, красочнее всего поведал нам об этом Максим Горький.
Алёша Пешков сравнительно легко расправился со всей кириллицей «от аза до ижицы», но сумел так рассказать о первом знакомстве своем с ней, что и теперь читать про это жутковато.
«Вдруг дедушка достал откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня:
— Ну-ка, ты, пермяк, соленые уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это — аз. Говори: аз! буки! веди! Это — что?
— Буки.
— Понял! Это?
— Веди.
— Врёшь: аз! Гляди: глаголь, добро, есть — это что?
— Добро.
— Понял! Это?
— Глаголь.
— Верно. А это?
— Аз.
Вступилась бабушка.
— Лежал бы ты, отец, смирно.
— Стой, молчи!.. Валяй, Лексей…
Он обнял меня за шею горячей влажной рукой… Я почти задыхался, а он, приходя в ярость, кричал и хрипел мне в ухо:
— Земля! Люди!
Слова были знакомые, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» — на сутулого Григория, «я» — на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и вразбивку. Он заразил меня своей горячей яростью, я тоже вспотел и кричал во все горло…
…Вскоре я уже читал по складам Псалтирь: обыкновенно этим занимались после вечернего чая, и каждый раз я должен был прочитать псалом.
— Буки-люди-аз-ла — бла; живете-иже-же — блаже; наш — ер — блажен, — выговаривал я, водя указкой по странице, и от скуки спрашивал:
— Блажен муж — это дядя Яков?
— Вот я тебя тресну по затылку, ты и поймешь, кто есть блажен муж! — сердито фыркая, говорил дед, но я чувствовал, что он сердится только по привычке, для порядка…»
«Сердится по привычке», а картинка всё же жутковатая. Но что поделаешь: «грамоту учат — на всю избу кричат!»
К жалости, которую невольно испытываешь не только и не столько по адресу маленького Алёши Пешкова — он-то, несомненно, мог бы научиться и египетским иероглифам при его способностях, — а в отношении к тысячам и сотням тысяч несчастных малышей, «на все избы кричавшим» по всей Руси на протяжении многих веков, со дней «Слова о полку Игореве», к жалости этой прибавляется и недоумение: чего ради надо было так чудовищно осложнять овладение азами грамоты? Почему букву, означавшую звук «а», нельзя было именовать просто буквой «а», следующую — буквой «б» (даже не «бе», а именно «б») и так далее… Казалось бы, чего уж проще?!
А вот же оказывается, что это было отнюдь не самым простым решением вопроса. Для того чтобы дойти до простого равенства — звук «б» равен букве Б — потребовались чрезвычайные усилия педагогической и ученой мысли. Ведь еще в начале 900-х годов, когда начал учиться письму и чтению я, сейчас беседующий с вами, и то на сей счёт царило разномыслие.
В передовой школе, в которую отдали меня, нас учили называть буквы, просто произнося звуки, ими изображаемые. Но в кадетском корпусе, где обучался мой двоюродный брат, и в провинциальных женских гимназиях, в которых занимались его сестры, буквы еще именовались слогами: «бе», «ге», «дэ», «ша». И читать там учили все еще «по складам»: теперь уже не «буки-люди-аз» — «бла», но всё-таки: «бе-эль-а» — «бла», «жэ-э-эн-ер» — «блаженъ»!
Так откуда же всё-таки родились эти азбучные трудности? И когда? И чего ради?
Чтобы понять здесь хоть что-нибудь, придется заглянуть далеко в глубь веков, в те времена, когда читать-писать учились не вы, я, он, не те или другие люди, а народы. Если не «всего мира», то Европы. Или, скажем точнее, Средиземноморья…
Телец — дом — верблюд — дверь…
В «Садах Эпикура» Анатоля Франса есть главка, называемая «Беседа, каковую я вел нынче ночью с одним призраком о происхождении алфавита».
Остроумнейший из французов начала XX века утверждает: как-то, когда он, устав от занятий, вздремнул при свете лампы в ночной тиши, из дыма его папиросы проглянул призрак. «Курчавые волосы, блестящие продолговатые глаза, горбатый нос, черная борода… хитрое и чувственно-жестокое выражение лица… все говорило о том, что передо мною один из тех азиатов, которых эллины называли варварами…»
«Я пришёл, — сказал призрак, — посмотреть, что вы такое пишете на этой скверной бумаге?.. Мне, само собой, дела нет до мыслей, какие вы излагаете. Но меня страшно интересуют знаки, которые вы тут выводите…»
«Несмотря на изменения, которые они претерпели за двадцать восемь веков своего существования, буквы, выходящие из-под вашего пера, мне не чужды. Я узнаю вот это «В», которое в мое время носило название «бет», что тогда значило «дом». Вот «L» — мы его звали «ламед», так как оно имело форму «ламеда» — стрекала — острого крюка для погоняния волов. Это «G» произошло из нашего «гимеля» с его верблюжьей шеей, а это «А» — из «алефа» — головы тельца. Что касается «D», которое я вижу вот здесь, то оно, как и наше породившее его «далет», было бы верным изображением треугольного входа в палатку, разбитую среди песков пустыни, если бы вы не закруглили очертания этого древнего символа кочевой жизни скорописным росчерком. Вы исказили «далет» так же, как и другие буквы нашего алфавита. Но я вас за это не корю. Это сделано для убыстрения. Время дорого, жизнь коротка. Нельзя терять ни минуты: надо торговать, ходить в море, чтобы нажить богатства и обеспечить себе счастье на склоне лет».
Так кратко и самоуверенно излагал свое жизненнее кредо призрак. Призрак кого?
Этот же вопрос задал себе и сам Франс тогда, в ночном сумраке кабинета.
«— Сударь, по вашему виду я догадываюсь, что вы — древний финикиец, — сказал он.
— Я — Кадм, тень Кадма, — просто ответило привидение».
Кадм? А кто это такой — Кадм?
Когда чего-либо не знаешь, полезно справиться в энциклопедическом словаре. Есть, правда, люди, которые относятся к энциклопедиям с высокомерным презрением; кто будет спорить: «первоисточники» солиднее. Но я и сам не презираю хорошие словари, и вам не советую. В «первоисточники» мы заглянем потом…
В «Мифологическом словаре» 1961 года про Кадма сказано:
«Миф о Кадме связывает основателя Фив с Финикией; это подчеркивалось также тем, что Кадму приписывали введение в Греции финикийского алфавита».
Старые Брокгауз и Ефрон посвятили Кадму длинную статью.
«Сын сидонского (значит — финикийского) царя Агенора был героем древних греков. Его сестру Европу похитил отец богов Зевс. Кадм и его братья Килик и Финик отправились на поиски сестры. Однако это им скоро надоело: Финик осел в Финикии, Килик — в Киликии, а Кадм, приведенный волей богов в Грецию, основал там город Фивы…»
Статья длинна, но в самом конце ее сказано также весьма кратко: «Кадму приписывалось принесение в Грецию финикийских письмен, которые поэтому назывались кадмейскими…»
Если проверить эти сведения по БСЭ, так и там вы прочитаете: «Греки считали Кадма изобретателем алфавита и способа обработки металла». Коротко, не очень ясно, но и вся статья занимает тут восемь полустрочек на одном из столбцов тома. Наконец, книга Ч. Лоукотки о происхождении письменности. И тут сказано о Кадме. По древним легендам, финикиянин Кадм, прибыв в Элладу, высадился не на Пелопоннесе, а на островке Фера (ныне Санторин). Оказывается, имя Кадм означало там, где-то на его родине и у братских финикийцам народов, просто Восток. Оказывается также, что в наши дан на Санторине открыт ряд древнейших надписей. И — не удивительно ли? — будучи греческими по языку, они легко читаются каждым, кто, представления не имея о греческой азбуке, знает финикийские письмена.
Любопытно, что сведения древних преданий и легенд на поверку почти всегда оказываются лежащими на какой-то реальной основе, на фундаменте давно забытых фактов. Видимо, Анатоль Франс, хоть и опирался на старый миф, не так уж далеко ушёл от исторической правды. Может быть, человека по имени Кадм-Восток и не существовало, но письменность в Грецию и на самом деле была занесена людьми Востока и из стран Востока…
Сравним некоторые древнееврейские, близкие к финикийским, названия букв с именами нам известных и более привычных слуху греческих буквенных знаков:
АЛЕФ АЛЬФА
БЕТ БЕТА
ГИМЕЛ ГАММА
ДАЛЕТ ДЕЛЬТА
Вероятно, вы признаете: сходство большое и безусловное. Однако можно заметить: а что оно доказывает? Кто у кого заимствовал? Греки с Востока или Восток от греков?
Позвольте поставить перед вами такой вопрос-пример. В русском, французском языках слово «вермишель», означает только «вид лапши». Родственных ему слов ни там, ни тут нет. А итальянцы, кроме «вермичелли» — вермишель, употребляют еще и слово «вермичелло» — червячок… Кто у кого это слово позаимствовал?
Так и тут. В греческом языке слово «альфа» значит только «первая буква азбуки». «Бета» — вторая буква.
А в языках Ближнего Востока «алеф» (слово может в разных языках произноситься на разный лад; корень его всюду один) означает не только имя первой буквы, но еще и «телец», «бычок». «Бет» — вторая буква алфавита — «дом». К примеру, имя древнего города «Беглехем» — Вифлеем можно передать по-русски как «дом (обитель) хлеба (пищи)».
Итак, заимодавцами были народы малоазиатского Востока, должниками — греки. Не могли же азиаты взять у эллинов лишенные смысла названия букв и сделать их у себя и именами таких же букв, и словами с точным «вещным» значением. Такого в истории языков не случается. Ясно, что все произошло наоборот. Существовали у кочевников Востока палатки с треугольными входами, и входы эти именовались «далет». Какой-то гениальный древний человек придумал, что маленький треугольник может изображать «далет». А через века треугольничек получил право обозначать не только предмет «далет», но и первый звук его названия — «д».
Точно так же картинка, изображавшая голову быка в ярме, сначала передавала понятие «алеф» — телец, а затем стала выражать первый звук этого слова — «а». Из иероглифа «алеф» превратился в букву.
Одному народу очень трудно заимствовать у другого названия его иероглифов, пока они означают предметы, понятия о вещах. Как могли греки позаимствовать у финикийцев их «алеф», зная, что это означает «бык»? Ведь по-гречески «бык» — «таурос», и уж ежели бы ему изображать какой звук, так «т», а никак не «а».
Когда же финикийский «алеф» стал означать только звук «а», греки взяли букву «алеф» и, приспособив к своей речи, начали выговаривать это слово как «альфа», а значок писать как А; даже не подозревая, что эта «альфа» некогда могла означать «бык». Так же и буква «ламед», значившая на Востоке не только «эль», но и «стрекало», превратилась в ничего уже не означающую греческую «лямбду». Мы не так уж часто встречаемся с этим знаком, но все же на картах неба в качестве обозначения 11-й по яркости звезды в больших созвездиях она нет-нет и попадается.
Пожалуй, для любознательных будет небезынтересен соотносительный перечень букв греческого и древнефиникийского алфавитов, в котором был бы указан их внешний вид и вероятный смысл.
Как видите, в полутора десятках случаев названия букв весьма схожи. Можно довольно уверенно сказать, что анатоль-франсовский Кадм в общем-то не погрешил: греческая письменность широко позаимствовала свои знаки из переднеазиатской, вполне возможно, финикийской письменности. Кадм-призрак в общем правильно расценил и причину последующего изменения формы знакомых ему букв: народы Европы стремились придать им возможно большую «скорописность», старались придать графическим слепкам звуков — буквам способность сливаться в слова письменной речи, если не с точно такой же, то хотя бы примерно такой гибкостью, с какой сливаются в звучащей речи в слова ее звуки, и хотя бы примерно с такой же скоростью.
Язык отличил букву от звука, как бы особо оценив то, что можно, пожалуй, назвать ее большей «дискретностью» по сравнению с ним. Письменные слова составляются из букв так же «поштучно», как нижется ожерелье из бусин или как мелодия слагается из отдельных ударов по струнам, когда играют на клавишном инструменте. А в живой речи звуки так плавно и без четких границ переходят друг в друга, как капли воды в струе, шерстинки в нити во время прядения или звуки скрипки, когда чуткий палец артиста, не отрываясь от грифа, скользит по нему.
Человеку именно эти свойства букв показались удобными при создании словесного, метафорического эталона точности.
Но ведь создание такого эталона не первая и не главная задача языка. И при решении основных задач речи устной и письменной — как можно быстрее и как можно точнее передавать от одного мозга другому живую мысль — вдруг выясняется: точная буква отстает от неточного звука. Она плетется за ним как хромоножка за бегуном, еле поспевая вслед и задерживая его на стремительном пути.
Овладев чудом письменности, проведя «медовые столетия» в браке с письмом, все языки мира начинают разочаровываться в нем. Ох, как давно человек начал думать уже не о «графике», а о «стенографии» для поспевания за речью и мыслью! Но еще того раньше, уже в самые «правремена» письма, оно стало меняться в порядке приспособления к «скорописи».
Чтобы убедиться, что в этом был смысл, сравните два «графических целых»:
Сомневаюсь, чтобы кто-либо из читающих эту страницу не согласился бы с тем, что левый рисунок («надпись») несравненно четче и легче расчленяется на элементы, нежели правый. Однако вряд ли кому-нибудь придет в голову утверждать, что первый можно быстрее скопировать (и вообще — воспроизвести), чем второй.
Если же теперь я скажу, что оба эти графические изображения являются двумя написаниями одного и того же имени — египетского царя Птолемея, только левое высечено 2187 лет назад иероглифами на прославленном Розеттском камне, а второе по моей просьбе выполнено моим племянником на клочке бумаги по-русски, — то сказанное, по-моему, должно приобрести в ваших глазах некоторую «очевидность».
Итак, связь между финикийским письмом и греческой письменностью бесспорна. Но если бы мы поглубже заинтересовались историей письма, мы узнали бы, что не только древние греки унаследовали финикийское сокровище. В разные концы тогдашнего мира его разнесли евреи, сирийцы, племена, говорившие на древне-арамейских языках… От сирийской системы письма произошло письмо древнеуйгурское, а от него — монгольское. Арамейская письменность дала начало азбукам арабского, армянского, грузинского языков. К нему же иные ученые возводят сейчас алфавиты Индии, а на самом далеком Востоке, по мнению некоторых ученых, — корейское письмо. А ведь это только Восток.
На запад же от Греции и Финикии распространились другие потомки того же финикийского письма — письменности восточнославянских народов — русского, украинского, белорусского, южнославянских — болгарского и сербского и, дальше на запад, алфавиты, являющиеся потомками западногреческого (а затем производного от него — латинского) письма. Алфавиты всей Европы.
Короче говоря, четыре пятых всех языков мира, пользующихся звуко-буквенным письмом, должны благодарить явившегося парижской ночью к Анатолю Франсу толстогубого курчавого человека: от него, если поверить легенде о Кадме, через множество посредников все мы получили тысячелетия назад основные принципы построения наших систем письма…
Но перечисленные восточные языки живут слишком далеко от нас. Мы в этой книге будем вести речь преимущественно о той азбуке, которой пользуемся мы с вами, а сопоставлять и сравнивать действующий в ней и через нее «закон буквы» будем тоже с письменностями наиболее хорошо знакомых нам, наичаще нам встречающихся западноевропейских языков.
Как поступили греки с полученным от восточных соседей наследством, кому они нашли возможным передать его «по нисходящей линии»? Вот наша ближайшая тема, и, думается, ее хватит на всю книгу.
Абецэ, абевега, азбука, алфавит
Абецэ, абевега, азбука, алфавит… Все эти слова означают одно и то же — буквы какой-нибудь письменности, расположенные в некотором порядке. Мы так привыкли к этому порядку, что он давно уже кажется нам как бы естественным. Я чуть не написал было: «расположенные в алфавитном порядке». А ведь порядок-то этот — воплощение совершенного произвола и случайности!
Все четыре названия, выписанные мною в заголовок, устроены на один лад, по одному принципу. Все они представляют собой соединенные в одно слово названия первых букв таких «упорядоченных перечней»; названия эти меняются от языка к языку, от народа к народу.
Древнейшее из перечисленных — АЛФАВИТ. Оно родилось в Древней Греции и составлено из наименований хорошо уже нам известных двух греческих букв — «альфы» и «беты». Однако если «беты», почему же тогда «алфа-вит»?
Так это слово произносим мы, русские, на свой, восточнославянский лад. По-гречески оно пишется αλφαβητος, а западные языки передают его как alfabete. Откуда такое противоречие?
В Иудее есть городок Вифлеем. Но так его называют славянские переводы христианских священных книг. На Западе же всюду город этот, постоянно упоминаемый в библии, именуется иначе.
Американцы, великие любители давать своим городам имена уже прославившихся древних городов Европы и Азии, окрестили «Вифлеемом» центр своей сталелитейной промышленности. Но компания, вершащая там делами, называется «Бетлехем стил компани». Почему?
В истории греческого языка были периоды, когда буквы В, Θ и Н произносились как «в», «ф» и «и», и были времена, когда их выговаривали как «б», «т» и «э». Мы позаимствовали греческие слова в их «ита-вита-фита-эпоху», а западные народы через римлян — в «эта-бета-тэта». Вот почему и наш «алфавит» переводится на западные языки как «альфабет». Все имеет свое точное научное объяснение, и никак нельзя сказать, кто более прав — мы или они.
Впрочем, я не даю гарантии, что слово «альфабетос» действительно существовало уже в самой Греции: во многих отличных словарях классического греческого языка слова этого нет; не исключено, что его придумали уже наследники эллинской культуры; такое бывало.
Теперь возьмем латынь. Римляне уже, бесспорно, владели названием для своей азбуки: они называли свой букварь «Абецедариум» (или, возможно, «Абекедариум»), а учеников — «абецедариусами». Я думаю, что, судя по этим словам, можно заподозрить, что было у них и какое-то слово, обозначавшее «азбуку» не как учебник, а как «алфавит».
У языков, по происхождению связанных с латынью, есть слова, составленные из тех же «трёх-четырёх» первых букв тамошней азбуки: у итальянцев всего ближе к латыни — «абечедарио», у немцев и испанцев — «абецэ», у французов — «абесэ».
Теперь наша АЗБУКА.
Ясно, что и это слово построено по тому же самому принципу, или, как теперь говорят, «алгоритму». Кроме «азбуки», когда-то существовали слова «абевега» и «азведи». Первое приводит В. Даль в своем словаре. Второе указано как фигурирующее в одной из книг XVII столетия в «Материалах» И. Срезневского.
«Азведи» — это точный перевод — калька — слова «альфабетос», в котором, однако, «бета» прочитана как «вита». «Абевега» — слово скорее новейшее, уже послепетровское, и построено оно «на манер западноевропейских».
«Аз-бука»… Старославянского происхождения составное слово; старославянского — потому, что в древнерусском языке личное местоимение первого лица — «я» звучало не как «аз», а как «яз». Даже великие князья и цари в самых торжественных грамотах писались по-русски: «Яз, великий князь Московский…»
«Букы» (или «буки») дожило у нас до самой революции в церковношкольной практике, как мнемоническое, облегчающее запоминание название второй буквы алфавита: в славянской азбуке на втором месте стоял звук «б». По своему смыслу слово «букы» означало «буква»; пожалуй, это было самое «азбучное» из всех славянских буквенных имён.
Интересно ли кому-нибудь то, что я рассказываю, имеет ли все это какой-либо общий смысл и значение?
Конечно, было бы куда проще взять и преподнести какую-нибудь цитату из научной статьи или справочника:
«Исходной точкой всех европейских алфавитов явился алфавит греческий…»
Или же: «От греческого алфавита произошли алфавиты этрусский, латинский, готский (созданный Вульфилой) и славянский, изобретенный Кириллом (Константином) и Мефодием — македонцами…»
Или: «Из латинского алфавита произошли все алфавиты западноевропейских языков. На почве латинского создались также польский, чешский, хорватский и словенский алфавиты. Сербы, болгары, македонцы пользуются несколько измененным русским алфавитом…» Мне как-то не захотелось ограничивать себя таким цитированием.
Лучше я прямо предложу вам некое «родословное древо» всех азбук и алфавитов, созданных в Европе и лишь отсюда перенесенных во внеевропейские (может быть, осторожней сказать «внесредиземноморские») страны. «Древо» это не претендует на полноту и сугубую точность.
Если бы я располагал неограниченным пространством и временем, я бы ввел в это «древо» еще очень многие любопытные ветви. Нет у меня и возможности в подробностях рассказать, как на базе нашей русской «гражданки» выросли упомянутые здесь бесчисленные письменности великого множества малых народов и народностей СССР.
Читателя пытливого и дотошного может заинтриговать вопрос: «А как же письменность, когда-то созданная древними финикийцами для своего языка, могла быть сначала приспособлена к звуковой системе совсем другого языка и народа, притом другой языковой семьи?»
Как — и это ещё удивительней — она могла потом разветвиться на столько отдельных ручьёв и потоков письменной речи? Как удалось ей — как там ее ни приспосабливай — обслужить и надобности исландского языка на его ледяном и вулканическом острове, и — за тысячи километров оттуда — потребности киргизского языка? Что за поразительное письмо, разные образцы которого послужили там для записи саг, а там — среди степей и гор Средней Азии — для того, чтобы сохранить навек строфы киргизского богатырского эпоса «Манас»?
«Стоило ли трудов, — подумает, пожалуй, иной полузнайка, — приспосабливать ко всем этим надобностям все ту же безнадежно древнюю основу? Может быть, мудрее было бы для каждого языка создать совсем свою, особую азбуку? Не такую, какую могли когда-то составить полуварвары финикияне или салоникские монахи IX века, не знавшие о мире даже того, что теперь отлично известно нашим пятиклассникам, или еще менее образованный готский фанатик христианства Вульфила, а такую, которую предложили бы миру наши современники, ученейшие языковеды XX века?»
Конечно, трудно сказать, что случилось бы в мире, если бы… Но мы, может быть, сделаем умно, если бросим взгляд на хорошую карту мира. Лучше — Древнего мира. На такую его карту, на которой можно будет разглядеть на восточном берегу Средиземного моря узенькую ленточку обитаемой земли. Всего на несколько сот километров в длину и не свыше четырех-пяти километров в ширину плюс еще меньший клочок юго-восточного побережья острова Кипр. Полторы-две, ну три тысячи квадратных километров территории. Вот это-то и было Финикией.
Население современного государства Люксембург, расположенного в одном из самых густонаселенных районов земного шара, равно 300 тысячам человек. Площадь Люксембурга равна двум с половиной тысячам квадратных километров. Почти столько же, как и Финикия.
Допустим на миг, что население той узкой средиземноморской полоски суши плюс кусочек острова, поросшего кипарисовыми рощами и уже тогда изрытого дудками медных рудников, было (что невозможно) лишь в два с половиной раза меньше населения Люксембурга. (На деле оно было меньше, вероятно, в десяток раз.) Получится — около ста двадцати тысяч финикийцев могли жить на этом лоскутке горячей, накаленной земли. И именно этот клочок создал такое чудо, эти сто тысяч человек породили такую удивительную систему выражения мыслей, что она, выдержав все испытания времени и передачи от народа к народу, из языка в язык, обошла за долгие столетия весь шар земной, вливаясь, как вода, в мехи любых культур и народных психологии или, напротив, вмещая их в себя, как хорошо выделанный мех принимает в свое нутро и вино, и воду, и молоко…
Вы вправе спросить: чем же объясняется все-таки эта тысячелетняя универсальность?
Ничего не могу вам на это ответить. Не встречал ни одной работы, в которой объяснялось бы не то, что именно система письменности, зародившаяся в Финикии, оказалась самой пластичной и самой «долго- и разнообразноиграющей» из всех таких «пластинок для записи», созданных человеком, а почему она оказалась такой. Подите предложите свою гипотезу!
Собаки в ряду млекопитающих, голуби среди птиц поражают биологов своей пластичностью: сравните тойтерьера, умещающегося на ладони, и дога или ньюфаундленда, способного раздавить его одной своей лапой; подумайте, что и дог и той-терьер — собаки, и вы, может быть, скажемте: «Вот, вероятно, и тут так…» Но так-то так, а почему именно собаки обладают такой пластичностью, а зайцы — нет, вам не растолкует ни один ученый. И вот уж действительно: «Так и тут». «Так устроила природа!»
Моя параллель, конечно, мало что объясняет, как всякая аналогия, но более убедительного сопоставления я придумать не могу.
Финикийское письмо приспособилось к нуждам сотен языков и распространилось на «полмира», а руническая письменность скандинавов, возникнув где-то около III века нашей эры, охватила лишь сами Скандинавские страны и угасла, не просуществовав и десятка столетий.
Почему?
Может быть, создателям одной письменности удалось сделать ее «более удобной», «более изящной», «более гибкой», а изобретатели другой этого как раз и не сумели?
Вот перед вами знаки для звука «а», изобретенные создателями финикийской азбуки и рунического (старшего и младшего) алфавита.
Очень сомневаюсь, чтобы какой угодно сверхучёный, какой угодно компьютер, работая хоть годы, смог бы доказать, что финикийские значки созданы с расчетом на тысячелетия и всемирность, а рунические — самой формой своей обречены на неудачу… Может быть, когда-нибудь секрет этот будет раскрыт, но пока что до его разрешения далеко.
По-видимому, тайна тут так же «велика есть», как в вопросе о пластичности и «непластичности» тех или иных животных и растительных видов. Ещё Дарвин удивлялся великому разнообразию пород домашних собак: если бы таксу и сенбернара мы открыли в природе, то наверняка отнесли бы их к далеко отстоящим друг от друга видам, и «породами» мы числим их главным образом потому, что знаем их историю. А ослы всюду остаются ослами, и различия между их «породами» ничтожны. Почему?
Не ручаюсь, что обе эти тайны — биологическая и филологическая — навсегда останутся нераскрытыми, но сегодня я лично ответа по ним дать вам не берусь.
Лучше посмотрим, что случилось, так сказать, с «третьим поколением письменности» после того, как от финикийцев она перешла к грекам и от их наследников — византийцев попала в руки наших предков — славян.
От альфы до омеги, от аза до ижицы
Вы уже видели довольно сложную таблицу, на которой финикийская азбука по ряду принципов сопоставлялась с греческой.
Внимательные наверняка заметили: для применения к надобностям другого языка оригиналу азбуки пришлось претерпеть немало изменений. Из 24 буквенных знаков греческого алфавита 15 совпадают с соответствующими названиями знаков финикийской азбуки. Но многие буквы грекам пришлось изобрести заново, ибо у финикийцев не было звуков, для которых такие значки могли бы пригодиться.
С другой стороны, ряд финикийских букв греческая азбука оставила у себя за бортом: теперь уже у греков не было звуков «под такие знаки».
Очень много лет прошло с тех пор, но иногда и теперь мы встречаем следы «неточной притирки» одной азбучной системы к звукам другого, далекого по типу языка.
В романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» прокуратор Иудеи Понтий Пилат рассмотрел в городе Ершалаиме дело бродячего философа Иешуа и не нашел за ним никакой вины.
«Иешуа»? «Ершалаим»? Имена напоминают что-то, но одновременно кажутся незнакомыми.
У греков, через которых мы знаем о событиях в Палестине в начале нашей эры, нет и не было знаков для звука «ш»: такого звука они не знали. Греки выбросили ненужный им семитический «шин» из своей азбуки, а, передавая семитические, ну, скажем, древнееврейские имена, они заменяли чуждый им звук «ш» своим «с». Да и не только семитические. Персидского царя Дарайавауша они называли Δαρειος — «Дарэйос» — Дарий, сына Дария — Хшайаршу — именовали Ксерксом — Ξερξες, а основателя Персидского царства Куруша переделали в Кироса — мы его знаем как «царя Кира».
Вот почему имя Иешуа более известно нам как Иисус, а название города — Иерусалим.
А теперь ещё две параллельные алфавитные таблицы, на этот раз знаков азбук (см. следующую страницу).
Видите, какие длинные и сложные параллельные ряды, да еще всегда можно оспорить последовательность: по чему равняться, по «нам» или «по ним»? Вглядевшись, однако, можно усмотреть разные разряды букв и там и тут.
Прежде всего — знаки для звуков, представленных в обоих языках, примерно одинаковы: А, Б, Р, Г, М, И… Знаки для них славяне взяли у греков и дали им свои «имена». Звучания сохранились примерно те же: точное равенство не всегда встречается даже в двух диалектах одного языка, не то что в двух разных языках.
Теперь знаки для звуков, в славянском мире излишних. С ними произошли разнообразные приключения. В значительной мере эти «лишние буквы» сохранились. Почему, зачем?
Не забывайте, что славяне создавали свою письменность в эпоху суровую и по-детски наивную. Письмо людям было нужно прежде всего не для писания друг другу «бильедушек» и даже не для лавочных счетов. Его создавали с главной целью — приобщить народы к истинной вере в истинного бога. Ради этого нужно было переводить с языка на язык священное писание. А в священном, писании, отчасти волшебном, магическом, священной представлялась каждая черточка, всякая запятая и, уж конечно, любое различие между буквами.
Наталкиваясь на письменные знаки греческого письма, по-видимому, ненужные в их новом, славянском письме, первоучители славян, сами полуславяне-полугреки и люди глубоко религиозные, нередко не решались отбросить то, что было уже издавна освящено греческим, как бы божественным, обыкновением.
Греки знали два разных звука «ф». Первый обозначался знаком «фи» — Ф. Второй звук — не передаваемый нашими языковыми средствами, но могущий косвенно быть обозначен как латинское ТН, «т» с придыханием. Первый встречался, скажем, в таких словах, как «фантазиа» (воображение), «флегмона» (воспаление), «фойнюкс» (финикиянин). А вот слова: Θαλαςςα — море, Θανατος — смерть, Θεατρον — театр — писались через «тэту» — Θ и произносились не то как «фаласса», «фанатос», «феатрон», не то (в разное время по-разному) как «таласса», «танатос», «тэатрон».
У славян не было никакой надобности в двух буквах для звука «ф». Но в священных книгах многие слова писались по-разному, хотя и там и тут произносились «ф». Филипп писался через Ф, а Фома через Θ — «тэту». В имени Феофил второе Ф было обыкновенным, а первое «фитой», и неспроста, а потому, что в имя это входило слово Θεος — бог. Так кто же осмелился бы изменить эти божественные начертания?
Пришлось и в славянскую азбуку ввести два разных «эф»: как их будут произносить, это уж дело каждого из верующих, но переводчики желали чувствовать себя огражденными от упрёков в неточности, которые могли исходить с самого неба. Помните сердитое предупреждение «Азбуковника»: «Кое общение псу с псалмом?» И здесь можно было бы спросить также: «Кое общение Филиппу, который есть «любитель лошадей», с Феофилом, имя которого означает «боголюбивый»?
Существование в Греции Θ и Ф наложило свой отпечаток на многовековые и доныне сохраняющиеся противоречия между восточно- и южнославянскими и латинизированными западными азбуками. В ряде случаев там, где мы в словах, взятых из греческого языка или через его посредство, писали долгие годы Θ, а теперь пишем обычную букву Ф — Феофил и Фёдор, там англичанин или француз напишет «Теофиль» или «Теодор», поставив на место греческой Θ латинское буквосочетание TH.
Потребовались столетия, чтобы из русской азбуки (из светской азбуки) изгнали такие у нас совершенно бессмысленные знаки, как «кси» и «пси». Мы теперь преспокойно пишем «Ксеркс» и «Ксантиппа», соединяя вместе звуки «к» и «с»; не видим мы ничего страшного и в том, что «псалом» и «псарня» стали писаться одинаково: ведь произносятся-то они совершенно идентично, и изображать их по-разному на письме было бы своеобразным орфографическим лицемерием.
Взгляните, пожалуй, еще раз на таблицу (стр. 40). Она выглядит чрезвычайно стройной вначале и несколько взъерошенной к концу.
Удивляться нечему: первые двадцать — двадцать пять пар букв греческих и славянских выказывают почти полный параллелизм двух алфавитов. А вот дальше начинается разнобой, и если в греческой азбуке на последнем месте всегда красовалась «омега» («Аз есмь альфа и омега, первый и последний, начало и конец», — грозно определял себя суровый бог «Апокалипсиса»), то в славянской азбуке она в разное время попадала на разные места. Название она получила почетное — «он великой (то есть «о большое»), но читатель ее мало знал. «Сорок вторая буква» нередко попадала и на другие места, и последней уже достаточно давно в русской азбучной практике стала «ижица».
Наши предки греческое «от альфы до омеги» заменили выражением «от аза до ижицы», а не до «она великого». «Ижица» означала у них последний предел, абсолютный конец. И малолеток пугали ею: «Фита да ижица, что-то к чему-то ближится!» Говаривали и менее таинственно: «Лоза к телу!»
«Ижица»? Что за «ижица»? Почему именно «ижица»? Вроде синица, курица, девица — что-то уменьшительное? А очень просто: буква И называлась «иже», а V, которая произносилась точно так же — «и», но встречалась крайне редко, и получила название «ижица» — как бы «ишка», «маленькое и».
Ранжир букв в нашей славяно-греческой таблице смешался. Но нетрудно усмотреть, что десятка полтора славянских знаков нельзя связать ни с каким греческим прототипом.
Прежде всего Ш. Греки не знали звука «ш», не умели произносить его и отказались заимствовать у своих учителей их букву «шин». Судя по всему (и это лишнее доказательство того, что изобретатели славянской азбуки были широко образованными людьми), знак для славянского «ш» был выработан непосредственно из финикийского «шина».
Но вслед за Ш шли буквы столь же специально славянские (не греческие) — Ц, Ч, Щ и ещё целый ряд букв, не только отсутствовавших в греческом языке, но неизвестных и нам, ближайшим родственникам и потомкам древних славян.
Я говорю сейчас о буквах, которые в наше время не соответствуют никаким звукам, которые являются чистыми знаками, предназначенными выражать только какие-то дополнительные свойства и качества других букв. Это так называемые «ер» — «твёрдый знак» и «ерь» — «мягкий знак».
Было время, за каждым из них стоял свой собственный, хотя и не совсем «полноценный», «неполного образования» звук; затем они перестали соответствовать друг другу и быть «буквами» в прямом смысле слова.
Далее вы можете увидеть несколько обозначений, изображающих «йотированные гласные звуки». Среди них вы заметите понятные каждому сочетания с хорошо нам известными буквами А, У, Е и ещё два, вторые элементы которых вам почти наверняка малознакомы. Придется, оставив «йотацию» в стороне, поговорить об этих двух таинственных литерах.
— «юс большой»,
— «юс малый».
Тот, кто изучал французский язык или знаком с польским, знает, что в языках этих встречаются «носовые звуки». Французская азбука не имеет для них каких-либо особых знаков. Носовые звуки «а», «о», «г» французы обозначают буквосочетаниями
AÑ, EÑ, OÑ, IÑ.
Поляки прибегают в этих случаях к так называемым «диакритическим» значкам, «лапкам», которые они «подцепляют» к соответствующим буквам
ą, ę.
В старославянской же азбуке для носовых звуков «о» и «е» были созданы самостоятельные буквы, названные «юсами».
В древнейшую эпоху славянской письменности такие носовые звуки, несомненно, существовали. Существовали и их «йотированные» варианты, для выражения которых на письме были придуманы своеобразные «лигатуры», нечто вроде «монограмм», составленных из знака для йота и знака для носового гласного:
— йотированный «юс большой»,
— йотированный «юс малый».
К тому времени, когда славянское письмо было с Балканского полуострова перенесено на Русь, в русском языке носовые гласные уже исчезли. Но в порядке благоговейного отношения к азбуке и начертанному ею священному писанию наши предки-грамотеи бережно сохранили их знаки в своем письме. Однако «юс большой» сначала стал выговариваться как «у», а после XII века был и вообще позабыт; «юс малый» же начал произноситься так же, как «а» после мягких согласных.
Именно из очертаний этой причудливой по написанию буквы, упростив их слегка, и создали в XVIII веке нашу нынешнюю букву Я. Впрочем, вероятно, что при выработке ее внешнего вида был принят в расчет и облик латинской прописной буквы R. Вглядитесь: наше Я можно определить как латинское «эр оборотное».
А сохранились в каких-либо современных славянских языках поныне носовые звуки? Да, сохранились: в польском и кашубском. Но и там они давно уже изображаются без посредства «юсов»; оба эти народа давно перешли на латиницу.
Кирилица
Та азбука, которая родилась из так называемого «уставного греческого письма», уже очень давно носит название «кириллицы».
Она приходится дочерью письменности византийских греков и внучкой системам письма Передней Азии.
Временем её возникновения на Балканском полуострове считается IX век нашей эры. Там, в Балканских странах, найдены кириллические надписи, датируемые 893, 943, 949 и 993-м годами. Первой же рукописной датированной книгой кириллического письма считается новгородское Остромирово евангелие (1056–1057).
Подумаешь — и поразишься той быстроте, с которой распространилось вновь изобретенное письмо по тогдашнему лишенному путей сообщения и связей, неторопливому Древнему миру. Конец IX века — первые робкие надписи на крайнем юге Восточной Европы; середина XI столетия — великолепный образец этой же письменности за тысячи вёрст оттуда, за горами, лесами, в далёком Новгороде.
Когда современный начинающий исследователь сталкивается со сведениями, содержащимися в очень древних источниках, его отношение к ним обычно проходит три стадии-ступени. Первая — радостное и наивное доверие. Вторая — суровая подозрительность, сомнения и скепсис, граничащие с полным отрицанием. Третья — возвращение к сознанию, что древние очень редко лгали, занося «на скрижали истории» сведения о тех или других фактах их современности и недавнего для них прошлого.
Рассказы Гомера о Троянской войне долго считали собранием фантастических басен, не содержащих в себе никакой исторической правды. Шлиман начал, его последователи окончательно доказали, что большинство сведений, содержащихся в «Илиаде» (не говоря, разумеется, о сообщениях из интимной жизни олимпийских богов и богинь), основано на действительных событиях. Даже имена греческих и троянских вождей в значительной мере подтвердились. Даже их могилы были найдены.
Недавние находки древних рукописей у берегов Мертвого моря — Кумранские находки — также показали всему миру, что Библия — далеко не только свод фантастических мифов и легенд, как еще недавно казалось многим, но и заслуживающий внимания серьезный источник по истории небольшого азиатского народа. Само собой, к правде там тоже было добавлено немало вымысла, но каждый, кому приходилось заниматься фактами новой истории, хотя бы XIX века, знает, что и ее приходится тщательно очищать от фантазии и лжи. И тут их не занимать стать…
В древности распространить какое-либо известие было делом сложным, трудоемким. Ещё сложнее было записать что-либо для потомков. Мы с вами берем в руки по листку бумаги и по карандашу и преспокойно садимся к столу играть в «чепуху» или в «буриме». А три-четыре тысячелетия тому назад, да и еще ближе к нам, чтобы написать «чепуху», нужно было ученейшему мужу (неученые писать не умели) либо долгие месяцы долбить зубилом неподатливый камень, либо обжигать глиняные таблички, либо обрабатывать кожу или стебли папируса… Нет, мало кому могло в ту далекую пору прийти в голову использовать искусство письма, чтобы соврать, чтобы просто пошутить.
Вот почему я и думаю, что из ряда гипотез по поводу того, кто именно был автором кириллицы, кто глаголицы, мы с вами остановимся на самом древнем свидетельстве. Согласно сообщению современников кириллица получила свое имя потому, что ее создал Кирилл, солунский ученый, просветитель балканского и чехоморавского славянства. Ведь никто не мог помешать тогдашним осведомленным людям наименовать кириллицей глаголицу. Поверим же им; тем более что в существе нашей книги это решительно ничего не меняет.
Для нас может быть любопытно, но не столь уж существенно, кто первый сказал «э!» при создании славянской азбуки. Великое «э!» это было так или иначе сказано в IX веке, а за X век оно разнеслось по самым дальним краям славянского мира и навсегда вошло в историю той его части, к которой принадлежим мы; вошло в виде определённой системы алфавита, наречённой «кириллицей».
Соперница кириллицы — глаголица, несмотря на известные достоинства свои, осталась памятником глубокой древности. Поглядите на табличку глаголических знаков, и, вероятно, вы подумаете то же, что думают многие ученые: перед нами или более древний, архаический, либо же нарочито осложненный, как бы предназначенный скрывать тайну написанного больше, чем рассказывать о его содержании, вид славянского письма.
Трудно счесть глаголицу более древней: её памятники «моложе» самых старых кириллических памятников. А вот допустить, что она «тайнопись», есть причины: шире всего глаголица применялась на западе славянского мира, где папское христианство свирепо боролось с «восточным», и хранить свою веру тому, кто прилежал не папе, а византийским патриархам, приходилось в секрете.
Впрочем, и «за» и «против» такого прочтения начальной истории славянского письма подано столько голосов, что разбираться в их переплетениях мы не станем, а, предоставив вам «на погляд» ознакомиться со странными начертаниями глаголицы, оставим её в стороне.
Имена кириллических букв — те, которые зазубривал маленький Алеша Пешков в Нижнем Новгороде, для современного читателя могут показаться «немыми». Некоторые из них, правда, звучат как наши современные слова — «добро», «земля», «люди». Другие — «зело», «рцы», «ук» — представляются малопонятными. Поэтому вот вам ещё один их перечень с примерными переводами на язык XX века.
A3 — личное местоимение первого лица единственного числа.
БУКИ — буква. Слов с такой непривычной для нас формой именительного падежа единственного числа было немало: «кры» — кровь, «бры» — бровь, «любы» — любовь.
ВЕДИ — форма от глагола «ведети» — знать.
ГЛАГОЛЬ — форма от глагола «глаголати» — говорить.
ДОБРО — значение ясно.
ЕСТЬ — третье лицо единственного числа настоящего времени от глагола «быть».
ЖИВЕТЕ — второе лицо множественного числа настоящего времени от глагола «жить».
ЗЕЛО — наречие со значением «весьма», «сильно», «очень».
ИЖЕ (И ВОСЬМЕРИЧНОЕ) — местоимение со значением «тот», «который». В церковнославянском языке союз «что». «Восьмеричной» эта буква называлась потому, что имела числовое значение цифры 8. В связи с названием «иже» вспоминается острота Пушкина-лицеиста: «Блажен иже сидит к каше ближе».
И (И ДЕСЯТЕРИЧНОЕ) — называлось так по своему числовому значению — 10. Любопытно, что знаком для числа 9 в кириллице, как в греческой азбуке, осталась «фита», помещавшаяся у нас в алфавите предпоследней.
КАКО — вопросительное наречие «как». «Како-он — кон, буки-ерык — бык, глаголь-аз — глаз» — дразнилка, показывающая неуменье правильно читать по складам.
ЛЮДИ — значение не требует разъяснений. «Кабы не буки-еры, да не люди-аз-ла, далеко бы увезла» — пословица о чем-либо немыслимом, неосуществимом.
МЫСЛЕТЕ — форма от глагола «мыслити». В языке по форме буквы слово это получило смысл «неверная походка выпившего человека».
НАШ — притяжательное местоимение.
ОН — личное местоимение третьего лица единственного числа.
РЦЫ — форма от глагола «речи», говорить. Любопытно, что до самых последних времён на флоте флажок с белой внутренней и двумя голубыми наружными полосами, означавший во флажной азбуке букву Р и сигнал «дежурное судно», а нарукавная повязка таких же цветов — «дежурный», именовались со времен петровского морского устава «рцы».
СЛОВО — значение сомнений не вызывает.
ТВЕРДО — также не требует комментариев.
УК — по-старославянски — учение.
ФЕРТ — этимология этого названия буквы учеными достоверно не выяснена. От очертания знака пошло выражение «стоять фертом», то есть «руки в боки».
ХЕР — считается, что это сокращение слова «херувим», наименование одного из чинов ангельских. Так как буква «крестообразна», развилось значение глагола «похерить» — крестообразно зачеркнуть, упразднить, уничтожить.
ОН ВЕЛИКИЙ — греческая омега, получившая у нас название по букве «он».
ЦЫ — название звукоподражательное.
ЧЕРВЬ — в старославянском и древнерусском языках слово «червь» значило «красная краска», а не только «червяк». Название букве присвоено акрофоническое — слово «червь» начиналось именно с «ч».
ША, ЩА — обе буквы названы уже по знакомому нам принципу: сам означаемый буквой звук плюс какой-либо гласный звук перед ним и после него. Мы и сейчас зовем Соединенные Штаты Америки «эС-Ша-А». (Конечно не «Сы-Шы-А»!)
ЕРЫ — название этой буквы составное — «ер» плюс «и» являлось как бы «описанием» её формы. Мы давно уже переименовали её в «ы». Видя наше нынешнее измененное написание Ы, предки, несомненно, назвали бы букву «ери», так как мы заменили в её элементах «ер» («твёрдый знак») на «ерь» — «знак мягкий». В кириллице же она состояла именно из «ера» и «и десятеричного».
ЕР, ЕРЬ — условные наименования букв, которые перестали выражать звуки неполного образования и стали просто «знаками».
ЯТЬ — полагают, что название буквы «ять» может быть связано с «ядь» — еда, пища.
Ю, Я — эти буквы назывались согласно своему звучанию: «йу», «йа», так же как буква «йе», означающая «йотированное э».
ЮС — происхождение названия неясно. Пытались выводить его из слова «ус», которое в староболгарском языке звучало с носовым звуком вначале, или из слова «юсеница» — гусеница. Объяснения не представляются бесспорными.
ФИТА — в этом виде перешло на Русь название греческой буквы Θ, называвшейся там в разное время то «тэта», то «фита» и соответственно означавшей либо звук, близкий к «ф», либо же звук, который теперь западные алфавиты передают буквами ТН. Мы его слышим близким к нашему «г». Славяне приняли «фиту» в то время, когда она читалась как «ф». Именно поэтому, например, слово «библиотека» мы до XVIII века писали «вивлиофика».
ИЖИЦА — греческий «ипсилон», который передавал звук, как бы стоявший между нашими «и» и «ю» в фамилии «Гюго». По-разному передавали первоначально этот звук, подражая грекам, и славяне. Так, греческое имя «Кириллос», уменьшительное от «Кюрос» — господин, обычно передавалось как «Кирилл», но было возможно и произношение «Курилл». В былинах «Кюрилл» переделалось в «Чюрило». На западе Украины было до недавнего времени местечко «Куриловцы» — потомки «Курила».
Прежде чем идти дальше, полезно — пусть совсем бегло — взглянуть, что случилось с греческим письмом при его распространении на Запад.
Мы не станем последовательно изучать все возникшие при этом варианты письменности. На каком материале их рассмотреть? Возьмешь французскую азбуку, обидятся англичане… Остановимся лучше на азбуке мертвого языка — латинского. Да иначе и поступить невозможно. Начиная наше рассмотрение с современных нам латинских алфавитов, мы бы на каждой букве испытывали затруднения. Латинскую букву С француз в ряде случаев прочитает как «с», в других как «к», а назовёт её «сэ». Немец запротестует: он зовёт ту же букву «цэ» и никогда её как «с» не произносит. Он её выговаривает как «к», а в значении «цэ», в одиночку, вообще не применяет, очень часто зато используя её как один из трёх элементов для выражения звука «ш» — SCH.
Итальянец тот же самый знак назвал бы «чи».
Давайте перечислим еще раз буквы греческого алфавита параллельно с алфавитом латинским.
Как видите, в обоих алфавитах состав и порядок букв различен.
У греков на третьем месте стоит «гамма». Римляне заменили её буквой С — «цэ» и «ка».
Почему я написал «цэ» и «ка»?
Буква эта не всегда произносилась одинаково. Учебники моего детства учили выговаривать её как «ц» перед звуками «е», «i», «y», но как «к» перед «а», «о».
Мы и до сих пор, сталкиваясь с латинскими заимствованиями, придерживаемся этих школярских правил, читаем «Цицерон», а не «Кикеро», как произносили сами римляне, «цензор», а не «кензор» и т. д.
Дальше — больше
Я предупредил: рассматривать взаимоотношения между греческой и латинской письменностями я буду на примере несколько условного, «книжного» латинского алфавита.
Но наряду с этой законсервированной формой своей та же латинская азбука получила новую жизнь (много разных «новых жизней») в письменной практике множества языков. Сначала в Европе, потом и за ее пределами. И испытала при этом немало существенных преобразований.
В языках народов, принявших латиницу, было много звуков, которых римляне и не слыхивали. Приходилось искать способы для их выражения. И «просветители» изобретали свои приемы в одиночку и по-своему. Многие современные ученые невысоко оценивают качество этого изобретательства, особенно сравнительно с «работой» создателей славянской азбуки. «Славянский алфавит… — пишет профессор Якубинский, — не идет ни в какое сравнение с латинообразными европейскими алфавитами, в которых латинские буквы неуклюже приспособлялись для передачи звуков различных европейских языков».
В чём заключается эта «неуклюжесть»? Судите сами. Вот, например, что может означать в некоторых языках Европы сочетание двух латинских букв «цэ» (С) и «ха» (Н) — СН:
во французском языке СН изображает звук «ш»: charbon — уголь;
у немцев СН может означать «к» — cholera — холера — в словах, взятых из греческого языка, и «ш» при заимствовании из французского — chocolade — шоколад;
в английском СН равно звуку «ч»: church — церковь;
в итальянском языке — «к»: che — который, chi — кто;
в польском — звук «х»: cham — хам, chan — хан.
А вот как читается в некоторых из этих же языков буква С сама по себе:
французский — «эс» и «ка»;
немецкий — «це» и «ка»;
польский — «цэ»;
турецкий — «дж».
Разнообразное впечатление! Теперь полезно вывернуть вопрос наизнанку: во многих языках существует, допустим, звук «ш». Так вот: какими латинскими буквами разные языки этот звук изображают?
Французский — СН.
Немецкий — SCH — Schuhe — сапоги.
Польский — SZ — szafa — шкаф.
Венгерский — S — sablon — шаблон.
Английский — SH — Shakespear — Шекспир.
А какой разнобой, какое множество и буквосочетаний, и всевозможных дополнительных крючочков, лапок, клинышков, пристраиваемых к буквам для придания им иного значения! Есть смысл, чтобы отмахнуться от них окончательно, привести тут два-три образчика наиболее причудливых «диакритических» значков. Вот смотрите, пожалуйста.
Во французской азбуке маленькая «лапка» ставится под буквой С в тех случаях, где она должна произноситься как русский звук «с»: leçon — «леСон» — урок, хотя decor — «дэКор» — украшение.
У турок та же «лапка» под той же буквой показывает, что в данном случае надо ее читать не как обычно — «дж», а как «ч»: çerkes — черкес.
Польский язык такой же «лапкой» выражает носовой оттенок своих гласных, причем буква А, снабжённая ею, звучит уже не как носовой звук «а», а как носовой «о». Так, слово «пузырь» произносится по-польски «бонбель», а пишется
bąbel.
Встречаются в разных видах латиниц значки в виде острых клинышков, направленных вправо и влево, в виде крышечек, в виде птичек, точек и даже кружочков.
ä â à á ą ć ç č è ë é ę ê í ī î ñ ń ó ô ö õ ś š ü ú û ù ż ź ž
Вы согласитесь, что эта, если можно ее так назвать, «система обозначений» весьма капризна и причудлива. Может быть, не стоило о таких мелочах и говорить?
Я держу в руках довольно редкую книжку — Н. Юшманов «Определитель языков». Если где-нибудь у букинистов вы увидите её — покупайте: преинтересная книга, единственная в своём роде. Хотя можно указать и на более новую работу этого же характера: Р. С. Гиляревский, В. С. Гринин, «Определитель языков по письменности». М., «Наука», 1965.
Николай Владимирович Юшманов был крупным и очень оригинальным ученым-языковедом. Свою книгу, однако, он составил не для специалистов, а чтобы дать возможность каждому, в чьи руки попал какой-нибудь письменный отрывок на неизвестном языке, определить, что это за язык, даже без необходимости прочесть и понять написанное. Сделать это можно по разным признакам, но в основном — по виду, начертанию, форме букв, а также по наличию или отсутствию в тексте каких-либо особенных букв со значками.
Например, что характеризует французский язык?
Латиница, но такая, в которую входят строчные буквы со значками é, è, â, û, à, ê, î, ô, ë, ï, ü. Типичны для него сочетания букв: ch, gh, ai, аи, eu, ои.
А английский язык? Латиница без всяких диакритических значков, но с большим числом характерных буквосочетаний: ch, sh, th, wh, ea, ее, оа, ое и т. п.
Польский язык? Та же латинская азбука, но «особенные буквы» ее отличаются от французских и английских. Собственно, достаточно заметить в тексте существование рядом двух «эль» — l, ł, чтобы сразу же сказать: «Э, да это польское письмо!»
Турецкий язык угадывается по отсутствию букв q, w, х…
Конечно, заметив одну или две «странные буквы», нельзя на этом основании сразу же радоваться: «Венгры!» или «Португалия!» Но когда совпадают пять-шесть характерных букв, тогда можно считать дело довольно вероятным и переходить уже к другим, не буквенным, отличиям…
Чтобы закончить разговор, касающийся, хоть и весьма поверхностно, всевозможных латиниц Запада, надо, пожалуй, сказать несколько слов и о «готическом стиле» латинской азбуки.
Эта разновидность латинского письма отличалась от других не свойствами и не значением своих букв, а только формами их начертаний. С XII века этот особый стиль письма широко распространился по Западной Европе, а затем особенно надолго (до XX века) задержался и бережно охранялся в Германии. Впрочем, тут рядом с ним был в ходу и другой «почерк», который обычно именуют «латинским шрифтом антиква».
В чём различия этих двух стилей? Вот два варианта одного и того же слова, набранного слева готическим шрифтом, справа — антиквой:
О происхождении готического шрифта достоверного ничего не известно. По-видимому, просто в нём, в его остроугольных очертаниях выразился дух эпохи, воздвигшей прославленные соборы Кёльна, Страсбурга, Парижа, Руана. Стоит вспомнить их острые башенки и мелкие характерные украшения на них, и, по-моему, аналогия представится вам убедительной.
Рождение гражданской азбуки
Гражданскую азбуку нашу нередко именуют запросто «гражданской». Слово это звучит давно рядом с такими терминами, как «кириллица», «глаголица», «латиница» — в конце концов, может быть, чуть-чуть «по-свойски», но никак не непочтительно.
Очевидно, что легкомысленное это словечко связано с солидными определениями «гражданский шрифт», «гражданская печать», «гражданская русская азбука».
Современный русский алфавит вместо церковнославянского введён Петром I в 1708 году. Это и есть «гражданский шрифт». Просто и ясно?
Нет, на самом деле всё произошло не так уж молниеносно, в один приём. Введение гражданского алфавита в 1708 году, пожалуй, осторожнее было бы описать как некоторое упрощение кириллицы, произведенное по приказу царя-преобразователя.
Что же было упрощено? В гражданской печати уничтожению подверглась буква «иже» и — что нам теперь кажется странным — оставлена только I — «и десятеричное». Исчезли «зело», «омега» и «от» — лигатура «омеги» и «тверда», «кси», «пси» и «ук» — буквосочетание ОУ. Была упразднена «ижица». Отменены были «си´лы» — сложная система диакритических знаков ударения, и «ти´тла» — надстрочные знаки, позволявшие в часто встречавшихся словах пропускать «под титлом» те или иные буквы.
Строки, испещренные «силами» и «титлами», становились плохо разборчивыми, вели к путанице, к ошибкам.
Изменялись попутно и очертания букв. Утверждалось более округлое и плавное их написание. Оно уже входило в употребление среди московских грамотеев.
Старый знак уступил место новомодной букве Я, своеобразному гибриду славянодревнего «юса малого» и европейской, как бы отраженной в зеркале, буквы R.
Было указано в словах, начинавшихся не с йотированного, а с простого «е», ставить отныне не Е, а букву Э, которая уже в кириллице имела другую историю и форму, несколько вычурней нашей нынешней. Буква Е оставалась только на месте старинной лигатуры .
Отказался Пётр — для него, царя-техника, это было неизбежно — от неудобной системы означать числа буквами. В самом деле, попробуйте подсчитайте быстро, чему равно 20 плюс 30, если известно, что 20 — К, 30 — Л, но вы забыли, что 100 — Р… А теперь, узнав это, вычтите 20 плюс 30 из Т, зная, что Т — 300… Ясно, что с такой системой изображения чисел заниматься кораблестроением или торговлей с европейцами было немыслимо.
Но всё же до будущей окончательной системы гражданского шрифта было ещё достаточно далеко.
Часто случается: как раз те, кому реформа может облегчить труды, наиболее упрямо держатся за старое.
Сохранилось несколько книг, напечатанных вскоре после 1708 года: «Геометрiа славенскi землемђрiе» или «Прiклады, како пiшутся комплементы…». Они выдержаны в согласии с реформой. Но скоро начинаются уступки старому. Воскрешаются «ук» и «от»; по приказу буква I должна быть просто палочкой, а над ней появляются две точки — Ï.
Немного спустя в книги прокрадывается «пси», на радость тем, кто с возмущением объединял «псалмы» со «псами»…
В конце января 1710 года Петр I вторично утвердил новую азбуку, но ещё много лет (десятилетий) её состав и рисунки буквенных знаков перерабатывались и изменялись.
Вторично была изгнана буква «зело», ее окончательно заменили «землей». Решительно изгнали «кси» и «ижицу», но эта последняя вскоре упрямо просочилась в азбуку теперь уже вплоть до 1917 года.
Был введен знак Й, подтверждено право на существование Э… Через 20 лет с небольшим — новые перемены. Теперь были учинены три знака для звука «и»: И, I и V. К чему? Чтобы И писать перед согласными, I — перед гласными и в нерусских словах, кроме греческих. В последних на месте греческого «ипсилона» полагалось ставить V. Был добавлен новый знак, в виде нынешней буквы Ю, но с дужкой над нею, для изображения звука «о» после мягкого согласного или йота — «тёмный», «ёлка», «моё». Впрочем, вскоре в том же XVIII веке Н. Карамзин предложил более простое обозначение — Ё, дожившее до наших дней.
Споры по поводу «азбучных истин» тянулись весь XIX век и первые полтора десятилетия XX века. Еще в 900-х годах старая кириллица не сдавалась усовершенствованной петровской «гражданке». В церковноприходских школах по-прежнему, «крича на всю избу», зубрили «аз-буки-веди»…
И внутри самой гражданской азбуки сохранились рудименты прошлого. В ней всё ещё жили и «ер», и «ять», и «фита», и «ижица». Автор этой книги в школе должен был ухо востро держать, чтобы не написать «бђда» через Е, или «мvро» через И, а «мiръ» через «и восьмеричное».
Беру с полки «Весь Петербург», справочную книгу по населению столицы за 1902 год, и вижу, что граждане Федоровы разбиты там на две категории: «на Федоровых» и «Θедоровых». «Федоровых» около 400 человек, они помещены на 650-й странице и следующих, «Θедоровых» всего 11, и они загнаны на страницу 745. Может быть, они хуже, не такие благородные, менее титулованные?
Ничего подобного: и достоинство у них равное, и выговаривались фамилии абсолютно одинаково. Просто до Октябрьской революции «фита» существовала в сознании русского человека как реальный письменный знак.
Все время велись яростные споры: упразднить «ять» и «твёрдый знак» или нет? На каком накале они велись! «Безумцы борются с Ъ и Э. Но желание обеднить наш алфавит есть напрасное желание…» Это Бальмонт в 1916 году. Так и с «фитой». «Обеднила» на эту букву русский алфавит только Октябрьская революция, а ведь еще В. Тредиаковский понимал, как нелепо в русском языке, у которого звук «ф» встречается только в заимствованных словах, «содержать» для него не одну, а целых две буквы!
Велика инерция «закона буквы», когда буква эта создана человеком и «пущена в жизнь». Преодолеть внезапно возникающую власть знака, едва он родился на свет, становится трудным, а порою на долгие столетия и невозможным.
С 1918 года правописание наше подвергалось некоторым частным изменениям, но судьбы букв при этом уже не затрагивались. Ну разве что вопреки гневной отповеди поэта В. Князева «ер» вернулся на свое место «разделителя» да происходит странная пульсация, связанная с буквой Ё, которая то допускается в нашу печать, то из неё изгоняется, то как бы заслуживает признания, то объявляется вовсе ненужной. И хотя за прошедшие годы вносились предложения по усовершенствованию нашего правописания, порою радикальные до «свирепости», никто уже не предлагал ни упразднения существующих букв, ни введения новых, ни существенного видоизменения их начертаний.
Правда, в 20-х и начале 30-х годов в прилингвистических кругах еще поговаривали о «необходимой революции» в нашей письменности, о переводе русского языка на латинский алфавит, однако можно прямо сказать, что такие «глобальные» проекты, если они не связываются с общими переворотами в истории страны, обычно приобретают несколько маниловский характер.
Чтобы обосновать пользу от перехода нашего языка на латиницу, приводились разные доводы; многие повторялись десятилетиями, не меняясь. Чаще всего исходили они от «любителей» и не были слишком доказательны.
Константин Федин в книжке «Горький среди нас» вспоминает рассуждение, которым его в молодости поразил Ф. Сологуб.
«Сравните, — говорил писатель, — начертания нашего печатного алфавита с латинским буква за буквой. В латинском одну за другой встречаешь буквы с выходящими над средним уровнем строки частями — l, t, d, h или же с опускающимися в междустрочье частицами g, p, q. Это даёт опору для зрения… В нашем алфавите букв с подобным начертанием в два раза меньше, чем в латинском, — р, у, ф, б. Значит, по-русски читать в два раза тяжелее, чем в языке с латинской азбукой…»
Федор Сологуб был неточен. Не говоря уже о том, что никем не доказано, легче или труднее читать текст с «рваной строкой», он был небрежен и в своих подсчётах, не потрудился точно учесть все буквы, выдающиеся из строчек, ни в русской, ни в латинской азбуках. Он не заметил у нас ровно половины таких букв — Д, Ё, Я, Ц, Щ.
А вот что говорил о сравнительных достоинствах славянской и латинизированных европейских азбук крупный языковед Л. Якубинский:
«Константин составил специальный славянский алфавит. Этот алфавит, по единодушному мнению нашей и европейской науки, представляет собой непревзойдённый образец в истории новых европейских алфавитов… Он оставляет далеко за собой добропорядочный готский алфавит, составленный епископом Вульфилой, и не идет ни в какое сравнение с латинообразными европейскими алфавитами…»
Как видите, от добра добра не ищут, и, оставляя решать этот вопрос квалифицированным специалистам, я склонен пока что присоединиться к мнению Льва Петровича Якубинского.
Но дело не только в теоретической предпочтительности той или иной системы письменности. Дело и в чисто экономических факторах. Они делают проведение таких орфографических «полуреформ-полуреволюций» вещью малореальной: подобная ломка культурной жизни страны ляжет на ее экономику тяжким грузом.
При этом парадоксальное положение: чем бедней и отсталей страна, тем нечувствительней для нее ее потери. В 1918 году разоренная долгой войной Россия провела решительную ломку правописания — и выдержала… Не побоялся перейти на латиницу и Кемаль-паша в обнищалой до предела Турции… В 1918 году подавляющая часть народа нашего была неграмотной. Вопрос стоял не о переучивании населения, а об обучении заново. А уж какой грамоте учить, новой или старой, вовсе неграмотного, было решительно все равно. Предстояло на почти пустом месте создать целиком новую библиотеку народного чтения. Экономически было совершенно безразлично, по какой орфографии ее печатать. Выгодно было переходить сразу же на новую орфографию, поскольку речь шла о печатании миллионными тиражами при тысячах, десятках тысяч экземпляров «старопечатных» книг.
А ну-ка попытайтесь произвести хотя бы ту скромную орфографическую реформу, которую некоторые языковеды предлагали осуществить в 1964 году! Ведь теперь переучивать придётся почти четверть миллиарда человек. Теперь потребуется переиздать не одну сотню миллионов учебников для всех школ и по всем предметам: нельзя миллионы первоклассников учить одной грамоте, а их же старших товарищей продолжать пичкать вчерашним днем. Надо переиздавать и все книги вообще: заучивая одно правило, а читая написанное по другому, никто из обучающихся грамотным не станет. А прибавьте сюда необходимость незамедлительного переиздания всех справочников, телефонных книг, словарей…
Мне было 18 лет в момент проведения реформы 1918 года. Я был «отлично грамотный» юноша. Но еще в 1925 году мне случалось вкатывать где-нибудь неуместную букву «ер» или по привычке писать «мел» или «бегать» через «ять». А научиться подписываться без «и с точкой» на конце я просто не смог и превратил свою подпись в закорючку «без хвоста», только бы не писать непривычного и смущавшего меня «Успенский» вместо сделавшегося за 18 лет как бы частью моего собственного я «Успенскiй». С тех пор и по сей день я подписываюсь
и вот только на 73-м году жизни решил «саморазоблачиться», чтобы дать понять читателям, насколько непросто переходить от одной системы письменности к другой.
Да и вообще — мало сказать об одной только финансово-хозяйственной или об одной научно-теоретической стороне проблемы «старая система — новая система». Возникают ведь и моральные стороны вопроса: а будет ли велика чистая прибыль для народа, если он вдруг откажется от той письменности, которая за десять веков своего существования наглубоко вросла в самую его душу, связалась с духом языка нашего…
Вот почему надо сто раз взвесить каждое такое предложение — частной ли, тем более общей реформы письма. Надо беспристрастно оценить, какие «плюсы» получит народ, скажем, от замены старой нашей «гражданки» латиницей, и уж тогда заговаривать о надобности такой перестройки. Думаю, что, может быть, есть смысл подождать (сколько веков или десятилетий в наш век научно-технического «взрыва» — не предугадаешь), и, возможно, настанет время, когда все человечество задумает переходить на какую-нибудь суперновую, кибернетически рассчитанную, всемирную, транскрипционно-точную и в то же время элементарно-простую систему обозначения звуков речи?
Вот тогда мы и подумаем, переходить или нет…
Теперь ещё одна сторона дела. Исторические силы привели к тому, что на базе русского письма построили свои алфавиты многочисленные братские народы нашего Союза… Некоторые перешли на это письмо с другого, большинство просто приняло его, поскольку до него никакой письменности у них не имелось.
Какие именно народы? Все перечислить трудно, назову некоторые:
татары, туркмены, узбеки, азербайджанцы, таджики перешли на русскую азбуку с арабского письма;
манси, ханты, якуты, чукчи, эвенки приняли русский алфавит, поскольку до того были бесписьменными.
Чем добавлять к этому перечню другие имена, проще сказать, что лишь с полдюжины алфавитов, построенных не на основе русского, «работают» на территории Советской страны.
Это азбуки литовцев, латышей, эстонцев, карело-финнов, давно уже освоивших латинские буквы; своим письмом пользуются армяне и грузины. И у тех и у других их собственные алфавиты — далёкие потомки финикийской письменности — насчитывают уже много веков существования, будучи древнее самой кириллицы.
То, что мы говорили о сложных способах, которыми народы Европы приспосабливали к своим языкам латинскую азбуку, ставшую в их руках насыщенной всякими диакритическими знаками и лигатурами, у каждого своими, — то же можно сказать и про наш гражданский шрифт на службе у советских народов, от Северного полярного круга до тех мест, где рукой подать до границы Индии.
Я не буду рассказывать об особенностях всех этих азбук порознь. Я просто приведу сводную таблицу всех дополнительных букв и диакритических значков, которые можно встретить над буквами «гражданки» в разных краях нашей Родины.
Убедились, что разнообразие и хитроумие всех этих точек, черточек, клинышков, лапок, направленных вправо, влево, вверх, на нашем отечественном «алфавитном огороде» ничуть не менее головоломно, нежели на «международной плантации» латиницы?
Почему же все-таки большинство народов нашей страны выбрало в качестве базы для своей письменности русский гражданский алфавит? Почему не латиницу?
Во-первых, нельзя указать никаких преимуществ, которые латинский алфавит дал бы для выражения звуков языков нашей страны. Вспомните, как польский язык и венгерский каждый на свой лад гнули латиницу, чтобы подогнать ее к своим звучаниям, и вы увидите, что она совсем не похожа на универсально приспособленный к любому языку алфавит. Сложностей с ее подгонкой к узбекскому или удмуртскому было бы ничуть не меньше…
А в то же время, и это будет существенным «во-вторых», каждому гражданину Советского Союза в принципе нужно, кроме своего родного языка, усвоить и язык межнационального общения всей страны нашей, язык русский. Если он с детства, изучая свой язык, уже знакомится с графикой нашей «гражданки», это облегчает ему впоследствии овладение русской письменностью…
Широко разошлась гражданская азбука наша среди народов СССР. Я не упомянул, что ею пользуются (с самыми ничтожными изменениями) братские украинский и белорусский народы: просто мне это кажется общеизвестным. B почти неизменном виде использована она Болгарией. Значительная часть жителей Югославии, сербы, также применяют ее, добавив ряд букв, обозначающих специфические сербские звуки. Хорваты, второй по численности народ Югославии, издавна приняли латиницу. А кроме того, надо отметить, что с 1941 года перешла на новую письменность, построенную на основе русского письма, Монгольская Народная Республика; новая азбука заменила собой чрезвычайно сложную систему письма буддийских книг и рукописей, которыми пользовались преимущественно в культовых целях.
Как видите, поле применения гражданского русского шрифта растет и ширится. Значит, принцип, положенный в его основу, лежавший в основе общеславянского алфавита — кириллицы, был с самого начала удачным и верным. Иначе письмо это не выжило бы, как не выжило в свое время руническое письмо скандинавских народов, хотя, если судить по внешности, руны ничем не хуже других письменных знаков мира.
От буквы к букве
А
Теперь уже не установишь, почему в финикийской азбуке первое место занял именно знак для звука «а» — «алеф».
Когда я говорю «для звука «а», это надо понимать с оговорками: звуков «а», как мы еще увидим, у разных народов — множество, почти у каждого — свой.
В старину языковеды почитали «а» воистину «первым из звуков». Думали, будто гласные «е», «и», «о», «у» постепенно развились из «благороднейшего» звука «а».
Этот ученый миф был затем оставлен. Мы считаем все звуки всех языков равно благородными и равноправными между собою.
Уж бесспорно, расположение букв в азбуках не может быть объяснено качествами их звуков: тогда оно должно было бы быть во всех алфавитах одинаковым. По-видимому, все европейские азбуки в той или иной мере повторяют (с небольшими отклонениями) порядок, заданный некогда в Финикии и позднее подхваченный греками.
Мы уже встречались с изображением «бычьей головы» древнего «алефа»; повторим его рисунок еще раз, чтобы вам, вглядываясь, было легче представить себе, как «морда тельца», расположенная в древности горизонтально и глядевшая влево, повернулась и стала не иероглифом «бык», а знаком для первого звука слова «алеф» — .
С тех пор «голова» эта стоит в начале всех европейских азбук.
Русский язык не склонен начинать слова с буквы А. Это, пожалуй, стоит запомнить. Русских слов, у которых в начале стоит А, немного. Те слова, которые начинаются с А, подозрительны по своему происхождению: «аист» — не иностранец ли, не иммигрант ли он как слово?
Внимательный человек запротестует: а как же такие чисто русские слова, как «атава», «абабки» (грибы) и т. п.? Но только в областных словарях вы найдете их в таком написании: в словаре литературного русского языка вы встретите «обабки», «отава». В чём дело? Дело в том, что в так называемых «акающих» говорах русского языка буква О, когда она стоит не под ударением, может произноситься как «а».
Таким образом, А в начале слова может служить «лакмусовой бумажкой» для разоблачения слова-иностранца (ниже мы увидим, что таких «реактивов» не один, а несколько).
Владеющие иностранными (европейскими) языками знают, что буква А в них сохраняет свою форму, сходную с нашей А, и вроде бы везде выражает один и тот же звук, равный нашему звуку «а».
Однако, углубившись в этот вопрос, легко заметить, что дело обстоит куда сложнее.
Начнём с французского языка. Вот два слова: mat и mât. Первое — «шахматный мат», а второе — «мачта». Мы, русские, даже сравнительно свободно болтая по-французски, произносим оба слова одинаково и слышим тоже как одно слово. Для француза же они звучат совершенно различно: в первом он слышит обычный звук «а», во втором — долгий, и произносит их неодинаково.
Нам это неожиданно: все гласные у нас равны по своей долготе; тяни сколько угодно «а» в слове «рак», оно от этого не станет означать «окунь».
Во Франции иначе: значок «аксан сирконфлекс» — крышечка — над А и другими гласными буквами показывает, что слово здесь когда-то было сложнее по составу, например, что оно заимствовано из другого языка и только потом упростилось, а его звук «а» стал долгим.
В чешском же языке все гласные звуки обязательно бывают или краткими, или долгими и поэтому «пас» с кратким «а» будет обозначать «горный проход», а с долгим «а» — «пояс».
Многим покажется, пожалуй, что это сложности фонетики, только напрасно осложняющие разговор. Ведь это же чужие языки, не русский. Однако вообразите себя иностранцем, начавшим изучать русский язык. Вы сейчас же столкнетесь с тем, что далеко не все русские А выговариваются одинаково. Вот, скажем, в слове «кабарга» буква А конечная, стоящая под ударением, звучит как настоящий русский звук «а», как гласный среднего ряда нижнего образования, произносимый без участия губ. Первая же А — совсем не «а», а редуцированный (ослабленный) звук. Их свойства определяются положением в слове; они могут и не вполне походить друг на друга… И все равно они изображаются одной буквой А. Да еще без всяких «крышечек» или «знаков долготы» и «краткости».
Это существенно. Если вы, иностранец, начнете в слове «кабарга» все буквы А выговаривать так же, как конечную, над вами начнут втихомолку посмеиваться. «С Масквы, с пасаду с калашнава ряду» — так дразнили, бывало, «москвичей» за их утрированное аканье.
С другой же стороны, вы, иностранец, быстро столкнетесь и еще с одной неожиданностью: звук «а» в русском языке нередко изображают вовсе не буквой А, а другими знаками. Буквой О в первом, безударном слоге слова «корова». Буквой Я после мягкого согласного — «пять» или в тех случаях, где перед «а» слышится «йот», — «явно».
Словом, на взгляд простое тождество: звук «а» = буква А, по сути дела, оказывается весьма сложным.
Признаюсь, разговор о букве А я начал с одной неточности. Древнефиникийский «алеф» вначале тоже изображал не «а» и даже не гласный звук, а некий «гортанный согласный». Но всё-таки его, «алефа», гласное потомство ныне поражает разнообразием. Потому-то и А в разных алфавитах и приделывается столько добавочных значков: без них хоть пропади!
В самом деле, взгляните на маленькую и неполную табличку буквы А с разными значками:
А чешское — долгий звук «а».
 французское — долгий звук «а».
Ă немецкое — «a-умлаут» — звук вроде нашего «э».
Ä финское — почти как наше «йа» в слове «пять».
Å шведское — долгий или краткий звук «е».
Ā латышское — долгий звук «а».
Достаточно на первый раз? Будете изучать каждый из перечисленных языков, узнаете ещё немало и про букву А, и про звук «а», и про их взаимоотношения.
…Прочтёшь всё это, и подумаешь: а уж не правы ли были те лингвисты прошлого, которые считали «а» исходным и благороднейшим из всех звуков человеческой речи?
В наше время ученые о буквах и звуках такого уже не измышляют, но поэтам случалось фантазировать в этом направлении.
Артюр Рембо, французский поэт-символист, утверждал, что каждый гласный обладает «своим цветом», что, в частности, «а» чёрного цвета. Правда, не вполне ясно, о чем он думал, о буквах или о звуках.
А вот русский поэт-символист Константин Бальмонт, может быть, даже имея в виду звуки, говорил о буквах:
«Вот, едва я начал говорить о буквах, с чисто женской вкрадчивостью мною овладели гласные. Каждая буква хочет говорить отдельно…
Первая — А. Азбука наша начинается с А. А — самый ясный, легко ускользающий звук, самый гласный звук, без всякой преграды исходящий изо рта. Раскройте рот и… попробуйте произнести любую гласную; для каждой нужно сделать малое усилие, лишь эта лада А вылетает сама…».
Нет, конечно, Бальмонт не языковед. Он путает буквы со звуками. Он сочиняет, будто ему «а» легче произносить, чем «о» или «у». Но будь он даже отличным лингвистом, у нас не было бы никаких оснований приписывать «а» какие-то преимущества перед другими гласными.
«А — первый звук, произносимый ребёнком, последний, произносимый человеком, что под влиянием паралича теряет дар речи… А — первый, основной звук раскрытого рта…»
Я сделал данную выписку, хотя вся она — «истинная неправда». Первыми звуками, издаваемыми ребенком, скорее бывают неартикулированные аффрикаты и дифтонги, не то гласные, не то согласные… Паралитик вовсе не испускает меланхоличного и звучного предсмертного «А…», а обычно мычит, утрачивая способность артикулировать определенные звуки…
Но теперь вы понимаете, как легко впасть в неточные, а то и прямо ошибочные наблюдения, когда берешься судить о явлениях речи не с позиций языкознания, а с собственной своей, произвольной и субъективной точки зрения.
Стоит кратко коснуться еще одной-двух тем, связанных с буквой А.
В древних системах письменности существовало обыкновение придавать буквам азбуки, помимо звукового, еще и числовое значение.
И в греческой азбуке, и в кириллице буква А имела числовое значение единицы.
Вплоть до петровских реформ чрезвычайное неудобство связи букв азбуки с произвольно выбранными цифрами и числами сохранялось. Чаще с «числами», чем с «цифрами».
— 1,
— 1000,
— 10 000 — «тьма»,
— 100 000 — «легион»,
— 1 000 000 — «леодр»,
Если принять в расчёт, что не было никакой возможности подвести под единое правило ни сложение, ни умножение, ни вычитание и деление этих весьма своеобразных «числительных», если никакой логикой не было установлено и подтверждено, что «како» плюс «люди» равнялось «наш» — 20 + 30 = 50, а в то же время «слово» + «твердо» = «ферт» (200 + 300 = 500), то как же считать? В числе, составленном из цифры 5 и двух нулей, уже заложено указание на то, что оно в 10 раз больше числа, составленного из цифр 5 и 0. А вот до того, что Ф в 10 раз больше, чем Н, сколько ни вглядывайся в эти «цифры», не додумаешься.
Политический и технический (а равно и идеологический в более широком смысле слова) переворот, осуществленный на Руси Петром I, упразднил цифры-буквы, узаконив арабские цифры.
Но как на Западе, так и у нас в системе наших счетов и расчетов сохранились пережитки прошлого. Мы всегда называем первый «лучший» сорт товара сортом А; тот, что похуже, — сортом Б.
Математики и те не удержались и обозначают буквой А что-либо «первое» по счету и порядку. Треугольник АВС кажется нам названным как бы «прямо», а треугольник CAB — «наоборот», не так ли? В большинстве мы привыкли встречать пассажиров, которые едут из пункта А в пункт В. Разумеется, они могут столкнуться на пути со следующими из В в А, но мы воспримем этих последних как «обратных», «возвратных» путников.
Если, в конце концов, вам надо произвести дробление какого-то большого труда на параграфы и пункты, вы наверняка начнете с «римских цифр», перейдете для более мелких делений к «арабским», затем возьметесь за буквы русские, латинские, может быть, и греческие. Но, выбрав любой алфавит, вы начнете счёт ваших делений не с «я», не с «зет», не с «омеги», а, ни на секунду не задумываясь, совершенно механически поставите на первое место русское «а» или греческую «альфу». Почему? Да просто вы впитали «с молоком матери» убеждение, что А = 1.
Что ещё можно сказать, когда думаешь про первую букву нашей азбуки? Ну вот хотя бы: в разных языках есть слова, выражаемые на письме ею одною. Написал А — и целое слово родилось…
У нас «А!» — восклицание с чрезвычайно широким диапазоном значений: удивление, досада, радость, вопрос — все может быть вложено в один звук (и в одну букву!). Кроме того, читая «а», мы понимаем её иной раз как союз.
В английских словарях прописная А объясняется как «высшая отметка за школьную классную работу», «высший класс в судовых регистрах Ллойда» и даже — в разговорной речи — как синоним прилагательного «превосходный» и наречия «превосходно». Кроме этого, буква А перед существительным может в ряде случаев пониматься как неопределенный артикль.
У шведов А может, как и во многих языках, означать «лучший, первосортный». Есть с А и словосочетание a dato, в котором оно уже получает значение предлога «от» — от нынешнего числа.
У шведов же есть и еще одно забавное «сращение» с А — a-barn, что означает «крепыш-малыш».
В итало-русских словарях букве (и слову) А уделено полтора-два столбца мельчайшего шрифта. Тут А служит признаком дательного падежа, предлогом; выражает отношение места со значениями «в», «у», «за» и отношение времени, означая «в», «на», «до», «через»; образ действия и множество других понятий.
В одном стареньком французском словарике я нашел указание на то, что во Франции А выражает значение третьего лица единственного числа настоящего времени от глагола «иметь» — il a — «он имеет», а с диакритическим значком — клинышком слева направо — является предлогом, означая «в», «за», «из», «о», «перед» и многое другое. Просто же взятая прописная буква А заменяет выражение «альтэсс» и «высочество», когда говорится о лицах из царствующего дома. Правда, теперь таких лиц становится все меньше и меньше…
Я буду рад, если вам придет в голову обратиться к словарям других языков, европейских и внеевропейских, и начать исследовать: что выражает в них та же самая буква А. Вполне возможно, вы наткнетесь на презабавные приключения, происходящие с нею…
Буква становится словом
В любопытнейшей (а в свое время — ценнейшей) маленькой книжке профессора И. Бодуэна де Куртенэ «Об отношении русского письма к русскому языку» говорится, что в отличие от знаков звуковой речи, которым несвойственно «увеличиваться» или «уменьшаться», усиливаться или ослабевать дальше определенных им природой речи величин, знаки речи письменной, в частности буквы, обладают в этом смысле неограниченными возможностями.
Чтобы привести пример «буквы-гиганта», ученый-лингвист вспоминает географический феномен. «Не забудем о дельтах рек, например дельта Нила, — говорит он. — Природа создала очертание, которое человек сумел прочесть как колоссальную букву».
Затейливая мысль. Но мне она здесь нужна лишь, чтобы заговорить о другом. «Дельта реки»… Тут просто — случай языковой игры, метафорически делающей имя буквы словом, имеющим нарицательное значение.
Явление занятно: оно прямо противоположно тому, что наблюдается весьма часто и в мире азбук, — превращению значимого слова в имя буквы, в чистое наименование. Так слово «алеф» — телец — стало называть знак для одного из звуков финикийского алфавита. Так стали именами букв русские слова «добро», «мыслете», «аз», «он», «ук».
В нашем же случае — наоборот: слово, означавшее только четвертую букву греческой азбуки, утратив нацело свой архаический смысл — «далет» (дверь), внезапно испытало обратную метаморфозу: приобрело значение «область отложения наносов в устье реки, прорезанная сетью её рукавов».
Теперь, прочитав начало фразы: «К числу величайших дельт мира принадлежат…», вы спокойно допишете: «дельты Нила, Ганга, Миссисипи», совершенно не вспоминая при этом греческую букву «дельту».
Но «область в устье реки» не единственное переносное значение слова «дельта». В энциклопедиях вы отыщете «дельта-лучи», «дельта-металл» и даже «дельта-древесину». Повсюду здесь эпитет «дельта» указывает на порядковое место предметов в ряду им подобных.
У математиков слово «дельта» входит во множество терминов: «дельта-оператор», «дельта-функция». Тут оно уже перестает быть просто буквой, но освободилось оно от этого качества ненамного больше слова «а», когда мы превращаем его в алгебре в заместитель выражения «некоторое число или количество».
В большей степени «дельта» — Δ становится словом в дифференциальном исчислении, где означает приращение абсциссы или аргумента. Уже то, что там постоянно встречаются выражения «дельта икс» и «дельта игрек», доказывает: «дельта» здесь есть слово, немногим отличающееся типологически от слова «дом» в выражениях «Дом писателей» и «Дом художников».
Конечно, никакой мудрец и пророк не смогли бы в те века, когда финикийский «далет» превращался в греческую «дельту», предречь дальнейшую судьбу этого «междуязычного» имени. Да и мы представления не имеем, какие значения примет оно на себя хотя бы через 250 лет…
Среди таких — может быть, более курьезных, нежели значительных, — приключений, мне хочется помянуть историю, приключившуюся с нашей буквой Ф.
В кириллице она носила затейливое наименование «ферт». Затейливое? Да. Этимологи и сейчас спорят, откуда оно взялось. Греческое «фюртэс» вроде бы не годится для названия буквы; оно значит «беспокойный человек», да и не слышно, чтобы Ф в Греции так именовали. Думают, «ферт» — просто выдумка, звукоподражание, понадобившееся потому, что славянских слов с буквой Ф вначале не нашлось. «Суá!» — как говорят французы: «Пусть так!»
Но вот на Руси с Ф произошло нечто наверняка не предусмотренное изобретателями этого буквенного имени.
Читателям с воображением эта палочка с двумя дужками по бокам стала напоминать задорно подбоченившегося человека. Появилось словосочетание «стоять фертом», а затем новое существительное «ферт» и даже уменьшительное «фертик», по Вл. Далю — франтик, щеголёк.
Мало-помалу существительное это стало уже неодобрительным, полубранным. У А. Чехова: «Тут к нам ездит один ферт со скрипкой, пиликает», у В. Вересаева: «Вхожу в приемную, вижу, какой-то ферт стоит в красных лампасах». Слово нацело потеряло связь с именем буквы, и случилось это невесть когда. Ведь еще у Пушкина:
А в его «Истории села Горюхина» есть место, где происхождение слова «ферт» из названия буквы видно чрезвычайно ясно: «Тогда *** растопыря ноги наподобие буквы хера и подбочась наподобие ферта, произнес следующую краткую выразительную речь».
Вам, конечно, встречалось слово «похерить», обычно заставляющее и произнесшего и выслушавшего его сделать этакую извинительную гримаску. А извиняться не в чем.
Слово «похерить» связано прямо с названием буквы X в кириллице — «хер» и является сокращением слова «херувим». Зачеркните какой-нибудь кусок написанного вами текста. В девяти случаях из десяти вы перечеркнете его крест-накрест и вертикально. И получите косой крест, похожий на букву X. Уже сонные подьячие в допетровских приказах «херили» такими крестами испорченные места рукописей. Вот оттуда-то и пошло слово «похерить», порожденное именем старославянской буквы…
«Глаголь». У Пушкина есть начало одного неоконченного произведения — «Альфонс садится на коня…». Помните мрачный ландшафт Испании:
Здесь «глаголь» — виселица, но не орудие казни дало свое имя букве. Оно само было названо по сходству с буквой. Как это доказать?
Тот, кто придавал буквам запоминающиеся имена, выбрал название для Г по акрофоническому принципу, но не существительное, как вроде бы было естественно, а глагол. «Глаголь!» по-славянски значило «говори!».
Сомнительно, чтобы нам удалось когда-либо узнать мотивы, по каким буквы получали именно эти, а не другие названия; но мы знаем, что это не исключение: для буквы Р тот же или другой изобретатель избрал такую же глагольную форму — «рцы!».
Букву можно назвать любым словом; тут не требуется, как у Козьмы Пруткова, пытаться наименовать «судьбу не индейкой, а какой-либо другой, более на судьбу похожей птицей».
А вот любая новая вещь, которую нужно назвать новым словом, требует некоего соответствия между этим словом и ее свойствами. Неправдоподобно, чтобы столб с горизонтальной перекладиной наверху, инструмент быстрой казни, был наименован словом «говори». Скорее уж так могли бы назвать дыбу, орудие пытки. А если признать, что название этому мрачному столбу взято у на него похожей буквы, то все становится на свое место. Буква стала словом!
«Мыслете». На этот раз производное от глагола «мыслить». Сложное движение пера, нужное для начертания буквы М, связало её в бытовом языке с шатающимся «туда-сюда» на пути хмельным человеком. И вот уже возникает нечто вроде полусуществительного «мыслете», означающее нечто неопределенное, не обязательно связанное с образом пьяницы: «он мыслете пишет».
«Покой». Старое название буквы П сохранилось до наших дней едва ли не исключительно в выражении «покоем ставить что-либо, располагать». Столы «ставят покоем» — так, чтобы они образовали как бы букву П, с целью наиболее компактного размещения заседающих или трапезующих.
«Добро». Жёлтый флаг во флотской флажной сигнализации. Значение этого флага: «Да, согласен, разрешаю». На флоте и в настоящее время постоянно можно слышать выражения «дал «добро», «получили «добро», «у меня командирское «добро» в кармане». Причем никому не приходит в голову понять «добро» в кармане» в смысле «командирское имущество», «деньги», «хозяйственные запасы». А в то же время лишь редкие из моих сотоварищей-моряков отдавали себе отчет в том, что это «добро» было в прошлом наименованием одной из букв старославянской азбуки. Любопытно, не правда ли?
«Икс». История того, как одна из последних букв латинского алфавита превратилась в слово, на математическом языке означающее понятие «неизвестная величина», довольно сложна.
На рубеже средневековья и Возрождения Европа лихорадочно овладевала научными, и, в частности, математическими, знаниями арабо-мавританского Востока. За средние века арабы далеко обогнали европейцев на этом фронте. Европейские ученые заимствовали у своих учителей и обозначение неизвестного при помощи буквы. У мавров, соприкасавшихся с испанцами, условная буква эта именовалась «шэ».
У испанцев была совершенно иная буква, знак другого звука, но обладавшая тем же названием «шэ». Испанцы так называли в те времена ту букву, которая у соседних народов именовалась «икс». Испанцы писали теперь в математических трудах X как и их ученики французы, но выговаривали этот знак как учителя-арабы — «шэ». Французы же — Декарт первый принял это новшество в свою прославленную «Геометрию», — видя знак X, стали и выговаривать его как «икс». Из страны в страну слово-буква дошло и до России. Сначала как математический термин, а затем…
Прислушайтесь не к беседам академиков, а к живой речи вокруг вас. Наряду со строгим термином, X — неизвестное, со строго зафиксированным физическим значением X — единица длины, применяемая при измерении длин гамма-лучей, есть и более простое, бытовое его значение. В толковых словарях оно определяется сходно — «неизвестное или неназываемое лицо». Очень часто «икс» соединяется с другими последними буквами латинского алфавита — «Икс, Игрек, Зет, не всё ли равно кто?».
Математическое употребление букв оказывает влияние на бытовое. «Икс-игрек-зет» нельзя заменить произвольными буквами — «пе-эр-эс-тэ» или «ка-эль-эм-эн». Исчезнет оттенок неизвестности и загадочности.
Ещё одно слово, рождённое из названия буквы, — «эн», иногда — «эн-эн», чаще — NN, и произведенные от них прилагательные «энный» и «энский». Существует объяснение этому NN не математического, а чисто языкового характера. Возможно, две буквы эти являются школьнолатинским (кухоннолатинским, как говорят) сокращением слов «номен нэсцио» — «имени я не знаю». Однако в таком случае было бы логичнее оставить прописной только первую из них.
В математике N — «любая, какую угодно подразумевать, величина». В художественной литературе «Эн» и NN (особенно в XIX веке) — лицо отнюдь не таинственное, как «Икс», но такое, которое по каким-то причинам нежелательно называть, — «неважно кто» или «было бы нескромно указать, кто это». В произведениях классиков вы такие обозначения встретите, простите за каламбур, «эн раз».
Мы видели букву N в роли заместителя имени личного. Но она еще недавно фигурировала и в качестве заместителя топонимов. «В ворота гостиницы губернского городка NN въехала довольно красивая… бричка». Какое прославленное произведение начинается такими словами? Конечно же, «Мёртвые души»… Может быть, в этом сказалось косвенное влияние воинских обычаев, поскольку многие полки старой русской армии именовались по названиям городов — «Павлоградский 6-й лейб-драгунский», «Сумской 3-й драгунский», но не всегда хотелось уточнять, о каком именно полке шла речь…
Рядом с прилагательным «энский» за последние 30–40 лет все шире входит в бытовую речь нашу недавно еще чистый термин, слово «энный». Выражение «энский» в математических науках не встречается, «энный» и близкие к нему «энгранник», «энугольник» попадаются часто. В широком значении — «некоторый в ряду» — слово «энный» попало уже во все словари. Правда, теперь мы часто слышим его и в смысле «некоторый», «все равно какой» — все это близко к его математическому значению. Но совсем недавно мне пришлось услышать, как один вполне солидный оратор выразился: «Придут энные люди, начнут говорить энные слова…» Слово «энный» приобрело в его устах уже значение «невесть какой, черт знает какой!». Так точные термины науки утрачивают свою однозначность и приобретают — не по дням, а по годам и десятилетиям — свойства живых, многозначных слов.
Б
В древнегреческой и старославянской азбуках, азбуке-матери и азбуке-дочери, не все благополучно с буквами Б и В. Это бросится в глаза каждому неязыковеду.
У древних греков буквы в начале азбуки шли так: «альфа», «бета», «гамма», «дельта»…
У славян порядок оказался другим: «аз», «буки», «веди», «глаголь», «добро»…
В латинице порядок опять иной: «а», «бе», «це», «дэ»…
В чём дело? Чем объясняется разноголосица? Почему ученики и наследники восстали против своих учителей? Были тому основания или это произвол, как теперь говорят, «волюнтаризм»?
То, что возникает «по произволу», редко бывает долговечным. Азбуки же, рожденные из греческой, существуют тысячелетия. Значит, их перестройка пришлась ко двору осуществившим ее народам, не была сумасбродством.
В греческом языке в некоторые периоды его развития не существовало звука «в». Древние римляне позаимствовали греческую азбуку как раз в такое «без-ве-время»: греческую «бету» они передали своим «бе» — В.
Случилось это в VI столетии до нашей эры. А поскольку им нужен был и знак для звука «в», они придали ему совершенно другое обозначение и убрали в конец алфавита — V. Всё устроилось.
Славяне стали создавать свою письменность в IX веке нашей эры, через 15 столетий после римлян. За эти века греческое письмо изменилось мало. Но стоявший за ним язык, в частности его фонетика, претерпел кое-какие изменения. Став языком Византии, классический греческий изменился: «бету» византийцы стали называть уже «витой» и читать как «в».
Может быть, я сильно упрощаю ход дела, но, во всяком случае, так слышали этот звук славяне, так они произносили букву β. Соответственным образом выговаривали они все слова, эту «бету-виту» содержавшие. До самого XVIII века наши предки говорили и писали «вивлиофика», а не «библиотека»; отсюда ясно, что перемена «б» на «в» была не единственным изменением в греческом языке. Так или иначе доныне мы говорим «Вавилон», «Вифлеем», называя места, которые на западе, в языках латинского алфавита, звучат как «Баби-ло», «Бетлехем».
Для славянских первоучителей это все представлялось сложным и опасным затруднением. «Но как добре писати греческими писмена такие слова, как БОГ или ЖИВОТ, или ЦЕРКОВЬ?» — опасливо писал учёный монах-черноризец Храбр.
Превратив греческую β в свою В, славяне оказались перед неизвестностью: с какой же буквы начинать грозное слово «бог»? Конечно, через тысячу лет после решения этого вопроса нам нелегко точно представить себе, какими соображениями руководствовались изобретатели славянской письменности. Нам кажется что дело могло быть так…
Кроме кириллицы, у славян была глаголица. Очертания большинства ее букв, причудливые и странные, не походили на привычные очертания греческого «устава». Но вот звук «б» изображался значком , копией одной древней греческой лигатуры. Упрощением лигатуры, возможно, и явилась кириллическая, изобретенная много позже буква Б. А из её рукописных вариантов возникли и разные формы этой буквы в нашей «гражданке».
Впрочем, можно предложить и другие объяснения формы нашей буквы Б, может быть, построенной прямо из прописной уставной В, ампутацией какой-то ее части или другими путями…
Звук «б», стоящий за буквой Б, для нас с вами, русских, не представляет при его произнесении больших затруднений. Я за всю жизнь не встретил ни одного русского ребенка, который не мог бы чисто произнести «буква» или «бок». Но существуют народы, для которых это совсем не так. Немцы, например (пример тому мы увидим ниже), поскольку их собственное «бе» кажется нам чем-то средним между «б» и «п», не различают этих наших звуков. Плохо владеющий русским языком немец произносит то «бабка» вместо «папка», то наоборот. Это не по какой-либо языковой «неполноценности» или неспособности. Просто в разных языках отношения между звуками неодинаковы, и представители разных народов слышат их по-разному.
Есть в мире языки, в которых напрочь отсутствует звук «б». Есть такие, которые не знают «п». Арабы, обучаясь в наших вузах, долго вместо слова «пол» говорят «бол».
Удивляться тут нечему. Мы ведь сами нередко букву Б произносим как «п», не выговариваем «звонкого губного смычного» на конце слова — только глухой: «дуП», «слаП», «горП». И иначе не можем.
А в то же время легко указать звукостолкновения, при которых на месте буквы П появляется ясно слышимый звук «б» — «этот шуруБ больше того». Глухой звук «п» озвончился и зазвучал как «б».
Вместо «покоя» явилось «буки».
Кстати, а что значит само слово «букы» или «буки», означавшее в славянской азбуке знак буквы Б?
Слово это, по-славянски значившее просто «буква», было в родстве с немецким Buch — «книга» и Buchstabe — «буква». Все они восходят к имени дерева «бук», по-немецки — Buche.
Традиционно думать, что древние германцы, вырезавшие какие-то зарубки и пометы на буковых палочках, перенесли название этих самых «буковых палочек» на значки, на них изображенные, а затем передали новое слово и соседям славянам в виде «буквы». Но вполне возможно, что наши предки создали свой термин самостоятельно. Не так-то уж бесспорно точно время возникновения имени «бук». Когда оно появилось у славян? Может быть, до рождения слова «букы»? Впрочем, заимствование из германского всё-таки вероятнее.
Упомяну, что финикияне, выделив звук «б» из потока своей речи и придумав для него графический знак, исходили из слова «бет» — дом.
Как вы уже знаете, «алеф» — первоначально иероглиф быка. Но тогда «альфабет» («алфавит») в дословном переводе явится нам как «быкодом».
А русское слово «азбука» придется понимать как «я — буква»… Престранные шутки шутит порою язык над своими творцами!
В
В — третья буква русской азбуки.
Любопытно: «веди» — третья буква кириллицы, а числовое её значение — 2. Почему?
Это память о прошлом, о том, что наша буква «веди», хоть она и выражала звук «в», явилась потомком «беты», а «бета» была второй буквой греческой азбуки.
С нашей буквой Б в кириллице не связалось никакого числового значения; не знай мы о связях ее с греческой азбукой, тут бы никакой Мегрэ не распутал бы сложной загадки.
Буква В в разные времена существования славянорусской письменности приобретала довольно различные очертания. По ее виду и форме, встречающейся в рукописях и старопечатных книгах, палеографы достаточно точно устанавливают столетия (а иногда и более мелкие периоды), в которые то или другое издание было написано или напечатано.
Часто спрашивают, в чем причина: в нашей азбуке буква, означающая звук «в», обретается почти в самом её начале, а в азбуках, происходящих от латиницы, она не только имеет совершенно другой вид, но и загнана куда-то к чёрту на кулички, в самый конец алфавита?
Вспомним, что в момент заимствования римлянами у греков их письма в греческой азбуке знака для звука «в» не было. У римлян он был: vita — жизнь, vox — голос.
В то же время в латинском языке были слова, в которых похоже звучала буква U: Augustus — Август; áurum — золото — почти «аврум».
Возможно, что римляне, подыскивая знак для «в», взяли греческую букву V, чем-то походившую на их собственную U. Недаром в своей азбуке они и поместили обе буквы рядом.
Я не буду уверять вас, что именно так оно и было — «Кто это видел?» — как недоверчиво говорил мой десятилетний сын, слыша рассказы из древней истории, — но возможно, что нечто подобное и имело место.
Знатоки римской древности свидетельствуют, что в далеком прошлом римское «ве» уже имело вид V, стояло на последнем месте в азбучном ряду и произносилось то как русский звук «в», то как «у», а иногда даже как звук, близкий к нашему «ы».
В средние века у народов Запада появилось уже целых четыре буквы, отпочковавшиеся от древнелатинской V: V — со значением «ве»; «дубль-ве», или «тевтонское ве» — W; Y — для звука «ы» и позже других явившаяся U, призванная выражать звук «у».
Мне не приходит сейчас в голову никаких особенных «анекдотов», связанных с русской буквой В, как и с V латинской. Пожалуй, единственное, что представляется любопытным сообщить «под занавес», — существуют языки, в которых возможно произнесение латинской буквы В как русского звука «в» и наоборот.
Возьмём язык Сервантеса, испанский. В каждом приличном испано-русском словаре имеется таблица испанского алфавита. На её законном втором месте вы обнаружите букву В с пояснительной пометкой — «бе» — для русского читателя. Четвёртой от конца азбуки будет стоять V — «ве». Всё как будто в порядке.
Но загляните в комментарии к алфавиту: «Произношение согласных». Тут вы удивитесь.
«Буквы В и V в испанском языке в звуковом отношении являются близкими, различаясь, однако, в написании…»
И дальше вы прочтете, что в определенных случаях испанская буква В произносится как русский звук «в». Поэтому, к примеру, слово cabaliero, которое кажется нам совершенно испанским именно когда в нем звучит «б» (а то получается «кавалер»), по-настоящему должно произноситься как «каВуальеро».
Узнав, что перед Т и будучи последней буквой в слове, В произносится как наш звук «п», мы не испытаем изумления. Но вот то, что буква V перед звукосочетаниями «уа», «уо», «уи» в начале слова, когда эти все «уа» стоят перед еще одним гласным звуком, должна произноситься как «б», — вот уж это неожиданность!
Мы знаем, что местоимение «ваш» в романских языках, восходя к латинскому vester, звучит на разные лады, но в общем-то схоже: во французском — votre — «вотр»; в итальянском — vostro — «востро».
В русско-испанском словаре вы найдете опять-таки похожее слово — vuestro. «Вуэстро»? Как бы не так — «буэстро». «Бу», а не «ву». Почему же?
За разъяснением этой тайны вам придется обратиться к специалистам-испанистам. Боюсь только, что прутковское «желание быть испанцем» несколько ослабнет, когда вы столкнетесь с двумя-тремя подобными неожиданностями испанской орфографии и произношения. А впрочем, разве в других языках мира такого не бывает? Вообразите себя на миг испанцем и подумайте, что тот почувствует, узнав, что буква В на конце фамилии «Петров» читается как «ф», хотя в начале фамилии «Васильев» её так произносить отнюдь не рекомендуется…
Так что не будем осуждать никого…
Г
Г в кириллице — «глаголь», четвёртая буква и старославянской, и нашей гражданской азбуки. Числовое значение её — 3.
«Должность» буквы Г у нас в достаточной степени хлопотлива. «Гром», «глаз», «грохот» — тут она передает шумный смычной заднеязычный твердый звонкий согласный.
Теперь — «гиря», «гигиена». Г и здесь выражает шумный смычной, но уже мягкий, «палатализованный».
Чем старше книга, в которой вы будете изучать биографию буквы Г, тем настойчивее будет там указание на то, что она способна олицетворять собой и еще две разновидности звука «г». В таких словах, как «господи», она-де выступает как звонкий звук «х» или как «фрикативный звонкий задненёбный звук», причем тут твердый, а вот в слове «преблагий» — уже мягкий… Странно…
Впрочем, лучше загляните в академическую «Грамматику» и успокойтесь. В русском литературном произношении существовало еще до недавнего времени звонкое «х», которое можно было слышать в таких словах, как «благо», в косвенных падежах от «бог» и др. В настоящее время это произношение утрачивается… Этот звук и раньше не играл никакой самостоятельной роли и не имел своего особого буквенного обозначения.
Но очень долго этот звук считался как бы признаком «хорошего тона» в русском произношении. Ещё И. Бодуэн де Куртенэ справедливо говорил, что такое его «фрикативное произношение» — плод невежественной ошибки. Считалось, будто в церковных словах его надо выговаривать так — вслед за церковнославянским языком. Но в этом, староболгарском, языке никогда не было таких звуков, а пришли они к нам из южнорусских и украинских говоров. Теперь специально в этих словах уже никто не произносит Г как латинский звук «h». Но на смену этой ошибке пришла новая, куда более распространенная. Под влиянием тех же южновеликорусских и украинских говоров многие теперь вообще всякую русскую букву Г — «нога», «гора», «багор» — считают деликатным произносить как «ноха», «хора», «пухало»… Решительно скажем, что это ошибка, и грубая, во всяком случае, пока вы говорите не на украинском литературном и не на областном ростовском или краснодарском, а на литературном русском языке.
…Наш звук «г» по способности многих русских согласных бывать то звонкими, то глухими часто является как раз в этом последнем виде, в частности — на концах слов:
Тут, в «Кавказском пленнике» Пушкина, «звук» и «круг» рифмуются. Но Тютчев примерно в те же годы и слышит, и произносит Г как «х»:
Впрочем, на письме мы все равно во всех этих случаях ставим все ту же «многозначную» букву Г, и правописание ущерба не терпит. Но иностранец не без причин возмущается: почему, ясно слыша, что «бодливой корове бох рок не дает», он должен дважды подряд, не веря ушам своим, писать «боГ» и «роГ»?!
Правда, если он на этом основании не одобрит русский язык и трудность его орфографии, напомните ему (если он француз) два французских слова: gazon — газон и geant — гигант. Оба начинаются с одной и той же буквы G, но с двух разных звуков: gazon — с «г», a geant — с «ж». Почему? Ничуть не более логично, нежели «бог» и «рог»
Все языки мира имеют свои причуды, а орфографии любых языков отличаются этими причудами в десятикратном размере. Для тех, кто приступает к изучению чуждого языка, несоответствия звучаний и написаний бросаются в глаза. Говорящий на родном языке к его фонетике привыкает с детства. Но как только он начинает изучать собственную свою, родную орфографию, так и на него обрушиваются странности и нелогичности. И ему приходится пускаться в размышления: «круг» потому пишется через Г, что через «г» слышится в слове «круГом»… Значит, с точки зрения фонетики последний звук в слове «круг» — «к», а с точки зрения орфографии «г». Никогда не смешивайте разные вещи: звук и букву, буквы и звуки! Я буду повторять это стократно, ибо «вся мудрость житейская в этом, весь смысл глубочайших наук!».
С буквами, которые у разных народов обозначали и обозначают «шумный смычной твердый заднеязычный согласный», связано, может быть, и меньше ассоциаций, чем с другими буквами, но кое о чём всё же следует помянуть.
Не хочется вторично возвращаться к неприятнейшему из образов, связанных со славянским «глаголем», — к образу виселицы. Но, с одной стороны, к любому простому очертанию при желании можно привязать малоприятные ассоциации, а с другой — тут уж очень на поверхности лежит сходство. Мы же сами говорим теперь то и дело о разных «Г-образных», по очертанию напоминающих эту букву предметах.
Хочется подивиться извилистому движению человеческой мысли вокруг этого письменного знака. Тысячелетия назад, в финикийской древности, переломленный штрих напомнил кому-то то ли шею и голову верблюда, то ли просто «угольник» — ученые по-разному объясняют название «гимел». Много времени спустя, уже у славян, знак, происшедший от «гимела» и побывавший «гаммой», получил имя, связанное уже не с его формой, а только со звучанием — «глаголь», потому что это слово как раз и начинается со звука «г».
И тотчас же сам язык, как бы обрадовавшись новой игрушке, подхватил этот «звуковографический» образ и снова, но в обратном, если сравнить с Финикией, направлении позабавился им. В древности человек назвал букву словом, по сходству ее с предметом, имя которого начиналось с выражаемого ею звука, а теперь название буквы оказалось превращенным в слово на том основании, что очертания этой буквы напомнили пишущим-читающим очертания некоего предмета: Г — «глаголь» — виселица в форме буквы Г.
Не знаю, обыграли ли греческие мальчишки свою «гамму», придав ее ничего не означающее имя какому-либо предмету, ну хотя бы рогатке, на которую она была похожа. Сомнительно: ни резины, ни рогаток у них не было…
Зато позднее греческая «гамма» получила множество значений, и уже не по сходству с предметом, а по самым разнообразным причинам и признакам.
Буквой «гамма» музыканты стали обозначать крайний нижний тон средневекового звукоряда музыкальной системы. Оттолкнувшись от этого, те же музыканты применили удобный термин «гамма», чтобы назвать весь ряд звуков данной системы в пределах одной октавы. И немедленно, став из названия буквы словом, оно, это слово, пошло гулять по свету. «Кончишь все гаммы— пойдёшь играть в футбол!» — так сурово поступала молодая мать со своим отнюдь не музыкальным сыном.
Художники говорят о «красочной гамме», писатели — о «гамме человеческих переживаний», кулинары — о «гамме вкусовых ощущений». Я встретил в одной газетной статье выражение «гамма станков», очевидно означавшее ряд станков с какими-то последовательно нарастающими или убывающими свойствами. Вот это-то значение стало теперь основным для слова «гамма». Значение «третья буква греческого алфавита» дается в словарях теперь уже на втором, а то и на третьем месте. Словосочетание «гамма красочная» попало даже в энциклопедию — «ряд цветов, используемых при создании художественного произведения»…
То-то бы удивился грек времён Эвклида, прочтя такие фразы:
«Доносились звуки гамм, разыгрываемые неверными пальчиками Леночки». (И. Тургенев, Дворянское гнездо.)
«Развёртывалась бесконечная гамма тонов умирающей зелени». (Д. Мамин-Сибиряк, Осенние листья.)
«Вы могли прочесть на лице Ермоловой целую гамму сложных переживаний…» (Ю. Юрьев, Записки.)
«Для меня так это ясно, как простая гамма…» (А. Пушкин, Моцарт и Сальери.)
Как видите, разнообразие значений чрезвычайное. Длинный ряд тонких и изощренных понятий определяется словом, которое, собственно, «по идее», означает название древней буквы. Буквы! Ну как тут перестанешь интересоваться этими клеточками языка, может быть, точнее, ядрами его клеток?!
Слову «гамма» повезло и в значениях, прямо связанных с буквой.
Нашим полям вредит «совка-гамма», бабочка, передние крылья которой «буро-фиолетовые, с темно-бурым рисунком и желтовато-серебристым пятном, похожим на греческую букву гамму», — говорит добрый старый Брем.
«Гамма-лучи» физиков — электромагнитное излучение с очень короткими длинами волн. Открыв радиоактивность, ученые обнаружили три вида излучений, назвав их «альфа-», «бета-» и «гамма-лучами». Лучи эти нашли применение в технике; явились термины — «гамма-каротаж» — изучение разреза буровой скважины по гамма-излучению пород, «гамма-метод» — такое же изучение горных пород, но не внутри, а вне скважины.
Имя греческой буквы, как масляная капля на бумаге, ползет все шире и шире по всей научной терминологии, создавая новые понятия и значения.
Однако до полной силы живого, многозначного «слова», способного отпочковывать полновесные переносные значения, эти «словоиды» не доросли. Пожалуй, полностью «словаризовалось» лишь одно ответвление от «гаммы» — «гамма — музыкальный звукоряд».
Латинская прописная буква G также приобрела несколько «особых значений в музыке и её теории. G прежде всего означает там ноту «соль». Гамма G означает «соль-мажор», G-moll — «соль-минор». Впрочем, буква G не исключение в этом отношении. Вы еще встретитесь с буквой D, имеющей нотное значение «ре». Что до остальных пяти нот гаммы, то они обозначены буквами А, С, Е, Н, F. Какая из них какую ноту означает, любители музыки соблаговолят установить сами.
Занятно, не правда ли, когда сочетаются сразу две условности — «гамма G». Ведь и «гамма» и G означают звук «г». Сочетание же «гамма G» не имеет ничего общего с этим древнейшим их смыслом. В XIX веке тот же знак «G» выражал понятие «скрипичный ключ», а порою ставился вместо французских слов main gauche — левая рука…
Не забудем, что французы букву G читают не как «ге», а как «жэ», а англичане и итальянцы — как «джи». Это им не мешает, однако, ту же самую букву, не внося в нее никаких графических изменений, произносить перед согласными и перед гласными звуками «а», «о», «у» как «г». В остальных положениях она произносится как «ж» или «дж».
В испанском языке буква G перед Е и I выговаривается как «х».
Га и глаголь
Михаил Васильевич Ломоносов был гениальным реформатором и грамматики русской, да и самого нашего языка в его целом. Он был первым великим русским языковедом.
Но, читая его языковедческие и грамматические работы, нельзя забывать, когда жил гениальный помор. В XVIII веке не существовало ни языковедческих теорий, ни основанных на таких теориях научных грамматик. Они еще полностью сохраняли старый то узкопрактический, то туманно-схоластический характер. О соотношениях между звуком и буквой, между звучащим, живым и письменным, закрепленным на бумаге словом никто ничего вразумительного не знал и не сообщал ни у нас, ни на Западе.
Удивительно ли, что первый русский ученый-лингвист в своих статьях и высказываниях сам нечетко разделяет то, что я уже многократно советовал вам никогда не смешивать, — звук и букву.
Ломоносов (такое было время) любил облекать свои совершенно серьезные изыскания в стихотворную форму. Навсегда останется жить его «Письмо о пользе стекла» — наполовину ученый трактат, наполовину вдохновенная поэма. Менее известны его стихотворные же рассуждения о различных языковых и грамматических закономерностях.
Вы можете легко заметить, как Ломоносов, воплощая в этих стихах ряд достаточно точных и тонких наблюдений над искусством тогдашних вокалистов и отстаивая свое любимое «московское акающее» произношение как «самое нежное», не делает заметной разницы между буквой и звуком. Разумеется, «искусные певцы» имеют все основания «отстаиваться», как можно дольше тянуть звук «а» при пении. Буква А для них не играет никакой роли, поскольку пение осуществляется голосом, а не письмом. Невозможно «тянуть голосом» написанный на бумаге маленький чёрненький значок.
Но не в этом дело. Научная терминология всех наук, и языкознания в частности, была в XVIII веке в России совсем не разработана. Ломоносов как раз создавал ее. А между «звуком» и «буквою» и западноевропейские ученые путались еще долго после ломоносовских времен. Я говорю об этом лишь потому, что до конца книги мне придется еще не раз цитировать великого холмогорца. И если вас удивит не вполне точная языковедческая или грамматическая терминология его, не смущайтесь: я объяснил вам причины этого.
Я вспомнил о Ломоносове вот почему. Среди его произведений есть длинное и весьма примечательное по поэтическому мастерству стихотворение, посвящённое, как это ни неожиданно, вопросу о двух возможных способах выражения на письме того русского звука, который и в наши дни изображается при помощи буквы Г.
В конце 40-х годов XVIII века Василий Кириллович Тредиаковский, один из самых образованных людей своего времени и далеко не бесталанный литератор, написал «Разговор между чужестранным человеком и российским об ортографии старинной и новой». В сочинении этом автор между другими темами касается и двойственного произношения в современном ему русском языке буквы Г: церковно-книжного — фрикативного, и народно-русского — взрывного. Для того чтобы слова с этими двумя разными «г» читались каждое по-своему правильно, Тредиаковский предлагал обозначать оба звука особыми буквами. Для фрикативного южнорусского звука он предлагал сохранить старый добрый «глаголь», «пошлое» же народное «г» означать впредь при помощи какого-либо нового и специального знака. Этот звук и этот знак, по его мнению, следовало бы называть «га».
Ломоносову это предложение показалось (и вполне основательно) орфографической ересью. Он уже в те времена чувствовал, что фрикативный звук «г» несвойствен русскому языку, и если еще встречается в произношении полудюжины церковных или близких к ним слов, то вот-вот будет и в них вытеснен всенародным «г»; нет смысла оберегать и охранять его, устраивать для него как бы заповедник под защитой второй нарочитой буквы.
Несомненно, Ломоносову приходилось неоднократно вступать с Тредиаковским в устные перепалки при частных и официальных встречах. Думается, и сам предмет их ученого спора представлялся ему, с одной стороны, несколько «забавным», а пожалуй, и более забавным, чем «серьёзным». Потому-то он и решил облечь свои возражения не в форму торжественной академической речи или сухой письменной отповеди, а превратить их в остроумно построенный «стихотворный фельетон», как назвали бы мы это теперь.
Вот оно, это удивительное «ортографическое» произведение.
Я бы советовал сначала прочесть это стихотворение про себя, затем громко и внятно продекламировать его вслух — почувствуется незаурядная звучность и внутренний ритмический напор, — а потом уж постараться ответить на вопрос: что хотел сказать автор и каков поэтический фокус этого своеобразного двадцатистишия.
Сосчитайте все входящие в него слова. Их окажется около 120. Два десятка междометий, союзов, предлогов, местоимений можно не принимать в расчет. Остаются существительные, прилагательные и глаголы. Теперь я попрошу вас прикинуть: какое число из них не содержит в себе буквы Г? Таких слов окажется всего 12. Они сосредоточены в трёх последних строках стихотворения — там, где автор от эксперимента переходит уже к обращению к читателю. Следовательно, почти сто слов, составляющих основную ткань стихотворения, отличаются тем, что каждое из них заключает в себе искомую букву Г.
Стихотворение написано, чтобы воочию доказать нелепость и ненадобность внесения в русскую гражданскую азбуку лишней буквы.
Любопытно, скольким же из этой почти сотни Г надлежало бы, с позиций Тредиаковского, произноситься как «глаголь» и какому их числу пришлось бы получить произношение «га», обозначаемое знаком «γ»?
Даже с некоторыми натяжками допуская фрикативное произношение «г» для всех слов, имеющих хотя бы некоторый оттенок церковности, мы можем признать высокое право «содержать глаголь» трем, ну пяти из ста слов стихотворения — «богини», «богатства», «господа»… и обчелся. Остальные же 95–96 не допускали никаких колебаний. Уже и во дни Ломоносова с каждым годом становилось все труднее определить, когда же наступает необходимость и для каких именно слов годится тредиаковское искусственное «га».
Тредиаковский (а ещё более А. Сумароков) в своей полемике с помором-учёным склонны были обвинять его в переносе на русский литературный язык его родных, архангельско-холмогорских диалектных норм, в том числе и произносительных. Они были не правы.
Ломоносов, родившийся в окающей языковой среде, отлично знал, как «нежна в языке великая Москва», и ориентировался именно на московский говор как на базу для общерусской литературной речи. Он не склонен был принимать и традиционно-книжного произношения окончаний родительного падежа — «-ого», «-аго», «-яго», ибо «великая Москва» давно уже произносила «с калашнава ряду». Но в такой же степени он не принимал и псевдостарославянского фрикативного «г» в русских или окончательно обрусевших словах.
Доказывая свою правоту, Ломоносов прибегнул к не слишком часто встречающемуся способу аргументации, к тому, что теперь принято именовать «стилистическим экспериментом». Надо сказать, он победил в споре, и его упорный и хорошо «подкованный» противник Тредиаковский перестал настаивать на необходимости своего «га».
Д
Д — пятая буква русской азбуки и четвертая почти во всех европейских языках с латинскими алфавитами. Почему такое расхождение?
Ну как же? Ведь именно здесь, в самом начале азбуки, нашим предкам пришлось, так сказать, несколько «порастолкать» древнегреческие буквы, чтобы между «бетой» и «гаммой» вставить необходимую славянам В… Счёт на одну букву и сбился…
На восьмом месте буква Д стоит в арабском алфавите; у турок, пока Кемаль-паша не перевёл их на латинскую азбуку, Д была даже десятой буквой. Говорят, что в письменности эфиопов она двенадцатая.
Вы уже хорошо знаете: знак, выражавший звук «д» у древних финикийцев, назывался «далет». Греки не ведали другого значения, кроме чисто азбучного «дельта», но это имя буквы превратилось в новое слово, зажило своей жизнью, и биография его далеко не дописалась ещё до конца. Славяне придали в стародавнее время своей букве Д имя «добро».
Мы теперь зовем эту букву просто «дэ». Многие европейские языки знают её под этим же именем. Англичане, как обычно, держатся в особицу: у них она «ди», как, впрочем, и у итальянцев. У англичан то преимущество, что они даже в своих словарях указывают, что «ди» — название четвёртой буквы алфавита — имеет и множественное число — d's. Мы не можем поставить «дэ» во множественное число. Мы можем просто сказать: «Три, семь, сто дэ»… Но не имеем права выразиться: «Эти ды», «тех дэй…»
Впрочем, это относится не ко всем буквам и не ко всем языкам. У нас вполне возможно множественное число (да и все формы склонения) тех названий букв, наших и иноязычных, которые имеют облик существительных «ять», «ижица», «аз», «икс», «игрек», «зет».
Буква D в различных языках выражает, естественно, не вполне идентичные звуки. У французов, немцев, итальянцев ее произношение более или менее совпадает. Англичанин же звук, выражаемый их D, произносит при несколько ином положении кончика языка. Мы прижимаем его к зубам, англичанин — к альвеолам, чуть ближе к нёбу.
Впрочем, виноват: это уже фонетика, мы же занимаемся графикой письменной речи.
И всё же любопытно, что даже в русском языке буква Д выражает не один звук, а несколько разных. Иностранец справедливо не понимает, чем первый звук слова «дом» похож на первый звук слова «динь-динь» и почему? В обоих случаях стоит одна и та же буква. Ему, чужеземцу, нелегко уловить общее в этой паре звуков «д» и «дь», потому что в его языке согласные, как правило, такими парами не выступают.
«Всё странче и странче!» — скажет нерусский человек словами Алисы из восхитительной сказки Льюиса Кэролла, увидев одну и ту же букву Д в таких двух словах, как «падок» и «падкий». В первом случае он согласится: «Да, — «дэ». Во втором — разведет руками: «Что вы?! «Тэ!».
Да что там нерусский! Каждый из нас может вспомнить в своей жизни такую «нерусскую орфографическую полосу», когда он получал «колы» за слово «медведь», написанное через Т, и за «воД Дак так».
Положение иностранцев и первоклашек в данном случае различается ненамного, потому что орфография наша хотя и принимает в расчет законы русской фонетики, но отнюдь не ориентирована всецело на нее, а ограничивает свое подчинение ей и историческим и морфологическим принципам. Именно поэтому буквы в ней вовсе не обязаны в точности соответствовать «своим» звукам.
Вслушайтесь повнимательнее в словосочетания: «наш кот жирнее вашего» и «наш кот зажирел». В обоих случаях вы услышите не «тж», «тз», а довольно ясное «дж», «дз».
Всё то, что я вам до сих пор рассказывал, с нашей с вами точки зрения, лежало вроде бы как в пределах «ожиданного». Не поразительно, что Д может звучать иногда как «т», порою как «дь».
Но вам, наверное, покажется странной причудой венгерских орфографистов, когда они свой звук «дь», скажем, в весьма распространенном венгерском имени «Дьердь» изображают при помощи букв G и Y… Да, да, вот так: GY! Д и G — что между ними общего?!
Ничего-то вроде как ничего, но вот вспоминается мне маленький москвич, которого звали Андрюшка. Он свое имя произносил как «Андрюшта» и все К выговаривал как «т», а все Г — как «д».
— Что это ты, Андрейка, у самой воды сидишь? — спрашивали его, пятилетку, нянюшки и мамушки в Крыму, в Евпатории.
— Дляжу на доризонт! — серьезно отвечал головастый мальчуган, даже не поворачиваясь к спрашивающему…
Впрочем, я снова углубился в область фонетики, царства звуков; между тем они должны интересовать нас лишь косвенно…
В математике живёт строчная буква d, превратившаяся в слово. В геометрии этой буквой издавна обозначают угол в 90 градусов, «прямой». Почему? Именно потому, что он «прямой», а по-французски droit сокращенно — «d». Но, может быть, это все же не слово, а обычное сокращение, инициал? Отнюдь, и этому можно привести прямые доказательства. В учебниках математики вы легко найдете выражения «два d», «угол, меньший d» и тому подобные. Вдумайтесь, ведь они ничем не отличаются от выражений вроде «два пуда», «рост, меньший метра» и так далее. «Пуд», «метр» — существительные. Но тогда ясно, что существительное и «дэ».
Е
К букве Е я приступаю с трепетом. Для звука «е» у нас есть целая палитра буквенных обозначений: Е, Э и упраздненный полвека назад «ять». Значит, есть о чем поговорить, тем более что о каждой из этих букв можно сказать то, чего не скажешь о её напарнице.
Шестая буква и в кириллице, и в гражданской азбуке нашей — русская буква Е восходит, по-видимому, к двум разным источникам — к латинской букве Е и к древнегреческой букве Ε.
Есть, впрочем, и другие предположения.
В кириллице буква Е означала 5. В глаголице она выглядела скорее как наше Э и значила 6.
Теперь сравните слова «съесть» и «лает» — буква Е имеет тут силу «йе». Это раз.
Сравните их с такими, как «лесть», «шесть», «семя», «время». Здесь тот же значок передаёт уже чистый звук «е» без всякой йотации. Звучит он чуть-чуть по-разному после мягких согласных «ле», «се» и после «ш», у которого не бывает мягких вариантов. Вот вам две, а может быть, даже две-три разновидности «е».
Возьмём слова «тёмный», «мёд», «прольёт»… Буква, которую я здесь обозначил как Ё, чаще пишется как Е. Слово «темный» вы всегда прочитаете как «тёмный». Значит, четыре! — наше Е может передавать уже и звук «о» после мягкого согласного, начиная слово — «ёлка», после гласного — «поёт»… Было бы совершенно резонно, если бы я разбил эти рубрики на ещё более мелкие разделы: одно дело Е после Ш или Ц; несколько иной оттенок слышится в Е, когда оно попадает в положение после 3 и других согласных, после гласных и т. д.
Но не то существенно. Я говорил досель только о слогах с «е», стоящих под ударением. В безударном слоге буква остается той же, но звук, выражаемый ею, может оказаться совершенно иным.
Если Е попало в слог, предшествующий ударному, а стоит после мягкого согласного, оно прозвучит «и-подобно» — «сосновые лиса», «дружная висна». Следуя за твердым согласным, Е примет «ы-образный» оттенок — «красная цына», «неверная жына».
В прочих же безударных слогах, не предшествующих прямо ударному, слышится не «е» и не «и», а редуцированный гласный — в одних случаях похожий на тот, что когда-то передавался буквой Ь, в других, реже, выражавшийся буквой Ъ.
Сказанного достаточно, чтобы понять суть дела. Буква, созданная для передачи какого-то одного звука, бывает вынуждена выражать множество других звуков, то похожих, а то и непохожих на «её собственный». Что говорить, изучения письма это облегчить не может!
А ведь в нашей азбуке и сейчас живут три знака, как-то связанных с представлением о «е», — Е, Ё, Э, — а совсем недавно их было и четыре.
Какой смысл в таком пустозвонном излишестве?
Как только я вспоминаю о букве Э, мне приходит на память предреволюционный поэт Игорь Северянин.
Он обожал Э. Эта буква представлялась ему воплощением одновременно и «иностранности», «аристократичности», и «эстетической изысканности» тех слов, в которых она встречалась. Грубо говоря, ему казалось, что если слово «изба» написать «эзба», то в воображении тотчас возникает не то «шалэ березовое», не то «элегантное ранчо».
Свои «поэзы» он наполнял бесчисленными Э:
У него было стремление те слова, которые и без того были в нашем языке иммигрантами, еще сильнее обыностранивать, заменяя в них вульгарные звуки «е» изысканными «э» — «сирэнь», «фантазэр» и даже «шоффэр».
Ему думалось, что буква Э появилась у нас недавно, и — а что, если бы? — может быть, даже заимствована с изящного Запада и именно для передачи западноинтеллигентского звука «э».
Это всё результат провинциального невежества. Я уже говорил, что буква, похожая на Э, означала Е в глаголице. Фигурировала она и в кириллице, правда, не повсеместно. В XVIII веке из-за Э шли непрерывные ссоры между знатоками: большинство считало его лишним знаком.
Выражать Э должно было бы, по замыслу его приверженцев, открытый русский звук «е» без йотации. До революции так, собственно, и писалось множество слов — «кашнэ», «портмонэ», порой даже «тэма» или «тэзис». Нужно это было, чтобы предотвратить появление в таких словах мягких согласных. Чтобы «не» в слоге «кашнэ» выговаривалось не так, как в слове «мнение». Однако после революции мы отказались от этой «указки», и никто не стал (из людей образованных) выговаривать «кашне» как «покажь мне». Э осталось лишь в начале слов, для изображения нейотированного «е». Но и здесь мы допускаем чрезвычайный и неразумный разнобой. Возьмём греческие имена собственные.
Спрашивается, почему мы пишем «Эней», «Эол» и «Эгист» и в то же время — «Египет», а не «Эгипет»? Ведь все имена эти начинаются по-гречески с дифтонга «αι» — Αιγοπτος и рядом Αιγιςτος, Или почему одни слова с приставкой «эпи-» — «эпиграмма», «эпитафия», «эпилог» — мы по-русски пишем через Э, в то время как для других, начинающихся с той же приставки, применяем другие написания: «епископ», «епитрахиль»? Слова эти церковного характера, встречаются они крайне редко, однако, если нам надо их написать, мы пишем их через Е, а не через Э.
Укажу тут, кстати, на одну орфоэпическую ошибку, встречающуюся довольно часто. Не стоит, уподобляясь Игорю Северянину, произносить букву Е в некоторых иностранных словах как «э» — «рэльсы», «пионэры». Иногда просто жалко становится, что исчезла буква существовавшая в кириллице. Я бы с удовольствием писал «пионер» через эту букву, чтобы только не слышать, как слово это, происходящее от французского pionnier, у нас произносят вроде северянинского «шоффэра».
Буква Е имеется во всех западноевропейских алфавитах. Интересно, какие звуки она там выражает?
Представьте себе, «какие угодно» и «никакие». Что я хочу этим сказать? Сейчас объясню.
Я раскрыл англо-русский словарь на букве Е и читаю встречающиеся там слова. Вот слово evening. Я замечаю в его составе два Е. Но рядом с этим словом значками фонетической транскрипции указано, как его произносят англичане. Оказывается, «ивнинг». Ни одного «е»! На месте первого — «и», взамен второго — полное отсутствие звука. Неожиданность?!
Перевёртываю несколько страниц и натыкаюсь на слова bee — пчела и beef — бык. Как же нужно произносить это удвоенное Е английского языка? Как наше двойное «и» в слове «пиит»?
Ничего подобного: пишется ЕЕ, выговаривается «и» — «би», «биф». Но это долгий звук «и», а может встретиться и краткий.
В любом английском словаре вы встретите уйму таких слов, где как «а» будет читаться буквосочетание «EA» — dealer — купец, beacon — бакен. А вдруг попадается вам слово beauty — красота, так тут это ЕА прозвучит уже как «йот» перед «у» — «бьюти».
Что же, в Англии звук «э» никогда не обозначается буквой E?
Вот слово bed — кровать. Его смело произносите просто как «бэд», с ясным «э» между двумя согласными. Вы обрадовались: есть и в английском языке заповедные уголки простоты и ясности!
Не обольщайтесь чрезмерно. Вот слово bad — плохой. Как прочтёте его? Вы не ошибётесь, если произнесёте здесь букву А как чистый звук «э»…
Спросите у англичанина, в чем дело. Он разъяснит вам: «э» здесь не совсем одинаковые: одно, скажем, «э», а другое «Э»… Непонятно? И не будет понятно, пока вы не заговорите по-английски, как англичанин…
Тот же английский собеседник назовет вам сотни слов, в которых Е (особенно на концах слов) не передает решительно никакого звука. Скажем, battle — бой, house — дом пишутся с Е на конце, а на наш слух читаются без какого бы то ни было гласного после последнего согласного: «бэттл», «хауз».
Теперь обратимся к французскому языку. Там встречается именно то самое Е, которое сейчас уже почти не изображает никакого звука, так называемое «э мюэ» — немое Е. Некогда оно превосходно звучало. Последним воспоминанием об этих временах является своеобразная, едва ли не одному только французскому языку (если говорить о хорошо известных нам европейских языках) свойственная особенность. Все эти немые Е и сейчас обретают голос в стихах или в пении.
Не откажу себе в удовольствии вспомнить «стишок», который я вынужден был заучить и петь в первый день своего пребывания в детской группе французского языка в 1906 году. Первые строчки его звучали так:
Что означало «Летай, летай, крошка-мушка, но не садись на мой палец!». Если бы эти же самые слова вы вздумали сказать не «стихами», а «прозой», пришлось бы выговорить их так:
Легко подсчитать, что из восьми Е (конечные немые Е по-французски если и произносятся, то так, что я рискнул изобразить их здесь в виде Ё) шесть в обычной речи почти исчезают. А вот в стихах эти немые звуки начинают слышаться.
В сравнении с англичанами дела буквы Е у французов проще. Правда, и их Е имеют в звучании весьма различный характер. Но французская орфография снабдила обучающегося письму разными «костылями» и «поручнями» — надстрочными и подстрочными знаками, передающими произношение.
Вот я беру медицинский термин érythème — эритема (воспаление кожи). В слове три Е.
Над первым — клинышек справа налево; это закрытое «э». Над вторым — клинышек слева направо: здесь открытое «е». На конце Е без всякого знака, и так как оно стоит именно на конце, то это и есть немое Е; условно говоря, оно «не произносится».
Это далеко не все разновидности буквы Е. Существует еще Е с крышечкой, передающая открытый протяжный звук «е». Часто встречается эта буква там, где французское слово произошло из какого-либо иноязычного (скажем, латинского) слова, причем один или несколько звуков выпали, исчезли. Так, например, французское tête — голова, произошло от народно-латинского testa — черепок, буква S исчезла, но о ней (и о соответствующем, открыто-протяжном произношении) напоминает крышечка над Е.
Все языки «мудрят», выражая звуки речи на письме. Два разных звука «е» существуют в венгерском языке, не считая еще третьего, диалектного. «Краткий очерк грамматики шведского языка», приложенный к одному из наших шведско-русских словарей, насчитывает в этом языке пять разных «е»: две пары «е» различаются только долготой и краткостью, и одно сходно с русским звуком «е» в слове «рéжет»…
Остановимся на этом. Всех Е мира, и даже одной Европы, в небольшой книге всё равно не переберешь. А чтобы покончить с этой буквой, спрошу у вас странное: что означает буква «е»?
Буква «е», ответит любой учебник математики, есть число 2,718 281 828 459 045…
Это предел, к которому стремится выражение при неограниченном возрастании n.
Полагаю, что теперь вам всё стало понятно.
Теперь о букве уже умершей, о букве «ять».
Вам, моим читателям, быть может, невдомек, почему некогда «мы срубили ели» надо было писать через Е, а «мы ели уху» через «ять». Ведь слова «ели» и «ели» там и тут выговаривались абсолютно одинаково.
Многим казалось, что буква эта выдумана без всяких причин и надобностей академиком Гротом, главным орфографом XIX века, специально на погибель малышам первоклашкам и что никакого смысла в ней нет и никогда не было.
На самом деле всё обстояло «и так и не так»…
Начнём с «не так».
Составители кириллицы отнюдь не хотели никого затруднять. Они стремились всячески облегчить славянское правописание. К греческому алфавиту они добавляли лишь такие буквы, которые выражали реальные звуки славянских языков. Такой была буква «ять», хотя по многим причинам мне было бы трудно описать сейчас, каков же был звук, ею обозначаемый. Свидетельства об этом чересчур неясны, а магнитофонов в IX веке, увы, не было.
Можно думать, что у древних руссов буква «ять», например, обозначала звуки, не совсем одинаковые в разных частях Руси: что-то вроде долгого звука «е» или дифтонга «ие». Во всяком случае, вот из чего ясно, что за буквой «ять» стоял некогда реальный, «звучавший звук». Он был, если угодно, «е-подобен», но и отличен от «е».
Есть длинный ряд русских пишущихся через Е слов, которые имеют в родственных русскому языках близкие соответствия:
По-русски / По-украински / По-польски
Степь / степ / step — «степ»
Лес / лic / las — «ляс»
местечко / мicтечко / miasteczko — «мястечко»
Как видите, в некоторых случаях нашей букве Е у соседей соответствуют: Е и I — в украинском, А и IA — в польском. Что это — случайно или «по закону»?
По точному закону: там, где в родственных языках на месте нашей Е тоже стоит Е, там до революции у нас также полагалось писать Е. Там, где в украинском мы видим I (у поляков — IE, IA), в русском языке до 1918 года стояла буква «ять». Не кажется ли вам, это очень убедительно доказывает, что в старину звуки «е» в русских словах «степь» и «лес», «белый» и «тепло» были неодинаковыми? А значит, и существование «ять» рядом с Е когда-то было фактом, совершенно осмысленным.
Когда-то… Вот в этом всё дело. В произношении исчезло различие между двумя «е», а споры о том, сохранять или не сохранять в азбуке букву «ять», тут-то и начались. Да и не удивительно: никто не будет препираться по поводу надобности буквы, выражающей реально звучащий звук. Вам не придет в голову требовать удаления из нашей азбуки букв Р или С?
Но довольно скоро споры по поводу «ятя» (как и «ера») приобрели характер совершенно неорфографический. Передовой ученый-языковед И. Бодуэн де Куртенэ писал про профессора «охранительных воззрений» А. Будиловича, что малейшее желание изменить хоть что-либо в незыблемых правилах российской грамматики ему и ему подобным представлялось «чуть ли не покушением на три исконных устоя русской государственности», а гак тогда именовали «православие, самодержавие, народность» или «бога, царя и отечество».
И вот мы, гимназисты тех лет, заучивали на память, где нужно писать Е, а где «ять». Ничем, кроме зубрежки, нельзя было заставить себя знать, что «мед» надо писать через Ё или через Е, а «звезды» невесть почему через «ять». Чтобы облегчить наши страдания, педагоги составляли «Таблицы слов с буквой «ять», а сами мы в порядке самодеятельности кропали разные мнемонические стишки:
Блђдной тђнью бђдный бђс
Пролетђл с бђсђды в лђс.
Рђзво по лђсу он бђгал,
Рђдькой с хрђном пообедал,
И за бђлый тот обђд
Дал обђт надђлать бђд!
Разумеется, далеко не пушкинской силы строки, но нам и такие были душеспасительны.
Странно: не в XVIII столетии, а когда уже революция сметала со своего пути даже самые тяжкие препоны и преграды, находились фанатики, чудаки и истерики, которые в 1917 и 1918 году завывали на похоронах «ятя» и Ъ.
Вспоминается мне в журнале «Аполлон» статья некоего В. Чудовского, который от имени дворянства и интеллигенции отдавал народу все поместья, все капиталы и все привилегии, но заверял, что и он сам, и его единомышленники «ни за какие блага мира не отдадут «ятя» из того языка, которым писал Пушкин». Гордую букву «ять» он тщетно сулил начертать на своих знаменах… Повезло этой букве.
Или не повезло? Правила правописания буквы «ять» изобиловали ошибками и укоренившимися издревле безграмотностями. Появление «исключений», когда через «ять» писалась не нынешняя Е, а Ё, — результат невежества, ставшего традицией. Известный лингвист С. Булич ещё в начале XX века доказывал, что, скажем, в слове «секира» корень совершенно не тот, что в слове «сечь», и что его надо бы писать через Е.
Считалось, что в иностранных именах и названиях, кроме нескольких, «ять» не употребляется. Я же, помню, получил «неуд», написав «Вена» через Е. Я твёрдо знал, что «Венеция» пишется через Е; тогда почему же «Вђна»? Где логика?!
Чтобы закончить всё о «яте» в не столь мрачном тоне, вспомню одну чисто орфографическую «выходку» прелестнейшего из писателей и людей конца XIX века — Антона Павловича Чехова.
В одном из писем брату Александру Павловичу он расписался на языке Овидия и Цицерона:
«Tuus fratђrъ А. Чехов».
Современному «нелатинизированному» читателю трудно оценить тонкую прелесть этой языковой «игры». Tuus по латыни «твой». «Брат» по-латыни — frater. Чехов же, вставив совершенно отечественный «ять» в совершенно латинское слово, поступил как раз «в обрат» Игорю Северянину с его вездесущей буквой Э. Ему желательно было показать: «Вот мы, хоть и из таганрогских мещан с тобой, а в люди вышли. Но не забывай своих корней, дорогой. Ты не frater, a fratђrъ». Как он мог показать, что мысленно произносит это слово на российский, таганрогский лад? Написать через Е? А брат достаточно образован, чтобы спокойно прочитать это Е как «э». И вот он пишет «ять». А уж перед ним-то букву Т никак нельзя было произнести как твёрдый согласный.
Ё
Поговорим и о букве Ё. Она седьмая в азбуке нашей, но заняла это место лишь в самом конце XVIII века, когда её предложил ввести в наш алфавит Н. Карамзин.
Что в ней самое примечательное? Я бы сказал, то, что во многих справочниках и учебных пособиях о ней говорится: «Написание буквы Ё не является обязательным».
Не проверял, но не думаю, чтобы во всех алфавитах мира существовало много «необязательных к написанию» букв.
Удивительно? Чем же? Какие звуки представляет буква Ё?
Звук «о» после мягких согласных: «лёд», «мёд». Но столь же часто вы можете встретить и «мед», «лед»…
Звукосочетание «ио» в начале слов «ёрш», «ёлка», «ёж». Таких слов в нашем языке не больше дюжины. Но, написав «ерш, еж, елка», вы никого этим не «убьёте»…
Что же получается? Выходит, и спорить не о чем? Спорят!
«Литературная газета» за вторую половину декабря 1971 года. Большая статья В. Канаша «Точки над ё» посвящена доказательству необходимости этой «необязательной» буквы. «Надо только ставить там, где должно быть «ё», две точки. Обязательно ставить, вот и всё!»
Так призывно кончается эта статья, а уже во втором номере этой же газеты за 1972 год мы можем прочесть: «…сферы художественной деятельности, объединЕнные понятием декоративное искусство». И ведь, уверен, никто не прочтет эту фразу на пушкинский лад:
Что же получается? Спорить или нет? Может быть, букву Ё сохранить только для изображения в русском языке фамилии немецкого писателя Генриха Бёля?
Нет, я преувеличил. В иностранных именах и фамилиях, включающих звук «о», сохранение нашего Ё не только уместно, но и разумно. Но рядом с чудовищной занятостью других букв, работающих и за себя, и за своих соседей, такая загрузка напоминает приработки, которые берут вдобавок к пенсии тихие старички. Было сказано: Ё ввел Карамзин. А до него? До него, как это ни странно, применялась лигатура: связка букв I и О, соединенных сверху дужкой. Выходило нечто похожее на «ю краткое». Я допускаю, что для ряда слов такой знак имел бы больше рациональных оснований, чем наша система изображать звукосочетание «йо» при помощи буквы Е с двумя точками над нею. Ведь пишут же аптекари на своих этикетках «иодная настойка», хотя по общим правилам надлежало бы здесь применить написание «ёдная настойка», не так ли?
Но тут я должен покаяться: я зря приравнял букву Ё к тихому старику. И уж кому-кому, а ребятишкам «от пяти до восьми» она, пожалуй, все же необходима.
Собственному внуку я решил дать прочесть мою книгу для детей «Подвиги Геракла», вышедшую во времена, когда Детгиз обходился без Ё.
Бойкий мальчуган мгновенно нарвался на ловушку: «Мы видим, как жили греки… Мы узнаем, о чем они мечтали…» Он не смог решить, как надо читать, «узнаем» или «узнаём»? Давайте же настаивать, чтобы книжки для самых маленьких всегда издавались с буквой Ё, придуманной хорошим писателем и неплохим ученым — Николаем Михайловичем Карамзиным.
Ж
Происхождение буквы Ж можно считать загадочным. В финикийском и греческом алфавитах такой буквы не было, да она была там и ни к чему. В этих языках не было столь «варварского» звука.
Не знал ни звука «ж», ни буквы Ж и латинский язык. Очевидно, первоучители славян придумали её наново; однако при таких работах мысль чаще всего ищет для себя какого-то образца.
Любопытно: знак для звука «ж» появился и в кириллице, и в глаголице. В глаголице он выглядел так .
Некоторые палеографы выводят его из перевернутого коптского знака. Я не рискну ни согласиться с ними, ни возразить им… Думается, что кириллическая буква Ж к этому знаку отношение вряд ли имела.
Ж обыкновенно звучит как твёрдый согласный. Но так было не всегда. Известно, что процесс отвердения согласных начался примерно во времена Мамаева побоища. Во дни Ивана Калиты буква Ж еще передавала мягкий шипящий звук. Мы сейчас можем произнести «жь», но практически им никогда не пользуемся: слово «жизнь» мы выговариваем как «жызнь». Долгий мягкий звук «ж» звучит у нас лишь там, где в корнях слов возникают сочетания «жж» и «зж» — «мозжить», «жужжать».
Причудливая и сложная форма буквы Ж радовала древних переписчиков рукописных книг: они изощрялись, изобретая все новые, еще более орнаментальные рисунки для этой литеры…
В европейских языках звук «ж» (а поэтому и буква для него) нередко отсутствует. Немец, слабо владеющий русским языком, на месте нашего «ж» произносит «ш». Поэтому русские писатели (французские тоже), изображая плохо говорящих по-русски немцев, вкладывали им в уста слова «ушас», «шарá», «шáтва»…
Даже в тех языках Европы, которые знают звук «ж», нет для него специальной буквы. Французы и англичане изображают свои «ж» и «дж», используя латинскую букву J, звучавшую у римлян как «й» (в английской азбуке она именуется «джей», у французов «жи»), или же при помощи буквы G. Во Франции теперь это «жэ», в Англии — «джи».
Может быть, эти буквы в данных языках окончательно «же-фицировались»? Нет. Возьмём несколько слов, близких в обоих языках и по смыслу, и по звучанию:
Франция / Англия
газ — gaz — «газ», / gas — «гэс»,
гонг — gong — «гонг», / gong — «гон»,
грация — grace — «грае», / grace — «грэйс»,
Это одно. Другое дело:
гигант — geart — «жеан», / giant — «джайент»
дворянин — gertilhomme — «жантийом», / gentleman — «джентлмэн»
Видите? Только перед буквами Е и I буква G принимает на себя роль нашего Ж. Во французских словах jour — «жур» — день, Jean — Жан она уступает место букве J. Аналогично в Англии. Имя Джордж пишется George, а Джон — John.
Поэтому наш русский Иван в Германии становится Иоганном, во Франции — Жаном, в Англии — Джоном, в Испании — Хуаном…
Всё это заставляет задуматься: уж не образовался ли звук «ж» в этих языках позже других и не «опоздал» ли он, так сказать, к распределению латинских букв между звуками?
Такой разнобой в прочтении одних и тех же латинских знаков в разных языках ведет к своеобразным «обязательным» ошибкам произношения при изучении языков-соседей. По разным конкретным поводам появляется множество произносительных ошибок, заставляющих посмеиваться друг над другом.
Немец, повстречав француза Жана, обязательно назовет его Шаном, а столкнувшись с его именем в документах, станет звать Яном. Звук «ж» ему и незнаком, и «неподсилен», букву же J он знает прекрасно, но именно как «йот».
Наоборот, француз, увидев имя героя испанских новелл Don Juan, обязательно прочтёт его не как Дон Хуан, как следовало бы по-испански, а как Дон Жуан. Так как до русского слуха имя это дошло через французских посредников, то и мы даже сейчас чаще всего именуем неукротимого гидальго Дон Жуаном, а уж назвать по-пушкински Дон Гуаном какого-нибудь покорителя сердец районного масштаба так и просто никто не вздумает: «донжуан», и только…
В польском языке есть два звука «ж», один изображается буквой Ž, другой возникает в неожиданных на наш вкус случаях, когда буква R предшествует букве Z. Такое буквосочетание прочитывается как «ж»: rzeka — «жéка» — река. Перед глухими и после глухих согласных оно произносится как «ш».
У чехов звук «ш» изображается буквой Ž; такой же знак применяется для звука этого и в латышском языке. В шведском, датском, финском, норвежском, испанском и в ряде других языков нет звука «ж», нет и букв, которые бы его выражали.
Кстати, не следует думать, что отсутствие того или иного звука может поставить язык в ранг «более бедных», сделать его менее выразительным. В азбуке современного финского языка есть буква В. В том финско-русском словаре, которым я пользуюсь, слова на А занимают 26 страниц; их примерно около тысячи. Слов на В всего 58 — все до одного заимствованные. Но сказать, чтобы это помешало финнам создавать великолепные литературные произведения, нельзя, — одно существование «Калевалы» нацело опровергает это…
Нет, сила языка отнюдь не прямо пропорциональна числу знаков и уж тем более — числу букв, какие содержит его азбука.
З
В кириллице и глаголице было два знака, передававших звук «з». Но это неточно. И вот в каком смысле.
В ранние времена нашего гражданского шрифта буква З была скопирована с первого из этих двух знаков. Он именовался «зело» и по очертаниям своим восходил к греческой «стигме», малоупотребительной букве, образовавшейся из так называемой «дигаммы».
«Зело» в кириллице походила на латинскую букву S и выражала звонкую пару к глухому спиранту «с», который мы с вами произносим в начале слова «звук».
В то же время «земля», следующая за «зело» буква, была копией греческой «дзеты». У греков она передавала особый звук — аффрикату «дз», похожую в какой-то мере на «dz» польского языка.
Предки наши в «учительных книгах» давали предписания, которые сейчас у нас вызывают или непонимание, или смех. Им они представлялись очень важными.
«Злобу всякую и злое и злых пиши зелом», — рекомендовал «Азбуковник» XVII века, связывая неясные для нас отрицательные понятия с этой буквой. Но одновременно он давал и другую директиву: «беззаконие» пиши «землей». Тут уже возобладали, по-видимому, орфографические представления.
Я завёл этот длинный разговор о двух вариантах буквы З в старославянской азбуке потому, что создатели «Азбуки гражданской» долго колебались, какую из этих букв избрать за образец. Сначала выбор пал на «зело» — возможно, сыграло роль ее большое сходство с западным S. Но затем, при внесении в 1735 году поправок и изменений в гражданскую печать, «зело» было заменено «землей». Сейчас, таким образом, мы продолжаем пользоваться при письме правнучкой не «стигмы», а прописной греческой «дзеты». В Греции она выглядела вот так — ζ. Из неё и возникли наши формы буквы З. Из неё же развился и «зэт» латиницы. Он почти утратил сходство с прототипом, но зато сохранил в некоторой неприкосновенности греческое имя «дзета».
По-видимому, некогда — но уже очень давно — «зело» могла быть знаком, выражавшим звонкую аффрикату «дз», парную к хорошо нам известной глухой аффрикате «ц», которая, по сути дела, является звукосочетанием «тс».
Я получил недавно несколько читательских писем. Меня спрашивали: по каким причинам на дисках телефонных аппаратов у нас буквы следуют так:…ГДЕЖИК? Почему отвергнута буква З?
Никакие языковедческие рассуждения и справки не приводили к решению этой загадки.
Пришлось позвонить инженеру, разбирающемуся в вопросах телефонии.
Ответ оказался проще, чем мне представлялось: «Чтобы букву З не путали с цифрой 3»…
В западноевропейских языках звук «з» выражается по-разному. Очень распространено обыкновение принимать за «его знак» букву S, когда она находится между двумя гласными звуками. Так, во французском слове basse, которое читается как «басс», и basque — «баск» за S следуют согласные звуки. Но, написав слово base, вы уже читаете S как «з» — даже идущий следом «немой» звук «е» приводит к озвончению. То же в других языках. Сравните английское слово crust — «краст» — корка хлеба, с cruse — «круз» — глиняный кувшин.
Я мог бы приводить примеры и из других языков, но всегда полезно отыскивать не только сходства, но и различия в орфографических традициях, в частности, с буквой S.
В немецком языке, например, она будет звучать как «з» во всех началах слов и слогов, где за ней следует гласный звук. Поэтому слово «солнце», начинающееся с буквы S, прозвучит:
в английском — sun — «сан»;
во французском — soleil — «солей»;
в немецком — Sonne — «зоннэ».
Итальянцы произносят S как «з» не только между двумя гласными звуками, но и перед звонкими и плавными согласными: «b», «d», «v», «g», «l», «n» и «m». Поэтому они выговаривают слово tesoro как «тэзоро», а слово sbieco — как «збьеко» — «кривой».
А у испанцев звук «з», вообще говоря, отсутствует. Но странное дело: переводчики с испанского в XIX веке должны были бы, казалось, знать это, и тем не менее во всех переводах «Кармен» главный герой этой новеллы, несчастный Jose, именовался Хозе.
Лишь теперь, в наших новых изданиях сочинений Проспера Мериме, можно прочесть: «А, дон Хосе, — промолвила она…» Прежде испанские имена приходили к нам через французское их произношение. Получался гибрид из французского Жозе и испанского Хосе…
Тем более что первыми исполнителями оперы «Кармен» были французы…
Вернёмся, впрочем, «к родным осинам». Наше З выражает, как почти подавляющее большинство русских букв, не один звук, а несколько. На концах слов и перед глухими согласными внутри слов оно служит знаком глухого свистящего «с». В русском произношении «подвоЗ» и «подноС», в написании вполне различающиеся, прозвучат совершенно аналогично друг другу.
Это затрудняет обучающихся нашему языку и письму иностранцев, в частности французов, у которых согласный в любом месте слова сохраняет свои свойства глухоты и звонкости; у французов слово chose — «шоз» — «вещь» произносится с тем же звонким «з», какое вы можете встретить и в слове «шозэтт» — вещица.
Заучив русское слово «воз» со слуха, француз произведет от него родительный падеж «воСа», а узнав в письме, что множественное число от этого слова «воЗы», он будет «не по-русски» произносить «воз» так, чтобы в нем «слышалась» конечная буква З.
Никогда не следует, начав изучение чужого языка, ни считать, что он «труднее нашего», ни, наоборот, что наш — ого! — «самый трудный». Каждый язык незатруднителен для того, кто овладевает им с детства. Точно так же каждый язык, изучаемый во взрослом периоде жизни, будет удивлять несходством с вашим родным языком.
Последнее в связи с З. Случается у нас, что, сталкиваясь со своей ближайшей соседкой — буквой Ж, оно начинает и звучать как «ж»: «изжить» — «ижжить».
На первый взгляд это может показаться вам странным: что общего между свистящим «з» и шипящим «ж»?! А ведь, по-видимому, общее есть; недаром маленькие дети с одинаковой охотой говорят то «ёзык» вместо «ёжик», то «жмея» вместо «змея»…
Впрочем, это все опять уже фонетика!
Икаэль и Эно
Запоминать бессмысленное нагромождение составных частей куда труднее, чем уложить в памяти какой-нибудь организованный ряд — вещей, понятий, слов.
Неважно, по какому принципу организованы предметы. Нужно только, чтобы чувствовалась упорядоченность. На этом и построена «мнемоника» — искусство запоминать всевозможные совокупности.
Говорят, что мнемоника, механизируя запоминание, приносит больше вреда, чем пользы. Не знаю, так ли это. Удачно найденный мнемонический прием может действовать долгие годы и десятилетия.
В 30-х годах, работая в детском журнале «Костер», я придумал литературную игру с читателями; она называлась «Купип» — «Комитет удивительных путешествий и приключений». По ходу игры читатели-ребята должны были звонить в редакцию, номер телефона которой был 6-44-68.
Мне не хотелось, чтобы мальчишки и девочки просто записали этот номер. Я придумал для них мнемоническую фразу-запоминалку: «На шесте (6) две сороки (44); шест и осень (68)». Художник нарисовал картинку: две сороки, мокнущие на шесте в вихре листопадного дождя.
Не скажу, как запомнили редакционный телефон мои юные читатели, но я вот уже больше тридцати пяти лет могу «ответить» его, хоть разбуди меня ночью.
Точно так же в любой момент могу я назвать и число «пи» с десятью десятичными знаками, потому что в возрасте двенадцати лет по учебнику А. Киселева «Геометрия» заучил такие две пренеприглядные французские стихотворные строки:
Там же было и составленное по-русски творение преподавателя казанской гимназии Шенрока.
Если вы выпишете подряд число букв в каждом слове этих виршей, у вас и получится 3,1415926536…
Заучиванье порядка букв в любом алфавите — занятие достаточно трудное для каждого, кто не обладает феноменальной памятью: ведь в этой последовательной цепи знаков нет решительно никакого объединяющего принципа. Между тем во всех изучаемых нами азбуках число букв колеблется от 28 или 30 в настоящее время до 42–43 в старину.
Когда возникает надобность запомнить беспорядочную последовательность, хочется придумать какие-то облегчающие приемы. Например, триаду букв «И-К-Л» заменить словом «ИсКаЛ»; сочетание «П-Р-С-Т-У» — словом «ПРоСТотУ»…
Соблазнительно предположить, что уже поднадоевшие нам названия букв в алфавитах были измышлены именно с этой целью.
Многие ученые соблазнялись такой догадкой.
Пушкин в одной из своих заметок вспомнил филолога Николая Федоровича Грамматина, неплохого слависта, исследователя «Слова о полку Игореве». Помянул он его, однако, только для того, чтобы отмахнуться от его домыслов.
«Буквы, составляющие славянскую азбуку, — пишет Пушкин, — не представляют никакого смысла. Аз, буки, веди, глаголь, добро etc. суть отдельные слова, выбранные только для начального их звука. У нас Грамматин первый, кажется, вздумал составлять апоффегмы из нашей азбуки. Он пишет: «Первоначальное значение букв, вероятно, было следующее: аз бук (или буг!) ведю — т. е. я бога ведаю (!), глаголю: добро есть; живет на земле кто и как, люди мыслит. Наш он покой, рцу. Слово (λογος) твержу…» и прочая, говорит Грамматин; вероятно, что в прочем не мог уже найти никакого смысла. Как всё это натянуто! Мне гораздо более нравится трагедия, составленная из азбуки французской…»
Пушкин лишь мимоходом коснулся выдумок Грамматина и не затруднил себя указаниями на прямые нелепости в его рассуждениях. А они были недопустимы для филолога. Ни «букы» нельзя было превращать в «бог», ни форму глагола «веди» превращать в «ведаю». Ни в одном случае глагольная форма — имя буквы и та форма, которую притягивает за волосы Грамматин, не совпадают. Слепленные при помощи таких ухищрений «изречения» не выдерживают критики.
Можно допустить: а что, если именно так, неловко и неудачно, подгоняли под подобие «мыслей» имена букв древние, жившие за века до Грамматина, педагоги? Но крайне маловероятно, чтобы можно было в одной явной бессмыслице отыскать скрытую вторую бессмыслицу при помощи логических рассуждений. Грамматинские «апоффегмы» возникли не «когда-то», а именно его трудами и в начале XIX века. Пушкин же, со своим «абсолютным слухом» художника слова, уловил фальшь и мягко упрекнул её автора.
Пушкина было почти невозможно обмануть во всём, что касалось слова. Но еще очень долго ученые продолжали возвращаться к намерению облегчить запоминание названий букв путем создания таких, грамматинского типа, «азбучных истин».
Так, примерно через столетие после Грамматина, в 1914 году, профессор Юрьевского, теперь Тартуского, университета Н. Грунский в «Лекциях по древнеславянскому языку» писал:
«Можно думать, что первоначально, например — в азбуке, послужившей в этом случае образцом для греческой, названия были придуманы с целью скорейшего изучения азбуки: каждой букве давались названия, начинавшиеся с этой буквы, причем названия соединялись по смыслу в одну картину, в один рассказ…»
Наверное, вам и без подсказки ясны слабые места этого рассуждения. Нельзя говорить о финикийской азбуке как образце для отбора греками «значимых» имён для их буквенных названий: ведь финикийский алфавит был воспринят греками, так сказать, «целиком» с тамошними, непонятными грекам наименованиями-словами. Греки никак не могли свести финикийские названия букв в «картину», потому что слова, слагавшиеся в неё, были бы для них «пустыми звуками».
Никак нельзя, как это делал Грунский, и приравнивать то, что произошло между Финикией и Грецией, со случившимся затем между греками и славянами. У финикийцев были полные смысла наименования букв, но греки усвоили только их звучания, оставив смысл за бортом. Славяне и не подумали заимствовать греческие буквенные имена, не имевшие реального значения, а вместо них придумали имена свои собственные, «значимые», но ничем не связанные с греческими.
При всём желании никак нельзя поддержать почтенного профессора, когда он уподобляет друг другу совершенно разные явления:
«Как в греческом алфавите каждая буква имела свое название, так и буквы древнецерковнославянской азбуки: «аз», «буки»… Каждое из этих названий (отчасти и теперь) сохраняет какой-либо смысл…»
Названия букв у греков никакого смысла не сохраняли. Значит, и принцип называния был в обоих случаях совершенно иным.
Допустил Грунский (и многие в его время) и еще одну существенную неточность; она объясняется состоянием науки о древностях Востока в те дни. Он забыл, что в финикийском алфавите дело начиналось с иероглифики.
Первоначально знак «алеф» был рисунком и звался «алефом» не для того, чтобы с него можно было начинать то или другое слово, а потому, что он и на деле изображал голову бычка, тельца.
Грек же назвал свою первую букву «альфой» не потому, чтобы слово это напоминало ему какой-либо предмет или понятие, а просто потому, что слово «альфа» было созвучно со словом «алеф», для грека абсолютно беззначным.
Таким образом, если названия букв в тех алфавитных системах, где они существовали, и имели некогда мнемонический характер, то, во всяком случае, характер этот возникал не в момент изобретения алфавита, а значительно позднее. Всё это могло быть только лукавым притягиванием названий букв к тем или другим словам и понятиям (или слов и понятий к буквам). Настаивать на обратном было бы так же разумно, как уверять, что человек, вычисливший в давние времена число «пи» до десятого десятичного знака, сознательно подгонял их к числу букв в словах стихотворения, составленного казанским учителем Шенроком.
Но самая идея — подкрепить изучение азбуки той или иной мнемонической подпоркой, — бесспорно, привлекательная идея. Она пленила в какой-то степени и самого Пушкина, так трезво отбросившего азбучные фантазии Грамматина.
Правда, на сей раз речь шла не о русской азбуке, а о латинской, в которой не существовало традиции связывать буквы с какими-либо значимыми словами. Во-вторых, никто не пытался в этом случае выдавать связную «картину», основанную на наименованиях букв азбуки, за измышляемую во времена создания римской письменности или при ее приспособлении к надобностям галльского, позднее романского или франкского языков. Сочинителю французской «алфавитной трагедии» удалось то, чего не смог достигнуть Грамматин, — добиться изящества и чисто французской ироничности в самой выдумке своей.
Современные ученые склонны не так уж сурово, как Пушкин, расценивать попытки Грамматина. Они указывают на существование древнейшей из известных старославянских молитв X века, так называемой «азбучной молитвы» Константина Болгарского, построенной именно на значениях названий букв. Но ведь Пушкин не отрицал теоретической возможности создания духовного или светского произведения, в котором бы так или иначе обыгрывались эти нарицательные значения букв кириллицы. Он констатировал только, что у Грамматина такая попытка получилась неудачной.
Слабость Грунского не в полном ниспровержении возможности построения тех или иных, мнемонического характера словосплетений на основе азбук — финикийской, греческой или славянской. Его слабость в том, что он полагал возможным видеть начало всех этих алфавитов в такой филологической игре, тогда как мы знаем, что они создавались иными приемами. Финикийский и греческий — наверняка! Итак, о какой же «трагедии» говорит Пушкин? Вот она.
Le Prince Eno.
La Princesse Ikaёl, amante du Prince Eno.
L'abbè Pècu, rival du Prince Eno.
Ixe, Igrec, Zede, gardes du Prince Eno.
Le Prince Eno, la Princesse Ikaёl, l'abbè Pècu, gardes
Eno: Abbeè! cèdez…
L'abbè: Eh! F…
Eno (mettant la main sur sa hache d'arme): J'ai hache!
Ikaël (se jettant dans les bras d'Eno): Ikaël aime Eno (Us s'embrassent avec tendresse).
Eno (se retournant vivement): Pecu est resté? Ixe, Igrec, Zède! prenez m-r l'abbé et jettez-le par les fenêtres.
Принц Эно.
Принцесса Икаэль, возлюбленная принца Эно.
Аббат Пекю, соперник принца Эно.
Икс, Игрек, Зед, стража принца Эно.
Принц Эно, принцесса Икаэль, аббат Пекю, стража.
Эно: Аббат, уступите…
Аббат: Чёрт!
Эно (налагая руку на секиру): У меня секира!
Икаэль (бросаясь в объятия Эно): Икаэль любит Эно (они нежно обнимаются).
Эно (с живостью обернувшись): Пекю остался? Икс, Игрек, Зед! Возьмите аббата и бросьте его в окошко.
Как видите, соблюдены все три классических единства — времени, места и действия. Неудивительно, что Пушкин, прочитав во французском журнале эту забавную безделушку, улыбнулся, запомнил ее и сохранил для нас среди своих записей.
Автор «Икаэль и Эно» весьма небрежно обошелся с французской азбукой. Он опустил все буквы, которые содержатся в ней между нужными для его целей — «жи», «ю», «ве», поскольку с ними ему было «делать нечего». Надо отдать ему должное, с остатком он распорядился весьма остроумно. Возьмите французскую азбуку и произнесите подряд все входящие в нее названия букв так, как произносят их, изучая алфавит, маленькие французы:
а, бе, сэ, дэ, э, эф, жэ, аш, и (жи), ка, эль, эм, эн, о, пе, кю, эр, эс, тэ (ю, ве, дубль ве), икс, игрек, зед.
Как видите, «трагедия» получается как бы по волшебству сама собой. Даже трудно укладывающиеся в текст сочетание «э» и «эф» послужило материалом для растерянного восклицанья аббата…
По личному опыту знаю, что «Икаэль и Эно» очень облегчает положение того, кому приходится в каких-либо целях изучать французский алфавит.
Разумеется, не каждой азбуке и не во всех случаях «мнемоники» так везет. Во-первых, данную «трагедию» сочинял веселый и остроумный человек. Не будь он остроумным, ему не подвернулась бы вовремя под горячую руку идея превратить три последние буквы в трех гвардейцев-охранников, поскольку уже давно названия этих букв во Франции равносильны выражению «трое неизвестных». Во-вторых, чистая случайность, что сложенные «поездом», «вагон за вагоном», буквенные названия французской азбуки сами собой образуют такую смешную пьесу.
Попробуйте подогнать наш азбучный букворяд «а, бе, ве, ге…» к какому-нибудь осмысленному отрывку русской речи, и вы убедитесь, что для этого нужно быть гением.
Допустим, вы проявите гениальность или примените компьютер, который переберет для вас все возможные комбинации… Чего? Слогов!
А ведь тому, кто захотел бы построить рассказ, драму или сонет из названий букв кириллицы, пришлось бы иметь дело не со слогами, а со словами. Возьмите карандаш, бумагу и превращайте на досуге в связный рассказ такой набор слов:
я, буква, знай, говори, добро, есть, живите, весьма, земля, — и вы почувствуете, что это занятие не из самых успокоительных.
Вот почему я весьма сомневаюсь, чтобы дело когда-нибудь происходило так, как оно рисовалось Грамматину, Грунскому и другим их единомышленникам.
И
Вам сейчас хорошо: вы знаете букву И, а рядом с ней несколько похожий на нее азбучный знак Й. Знак этот, надо прямо сказать, изображает звук, весьма отличный от передаваемого обычной буквой И.
Вряд ли кому-либо неясно, каков именно звук, для выражения которого придумана буква И. Сказав, что фонетики определяют его как нелабиализованный гласный верхнего подъема, я вряд ли многое прибавлю к тому, что вы с детства «понимаете» под звуком «и».
Хуже было лет шестьдесят назад мне и всем моим ровесникам, еще нетвердым в грамоте мальчишкам.
В нашем распоряжении были тогда целых четыре буквы для звука «и»: И, I, Й и V. Укажите, какая фонетическая разница в словах «Mip» — вселенная и «мир» — спокойствие? Слово же «мνро» — благовонное масло писалось через «ижицу». «Ижица» встречалась в дюжине богослужебных терминов, которых вы, я уверен, никогда и не слыхали: «νпакой» — священное песнопение, «νпарх» — правитель области, «νпостась» — воплощение…
Как же мы, тогдашние малыши, услышав слово «инок», могли сказать наверняка, через «ижицу» оно пишется или нет?
Откуда была на нас такая напасть? Откуда они взялись, все эти буквы?
Буква И в кириллице имела внешность Н, свидетельствуя тем самым, что она вела свой род от прописного варианта греческой «эты» или «иты», которые писались как Н, а читались как «и».
В разное время наши учёные определяли звук «и» то как краткий узкий нёбный гласный, то как передний закрытый негубной. Точно такой же звук выражала и буква Н кириллического алфавита.
В системе буквенных обозначений чисел И знаменовало 8, поэтому её и называли «и восьмеричное». Титул сей следует запомнить.
Хорошо известно, что почти не существует букв, которые во всех случаях своего написания передавали бы один и тот же звук. Так и буква И. Нередко мы ее спокойно читаем как «ы» (после твёрдого согласного «жывот», «шырина»). Фонетисты отмечают и куда более тонкие отличия: по их мнению, безударный «и» и «и», стоящий под ударением, — не один и тот же звук. Одно дело «битый», другое «битòк».
Простое, или «восьмеричное», И носило в кириллице название «иже». Это слово значило «тот, который, кто». Странное имя для буквы, но приходится признать — не страннее, чем «како» или «глаголь».
Конечно, и до 1918 года каждый образованный человек понимал, что в названиях романа «Война и мир» и журнала «Мир божий» буквы И звучат одинаково, что здесь один и тот же звук.
А писалось в первом слове «и восьмеричное», во втором — «и с точкой». Почему — можно было исторически объяснить. Ответить «зачем» — было немыслимо.
Но даже в счете буквы эти разнствовали. И значило 8, I — 10. Отсюда и их названия.
Форма буквы I была такой потому, что она происходила не от «иты», а от греческой «йоты», родоначальником которой был финикийский «иод». «Йота» писалась в виде палочки и передала свою внешность нашей букве I с точкой.
В русской фонетике не было решительно никаких реальных причин «содержать» на потребу звука «и» две различные буквы, и грамматикам приходилось пускаться на разные хитрости, чтобы определить каждой «должность» и «место работы», которые не вызывали бы междоусобиц.
Даже такой простой, казалось бы, вопрос, как правописание заимствованных, чужеязычных имен и названий мест. Некоторые из них, начинающиеся со звука «и», за которым следует гласный, изображались при помощи букв, предназначенных для передачи йотованных гласных. Имя «Иануарий» всегда писалось и выговаривалось как «Януарий». Имя «Иулия» изображалось так только в церковных текстах, «миряне» писали и произносили его как «Юлия».
Но тут же рядом существовало имя «Иисус», которое писалось с I и И: «Iисус». Наконец, существовали имена, поддававшиеся и такому, и иному написанию и произнесению: «Яков» и «Иаков», «Iапет» и «Япет»…
«Честней всего» вела себя буква Й, «и с краткой», как она значится в словаре Даля, или «и краткое», как её предпочитал именовать законодатель нашего правописания в XIX веке академик Я. К. Грот.
Й
Й — буква, которой в русском письме обозначались в разных случаях два совершенно разнородных звука.
Если вы, не мудрствуя лукаво, заглянете в XIX том Большой Советской Энциклопедии, то прочитаете там, что в системе русского письма Й обозначает неслоговой гласный (отнюдь не согласный среднеязычный фрикативный «j», с которым его часто неточно сопоставляют).
Но, раскрыв трёхтомную «Грамматику русского языка», вы сможете увидеть там фразу о том, что в ряде случаев буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают сочетания согласного «й» с последующими гласными, а выше этого несколькими строками столкнуться с распределением русских фонем на 6 гласных и 41 согласную, причем в ряду этих последних обнаружится и «й».
Да так оно и есть на самом деле, ибо в одних случаях, когда мы встречаем букву Й в словах «мой», «твой», «май», «чай», она выражает краткий неслоговой гласный «й», в других же — ну, скажем, в имени английского графства Йорк или арабского государства Йемен — передает бесспорный согласный «йот».
Впрочем, не будем вмешиваться в споры между фонетистами, да еще в споры такого формального свойства, у нас и своих забот хватает! Вообще-то говоря, мы должны были бы писать подобные названия примерно так: «государство Емен», «Еллоустонский парк». Однако, что-бы осуществить даже такую скромнейшую азбучную реформу, понадобились бы и постановления самых высоких государственных и ученых органов, и миллионные расходы. Позволим уж Й самозванно замещать буквы Е, Ё, Ю, Я, где это вошло в обычай. Тем более что таких слов немного. В БСЭ их всего 59. Шесть из числа географических названий СССР (нерусских), 53 — относятся к зарубежным топонимам или понятиям, заимствованным из чужих языков. Так «пусть называются!» — как говорил Хлестаков.
Из всех мною перечисленных русских букв Й в некотором роде «Иван, родства не помнящий». В кириллице никакой буквы Й не было. Её ввели в употребление только в 1735 году. При этом до самой революции буква Й была каким-то полупризнанным знаком. Ни в «Толковом словаре» В. Даля, ни в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Эфрона, естественно, нет такого раздела: «Слова на букву Й». У Брокгауза за названием сибирской речки «Iя» сразу же следует буква «К».
Впрочем, это, пожалуй, разумно: русских слов, начинающихся с неслогового гласного звука, нет, а чужие слова можно написать и без него. В том же томе БСЭ, где содержится справка о букве Й, некоторые иноязычные (японские) географические названия даются сразу двумя способами: «Йоккаити» и «Еккаити»; «Йонаго» и «Енаго». Непонятно только, почему «Йокосука» не удостоилось написания «Екосука».
Теперь рассмотреть осталось одну только «ижицу».
Откуда взялась эта буква на нашем азбучном горизонте?
У греков, кроме упомянутых «иты» и «йоты», от которых пошли И и I, существовал ещё «ипсилон». Выглядел он как U или Υ. Привычней всего видеть его в значении знака для звука среднего между «и» и «ю» (но таким «ю», как в слове «бювар»).
Мы, передавая теперь этот звук, чаще всего ставим на его место букву И, а в началах слов, чтобы отметить греческое придыхание, даже буквосочетание ГИ — «гидротехника», «гипноз».
В старых же церковных писаниях тут ставилась «ижица» — греческий ипсилон, чтобы сохранить греческую традицию. Вот почему некоторые слова — «мυро», «сυнод» — писались через «ижицу» и тогда, когда «ипсилон» не был начальной их буквой.
Не в одной только русской азбуке звук «и» передавался столь сложно. Вот небольшая новелла из одной языковедной книжки научно-популярного склада.
Русский, удивлённый трудностями английского правописания, будучи в Англии, обратился к профессору языковедения, фамилия которого пишется Knife, а выговаривается «найф». Почему?
— …Буква К перед N у нас вообще не выговаривается, а буква I выговаривается как «аи».
— Всегда? — удивился Иванов.
— Что вы! Совсем не всегда! — с негодованием вскричал профессор. — В начале слов она произносится как «и».
— Но в началах слов — тут уж всегда так?
— Ни в коем случае! Например, слово iron — железо произносится как «айэн». Ice — лёд — «айс». Я хотел сказать: в начале некоторых не чисто английских слов. Но их у нас добрая половина. Поняли?
— Отчасти… Как же у вас означается звук «и»?
— Звук «и». Да проще простого: тысячью различных способов. Иногда, как я уже вам доложил, через обыкновенное I (мы его для большей понятности называем «ай»); например indigo.
Иногда через букву Е (ее-то мы и переименовали в «и»). Вот возьмите слово essence — сущность, в нем первая буква Е читается как «е», а вторая и третья никак не читаются. Если же вы возьмёте производное слово essential — существенный, то в этом случае первая Е будет читаться как «и», вторая — как «е», а как будут читаться I и А в последнем слоге, мы даже и говорить не станем… Впрочем, иногда, разнообразия ради, вместо I пишется ЕЕ. Слово sleep — спать вы хорошо сделаете, если выговорите просто «слип». А то еще для этого же с удобством применяется сочетание из букв Е и А (букву А мы, чтобы не перепутать ее с другими, предпочитаем называть «эй»). Скажем, слово «шарик» — «бид» — мы напишем так: bead. Слово «дешевый» будет выглядеть как cheap — «чип».
Если этого вам мало, могу предложить букву Y, по-английски она зовется «уай», и слово beauty — «красота» прозвучит в устах англичанина как «бьюти»…
— Довольно, довольно! — обливаясь холодным потом, закричал Иванов. — Ну и правописание!
…Конечно, нам до 1918 года с изображением звука «и» хватало хлопот (сами подумайте: И, I, Й, V). Но с английскими сложностями их не сравнить.
Впрочем, можно кое-что и добавить.
В ряде ситуаций наша буква И может читаться как «ы». Так, весьма непоследовательно мы пишем рядом «цифра» и «цыган», «цыпленок» и «цимлянское»…
Недаром же один из героев Тургенева выговаривает слово «циник» как «цынык»!
На мой взгляд, следовало бы уже давно во всех русских и полностью обруселых словах вроде «цифра», «цыган» писать Ы, а не И. Но недопустимо переносить наши законы следования И — Ы за звуком «ц» на слова, явно заимствованные и уж тем более на иностранные названия и имена.
У очень любознательных читателей может возникнуть вопрос: а почему же все-таки, избирая в XVIII веке письменный знак для «й», остановились именно на И хотя бы и с «краткой»? Были ли тому какие бы то ни было основания?
Пожалуй, да. Наша буква Й, как указывают некоторые специалисты, которые относят ее к неслоговым гласным и не считают знаком для согласного «йот», отличается в произносительном отношении от И лишь еще более суженной артикуляцией; все же остальное расположение органов речи при произнесении звуков, выражаемых обеими этими буквами, остается сходным.
Тогда естественно, что в качестве знака для неслогового гласного избрали именно «и с краткой», а не «о с дужкой» или не «а с двумя точками».
Гораздо менее резонно (если стоять на этой точке зрения) поступили те ученые, которые в 1758 году разбили букву И на И, I и «ижицу».
Мне вздумалось напомнить вам некоторые «поэтические образы» и языковые тропы, связанные с буквой I, теперь уже почти никому, кроме тех, кто имеет дело с книгами старой печати, не знакомой.
Во французском языке, да и вообще во всех пользующихся латиницей языках образ «и с точкой» и «точки над и» вполне осмыслен и законен. Когда А. Мюссе говорит, что «над пожелтевшей колокольней луна подобна точке над «и», каждый его читатель представляет себе единственно возможную форму латинского строчного i. Образ Мюссе сохранил полную силу свою и для читателя — нашего современника, если он западноевропеец.
Когда Достоевский писал, «неужто нужно размазывать, ставить точки над «и», он тоже мог уверенно рассчитывать на «со-понимание» своего тогдашнего читателя: для того времени образ «и десятеричного» был законен, привычен и близок. Но интересно, как сильна языковая инерция. С момента, когда была поставлена последняя «точка над «и» в русском письме, прошло уже по меньшей мере 45–50 лет (некоторые «староверы» еще в 1925 году продолжали писать «по-дореволюционному»), а мы и сейчас преспокойно и охотно говорим и пишем: «пора поставить точки над «и», призывая к самым решительным выводам из какого-либо факта. Не то удивляет, что такая метафора срывается с языка или пера у стариков вроде меня, переставивших за первые 18 лет своей жизни сотни тысяч этих пресловутых точек. Нет, весьма спокойно употребляют тот же образ и совсем молодые люди, в глаза не видевшие «и десятеричного», да нередко и не настолько хорошо знающие латиницу, чтобы слово «и» вызывало в их представлениях образ i…
Суд российских письмен
У Ломоносова есть неоконченное, к сожалению, произведение, широкой публике мало известное. То, что великий русский энциклопедист не довел эту работу до конца, тем огорчительней, что в ней он намеревался свободно и полно выразить свои взгляды на живые соотношения между русскими буквами и русскими звуками.
То, что дошло до нас от этого произведения, носит, по обычаям того времени, достаточно замысловатое, а по нраву самого автора — довольно ироническое заглавие: «СУД РОССИЙСКИХ ПИСЬМЕН ПЕРЕД РАЗУМОМ И ОБЫЧАЕМ ОТ ГРАММАТИКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ».
Как обещано заглавием, в «пьесе» действуют «персоны» — Обычай, Разум, Грамматика и, кроме них, Сторож, а также множество букв российской азбуки, занятых, наподобие бояр еще очень памятной в ломоносовские времена допетровской Москвы, местничеством, самолюбивыми перекорами и соперничеством по части возможно более «хлебных» и «тёплых» мест в правописании.
Суд начинается с того, что важный вельможа Обычай, заслышав некий шум за сценой, спрашивает у Сторожа: в чём там дело?
Оказывается: «Пришла боярыня, которая завсегда в белом платье с чёрными полосами ходит и одно слово говорит десятью».
По этому краткому, но выразительному описанию и Обычай и Разум — оба судьи — легко догадываются: «Никак госпожа Грамматика?»
Уже самое начало показывает, что жанр, избранный Ломоносовым для своего сочинения, есть жанр отнюдь не академически строгий, а скорее развлекательный.
Сразу же выясняется, что у обоих Судей нет особой «предилекции» к этой даме.
«Куда какая досада! — говорит Обычай. — Она, право, весь день проговорит, да и того на одно правописание недостанет.
Наверное, устами Обычая говорит тут сам Ломоносов. Не то чтобы он был противником науки Грамматики; ему надоели бесконечные споры по грамматическим пустякам с его оппонентами Тредиаковским и Сумароковым, да и с более мелкими чинами «де Сьянс Академии».
«На одно правописание? — подхватывает ироническое замечание Обычая Разум. — Нет, сударь, она имеет такое особливое искусство, что об одной запятой может написать великую книгу…»
Обычай горько жалуется, что «непостоянная госпожа Мода» мешает ему «удержать и утвердить в прежнем своем добром состоянии, что от меня зависит», «стараясь все то развратить или и вовсе отменить, что я уже давно за благо принял»…
…Сторож меж тем у входа ведет борьбу, не пуская в «зал суда» просительницу. Грамматика рвётся в суд, утверждая, что ее «дело есть нужное». «Пусти её», — приказывает Разум.
Добившись своего, Грамматика требует вмешательства Суда в дела её подчинённых и подданных — «письмен». Положение тревожно: «Письмя письменем гнушается, письмени от письмене нет покою, письмена о письменах с письменами вражду имеют и спорят против письмен».
«Мы, — не без яда отвечает Разум, — знаем, сударыня, давно твои спряжения и склонения».
Обычай приказывает: «Пожалуй, говори как водится…»
Выясняется грустная картина.
«Российские письмена давно имеют между собою великие распри о получении разных важных мест и достоинств. Каждое представляет свое преимущество. Иные хвалятся своим пригожим видом, некоторые приятным голосом, иные своими патронами, и почти все старинною своею фамилиею. Сего… их несогласия… прекратить невозможно».
Судьи, естественно, хотели бы увидеть тяжущихся, но со слов Грамматики выясняется, что это сложно. Буквы «существуют в разном образе». На улице можно видеть их «в широких шубах, какие они носят в церковных книгах», а в горнице «предстанут в летнем платье, какое надевают они в гражданской печати». Буквы, оказывается, могут ходить на ходулях, «как их в старинных книгах под заставками писали или как и ныне в Вязьме на пряниках печатают». Буквы… «наденут на себя ишпанские парики с узлами, как они стоят у псалмов в начале, а женский пол суриком нарумянится…». «Наконец, если видеть желаете, как они недавно между собою подрались, то вступят (они) к вам, сцепившись как судьи одним почерком крепят указы…»
Эту цитату я привёл, чтобы показать вам, что Ломоносов здесь имеет в виду именно буквы, а никоим образом не звуки русской речи. Его интересует именно графика, а не фонетика языка, и все споры, которые придется разбирать Разуму и Обычаю, суть споры графические, «азбучные», а не фонетические.
Я уже говорил, что чёткое различие букв и звуков дело сравнительно недавнего времени; в старину эти понятия смешивались, и сам Ломоносов был в этом смысле «не без греха».
Но в данном случае никак нельзя заподозрить, чтобы, пишучи «буквы», или «письмена», ученый мог подразумевать звуки, с ними связанные. Он описывает разные стили и шрифты — церковных книг, гражданской печати, даже вяземских пряников. Он говорит о «буквах на ходулях» и о «нарумяненных суриком»; а ведь самое слово «миниатюра» когда-то по итальянски значило «заставочная, окрашенная суриком в красный цвет буква». В одном только случае он намекает, что «письмена» могут хвастаться «приятными голосами»: вот тут речь зашла о звуках, но видно, что Ломоносов четко отличает их от самих «письмен», рассматривая звуки лишь как атрибут этих последних…
Вот между письменными знаками и имел он в виду устроить «судебный процесс».
Огорчительно лишь, что как раз с того места, где «Суд» предложил ввести в зал тяжущиеся стороны, задуманное Ломоносовым произведение и претерпело крушение. От него остались лишь наброски сооружения, местами весьма любопытного и поучительного, местами — смешного. Приведу сохранившиеся фрагменты текста.
«Первый А хвалится первенством в алфавите: Аполлон — покровитель наук, начинается с А; жалуется на О, что он был у евреев только точкою и ставился при других литерах внизу; когда же греки по рассуждению своих республик малых с великими сверстали, то и его с нами сравнили…»
Понять эту претензию можно. Как мы уже, наверное, теперь хорошо помним, «алеф», предок греческой «альфы» и нашего А, был «правофланговой буквой» в азбучном строю. Другой вопрос, что в той древности он означал вовсе не «а», а совсем на «а» непохожий звук, притом не гласный. Этого ломоносовский Аз помнить не желает.
Буквы же, соответствовавшей О, у древних финикийцев не было, да и быть не должно было. Ведь финикийская азбука не знала знаков, передававших на письме гласные звуки. Вначале даже никаких намеков на существование их между согласными не делалось; позднее их присутствие стало означаться диакритическими значками, точками подбуквами… Видимо, на это обстоятельство и намекает заносчивый «потомок алефа».
Любопытен проскользнувший здесь по буквенному поводу намек на достоинства разных политических устройств. Ломоносов по меньшей мере без осуждения говорит о временах, когда греки «великих с малыми сравняли». Можно уверенно сказать, что безнаказанным такой намёк на демократизм республиканской Греции мог проскочить только в рассуждении о буквах.
Впрочем, Он тоже чванлив и самонадеян. «Я значу вечность, — это потому, что круг и яйцо считались в свое время символом вечности, — солнцу подобен, меня пишут астрономы и химики, мною означают воскресные дни, мною великолепен язык славенский, и великая и малая Россия меня употребляет».
Он говорит Азу: «Ты так презрен, что почти никаких российских слов не начинаешь».
По-видимому, Он получил неплохое филологическое образование: мы уже говорили о нелюбви языка русского к «а» начальному в словах. Он помнит, что в старославянском языке не существовало аканья, и все О произносились именно как «о» (хотя оканья там тоже не было). Знает он и о том, что звук «о» в равной степени широко распространен и в крайне южных и в крайне северных говорах восточнославянских языков, в том числе в Малой Руси, то есть на Украине.
Буква Буки гордо именует себя «второй персоной в стате» — в ранге, за что получав незамедлительный нагоняй от Грамматики, которая согласным отводит второстепенное значение и грозит за неумеренные претензии «штрафом». Тут же звучит и тысячекратно повторенное в дальнейшей полемике по поводу «твердого знака», ставшее афористическим и преисполненное иронии ломоносовское выражение «Немой место занял, подобие как пятое колесо!».
До упразднения «ера» из нашей азбуки оставалось ещё около ста семидесяти лет. Еще десятки и сотни профессоров и академиков будут доказывать не просто его «необходимость», но примерно такую же государственную, политическую опасность его исчезновения, как и по отношению к «ятю». А Ломоносов уже ясно увидел полную ненужность этой буквы во всех тех случаях, где она фигурировала именно как «твердый знак». Вполне возможно, что он и для разделительной функции «ера» придумал бы какое-нибудь изящное замещение.
Бурный спор происходит между Е и Ятем. Ять жалуется, что Е изгоняет его из «мħста, владħния и наслħдия», которые писались именно через ħ. «Однако я не уступлю! — кричит Ять. — Е недоволен своими селением и веселием, гонит меня из утħшения: Е пускай будет довольствоваться женою, а до дħвиц ему дела нет!»
Только в наше время, в 10-е годы XX века, возникло своеобразное явление — «занимательно-научная книга». А ведь в этот «Суд российских письмен» строгий и суровый ученый, которого никак уж нельзя было обвинить в небрежности по отношению к одному из самых ему дорогих предметов изучения, вводит как раз начало такого «занимательного» характера. Он не возражает даже, если невзыскательный читатель гоготнет над незамысловатой остротой: «букве Е — скучная жена, букве Ъ — весёлые и юные дħвы». Пусть смеются; лишь бы запомнили, что существует спор между учеными (не между буквами!) о надобности или ненужности двойного выражения звука «е».
Ломоносов находил возражения не только против «ятя», для которого видел все же некоторые исторические оправдания его существованию, но и против Э, этой «вновь вымышленной буквы». Он считал, что, раз уж мы и произносим Е на несколько ладов, не будет беды, если она же будет служить и в местоимении «этот», и в междометии «эй». А для чужестранных выговоров вымышлять новые буквы — весьма невыгодное дело!
«Шум между литерами. Согласные не смеют говорить без позволения гласных…»
Ремарка требует пояснения. Ломоносов, согласно пониманию того времени, не различает строго буквы и звуки. Именно рассуждая о буквах, считали тогда, что гласные мы можем называть сами по себе, а «со-гласные», как следует из их определения, только с помощью гласных: «бе», «ка»… На это и намекает автор.
А переполох продолжается: Ферт жалуется, что Фита его «от философии и от филис отлучает: пускай она остается со своими Θокой, Θадеем и Θирсом».
Фита говорит: «Я имею первенство перед Ф у Θеофана и Θеофилакта, и для того в азбуке быть мне после него невместно…».
Прозорлив был холмогорский крестьянин, родившийся «в уезде, где даже дворяне говорят неправильно», по свидетельству чванливого Сумарокова. В справочниках 1916 года пять Фадеевых и пятьдесят Федоровых — петроградцев показаны пишущимися через «фиту», а Ломоносову нелепость этой двойственности была ясна уже в середине XVIII века.
…Но «Суд» продолжается. Глаголь кичится тем, что, стоя в начале Грамматики (то есть слова «грамматика»), он вообще служит вместо латинской Н. Это намёк на те споры с Тредиаковским, которые завершились известным стихотворением «Бугристы берега».
Како плачется на свое изгнание отовсюду, кроме греческих календ: «вместо меня уже прибавляется Г: гъ богу, гъ дому»…
Ломоносов имеет в виду явление озвончения глухого согласного «к» перед звонкими согласными в русской речи. Но, судя по упоминанию «греческих календ», он думал также и о К латинского алфавита, которая уже очень давно уступила во множестве случаев свое место букве С. В латинских словарях моей юности под заголовком «К» можно было увидеть только два слова: эти самые «календэ» — календы, да позаимствованное у карфагенян наименование их столицы Karthago — Карфаген. Всё прочее писалось с С.
В главнейших европейских языках звук «к» в большинстве случаев выражается через С, а К тоже применяется только в словах чужеязычных, заимствованных. Это, вероятно, и понудило К заговорить о «греческих календах», тем более что выражение «отложить до греческих календ» по-латыни значило — до «после дождичка в четверг» или «до второго пришествия».
Наш жалуется на Иже, что оно часто наряжается в его платье. Этот «иск» юридически довольно сомнителен, а орфографически относится скорее к начертательной технике нашего письма, к делам типографским.
В середине XIX века среди других типографских шрифтов появился и такой, в котором поперечная перекладина буквы И стала постепенно приближаться к горизонтальному положению, делая букву все более похожей на Н. И теперь, читая книги тех дней, так набранные, мы испытываем некоторое раздражение глаз — Н и И путаются.
Видимо, самому Ломоносову этот шрифт не слишком нравился. В Архиве АН СССР хранится рукописный титульный лист его работы «Краткое руководство к риторике». Слово «риторика» начерчено там так:
Не исключено, что именно этот «проект титула» находился перед глазами у автора «Руководства» в тот миг, когда он, по-видимому сочувствуя букве Н, отзывался о новомодном переодевании платьев в «Суде письмен».
«С и З спорят между собою в предлогах». Это понятно. В ряде случаев, когда превратившиеся в приставки предлоги «из», «низ», «воз», «раз» оказываются перед глухими согласными, «з» утрачивает звонкость своего произношения. Тут-то между З и С, по-видимому, и возникает спор.
Этим и кончается дошедший до нас фрагмент «Суда российских письмен». Мне он представляется вдвойне поучительным. Во-первых, это удивительный, один из самых ранних образцов русской научно-популярной литературы, ведомой путем живого, художественного слова. Во-вторых, из него ясно, как непрестанно занимали Ломоносова проблемы грамматики, фонетики, графики родного языка, в какие глубокие и многозначительные частности этих разделов языкознания он готов был при первой же надобности внедриться.
Это был и глубоко ученый и в то же время чрезвычайно, объективный исследователь. Родившись в «окающем уезде России», где даже дворяне «говорили худо», он не стал защищать интересы «родных осин», а стал великим хвалителем московского аканья.
Но, столкнувшись с тем, что аканье имеет тенденцию усиленно расширять свои области, соблазняя «немного и невнимательно по церковным книгам учившихся» погрешать в писании, не выговаривая только, но и пишучи «хачу», «гавари», — он справедливо ограничивает власть аканья в письменной речи: «Ежели положить, чтобы по сему выговору всем писать и печатать, то должно большую часть России говорить и читать снова переучивать насильно».
К
Очень хотелось мне оставить для этой «буквенной» главки название «Икаэль» в честь той нежной французской алфавитной принцессы, с которой вы уже познакомились… Увы, нельзя! В латинской азбуке I непосредственно соседствует с К, а К с L. В нашей же между первыми вторглась буква Й (а в дореволюционной и I).
В «Суде письмен» мы слышали жалобы К на то, что его права узурпирует Г. Мы и впрямь нередко произносим скорее «г дикарям» нежели «к дикарям»; «г завтрашнему дню», а не «к завтрашнему».
Ломоносовское К чересчур обидчиво. Если в сочетании «к богу» «к» действительно превращается в «г», то стоит произнести без особой тщательности «друг ты мой любезный», тотчас же Г покорно принимает на себя звучание К перед глухим согласным. Так что они, в общем-то, квиты.
Вот ежели говорит человек с юга России или украинец, то в его речи «друг» может легко превратиться в нечто вроде «друх».
Буква К образовалась из славянского «како». Она — потомок греческой «каппы», древняя форма которой близка к финикийскому знаку «каф».
Звук «к» в большинстве европейских языков близко напоминает наш русский. Другое дело языки Востока, даже те, которые существуют в пределах СССР: во многих из них для разных модификаций звука «к» создано немало отдельных букв или пояснительных диакритических значков к буквам, принятым за основу. Но это уже область (весьма интересная) чистой фонетики; нам она неподведомственна.
На примере буквы К и звука «к» удобно показать некую «несовместимость» иных звуко-буквосочетаний в нашем языке. Беру всем известный «Словарь русского языка» под редакцией Д. Ушакова, один из лучших наших словарей.
Нахожу в нем слова, начинающиеся на буквосочетание КА. Ими занято 60 страниц — около 1800 слов. Слов на КЯ нет ни единого.
Слов на КО — примерно 1500. И опять-таки вы не встретите ни одного слова на КЁ.
Слов, начинающихся на КУ, — около 400. На КЮ всего пять (даже, собственно, четыре: «кювет» и «кюветка», «кюрасо» (название ликера и острова в Атлантике), «кюре» (французский священник), «кюринцы» (кавказское племя). Русских среди них нет ни одного.
Интересно проверить наличие таких же буквосочетаний в конце слов. Для этого есть «Зеркальный словарь русского языка» Г. Бильфельдта. Выясняется, что оканчиваются на КА — 4888 слов, на КЯ — ни одного. На КО — 194 слова, на КЕ — ни одного.
На КУ — 194 слова, на КЮ — одно слово «экю».
К сожалению, не существует словарей, в которых слова давались бы в порядке алфавита «середин слов». Но, думаю, и там результаты были бы теми же.
Значит, можно считать, в русском языке буквосочетания КЮ и КЯ отсутствуют? Не совсем. В литературном русском они встречаются в немалом числе заимствованных слов и особенно географических названий («Кюсю», «Кяхта» и т. п.). В самом русском языке их знают диалектологи. В ряде народных говоров у нас существуют винительные и родительные падежи на «-кю» («Ванькю, что ли, позвать?», «Чайкю попить?») и именные окончания на «-кя» на месте литературного «-ка» («Дунькя», «Сенькя»). Так что правило это знает свои исключения. Как это ни странно, единственное «исключение», когда сочетаются К и Ё, существует и в литературном языке: мы говорим и пишем «пеку — печёт», но «тку — ткёт»…
Как когда-то выражались испытанные остряки: «Неправдоподобно, но — факт!»
Перед «и», «е» мягкое «к» — вещь совершенно обычная. Значит, буква К у нас идет в качестве знака и для твердого, и для мягкого «к».
Довольно ёмкая по своей выразительной потенции буква! Для всех этих различнейших звучаний наша гражданская азбука обходится одной формой буквенного знака: К.
Не то на Западе. Французы знают три знака для «к». Буква С (она произносится как «к» перед гласными «а», «о», «и»). Во французских словарях вы встретите слова, начинающиеся и с K: kilogramme — килограмм, kakatoe — какаду, но все это не французские, заимствованные слова. Ряд французских слов требует для своего написания буквы «кю» — Q.
Чтобы понять, откуда такие сложности, придется вернуться к латинскому языку, от которого французский унаследовал очень многое, в том числе и азбуку.
Римскую букву С, когда я был гимназистом, нас учили читать как «ц». Доныне это отражается на нашем произношении латинизмов: мы говорим, «Цезарь», а не «Кесарь», говорим «цензура», «цензор», а не «кензура», «кенсор».
Теперь выяснено: в Древнем Риме почти на протяжении всей его истории С обозначало «к». Греки, передавая такие римские имена, как Cato или Cicero, писали их со своей «каппой» — К. Учёные в наше время пользуются доказательствами самого неожиданного свойства: богослов Лактанций, замечают они, некогда рассердился на невежду, который, «изменив в имени только одну букву», написал имя святого Киприана как Ко-приана (то есть превратил его из «жителя Кипра» в «вывалянного в навозе»).
Так как из «КИприана» сделать «КОприана» невозможно, не заменив греческий «ипсилон» на О, то очевидно, что первую букву в имени невежда не менял. Иначе богослову пришлось бы сказать: «изменив в имени две буквы».
А раз так, торжествуют латинисты, следовательно, в те времена и там и тут можно было обходиться буквой С. Cyprus — Кипр никогда через К не писался…
При этом вот что еще надо знать. Римляне взяли свой алфавит у греков. В греческом языке звуки «к» и «г» различались не так резко, как у римлян. Надо было измыслить какое-либо небольшое отличие для знака, изображающего «г», от знака, передававшего «к», то есть от С. Первоначально в Риме стали С писать двумя манерами: С следовало читать как «г», а — как «к».
Однако в те же времена переписчики начали букву К вырисовывать, как бы разбивая её на два элемента: . Многим стало казаться, что, значит, буква К так и состоит из двух знаков. И постепенно её, настоящую букву К, имевшую именно эту привычную нам форму, эти многие стали заменять «для простоты» сначала «угло-образным», а затем и округлым С. Для того же, чтобы различить все-таки звуки «к» и «г», придумали как бы «украшение» на С — G.
Наконец, буква Q у римлян служила только в одной, совершенно определенной ситуации — исключительно в сочетании с U. Это QU произносилось примерно как наше «кв»; надо только принять в расчёт, что их звук «в» звучал примерно так же, как жители южнорусских областей и Украины произносят его в окончаниях наших фамилий: Михалкоу, Бобрикоу…
Впрочем, бывали случаи, когда сочетание это могло прозвучать у римлян и как «к» плюс «у», если за первым U следовало ещё и второе. Так порой случалось. Глагольная форма sequuntur от глагола sequor — следовать — могла произноситься и даже писаться как secuntur — «секунтур».
Французский язык усвоил, слегка изменив, употребление всех этих букв.
Теперь во Франции С уже определенно произносится двояко, в зависимости от следующей за ним буквы (и, значит, звука). В пушкинской «алфавитной трагедии» вы можете найти тому иллюстрации. В слове prince С произносится как «с», а в фамилии Pecu — как «к»; иначе бы с этой фамилией не получилось бы «игры букв» — Пе-кю.
Где французы употребляют букву К, я уже сказал; но ведь и в латинском языке у буквы этой были ограниченные полномочия — два-три грецизма, и всё тут… Наконец, «ку», которая во Франции зовется несколько более мягко — «кю», и здесь тоже всегда предшествует U. «В отрыве» от этой своей напарницы она во французских словах не употребляется.
При этом, если буква С лишь как бы в некоторых случаях «просит» U о помощи, чтобы получить возможность зазвучать как полновесное «к» (вот, скажем, cuisse — бедро — пишется так, потому что без U оно зазвучало бы не как «кисс», а как «сисс»), то «кю» сама, без вспомогательного U нигде и никогда не появляется. Я бы затруднился даже сказать, что буква «кю» во французском языке означает то-то и то-то, такой-то звук. В отдельности она там просто как бы и не существует.
Однако случается, что она, со своим поводырем, да еще взяв на подмогу апостроф, образует «отдельное слово». Оно выражается тремя знаками, но произносится как один звук: «qu'». Этим словом-звуком перед словами, начинающимися с гласного, обозначается сокращенное que — что, чтобы…
В английском, итальянском, польском, венгерском и ряде других европейских языков, пользующихся латинским алфавитом, звук «к» обычно выражается теми же тремя знаками — К, С и Q, но правила, по которым они выполняют свою работу, от языка к языку меняются.
Л
Наше «эль», «люди» кириллицы, греческая «лямбда», финикийский «ламед» вышли из иероглифа, изображавшего, по-видимому, малоупотребительный в наши дни предмет — «стрекало», заостренную погонялку для волов. В кириллице оно значило — 30, в глаголице — 50 и по очертанию напоминало в ней очки или, скорее, пенсне с высокой дужкой — .
Звук, передаваемый Л, относится к разряду плавных. Буква Л обозначает твёрдый звук перед буквами Ы, Э, О, А, У и мягкий звук перед И, Е, Ё, Я, Ю.
То же самое происходит всюду, где Л сопровождает «мягкий знак»; в ряде случаев, перед гласными, он показывает также, что следующий звук «йотирован»: «белей», но «бельё» — «бельйо».
В других языках, где. существуют и твёрдый и мягкий звук «л», применяются разные способы и правила, по которым читающий может узнать, как буква, означающая его, должна произноситься.
У поляков, например, есть два знака:
«льок» локон
«локоць» локоть
Надо заметить, что польские орфографы остроумно применили этот принцип указания на твердость-мягкость именно к «эль», к высокой и длинной букве. Его не удалось бы приспособить ни к t (уже есть поперечная черточка), ни к п — что тут будешь перечеркивать? Там они пошли другими путями.
Сербы поступили в аналогичном случае со своим, тоже славянским «эль», на наш русский взгляд, более обыкновенно. Знаком смягчения для Л они выбрали «ерик», но слили его с Л в один сложный знак — лигатуру .
Так сербы везде и произносят: «земльом». «Произноси «земль-ом», — рекомендовал сам создатель современной сербской азбуки Вук Стефанович Караджич в своём знаменитом «Речнике».
В сербском же языке есть одна особенность в его обращении со звуком «л», для нас неожиданная и странная.
Язычный (не нёбный, не палатализованный, не мягкий) согласный «л», стоящий в конце слога, изменяется в «о».
В сербском языке есть уйма слов, в которых такое превращение происходит, но я укажу, пожалуй, только на один, зато всем знакомый, пример. На югославских картах вы увидите, что рядом со столицей страны напечатано ее имя «Београд». «Бео»? Да, ведь тут «л» (потому что название это означает все же «белый город») стоит в конце слога… Странно, неожиданно?.. А как много среди нас, русских, произносящих Л как краткое «у»: «уошадь», «гуупый».
Англичане отрицают существование у них двух «l» — твёрдого и мягкого. «Эл» у них всегда одно, но… Они соглашаются: «Перед «узкими гласными звуками» оно все же приобретает несколько более «светлый», а перед «широкими» — более «тёмный» оттенок».
Предостерегу вас от одной оплошности: встречая в английском языке двойное L, не думайте, что тут-то вы наконец, наткнулись на тщательно спрятанное «эл твёрдое». Ничуть: это L ставится в различных английских словах не по фонетическим, а по сложным, так сказать, «историко-орфографическим» основаниям.
Для нас неожиданно, что в Англии не в диковинку слова, в которых L стоит не только на концах или в серединах, но и в начале слов, обычно имен: Lloyd's Register; Lloyd George…
Это удвоение чисто графическое: английский язык не знает удваиваемых согласных звуков. Появление таких LL. чаще всего объясняется «валлийским» происхождением имён, фамилий и слов, в которых они встречаются. Государственного деятеля времен первой мировой войны Ллойд Джорджа так и именовали «маленьким валлийцем»; основатель всемирно известной страховой и регистрационной фирмы Э. Ллойд был, судя по всему, также выходцем из Уэллса…
Испанцы знают букву L — «эле» и буквосочетание LL, — «элье», которое произносится как наше «ль»: «Севилья» (Sevilla), «баталья» (batalla). Из испанского языка перешли во многие европейские и некоторые экзотические южноамериканские слова типа «льяно» (у нас чаще во множественном числе — «льяносы» — степные равнины в Южной Америке). В английский язык слово это перешло с двумя начальными LL. — llano.
…Раз уж тут дело зашло об Испании, то стоит упомянуть и еще одно «происшествие» с испанской двойной «элье». До сих пор я говорил о том, как ее произносят сами испанцы. А вот за океаном, в Южной Америке, слово caballo — лошадь — произносят не как «кавальо», а как «каважо». Намного севернее — на Кубе, в Центральной Америке оно же может прозвучать уже и как «кавайо»… Неисповедимы пути языков…
Есть и другие способы отличить мягкое и твердое («светлое» и «тёмное») «эль».
У венгров, как и у поляков, предназначены для этого два обозначения: L — для твёрдого и LY — для мягкого «л». Правда, у венгров эта добавочная буква Y, заменяющая наш Ь, употребляется для смягчения не только «л», но и других согласных. При этом следует иметь в виду, что полного тождества между нашими мягкими согласными и венгерскими всё-таки нет; те и другие произносятся сходно, но неодинаково.
Легко заметить, что, собственно, каждая буква дает темы для неограниченно долгого разговора. Но места у нас немного: надо по мере сил сокращаться.
Скажу в связи с L вот ещё что. Не составит труда заметить, что очертания прописного латинского L и русского тоже прописного Г являются по отношению друг к другу «полными перевёртышами».
Вот почему в английском техническом языке вы встретите такие выражения, как L-bar — «угловое железо» или L-square — «чертёжный наугольник». Мы в аналогичных случаях предпочитаем говорить о «Г-образном профиле железа», об «угольнике в виде буквы Г».
На этом можно кончить все про Л. Но я воспользуюсь случаем и, может быть, в каком-то смысле «за волосы» притяну сюда одно давнее собственное воспоминание. Оно зацепит и букву Л, но коснётся, вероятно и более широкой темы.
С лодки скользнуло весло
В 1916 году я, шестнадцатилетний гимназист, вместе с двумя своими одноклассниками взял билеты на лекцию знаменитого по тем временам поэта Константина Дмитриевича Бальмонта. Лекция — афиши о ней были расклеены по всему городу — была озаглавлена «Поэзия как волшебство».
Все мы не в первый раз слышали Бальмонта с эстрады, и потому многие особенности и даже странности его внешности, так же как и манера, в которой он читал свои стихи, да и само поведение публики, пересыпанной неистовыми «бальмонтистками», всё это было нам не впервой.
А вот содержание лекции нас заранее очень интересовало. Хотя, конечно, каждый из троих и ожидал от нее «своего», и запомнил наверняка в первую очередь то, что как раз ему оказалось ближе и понятнее.
Бальмонт умел в своих стихах играть звуковой стороной слов, как мало кто до него и в его время. Про него, пожалуй, можно было бы даже сказать, что он был мастером и художником не «слова» в его целокупности, а именно звуков, на которые распадаются или из которых строятся слова. Я жаждал услышать, что он нам по поводу своего немалого искусства скажет.
И вот на которой-то минуте его пышно построенной, темпераментно преподносимой лекции я насторожился и навострил уши ещё пристальней.
«Я беру, — говорил Бальмонт (не удивляйтесь, если я буду точно передавать его слова: в том же 1916 году поэт выпустил стенографическую запись того, что говорил, отдельной книжечкой «Поэзия как волшебство»), — я беру свою детскую азбуку, малый букварь, что был первым вожатым, который ввел меня в бесконечные лабиринты человеческой мысли. Я со смиренной любовью смотрю на все буквы, и каждая смотрит на меня приветливо, обещаясь говорить со мной отдельно…».
Дальше Бальмонт доказывал, что он — именно поэт, а ни в какой мере не лингвист, не специалист по языку. Он делал страшную, с точки зрения языковедов, вещь: называл буквы(не звуки, а буквы!) гласными и согласными. А ведь даже гимназистам строго возбранялось путать два эти предмета исследования.
Поэт проявлял свои «поэтические вольности» и во многих других отношениях. «Гласные — женщины, согласные — мужчины!» — с совершенной безапелляционностью утверждал он, хотя не так-то легко понять, чем звуки «о», «у» пли даже «ё» женственнее, нежели «ль», «ть» или «мь». Уж не наоборот ли?
Поэт уподоблял гласные матерям, сестрам; сравнивал согласные с плотинами и руслами в течении рек… Но кто может помешать Гафизу сравнить даже навозного жука с падишахом?!
Бальмонт говорил долго, много, пламенно и пышно. Вот крошечный фрагмент из его лекции-книжки:
«Всё огромное определяется через О, хотя бы и тёмное: стон, горе, гроб, похороны, сон, полночь… Большое, как долы и горы, остров, озеро, облако. Огромное, как солнце, как море. Грозное, как осень, оползень, гроза…»
Да, может быть… Но почему не «ласковое, как солнышко, скворушка, лобик»?
Не слишком убедительны такие перечни, если анализировать их спокойно, оторвавшись от ораторского пафоса поэта… Многое из сказанного им тут же терялось в фанфарах слов и образов.
Но вот, наконец, перейдя от «гласных» к «согласным», он дошёл до Л.
Лепет волны слышен в Л, что-то влажное, влюбленное — Лютик, Лиана, Лилея. Переливное слово Люблю. Отделившийся от волны волос своевольный Локон. Благовольный Лик в Лучах Лампады… Прослушайте внимательно, как говорит с нами Влага.
Точности и курьеза ради укажу, что, читая это стихотворение, автор не произнес ни одного твердого «эл». Он выговаривал вместо «л» — краткий «у»: «С уодки скользнууо весуо…»
Как бы ни называл Бальмонт предмет, о котором он ведёт речь, мы с вами ясно видим: он имеет в виду не «буквы», а «звуки» и только по нечёткости тогдашней терминологии заменяет один термин другим.
Будь «Поэзия как волшебство» издана в наши дни, не так-то было бы легко доказать, что он допускает тут путаницу. Но в правописании 1916 года было правило, разоблачавшее его.
«Я, Ю, Ё, И, — писал Бальмонт, — суть заостренныя, истонченныя А, У, О, Ы». Видите: «-ныя»! Прилагательные поставлены в женском роде. Значит, он говорит о буквах. Иди речь о звуках, на концах поэт поставил бы «-ные»…
Но не это существенно. Что Бальмонт не различал буквы и звуки — ясно: «Вот, едва я начал говорить о буквах — с чисто женской вкрадчивостью мною овладели гласныя!» — восхищался он. Но как бы ни думал он о буквах или звуках, как только стихотворный текст попадал на книжную страницу, на место звуков мгновенно вставали буквы, образуя видимый неожиданный графический узор напечатанного стихотворения.
Для вас версификационные фокусы подобного рода не новинка. Вы помните ломоносовские «Бугристы берега», написанные с не меньшей, чем у Бальмонта, изобретательностью, хотя с другими намерениями и целями.
Ломоносова там в равной мере интересовали обе «ипостаси» единства «звуко-буква». Он мобилизовал слова с неодинаковыми, по мнению его противника, звуками «г», чтобы, изобразив все их при посредстве единственной буквы, доказать свою правоту в споре не фонетическом, а орфографическом: для двух разных звуков по многим причинам в данном случае достаточно одной, общей для обоих, буквы.
У Бальмонта, как это ясно, задача была иной: пользуясь одной буквой, он имел в виду поэтически утвердить равное смысловое значение обоих ее вариантов, свойственных русской речи. Заметьте: стихотворение искусно построено так, что в него входят только слова, в которых при чтении глазами обязательно есть буква Л, а при произнесении вслух — и звук «ль».
Вот как можно схематически передать их чередование:
«С лодки скользнуло весло» я вспомнил потому, что мы говорили о буквах, предназначенных передавать непалатализованное и палатализованное «л» в русском, славянских и латинском алфавитах.
Но воспоминания о таком стихотворении, построенном на «чистой аллитерации» (термин, к слову говоря, из времен неразличения буквы и звука: думают всегда о звучании составляющих стих звуковых единиц, а называют явление их повторения «ал-литера-цией», то есть «собуквием», а не «созвучием». Правильнее был бы какой-нибудь другой, столь же затейливый термин: «аллофония» какая-нибудь… Но это в сторону), воспоминания эти навели меня на мысли и о некоторых других, примерно этого же рода стихотворческих трюках и фокусах.
Начну со стихотворного отрывка в 14 строк (14 строк, как известно, содержит в себе «онегинская» строфа Пушкина). В этом отрывке 54 слова, 298 букв, но среди этих почти 300 различных букв — одна-единственная буква М.
Я говорю о XXXVIII строфе 4-й песни «Онегина».
Возьмите карандаш и исследуйте этот четырнадцатистрочный пушкинский шедевр со странной точки зрения: в каком числе содержатся в нем буквы нашей азбуки — каждая по отдельности.
Впрочем, этот подсчёт уже проделан.
Я разделил на две партии те слова, которые при Пушкине писались через Е и через «ять». Учёл я и слова, имевшие тогда на окончаниях «ер», «твёрдый знак». Вот уж делить слова на те, что с И, и те, которые с I, я и не захотел, да и не стоило; во всем отрывке одно лишь слово «глубокий» оказалось написанным через «и с точкой», да и то, имея в виду, что рифмует-то оно с «черноокой». Возникает подозрение, не стоит ли у Пушкина тут «глубокой»? Проверить это по рукописи или очень точным изданиям я предоставляю желающим.
Строфа, приведенная мною, известна в литературе как некий курьёз, как «Строфа с единственной буквой М».
Но возникает вопрос: что это? По сознательной ли воле поэта М исчезло из всех, кроме одной, строк этого отрывка или тут сыграл роль случай?
Можно ли дать на такой вопрос ответ? Проведя анализ буквенного состава строфы, какой я не поленился выполнить, а вы, полагаю, проверить, я думаю, некоторое предположение сделать можно.
Не будь в этой строфе только «ни одного М», это скорее всего явилось бы результатом либо случайности, либо какого-нибудь глубокого закона русской фонетики, который еще предстояло бы установить.
Однако в той же строфе отсутствуют Ф и Щ. Нет в ней и буквы Э. Почему вполне закономерно отсутствие Ф, вы узнаете детально, когда доберетесь до разговора о нем самом. Щ, несомненно, находится в нетях более или менее случайно. В началах и в корнях слов буква эта встречается не слишком часто, но изобилует в различных суффиксах, в частности в суффиксах причастий.
Стоило бы поэту ввести в данную строфу хотя бы одно причастие на «-щий», и буква Щ появилась бы в ней совершенно спокойно. Другое дело — почему Пушкин не ввёл сюда ни одного такого причастия; пусть пушкинисты ответят, дело тут опять-таки в случайности или во внутренних необходимостях поэтики этой строфы?
Но я думаю, что, скажем, вместо словосочетания «красных летних дней» с гениального пера Пушкина могло бы все же сорваться и «красных этих дней», и вот вам «э оборотное». Однако речь ведь не о том, что М — редкая буква и её просто нет в строфе по этой причине. М — буква довольно распространенная. В ХХХХ строфе «Евгения Онегина» она встречается преспокойно семь раз подряд. И если бы из всех строф романа только в этой она оказалась такой анахореткой или если бы я не мог вам указать в этой же цепочке строчек другой ей подобной отшельницы, я, разведя руками, сказал бы: «Не знаю, для чего это ему понадобилось, но как будешь судить гения? Наверное, ему захотелось, чтобы тут оказались все буквы в разных количествах, а одна только буква М — в одиночку…»
Ну так вот: этого я сказать не могу. Вы, вероятно, уже обратили внимание: «Строфу с одной буквой М» можно с таким же успехом назвать и «строфой с одним Ц». А допустить, что Пушкину по каким-то высоким соображениям эвфонии понадобилось, чтобы в этих именно 14 строчках встретились «единственное М» с «единственным Ц», я никак не рискую.
Кто хочет, рекомендую проверить, нет ли в «Онегине» другой строфы с одним М, или, может быть, с другой какой-либо «одной буквой». Чем чёрт не шутит: вот ведь обратил же кто-то внимание на это единственное М, а такого же единственного Ц и не заметил. Вас могут ждать разные открытия…
М
Самое, по-моему, удивительное в европейской букве М — это то, что родоначальником семьи всевозможных «эм» был, вероятно, предшествовавший даже финикийскому «мему» древнеегипетский иероглиф , означавший, по мнению одних ученых, понятие «вода», а в понимании других — «волна». От него-то и пошли поколения потомков, конечным результатом которых оказалась хорошо нам известная буква М. Ведь в этой современной нам прапраправнучке, вглядевшись, можно различить черты того древнейшего знака…
Но это всё дела давным-давно прошедшие.
Наша русская буква М происходит от кириллического «мыслете», оно же — потомок каллиграфического М греко-византийских рукописей. Сравните «мыслете» и нынешнюю М: они недалеко отстоят друг от друга.
Вообще, если оставить в стороне скандинавские руны, одна только глаголица отошла от традиционного очертания буквы М. Глаголическая буква скорее напоминает по внешнему виду одного из «пляшущих человечков», своим появлением на воротах старого сарая принесших известие о близкой гибели кому-то из конан-дойлевских героев.
Прямая обязанность нашего М — означать твердый губной носовой согласный. Но рядом с твёрдым у нас, конечно, живет и мягкий согласный звук. Читающий отличает М, требующее мягкого произношения, по тому, что оно сопровождается либо буквами Е, И, Ё, Ю, Я, либо «мягким знаком».
Звук «м» может быть и твёрдым и мягким не только в русском языке. Болгарский язык знает и те и другие согласные, но, обучаясь ему, вы получаете предупреждение: болгарские мягкие звуки на самом деле «полумягки», стоят где-то между нашими твердыми и мягкими согласными, особенно приходясь перед Е и И. «М» звучит там твёрже, чем у нас, в таких словах, как «мед» — мёд, «межда» — межа.
Любопытно: на концах слов в болгарском языке мягкость согласных нацело утрачена — «сол», а не «соль», «ден», а не «день», «кон», а не «конь»… Прислушайтесь к выговору русских актёров, играющих Инсарова в инсценировке тургеневского «Накануне». Нередко именно эта твёрдость конечных согласных позволяет им придать речи персонажа характерный болгарский акцент.
У поляков те М, которые стоят перед А, О, У, но должны все же прозвучать не как «м», а как «мь», — мягко звучат лишь тогда, когда между ними и следующими гласными вставлена дополнительная буква I.
Mara читается «мара» и означает «сновидение». А вот Miara вовсе не следует выговаривать «миара». Произносите его «мяра»; оно означает «мера», или, по-старинному, «мħра».
«М» французского языка похоже, в общем, на наше твёрдое «м», особенно перед гласными «а», «о»; maman — мама, morose — угрюмый, mouche — муха. Перед «е», «и», «ю» и другими звучание «л» у нас и во французском языке расходится.
Нельзя французское menace произносить с таким же «м», как в нашем «менять» или «мельница». Они звучат неодинаково. Во французском языке нет мягких палатализованных согласных, которыми так богат русский язык: Произнести по-французски «менас» на русский лад так же смешно, как по-русски сказать: «Мэли Йэмэля!»
Пожалуй, «странче» всего, как говорила Алиса из сказки Льюиса Кэррола, во французском «м» его способность «назализоваться», приобретать звучание, подобное носовому «н». Точнее — придавать предшествующему гласному ясно слышимый носовой оттенок. Слово septembre — «сентябрь» звучит по-французски так, как если бы его «em» превратилось в носовое «а». И если вам понадобится передать это французское слово русскими буквами, вы наверняка напишете «сэптаНбр», так же как название газеты «Temps» — «Время» по-русски всегда изображали как «Тан» и никогда «Там».
Н
Что можно сказать о букве Н, кроме того, что это 14-я буква русской гражданской азбуки, выражающая звонкий носовой звук и передне-, и средне-, и заднеязычного образования?
Этот звук бывает у нас и твердым и мягким, как почти все русские согласные. Сравните: «нос» — «нёс», «набат» — «няня», «нуль» — «ню».
Не так легко подобрать такую же пару — пример с «нэ-не». В моем детстве произношение такого «нэ» было как бы условным значком, обнаруживавшим интеллигента. Меня учили говорить «капитан Нэмо», а некоторые мальчики читали это имя как «капитан Немо», точно он был «немым». Помните чеховское «tuus fratħrь»? С тем же успехом можно написать тут «капитан Нħмо»…
В русском языке надо отличить не только «н» от «нь», но ещё показать, следует ли за этим мягким «н» обычный или йотированный гласный. Именно поэтому мы пишем имя немецкого города — НЮрнберг, а английского порта — НЬюкасл.
В других языках мягкость «н» выражается по-разному: и всякими условными значками, и сопровождением других букв. У венгров роль нашего мягкого знака играет буква Y; мягкое «н» пишется как NY. Слово nyafka, например, значит «плаксивый», а произносится не «ниафка», а «няфка». Таким образом, в венгерском варианте латиницы буквы Y вообще нет: она рассматривается только как знак мягкости при согласных.
Испанское правописание пошло по другому пути. У них есть две буквы — «эне», означающая твердый «н», и «энье» для смягченного «н».
Поляки действуют подобно испанцам: обычная N у них означает твёрдый звук «н», а с диакритическим клинышком над ним — ń, как бы «польское энье» — произносится как «нь».
Наше Н, оказываясь перед Е, И, Ё, Ю, Я, приобретает значение мягкого звука; перед ними ему Ь не нужен. Появляясь же, он указывает не на мягкость, а на йотацию: «семя» — «семья». Польский язык не знает таких пар букв, как наши А — Я, О — Ё.
Казалось бы, тут и пустить в ход ń. Но польское правописание идет по другому пути: помещает между N и следующей буквой букву I.
А для чего же тогда буква ń? Она бывает нужна либо в середине слов, перед согласными — bańka — банька, либо же на концах слов — koń — конь.
Вот целая цепочка: konik — koń — koniarz (конёк, конь, конюх) — всюду мягкость «н» показана по-своему.
Который же из перечисленных способов выражать мягкость и твердость «н» наиболее удачен? Вероятно, никакой. Все по-своему хороши, и у каждого есть свои недостатки.
Читатель может спросить: а почему создалось такое странное соотношение формы между латинской буквой N и русской H? Кое-что я уже говорил об этом, рассматривая букву И, напоминающую зеркальное отражение N. Многое из того, что определило выбор начертаний для отдельных букв и западных и нашей азбуки, уже немыслимо сейчас восстановить. Не всегда можно разгадать древних алфавитистов: ведь они руководствовались не принципами нашей современной науки. И тем не менее…
До начала книгопечатания форма каждого письменного знака зависела от личных вкусов и способностей переписчика. Соблюдая моду, все они придавали буквам все новые и новые начертания.
Палеографы поставили себе на службу эту изменчивость почерков и довольно точно приурочивают тексты по начертаниям букв к тому или другому веку, а то и меньшему периоду.
Так вот, по их разысканиям примерно с XIV века косая соединительная черта буквы N начинает все явственней приближаться к горизонтали. В результате N, раньше походившее на «и оборотное», стало все ближе напоминать заглавный вариант греческой «эты» (она же «ита»), имевшей в классическом письме начертание Н.
В Древней Греции знак «эта» выражал не только «э» или «и», но также и эти звуки со своеобразным «придыханием»: «хэ», «хи».
Мы, составляя славянскую азбуку, превратили греческое Н в свое «эн». Западные же народы, отправляясь от таких начертаний, как Ηλιος — «гелиос» — солнце, сохранили за латинским Н значение «ха», «аш», «эч», часто выступающих как придыхание.
Вот так в результате действий отнюдь не единовременных и не единоличных возник парадокс: русская буква Н по форме совпала с Н латиницы, выражающей совсем иной звук. А русская буква И стала как вывернутое наизнанку N.
Осдавьде, довольдо!
В том, что я сейчас расскажу, никакого «научного значения» нет. И по многим причинам.
Первое: я буду излагать нечто почерпнутое из «сказки», да еще не народной, а «авторской», современной.
Второе. Мало того, сказку эту я буду рассматривать не в подлиннике, на ее родном английском языке, а в переводе.
Могу оправдаться: переводчик — сам крупный и талантливый литератор, большой мастер языка и стиля. Очевидно, такой перевод даже в отрыве от подлинника может стать предметом языкового анализа.
Я намерен рассмотреть один чисто фонетический (и графический) трюк, примененный в этом произведении переводчиком. Но ведь можно заглянуть и в подлинник и полюбопытствовать, насколько переводчик проявил «самовластие» или, наоборот, в какой степени он пошёл по предуказанному автором стилистическому пути.
Впрочем, все эти строгие замечания и защита от них были бы уместны, если бы моя книга была учебником, монографией по русской азбуке, исследованием. А ведь она — только собрание многолетних наблюдений, скорее лирических, нежели академических, над русским «звуком речи» и русской буквой, «знаком этого звука». Это размышления не ученого-языковеда, а «болельщика» языка. Как болельщик, я вправе поделиться с читателем и этой любопытной историей, тем более что она как-то примыкает к нашим наблюдениям над буквой Н и звуком «н».
Помните сказку Р. Киплинга о Слонёнке? Помните; и я не буду пересказывать вам, какие экстраординарные беды претерпел этот «несносно любопытный Слонёнок» за свое досадительное любопытство.
В конечном счёте Крокодил чуть было не съел Слонёнка. Он ужасно, нестерпимо растянул его маленький и аккуратный нос, похожий на башмак. Но, так его изуродовав, Крокодил придал слону-крошке необходимейшую вещь — хобот.
Но и это в сторону. В отличном переводе сказки, выполненном Корнеем Ивановичем Чуковским, есть место, по поводу которого Слон-дитя обязательно задал бы автору один из своих раздражающих вопросов: «А почему?..»
Слонёнок уже спросил у Крокодила, кейфовавшего в сонной, зловонной, мутно-зелёной реке Лимпопо, что тот имеет привычку кушать на обед. И Крокодил пообещал дать ответ любознательному на ушко. А когда тот пригнулся, Крокодил мерзко схватил Слонёнка за нос и, сжав нос изо всех сил челюстями, стал тянуть его в реку.
И вот тут-то Слонёнок — в переводе Чуковского — закричал и захныкал. И кричал он не то, что можно было бы ожидать: «Пустите меня, мне очень больно!» — а кое-что другое: «Пусдиде бедя! Бде очедь больдо!»
Крокодилу не хотелось отпускать простодушного, борьба длилась, и, наконец, Слонёнок возопил в последнем отчаянии: «Довольдо! Осдавьде! Я больше де богу!»
Конечно, в его печальном положении Слонёнок при всем своем любопытстве не мог бы заниматься самонаблюдениями, а потому и не спросил, отчего переводчик, описывая эту душераздирающую сцену, так странно ошибся и написал совсем не те буквы, которым следовало бы стоять в Слонёнковых горестных жалобах? Зачем он на месте обычных Н везде поставил не что-нибудь другое, а Д, а М повсюду заменил на Б?
Если он хотел так выразить растерянность и испуг попавшего в беду Слонёнка, он бы мог взять какие угодно буквы. Почему же он выбрал именно эти?
Конечно, вопрос, который мы сейчас рассматриваем, — вопрос скорее фонетический, нежели графический. Но мы уже знаем: «где звук, там и буква», и тут большой беды нет.
Слонёнок говорил так не потому, что испугался или пришёл в отчаяние, а потому, что был вынужден говорить в нос.
Уловите одну тонкость. Когда у живого существа плотно зажат или заткнут нос, в органах речи создается «носовой резонанс», и произносимые этим живым существом любые неносовые согласные приобретут «носовой оттенок». А в то же время «носовые согласные» не могут быть произнесены как должно именно потому, что выговорить их можно лишь тогда, когда носовой проход свободен.
В русском (и многих других языках) существуют такие любопытные закономерно связанные пары звонких смычных согласных, носовых и неносовых согласных «н — д», «м — б».
Если крокодил ещё не схватил вас за нос, вы можете спокойно и с удобством произносить носовые согласные «м» и «н». Произнесите «н» и заметьте: чтобы сделать это, вы слегка опускаете мягкое нёбо, воздушная струя отчасти проходит в носовую полость, и… произносится звук «н» (или, при несколько другом расположении остальных органов речи, — «м»).
Но если не крокодил, а хотя бы просто сильный насморк заложил вам нос — носовых согласных уже не получается, а неносовые приобретают носовой характер. Почему? Да потому, что благодаря закрытию свободного пути через нос носовой резонанс возникает теперь в ротовой полости.
Хотите произнести «ж», а получается назализованный звук «б». Пытаетесь выговорить «н», выходит странный, с носовым оттенком звук «д». Попробуйте выговорить «Оставьте, довольно», и получится…
Я вспомнил об этой переводчицкой и литераторской тонкости потому, что вообще «очедь люблю даблюдать» за хорошей, грамотной работой мастера.
Языково-фонетическая чистота работы Чуковского и пленила меня.
Казалось бы, ну зачем сохранять в переводе все эти фонетические соотношения? Ведь все равно большинство читателей никогда не узнает, как те же фразы звучат по-английски у Киплинга и наблюдал ли тот по отношению к ним такую же фонетическую точность на своем английском языке? Так стоило ли стараться?
А ведь стоило! Перевод переводом, но перевод — это же художественный текст. Попробуйте подставить на место измененных Чуковским букв какие-либо другие: «Добользо»… «Гзе очеп больпо»… Ведь не получится впечатления, что перед вами Слоненок с наглухо зажатым носом. Нацело пропадает радующий читателей (и не только ребят) «эффект присутствия»: точно вы сами не только видите всю сцену, но и слышите, что говорят ее «актёры».
И это естественно: есть отличный способ проверки. Читатель подносит руку к носу, зажимает нос рукой, говорит то, что хотел сказать милый Слоненок, а получается точно то, что написано у Чуковского: «Довольдо, осдавьде! Я больше де богу!»
И мне захотелось посмотреть, какие же слова поставил в этих местах сам автор сказки, Киплинг.
Вот что говорил подлинный киплинговский Слон-беби:
— Led (вместо «let») go!
You are hurtig (вместо «hurting») be (вместо «me»).
Эти слова, если их перевести буквально, означали бы: «Отпустите! Вы делаете мне больно!» Киплинг прекрасно учёл, что с зажатым носом трудно произнести глухое «т» в глаголе «let», и на этом месте у него появилось звонкое «д».
Он принял также во внимание, что носовое «н» формы «hurting» не прозвучит, раз нужный для него нос-резонатор зажат Крокодилом. И наконец, местоимение «me» у него превратилось в «be»: вы уже знаете, что парным неносовым согласным к «м» будет именно «б»…
В английском тексте сказки мы находим почти в точности то же, что есть и в переводе:
У Киплинга Т превращается в D — «led».
У Чуковского Т превращается в Д — «пусдиде».
Киплинг делает В из М, превращая местоимение «те» в «be».
Чуковский превращает М в Б и в местоимении «мне», звучащем у него как «бде», и в глаголе — «де богу»…
Всё это, на мой взгляд, убеждает, что, помимо личного словесного, языкового чутья, подсказавшего переводчику, что в соответствующих местах литературных произведений становится приятной некоторая фонетическая игра, он имел в виду также и как можно точнее передать самый фонетический смысл именно той языковой шутки, на которой построил свою сцену Киплинг. Мы видим, что это ему отлично удалось.
Педант скажет: «Это про звуки, не про буквы». Но мы помним, что единственный смысл существования букв — в выражении звуков.
О
Буква О уже защищала перед нами свои законные и незаконные права, выступая в ломоносовском «Суде российских письмен». Поэтому мы уделим ей, может быть, несколько менее внимания.
Кириллица знала два «о» — «он», из которого затем и была выработана для нужд гражданской азбуки буква О, по очертанию своему вполне совпадающая с такой же буквой латиницы, и «он великой», или «омега». Обе они фигурировали в греческом алфавите и были, можно сказать, механически перенесены в славянскую письменность — не столько для её собственной потребы, сколь для елико возможно точной передачи слов и имен, заимствованных из греческого языка.
Греки различали первые звуки в словах öγμος — равный, и ωγμος — стон. Славяне такого различения этих звуков не знали, но, тем не менее, по традиции, преимущественно церковной, их в своей азбуке сберегли. Понять, где в древнейших рукописях переписчики ставили «он», а где «омегу», трудно; для каждого почти слова с «омегой» можно подыскать разночтения и с обычным «оном». И все же упразднила этот совершенно никчемный знак только петровская реформа.
Наша нынешняя буква О примечательна тем, что ей сравнительно редко приходится выражать «свой» звук «о». Происходит это с ней лишь под ударением. В первом предударном и в открытых послеударных слогах она звучит как «неясный гласный», обозначаемый знаком «å», когда дело заходит о научном анализе текста. Там же, где буква О стоит во втором предударном и закрытых послеударных слогах, она приобретает характер еще более неясного и краткого звука. Изображают его знаком «ъ» — «шопыт».
Как «о» в безударных слогах, буква О звучит лишь там, где русский человек окает, где можно услышать слова «корова» или «поросенок», произнесенные так, как если бы говорящий, подобно кибернетическому устройству, каждое начертанное О считал обязательным произносить именно как «о» и никак иначе.
Диалектные навыки, впитанные в детстве, остаются у людей, даже переселившихся в акающую среду, даже у получивших отличное образование, даже у ставших мастерами русского слова. Горький заметно «окал» всю жизнь, и, надо сказать, это его добродушное или строгое оканье, своеобразно окрашивая его речь, производило очень приятное впечатление.
Может быть, надо ему в этом плане подражать? Думается, нет, особенно если ты не великий человек; но и посмеиваться над «окальщиками» неумно. Вероятно, Ломоносов, всю жизнь защищавший «нежность» московской акающей речи, гневаясь или радуясь, тоже начинал окать. Утверждать не могу, но как литератор думаю, что так оно и было.
Буква О не везде читается как «о». Но и наоборот: звук «о», бывает, выражается иногда не буквой О. Это происходит всюду, где мы видим букву Ё. Её прямая задача — передать на письме йотированный «о» или же «о» после мягкого согласного. То есть «ёлкой» — «йолкой», или «мёд» — «мьод».
Одна орфографически-орфоэпическая тонкость. Вот мы можем сказать, к примеру, «в течение времени» или «в воду». Прислушайтесь внимательно: не кажется ли вам, что здесь между двумя «в» слышится что-то подобное тому звуку, который несколькими абзацами выше я в слове «шепот» изображал через «ъ»? Помимо наших обычных двух форм сочетания слов, начинающихся на В с предлогом «в», — «в воду» и «во весь голос», — в дореволюционные времена существовало еще одно: «въ воду». Не кажется ли вам, что в этом никому не нужном «твердом знаке» могла еще сохраняться какая-то память о древнейших временах, когда он и звучал тут так, «средне» — и не как «во», и не как «в», а именно как «въ».
Русская буква О и О других языков далеко не всегда оказываются тождественными друг другу. Естественно, что другие письменности, в частности, построенные на базе латиницы, не так означают и близкий к нашему звук «о» и «о» иных оттенков, как это делаем мы.
В английском языке, с его долгими и краткими гласными, все буквы О на письме выглядят одинаково, а произносятся в словах (hope — «хоуп» — помощь, hot — «хот» — горячий) различно, по особым орфоэпическим правилам.
Бывает и так, что буква О употребляется для обозначения совсем на «о» непохожих звуков. Так, слово pool читается вовсе не «поол», а просто «пул».
Зато, например, слово all — весь, все произносится «олл»: тут звук «о» передан буквой Л, а в слове money — деньги, наоборот, звук, напоминающий наш «а», выражен буквой О.
Орфографии почти всех языков мира (кроме эсперанто, но о нём нельзя говорить в одном ряду с природными языками) представляют собою нагромождение, нередко пребеспорядочное, всевозможных правил и обыкновений, из которых едва ли половина может быть хотя бы приблизительно объяснена.
Своеобразна система знаков для выражения оттенков звука «о» и во французском языке.
Там есть буква О, которая пишется и читается как наш звук «о», ну хотя бы в слове ottomane — оттоманка. Но рядом с этим имеются и совершенно другие «о», допустим, в слове automate — «отомат» — автомат. Уже из его сравнения и с русским «автомат» и с греческим avrofiarog видно, что там и тут звуки «о» вовсе не одинаковы. Этот «о» изображается буквосочетанием AU — «о долгое». Долгое «о» в других случаях может быть передано на письме через ô — «о с гнутым ударением». Встречаются долгие «о», изображаемые как EAU. Так пишется слово «вода» (оно входит в наши слова «О-де-колон» — кёльнская вода, «О-форт» — крепкая водка).
Добавлю, что французский звук «о» может быть и открытым и закрытым, но это различие буквой не выражается.
Рассказать про все разновидности знаков, обозначающих все «о» мира, мне, конечно, нельзя. Немецкая буква Ö («о-умлаут») звучит, к примеру, несколько похоже на нашу Ё в словах «мёд», «лёд».
Но, может быть, вам захочется посмотреть на О с ещё более причудливым оформлением?
Тогда адресуйтесь к любому шведско-русскому словарю. Там слов с такими О сколько угодно.
П
Наша буква П — дочь кириллического «покоя».
В старославянской письменности ему было присвоено численное значение 80. Звук, выражаемый буквой П, наука определяет как «губно-губной глухой взрывной». Задумавшись над этим определением, невольно отдаешь должное его точности и продуманности.
Увидев в азбуках большинства народов знак О, кружок, мы почти уверенно читаем его как «о».
А с П не так. Мы, русские, привыкли: П — это «пэ», Р — это «эр». Но вот я издали увидел на улице вывеску: «PHOTО». Не странно ли, что я, человек, знающий иностранные языки и латинский шрифт, не читаю этой вывески по-русски «рното», а сразу же произношу её правильно: «ФОТО»?
О том, как и почему получилось так, что очертания русской буквы Н и латинской Н, изображающих совсем разные звуки, совпали, я уже говорил. Как же получилось, что один и тот же знак стал на востоке Европы означать звук «p», а на западе звук «п»? И почему нашей русской букве П на Западе вроде как ничего и не соответствует?
В различных западных азбуках пожалуй что и да, не соответствует. Но любой западноевропейский математик знает, применяет и произносит название числа 3,14159… именно как «пи». И пишет это название π, а ведь не Р и PI. Почему?
Потому что именно так обозначался звук «п» в греческой азбуке. Оттуда его позаимствовали и мы.
Мы — позаимствовали. А народы Запада?
Звук «п» в разные времена выражался в греческом алфавите то полным знаком П, а то как бы его упрощенной, вроде бы «ампутированной», одноногой формой. Она отчасти напоминала наш «глаголь» и, в свою очередь, возможно, происходила от финикийского «пе», тоже похожего на Г, но смотрящее влево.
Римляне, взяв у греков их письмо, некоторое время спустя постепенно округлили, загнули и превратили в «животик» горизонтальную черту этой вариации греческой «пи», а сами греки много раньше добавили к финикийскому одноногому вторую ногу, превратив его в свое «пи».
Теперь понятно, как из одного зерна развились в двух системах письменности два совершенно различных растения, обладающих, однако, одним и тем же если не «запахом», то «звуком». Тут таинственного мало. По-моему, куда сложней проанализировать, что происходит в мозгу человека, когда он, увидев на какой-то коробке кондитерского типа надпись «PAT», почти мгновенно понимает, что прочесть ее нужно как «ПАТ» (вид мармелада) и что она «напечатана не по-русски».
Много лет назад, когда печать занималась «стилягами», в одной из ленинградских газет был напечатан смешной фельетон про обожающего все заграничное молодого человека, который гонялся за бритвенными лезвиями фирмы «НЕВА», читая это слово как написанное латинскими буквами и произнося его «хеба». Лезвия с таким названием он принимал за импортные. Мы в большинстве случаев «на лету» разоблачаем подобные «замаскированные под Запад» графемы. Да, надо сказать, они встречаются реже, чем можно было бы заранее предположить…
Я уже говорил, что есть языки, в которых фонетическое отношение между парой звонкое «б» — глухое «п» отлично от нашего. Разговаривая по-русски, представители этих языков путают, смешивают «б» и «п». Так, например, говорят по-русски не усовершенствовавшиеся в нашем языке немцы.
Да, впрочем, почему «по-русски»? Вот какой занятной историей начинает немецкий писатель XIX века Людвиг Берне в своих «Парижских письмах» главку о французском языке, написанную, как всё принадлежащее его перу, остроумно и язвительно.
«Французы меня уверяли, что они узнают немца, сколько бы лет ни прожил он во Франции, только по одному выговору звуков «б» и «п», которых он никогда не умеет отчетливо различить. Когда немец говорит «б», француз слышит «п»; это тем печальнее для немца, что он не слишком-то различает и собственное «б» и «п».
Я сам по этому поводу попал в затруднительное положение. Моя фамилия начинается как раз с буквы Б. Когда я в первый раз пришел во Франции к моему банкиру за деньгами, он пожелал узнать мою фамилию. Я назвал себя.
Тогда он велел принести громаднейшую регистрационную кредитную книгу, в которой имена расположены в азбучном порядке. Конторщик начал поиски, но не обнаружил меня. Я, по счастью, заметил, что он искал меня слишком далеко от буквы А, и сказал: «Моя фамилия начинается не с П, а с Б!»
Я напрасно старался: ничто не прояснилось.
Патрон, пожав плечами, заявил, что кредит на меня не открыт. Видя, что дело пошло не на шутку и что недоразумение может вызвать весьма огорчительные последствия, я подошел к конторке, протянул нечестивую длань к священной кредитной книге, перелистал ее в обратном порядке до буквы Б включительно и, ударив по листу кулаком, сказал: «Вот где мое место!»
Патрон и его клерк бросили на меня взгляды, преисполненные ярости, но я оказался прав и обнаружился в том месте, на которое указал…»
Смешно? Но ведь, окажись на месте Людвига Берне какой-нибудь араб, которому потребовалось бы найти в Париже своего знакомого по фамилии Паран или Пуалю, его положение оказалось бы, возможно, еще затруднительнее: во многих диалектах арабского языка звук «п» отсутствует нацело.
В некоторых случаях способность русского языка приглушать согласные звонкие на концах слов может даже создавать развесистые пучки связанных друг с другом новых словообразований…
Возьмите два слова: «араб» и «арап». Есть, по-моему, все основания думать, что Б в первом из них появилось книжным путем и в более позднее время. Заимствуя первоначально общий этноним для смуглых жителей далекого юга и плохо разбираясь в их этнографических различиях, русские люди XVII–XVIII веков во французском названии Tarabe, естественно, часто слыша это слово, но почти не встречая его в письменном виде, стали произносить его с глухим «п» на конце. Выговор «араБ» был бы совершенно невозможным. Позднее, с развитием книгочтения, мы узнали, конечно, что «аравитяне» именуются «араБами», но и для них допустили это звонкое «б» в произношении только в косвенных формах: «арабы», «арабу». Говоря же «араб — пустыни житель», мы и теперь произносим на конце слова «п».
Любопытно также происхождение слова «столп» рядом со «столб». Может быть, вы им займётесь?
Р
Я уже довольно много сообщил про эту букву, когда говорилось о ее старославянском наименовании «рцы».
Но буквы — такая уж вещь: сколько про них ни рассказывай, что-нибудь в запасе да остается, особенно поскольку говорить-то о них приходится, все время не выпуская из внимания их отношения со звуками.
Мы уже и находили понятным, встречая в разных языках и тот же знак для одного и того же звука («о»), и удивлялись, наталкиваясь на совершенно разные связи между буквами и звуками в разных языках (звучание нашей и латинской буквы Н).
А вот теперь я попрошу вас обратить внимание вот на что.
Мир латинских алфавитов. И внутри этого мира оказывается, что одна и та же буква R означает звуки настолько несхожие, что приходится долго заучивать наизусть, что все эти звуки — разные «р».
В самом деле. Вот во французском языке мы находим две разновидности звука «р». Переднеязычное «р» не слишком отличается от нашего «р». Но рядом с этим звуком в том же языке имеется и второе «р», увулярное («увуля» — латинское название язычка мягкого нёба). Это «р», характерное для языка французских горожан, парижан прежде всего, начинает звучать, если вы сумеете заставить дрожать в глубине зева тот самый «маленький язычок».
Увулярное «р» — совсем особый звук, лишь в какой-то мере напоминающий «р» тех русских людей, которые «картавят», как Васька Денисов в «Войне и мире» с его «Гей, Ггишка, тгубку!» и «Ггафиня Наташа?».
Было бы отлично, если бы французская азбука имела для своих звуков «р» два разных знака и вы знали бы, как в данном случае надо произносить букву R. Ничего этого нет, и каждая французская буква R может быть произнесена в Париже, Лионе и Руане — «увулярно», а где-нибудь в Оверни или в Иль-де-Франсе — «переднеязычно».
Мой тайный совет вам: будете изучать французский — не гонитесь за «увулярностью», парижским произношением славы вы себе не приобретете, а посмеиваться над вами будут. Чего напрасно стараться, если братья Гонкур неустанно умилялись «характерному русскому птичьему выговору» И. С. Тургенева, который и в детстве говорил куда больше по-французски, чем по-русски, да и взрослым человеком жил во Франции годами и десятилетиями.
Теперь — Англия. В английском письме мы снова видим старую знакомку, букву R. Но не доверяйте ей, не произносите их R как наше «р». Англичанам это не понравится.
Их R в словах, подобных work — работа, звучит так страшно слабо, так ужасно слабо, что, можно сказать, вовсе не звучит. Получается не «уорк», как следовало бы по написанию, а нечто невнятное, где звук «р» как бы превращается в некоторое продолжение звука «о», изобразимое только методами самой усовершенствованной транскрипции. Я рискну вам сказать (строгие ученые не одобрят моих слов и будут правы), что во всех таких случаях английская буква R изображает скорее отсутствие звука, нежели звук.
В начале этого столетия нас, тогдашних младенцев, немецкие учителя заставляли все немецкие R выговаривать. Прошло чуть больше полувека, а добрая половина немецких R, особенно на концах слов, стала почти так же беззвучна, как R английские.
Вот так за жизнь одного поколения круто изменяются произносительные нормы языков, причем, когда начинается изменение, его и заметить немыслимо; когда же оно овладело языком, начинает казаться, что «так всегда и было».
Звуков «р» на свете неисчислимое множество, и я не стану рассказывать о них, главным образом потому, что, рассказывай не рассказывай, услышать, как произносятся все эти диковинные на наш слух звуки, особенно в восточных или в африканских языках, вам все равно вряд ли удастся.
Но мне хочется почтительно вернуться к нашей русской букве Р: ведь до чего же непростой в произношении звук обозначается этой простой в написании буквой.
Подумайте: очень мало не только взрослых, но и детей, которые затруднялись бы произнесением таких звуков, как «д», «п» или «н». А звук «л» доставляет неприятности многим. В детстве я и брат делили все человечество на «лошадей» и «уошадей». Я принадлежал к первым, он ко вторым. Самым удивительным мне казалось, что даже имя немецкой русалки «Лорелей» он умудрился переделать в «Уорелей»…
Но ещё труднее оказывается звук «р». Вспомним-ка:
— Гэй, Ггишка, тгубку! — раз.
— Гэй, Гйишка, тйубку! — два.
— Гей, Глишка, тлубку! — три.
Такое произношение, по-моему, свойственно детям. Я не видел ни одного взрослого, говорящего так… А вот «Гей, Гвишка, твубку!» — картавость вполне взрослая. Я хорошо знал одну очень милую даму, которая жила под «непвевывным ствахом» произнести на свой манер какое-либо не подходящее для этого «вусское слово».
Я говорю об этом мимоходом, чтобы подкинуть читателям-активистам некоторые темы для размышления. Во-первых, почему одни звуки бывают более трудными, другие более легкими для правильного их произнесения? Во-вторых, почему, картавя, люди очень ограничены в выборе заменителей для не подчиняющегося им звука? Ведь никто никогда не произносит вместо «л» — «п», не заменяет «р» на «ж». А вот в разных концах земли русской живут мальчишки и девчонки, которые почему-то слышат и произносят эти «у» вместо «л», те «т» — взамен «к»?
В чём тут дело? Это уж вы сами пораскиньте умом!
Что в русском языке существует звонкий звук «р», нет надобности доказывать. Не знаю, представляете ли вы себе, что такое глухое «р» и как оно звучит. Чтобы уловить на слух разницу между ними, вслушайтесь в произношение этого звука в таких сочетаниях, как «рот» и «во рту», «у Петра» и «Пётр Первый». Но, во-первых, нужно уже, как говорили дореволюционные псковские мужики, быть «здорово привесивши» к таким опытам, чтобы уловить различие, а во-вторых, на письме обе разновидности этого звука выражаются одним знаком, универсальной буквой Р.
Буква Р произошла от греческой «ро» — ρ. Видимо, от этого же источника, но через посредство западногреческих алфавитов родилась сначала латинская буква (III–IV века до нашей эры), а затем и более привычная нашему глазу прописная латинская R.
Чем я кончу эту главку? Вот чем: после глухих согласных «р» либо теряет звонкость, либо превращается в согласный слогообразующий, что не редкость во многих славянских языках, но непривычно выглядит в системе русского языка.
Вслушайтесь, как звучит слово «театр» или «психиатр», и вы согласитесь, что иной поэт не отказался бы пририфмовать к одному из них слово «гладиатор», а к другому «плагиатор»…
Правда, слова все эти — не русские… И все же в слове «театр» именно в русской речи это «тр» образует целый слог. Ну, скажем, «слогоид».
Три буквы. Три буквы
Можете вы написать или произнести предложение: «В восторге мы с тобой побежали к краю обрыва…»?
Конечно!
Сколько в нём слов?
Девять: предлоги «в», «с», «к» — тоже суть слова.
Отлично, но что тут удивительного?
А по-моему — вот что. И в родном своем языке, и в знакомых нам западноевропейских мы — и я и вы — наверняка можем указать немало слов, каждое из которых состоит из единственной буквы или звука; в данном случае пока я не настаиваю на строгом различении. Таковы русские «а», «у», «и», «о»; французские «a», «ou» — оно хоть пишется в две буквы, но произносится как один звук; английское «I» — это, наоборот, пишется в одну букву, но выговаривается как два звука — «ай». В других языках можно указать пропасть подобных слов-коротышек.
Однако подавляющее большинство слов, мною перечисленных, изображено буквами, которым соответствуют гласные звуки.
А в то же время мы можем указать такие русские слова, которые представляют собой один согласный звук (одну букву) каждое. Это хотя бы три предлога — «с», «в» и «к»… Предлог — часть речи, член предложения, значит, уж — из слов слово…
Интересно, такие «согласные слова» характерны только для нашего языка или имеются в других тоже?
Обратив как-то внимание на наличие в русском языке этих трёх своеобразных «согласных словечек», я стал думать, как бы произвести проверку их обычности или исключительности для начала в русском, а затем и в главнейших европейских языках (распространить такое обследование на все две с половиной тысячи языков мира я не берусь).
Значит, надо взять словарь каждого из языков и просмотреть его… Нет, не от слова к слову, а только обращая внимание на начала алфавитных разделов, на те места, где «слова в один согласный звук» могут встретиться глазу.
Это понятно. Если во французском словаре статьи на букву В, не считая самого описания буквы В и некоторых ее переносных употреблений, начинаются прямо со слово baba — кулич с коринкою, можно счесть установленным, что слова «b» во французском языке нет.
Значит, дело просто? Просто, но не так, как хотелось бы. В каждом европейском алфавите (и словаре) есть 15–20 букв, означающих согласные звуки. В Европе — десятка полтора языков. Придётся проверить худо-бедно две — две с половиной сотни отдельных «главок» в двух десятках солидных томов.
Мне стало лень этим заниматься, и я уже собирался отложить свою затею до свободных дней, когда взгляд мой пал на стоящий на полке «Семиязычный словарь», изданный в Варшаве в 1902 году.
Это своеобразный труд. Слова английского, голландского, итальянского, испанского, португальского, французского языков помещены в нем с их русскими переводами в порядке единого латинского алфавита.
Это облегчило задачу в шесть раз. Сразу проглядеть все начала разделов на «согласные» в двух толстых томах куда проще, нежели копаться в шести томиках «в розницу».
Сколько я ни искал слов, состоящих из одной только «согласной» буквы, их в моих источниках обнаружить почти не удалось. Ни в «Семиязычнике», ни в других мобилизованных мною «двуязычных» словарях. Но ведь дело-то это кропотливое, утомительное… Я мог и обмануться!
Говоря прямо, я поначалу ожидал, что хоть в братских славянских языках это небольшое и несущественное «дело» обстоит, наверное, так же, как и у нас в русском. Вероятно, слова-согласные есть и у них, скорее всего — те же самые. Ну уж в болгарском-то…
А получилось не совсем так. Нет, скажем, у болгар предлога «к». Как это ни огорчительно, нет у них ни «ко», ни «къ», и нет в этом ничего естественней, потому что у нас «к», а у болгар — «до».
В польском языке есть, как и в русском, предлог «в»; он так и пишется «w» — в одну букву. Есть там и предлог, равнозначный нашему «с», — «z», который может иметь еще и форму «ze». А вот нашему «к» соответствует польский двухбуквенный предлог «ku».
И, именно наткнувшись на это польское «ku» (прошу вас помнить, что изыскания эти я вёл несколько десятилетий назад!), мне и подумалось впервые: «А, вот оно что! Вот откуда взялись в русском языке «односогласники»! Очевидно, все они, некоторые за века, другие много быстрее, выросли (правильнее было бы «выменьшились») из двухбуквенных, точнее говоря, «согласно-гласных» слов».
В самом деле, попробуйте, внимательно вслушиваясь, сопоставить между собою такие, скажем, три варианта одного и того же предлога:
«Тому въ Полоцкħ прозвониша заутреню… а онъ въ Кыевħ звонъ слыша» («Слово о полку Игореве»).
«— Бывал ли ты во Пскове, этом прекрасном древнем городе?
— Во Пскове нет, а в Новгороде — приходилось…»
Видите, как обстоят дела?
В дальней древности нормальным употреблением было употребление предлога «въ» — вот в такой именно «двухбуквенной» форме, с «ером» на конце. Мне уже случилось говорить, что «ер» когда-то выражал гласный звук неполного образования.
Для других времён, пожалуй, можно было бы о нем сказать, что выражал он как бы «рудимент» гласного, как бы некоторый намек на то, что некогда тут гласный наличествовал. В дальнейшем в разных случаях и положениях «невнятный звук» этот мог претерпеть различные метаморфозы. В одних ситуациях он мог превратиться в «нормальный», ясно слышимый звук «о». В других мог окончательно исчезнуть, «яко воск от лица огня».
Добудьте из собственной вашей памяти некоторое число примеров на предлог «к», «ко» — старое «къ», и вы заметите, что там, где за ним следует скопление согласных, он устойчиво является в форме «ко»: «ко мне», «ко всякой всячине». А где этого «многосогласия» нет — «к моему дому», «к разной разности», — там появляется сократившаяся до одного согласного форма «к».
Можно без труда примеры на «во» и «ко» заменить примерами на «со». В дали времен все они были «двузвучными» словами; «односогласниками» их сделала прожитая долгая жизнь.
Такого термина — «односогласник» в науке нет. Я его придумал специально, чтобы обозначить эти «кратчайшие в мире слова». В самом деле, подумайте: какое же слово может быть короче состоящего из одного согласного? Из одного гласного — уже длиннее! Те можно «тянуть», «петь». Попытайтесь-ка, говоря словами Ломоносова, на букве К «всех доле отстояться» во время пения!..
Что процессы эти были долгими, ясно. Уже в «Слове о полку Игореве» мы находим в зародыше в виде «въ» и наши нынешние «в», и наши «во».
Что они были непростыми, свидетельствует разное протекание истории разных, по строению схожих, слов. Рядом с предлогами «ко», «во» у нас есть и предлог «по». Однако тщетно стали бы вы искать для него варианта «п». Его нет сейчас, не было в недавнем прошлом, да не существовало и в глубокой древности… И таких «двузвучных» предлогов немало в русском языке.
Нечто формально сходное с подобными процессами (именно формально, внешне; полной аналогии быть тут, вообще говоря, не может) можно найти и в других языках.
Французскому языку известен союз que; перед гласными звуками он, утрачивая конечную букву Е, превращается в двухбуквенное, но однозвучное словечко qu.
Звук — один, буквы — две… Не совсем то, что мы ищем.
Есть во французском языке и другие сходные случаи. Предлог de, описываемый в словарях как «предлог, которому в русском языке соответствует родительный, винительный, дательный и предложный падежи», там, где за ним следует гласный звук, получает вид d': de Moskou á Paris, но d'Alger á Moskou. По законам французского произношения звук «е» на конце слова перед гласным звуком «элидируется», исчезает. Значит, перед нами и есть долгожданное «цельносогласное» слово?..
Нет, утверждение неточно! D здесь сопровождается апострофом, а его дело — указать, что перед нами не целое слово, а только «кусок», обломок. Во французском словаре вы не найдете в разделена букву D статьи о слове «d». Вот статья о слове «de» на своем месте вам встретится. А ведь у нас рядом со статьей «во» вы обнаружите и статью «в»…
По-видимому, если не притягивать за волосы разные примерно схожие явления, слов «величиной в один согласный звук» и в обозначающую его букву в европейских языках нет, в славянских немного, а в русском — больше всего. Правда, причин для того, чтобы этим особенно чваниться, я, откровенно говоря, не нахожу. Но факт остается фактом.
Разрешив этот вопрос, можно заинтересоваться следующим: а слов-гласных много ли и где они распространены?
Гласных звуков в европейских языках много меньше, чем согласных. В русском языке, утверждают специалисты, вторых 35, первых всего 6.
С буквами азбуки дело, разумеется, обстоит иначе. Мы обычно насчитываем среди них 20 букв, изображающих согласные, и 10 для гласных. Но и это ненаучно: фонетисты смотрят иначе. Они считают, что среди наших согласных нет звука «щ», а есть только долгое мягкое «ш». Они укажут на согласный звук «й» (впрочем, вспомним, что мы уже сталкивались с различными точками зрения на звук «й»; не будем тут пытаться разрешить эту сложную для нас дилемму). Наконец, фонетисты откажутся причислять к гласным «ё», «ю», «я», да и «е» заменят гласным звуком «э», как чистым, свободным от йотации.
Иначе сказать, они будут говорить не о звуках и, уж конечно, не о буквах, а о фонемах, а это особая статья. Мы же говорим о буквах, которые в школах еще недавно называли «гласными буквами»; их у нас числится в азбуке 10; скажем — 9, отбросив спорную Й — «и краткое».
6 знаков, соответствующих гласным звукам, мы видим в латинских азбуках. И теперь мы можем посмотреть, какие же «одногласные слова» существуют и в западных языках, и в нашем.
Для удобства (а может быть, и для будущих ваших самостоятельных разысканий) я сведу все эти данные в следующую таблицу:
В русском языке — союз, междометие.
В английском — неопределённый артикль.
Во французском — форма третьего лица единственного числа от глагола avoir — иметь.
Во французском, испанском, итальянском, португальском — ряд предлогов.
В русском — междометие.
В итальянском — форма третьего лица единственного числа от глагола essere — быть, союз «и».
В русском — союз, междометие.
В английском — местоимение «я».
В русском — предлог, междометие.
В английском, голландском, испанском, итальянском, немецком — междометие.
В португальском — местоимение со значениями: «этот», «эти», «его», «ему», «оно», «вы», «сам».
В русском — предлог.
В испанском — союз «и».
Во французском — наречие со значением «тут, там».
В итальянском — вместо местоимения ove — где.
В испанском — взамен местоимения usted — тебе, вам.
В португальском — вместо местоимения onde — откуда, куда.
В русском языке — местоимение.
Теперь видите, насколько языки Европы богаче «одногласными» лексическими объектами (не принимайте этого неточного термина всерьёз!). На этом фоне значительное число наших русских «односогласных» слов-букв выглядит еще импозантнее.
А может быть, всё это не стоящие внимания пустяки?
Возможно. Но полезно в таких случаях не забывать слова Менделеева, сказавшего как-то, что глубокие истины нередко добываются путем изучения предметов, на взгляд малозначительных.
С
С — девятнадцатая, если, конечно, считать «необязательную» букву Ё, буква и у нас, и в классической латинице. Я сказал «в классической» потому, что народы Европы так энергично пополнили свои латинизированные азбуки всевозможными дополнительными письменными знаками, что указать общее для всех них азбучное место S немыслимо. В самом деле, у венгров S на 27-м месте. Удивляться нечему, поскольку венгерская азбука знает четыре вида разных «о», и каждая занимает свое место в алфавите. В чешской «абецеде» S — на 29-м, в польском «абецадле» на 30-м. Любой из этих народов усложнял добрую старую латиницу не стесняясь…
Кстати сказать, S венгерского языка вовсе не означает свистящего звука «с». Его произносят «ш»! Настоящее «эс» по-венгерски пишется в виде двух знаков — SZ, словно бы назло тем пользующимся латиницей народам, которые сочетанию букв SZ придают звучание «ш», хотя бы тем же полякам.
Латинская буква S произошла от греческой «сигмы» — Σ, которую мы сейчас чаще встречаем в качестве одного из буквенных символов высшей математики…
В старославянской азбуке буква С — «слово», означала число 200.
Звонкой парой к звуку «с» является наше «з». В латинских алфавитах «с» и «з» обычно выражаются одним знаком — S. Читается он по-разному, в зависимости от его положения между другими буквами. Там S звучит, как наше «с» перед и после согласных, а также в началах слов. Впрочем, французы произносят слово «солнце» — soleil — «солей», а немцы Sonne — «зоннэ».
У французов слово stabilisme — «политический консерватизм» произносится как «стабилизм», а немец свои вариант этого же слова — Stabilismus — прочтет как «штабилизмус»: в немецком S перед «п» и «т» выговаривается как «ш»…
Всё это нам, русским, кажется довольно странным и заставляет пожать плечами: «Почему бы им, западным, не взять пример с нас. С она «с» и есть… Шипит, как змейка, и всюду одинакова…»
Так ли это? Возьмите слово «просьба». Ведь иностранец тут непременно напишет З, потому что выговариваем-то мы ясно «прозьба», а пишем С лишь по той причине, что в глаголе «просить» слышно ясное «с». И в слове «сжечь» вы вовсе не слышите, хоть и пишете, «сж», а ясное «зж». А в «хочу сшить новое пальто» — бесспорное «шш» — «шшить»!
Повторю в сотый раз: нет никаких оснований, имея дело с языками, грамматиками, правописаниями, произношениями, устанавливать «табель о рангах» и присуждать всем им степени и звания: «лучше», «хуже», «звучней», «неблагозвучней»… Все эти оценки крайне субъективны, а чаще всего так же мало соответствуют их реальным качествам, как, скажем, те оценки «звуков языка», сделанные Бальмонтом, которые я приводил.
Чваниться своим письмом нам не к лицу, но и прибедняться тоже не пристало. Вот как охарактеризовал славянскую письменность большой советский ученый Л. Якубинский:
«Этот алфавит, по единодушному мнению нашей и европейской науки, представляет собой непревзойденный образец в истории новых европейских алфавитов и является результатом необычно тонкого понимания составителем фонетической системы того языка, для которого он был составлен… Он не идет ни в какое сравнение с латинообразными европейскими алфавитами, в которых латинские буквы неуклюже приспособлялись для передачи звуков различных европейских языков…»
Я не буду ручаться головой, что Якубинский был при этой оценке холоден и беспристрастен, как авгур, но в основном, кажется мне, с ней можно согласиться.
У нас нередко случается, что маленькие русские дети, учась говорить, вместо «ш» произносят «с». Шепелявое «с», случается, остается в их речи и на долгие годы.
В большинстве латиноазбучных языков буква S так или иначе принимает участие в образовании многобуквенных знаков для передачи звука «ш». Впрочем, об этом еще успеется поговорить подробнее, когда дело дойдёт до буквы Ш.
В старославянской азбуке буква С называлась «слово». Имя было по тем временам наипочётнейшее, поскольку «слово» было одним из имен-определений бога.
Думается, однако, что и для нас, словесников (а я надеюсь, что три четверти читателей моей книги окажутся по вкусам и пристрастиям своим «словесниками»), это существительное звучит достаточно почтенно и благозвучно.
Т
Наша буква Т носила некогда упрямое имя «твердо». Я не скажу, какая именно игра мысли заставила наших далеких предков так назвать этот письменный знак: ведь было сколько угодно других слов, начинавшихся со звука «т».
Буква Т произошла от греческой «тау». Она имела числовое значение 300. Ни в какое «слово-согласный» она у нас не превратилась, хотя и используется как «инициальное» сокращение: «и т. д.» — и так далее, «и т. п.» — и тому подобное, «тт.» — товарищи. Но это не слова. Такие обозначения возможны при каждой букве.
Выговаривая русское «т», вы приставляете кончик языка к зубам. А у англичан кончик языка касается не самих зубов — альвеол. Альвеолы — нёбо непосредственно за рядом зубов. По этой причине английское «t» звучит совсем не так, как наш звук «т».
В русской речи наблюдают еще один оттенок «т», который ученые усматривают в таких словах, как «тропа», «разбитной», определяя его как смычное «т», но мы в такие тонкости забираться не станем.
Прописные Т и в русской, и в латинских азбуках совпадают по форме; что до начертания строчных, особенно рукописных, то оно представлено множеством вариантов. Я помню, как в гимназии я каждый год — из озорства — переменял строчное Т в своих письменных работах. Я начал с «m», потом перешёл к «Т», наконец, выкопал в какой-то прописи образец вот «акой» формы, а на каждое возмущение преподавателей языка приносил в класс нужную пропись. Заниматься сейчас всеми этими «подвидами» нашей буквы Т я не буду — место этому в специальных работах по графике.
Так как я уже указывал на парность в нашей фонетической системе звуков «д» и «т», то не буду повторять случаи, когда буква Д в чтении начинает звучать как «т», а ограничу себя обратными примерами. Крикните громко «отдай!» — услышите ясное «аддай», но на письме оставите здесь Т по причинам не фонетическим, а морфологическим. Мы все время оглядываемся, пишучи, на морфемный состав слова, а тут оно состоит не из «ад» и «дай», а из предлога-приставки «от» и основы «дай».
У
Каждому, кто впервые знакомится с латинской азбукой, бросается в глаза: их «игрек» как две капли воды похож на нашу букву У. Звуки же, которые эти две буквы выражают, весьма мало сходны. Откуда же тогда одинаковость начертания?
Имя «игрек» по-французски означает «и греческое». Название это во Францию пришло вместе с самой буквой из латыни, потому что уже в языке римлян буква Y употреблялась лишь в словах заведомо греческого происхождения, там, где сами греки ставили свой «ипсилон».
Взяв букву у соседей, римляне ненамного изменили её, если говорить о начертании. А вот что до звука…
«Ипсилон» у греков передавал особый звук, на наш слух напоминающий одновременно и «и» и «ю» (в слове «люблю»). Чтобы обозначить звук, подобный нашему «у», они применяли буквосочетание OU. Там же, где в начале слова стоял их «ипсилон», нам очень трудно подобрать примеры, чтобы хоть намекнуть на его произношение, тем более что нередко этот начальный «ипсилон» предшествовался ещё и особым придыханием. Мы теперь пишем слова «гиперболоид» или «гипертония» через Г и И. Между тем оба они начинаются с греческого предлога υπερ — над, который выговаривался вовсе не «гипер», но и не «юпер», а как нечто среднее между двумя этими возможностями.
Создатели старославянской азбуки неохотно отказывались от букв и звуков, существовавших в языке Византии. Дойдя до буквы Ъ и узнав о «хомовом пении», вы поймете, как далеко может завести подобное преклонение перед «буквой священного писания». Позаимствовали они и двухбуквенное ОУ, хотя и У вполне было бы достаточно для славянского звука.
Древнерусские грамоты понемногу освобождались от этого «лишнебуквия». Но только после реформы 1700-х годов в азбуке нашей остался один знак для звука «у» — известная нам «игрекообразная» буква. Она была уже в кириллице достаточно похожа на наше нынешнее У, разве только несколько более остроугольное. В послепетровские времена она подгримировалась под модные европейские формы.
Так произошло совпадение этих двух литер. Только начав с «полу-и, полу-ю», мир восточный и западный как бы разорвали один эталон на два: у нас «игрек» стал означать «у», в Западной Европе — кое-где «и» особого оттенка, а кое-где и совсем другие звуки.
Нельзя при этом упускать из виду, что и мы у себя дома переломили «ипсилон» пополам: из одной его половины мы сделали наше У, а другая долгое время жила в нашей азбуке под псевдонимом «ижицы». «Ижица» взяла на себя точную передачу тех греческих слов, в которых был «ипсилон».
Народы же, принявшие «игрек» вместе с латиницей, стали тоже употреблять его в разных случаях с разным звуковым наполнением. Во Франции вы теперь встретите Y, скажем, в названии тибетского быка — yak — як, о котором греки и представления не имели. И понятно. Воспользуйся французы здесь «йотом», у них получилось бы слово jak — «жак», которое звучало бы как имя Jaques — Жак. Неудобно. Даже особой формы крючок из инструментария стекольщиков получил название y-grec, по-видимому, как раз за свою буквообразную форму. Но появились и чисто французские слова, и даже состоящие из одной буквы Y: наречие «у», означающее «тут, там, туда»; относительное местоимение «у» — употребляемое взамен «этого, того, что»: Comment у remèdier — «Как этому помочь?».
Французское имя буквы Y — «греческое и» исторически обосновано. Совсем другие причины заставили англичан наименовать эту же букву «уай». Впрочем, как «уай» она, по-моему, очень редко произносится, если только произносится вообще. Обычно ею означается начальный «йот» в таких словах, как yankee, yard. С таким же успехом, однако, Y означает звукосочетание «ай» в словах, подобных fly — муха, как обычный «и» он звучит в редком этнониме ynka — инка.
Букве Y вообще повезло, если так можно выразиться о букве: в польском варианте латиницы она служит для обозначения звука «ы», услышав который в ужасе бежали бы и греки, и римляне. Финны использовали ее же для передачи звука «ю» (точнее, латинского «и»): уо — ночь, yksi — один. Ленинградцы привыкли читать на бортах туристских финских автобусов завершающие ряды длинных собственных имен фирм буквы OY, которые означают «акционерное общество», и именно буква Y есть начало слова «юхтиё» — общество.
У чехов буква Y означает долгий звук «и», если над ней стоит диакритический клинышек; и краткий звук «и», если этого клинышка нет.
Теперь про букву У «все сказано».
Следует, может быть, еще добавить, какими способами выражают народы мира звук «у»? Но тут уж всяк молодец на свой образец в буквальном смысле этого слова. Французский язык, наподобие древнегреческого и старославянского, постоянно передает звук «у» при помощи двузначного OU; это не вызывает недоумения, поскольку U в одиночестве у них читается как «ю», а не как «у».
Англичане, конечно, как и всегда, удивляют мир орфографической находчивостью. У них буква U произносится порою как «йу» — так, скажем, слово modul — «модуль» читается у них как «модйул». А «у» можно в Англии выразить либо через OO — moon — луна, а порой как OU — mousse — мусс.
Английская орфография говорит сама за себя!
«Фу» — история
Эту историю я рассказываю не в первый раз: мне она доставляет удовольствие.
Мало сказать «удовольствие». Именно потому, что она случилась в 1927 году, я в 70-х годах являюсь писателем, пишущим о языке. Как так?
В конце 20-х годов мы с приятелем вздумали написать авантюрный роман. Чтобы заинтересовать читателей, мы придумали ввести в него «зашифрованное письмо». Ввести так, чтобы оно было и зашифровано и расшифровано «у всех на глазах»: уж чего увлекательнее!
Письмо было написано: враги СССР, пробравшиеся из-за границы, извещали в нем друг друга, что надлежит уничтожить в пух и в прах три важнейшие отрасли хозяйства СССР: уголь, транспорт и нефть. Это-то письмо и надо было зашифровать.
Я шифровать не умел, но мой друг делал это великолепно. Он предложил метод, при котором текст зашифровывается при помощи шахматной доски и заранее выбранной всем хорошо известной книги. Всюду легко добываемой.
Допустим, вы выбрали бы Ломоносова, «Га и глаголь», и зашифровали свою записку по нему. Где нашел бы расшифровщик собрание сочинений Ломоносова?
А стихи Пушкина всегда легко достать. Мы выбрали средней известности стихотворение: балладу «Русалка». Не пьесу, а балладу, имейте в виду…
Мой друг, мастер шифрованья, взял у меня старенький, еще дореволюционный томик Пушкина и отправился домой с тем, чтобы к утру по телефону продиктовать результат.
Но позвонил он мне еще тем же вечером. «Да, видишь, Лева, какая чепуха… Не шифруется по этим стихам… Ну, слово «нефть» не шифруется: в «Русалке» нет буквы «эф»… Как быть?
— Подумаешь, проблема! — легкомысленно ответил я. — Да возьми любое другое стихотворение, «Песнь о вещем Олеге», и валяй…
Мы повесили трубки. Но назавтра он позвонил мне ни свет ни заря:
— Лёва, знаешь, в «Песни о вещем…» тоже нет «эф»…
— Ни одного? — удивился я.
— Ни единственного! — не без злорадства ответил он. — Что предлагаешь делать?
— Ну я не знаю… У тебя какие-нибудь поэты есть? Лермонтов? Крылов? Ну возьми «Когда волнуется…». Или «Ворона и лисица»… Нам-то не всё ли равно?
В трубке щёлкнуло, но ненадолго. Через час я уже знал; ни в «Желтеющей ниве», ни в «Вороне взгромоздясь» букву Ф найти не удавалось…
Вчера можно было еще допустить, что Пушкин страдал странной болезнью — «эф-фобией». Сегодня обнаружилось, что и прочие поэты первой половины XIX века были заражены ею…
Не представляя себе, чем это можно объяснить, я все же сказал:
— Знаешь, возьмем вещь покрупнее… Ну хоть «Полтаву», что ли?
Там-то уж наверняка тысяч тридцать-сорок букв есть. При таком множестве весь алфавит должен обнаружиться…
Мой покладистый шифровальщик согласился. Но через три дня он же позвонил мне уже на грани отчаяния: в большой поэме, занимавшей в моем однотомнике пятнадцать страниц в два столбца, страниц большого формата, ни одной буквы Ф он не нашёл.
Признаюсь, говоря словами классиков: «Пришибло старика!», хотя мне и было тогда всего 27 лет.
Вполне доверяя своему соавтору, я все же решил проверить его и впервые в жизни проделал то, что потом повторял многократно: с карандашом в руках строку за строкой просчитал всю «Полтаву» и… И никак не мог найти Ф среди тысячи, двух тысяч её собратьев…
Это было тем удивительнее, что ближайших соседок Ф по месту в алфавите — У, X, Ц, Ч — не таких уж «поминутных, повсесловных букв» — находилось сколько угодно.
Первые 50 строк поэмы. В них: X — 6 штук, Ц — 4, Ч — 4.
А уж букв У так и вообще 20 штук, по одной на каждые 2,25 строчки.
Правда, «у» — гласный звук, может быть, с ними иначе. Но и согласных… Если букв X в 50 строках 6, то в 1500 строках всей поэмы их можно ожидать (понятия «частотность букв в тексте» тогда не существовало, до его появления оставалось лет двадцать, если не больше), ну, штук 160–200… Около 120 Ц, столько же — Ч… Почему же Ф у нас получается ноль раз?
Не буду искусственно нагнетать возбуждение: это не детектив. Мой друг ошибся, хоть и на ничтожную величину. Он пропустил в тексте «Полтавы» три Ф. Пропустил их совершенно законно.
Возьмите «Полтаву» и смотрите. На 378-й строке песни I вам встретится словосочетание: «Слагают цыфр универсалов», то есть гетманские чиновники «шифруют послания». Вот это Ф мой друг пропустил непростительно: недоглядел. А два других Ф были совсем не Ф. 50-я строка песни III гласит: «Гремит анафема в соборах»; 20-я строчка от конца поэмы почти слово в слово повторяет её: «…анафемой доныне, грозя, гремит о нём собор».
Но беда в том, что в дореволюционном издании слово «анафема» писалось не через Ф, а через Θ, и друг мой, ищучи Ф не на слух, а глазами, непроизвольно пропустил эти две «фиты».
Осуждать его за это было невозможно: я, подстегиваемый спортивным интересом, и то обнаружил эту единственную букву Ф среди 33 тысяч других букв при втором, третьем прочтении текста.
Обнаружил, но отнюдь не вскричал «Эврика!» Одно Ф приходится на 33 тысячи букв. Это немногим проще, чем если бы его вовсе не оказалось. Что это за «белая ворона», это Ф? Что за редкостнейший бриллиант? Что за буква-изгой, почему она подвергнута чуть ли не удалению из алфавитного строя?
Вы не додумались до решения?
Хорошо бы, если бы кто-либо из вас — ну хоть десять из ста читателей — взяли в руки том Пушкина, развернули его на «Борисе Годунове» и прошлись бы по нему с карандашиком в поисках буквы Ф.
Тогда бы обнаружилось вот что.
В народных и «простонародных» сценах трагедии — в «Корчме на литовской границе» или там, где боярин Пушкин, «окруженный народом», идет мимо Лобного места, — вы ни одного Ф не увидели бы.
Но, оторвавшись от этой «земли», вознесшись, скажем, в «Царские палаты», вы углядели бы, как царевич Федор чертит геограФическую карту и как порФира вот-вот готова упасть с плеч истерзанного страхом и совестью Бориса. Три Ф!
Перемеситесь в помещичий, ясновельможный сад Вишневецких, и над вами тотчас расплещется жемчужный Фонтан. На «Равнине близь Новгорода Северского» русские воины говорят по-русски — и ни одного «ф» нет в их репликах, а вот командиры-иностранцы роняют их одно за другим. Пять раз произносит звук «ф» француз Маржерет (один раз даже зря: фамилию «Басманов» он выговаривает с «ф» на конце). И немец Розен восклицает: «Hilf gott». И это совершенно законно: русский язык не знает звука «ф» одновременно и чисто русского, и выражаемого буквой Ф. Вот так: не знает!
Мы постоянно произносим «ф», но пишем на этом месте В: «всегда», «в слове». Мы должны были бы писать «фторой», «крофь», но звук «ф» во всех этих случаях выступает под маской буквы В.
Не надо думать, что он тут какой-то «фальшивый». Он ничуть не хуже любого «ф», выраженного этой буквой… Разница только в том, что по правилам нашего правописания, в котором сочетаются и фонетический, и морфологический, и исторический принципы, мы пишем В не только там, где слышим «в», но и там, где его должно ожидать по историческим и морфологическим причинам. «Фёдоров» — потому что «Фёдорову», «в саду» — так как «в зелёном саду» или «в осеннем саду»… Имя Пров мы пишем через В, а не через Ф лишь потому, что оно произошло от латинского слова probus — чистый, а из латинского В русское Ф получиться не может.
Вот почему буква Ф стоит у нас почти исключительно там, где налицо нерусского происхождения (хотя, возможно, и давным-давно обрусевшее) слово.
Фагот — из итальянского fagotto — связка.
Фагоцит — греческое — пожирающий клетки.
Фаза — из греческого «фазис» — появление.
Фазан — греческое — птица с реки Фазис (теперь — р. Рион).
Это слова с Ф в начале. А с Ф в конце?
Эльф — немецкое — дух воздуха.
Гольф — английское — игра в мяч.
Сильф — греческое — мотылек, фантастическое существо.
Шельф — английское — мелководное прибрежье океанского дна.
Буфф — французское — комическое, забавное представление.
Я не рыскал по словарям. Я взял слова почти подряд в любопытнейшем «Зеркальном словаре русского языка» Г. Бильфельдта.
Вот слова с Ф внутри придется выбирать уже подряд, но среди слов, начинающихся на другую букву:
Кафедра — греческое — седалище.
Кафель — немецкое — изразец.
Кафтан — персидское — род халата.
Кафе — французское — ресторанчик…
Словом, чисто русских слов с Ф в начале, середине или конце практически почти нет, не считая международного хождения междометий: «фу», «уф», «фи» и тому подобных.
Теперь прояснилось, почему стихотворения наших поэтов-классиков так бедны буквой Ф, особенно в начале прошлого века? В те дни наша великая поэзия только рождалась; ее мастера гордились чисто русским, народным словом своим и по мере сил избегали засорять его лексикой салонной, светской, «франтовской»… «Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет…» — писал Пушкин в «Евгении Онегине». До слов же научных дело еще не дошло…
Помню, меня не на шутку поразило, когда мне открылось, что найденное нами «отсутствие» Ф в стихах Пушкина, Лермонтова и других тогдашних поэтов было не случайностью, а закономерностью. Каюсь, я сообразил это не сразу, хотя и был уже второкурсником филологического вуза. Навсегда запомнив, как удивила, как обрадовала меня подсмотренная случайно в языке законообразность, я и принял решение когда-нибудь в будущем начать писать книги по «Занимательному языкознанию». Та, которую вы держите в руках, уже шестая в их ряду. По-видимому, впечатление оказалось «долгоиграющим»… А ведь возникло оно от случайного наблюдения над единственной буквой.
Ф
Я ввожу эту главку после столь длинной интермедии почти что только для соблюдения порядка. Что ещё расскажешь? Самое необходимое.
Ф нашей азбуки носило в кириллице задорное имя «ферт». В финикийской «праазбуке» знака для звука «ф» не было, в греческой письменности соответствующая литера именовалась просто «фи».
Вот я сказал: «задорное имя». А почему задорное? Что оно означает? Среди этимологистов и по сей день на этот счет нет согласия.
Допускают, но далеко не все, что слово «ферт» взято у греков, где «фюртэс» значило «нарушитель спокойствия, озорник».
Малоубедительная этимология; тем более что другие названия славянским буквам либо просто измышлялись заново, уже на славянской почве, и таких большинство, либо же переносились сюда именно как наименования греческих букв, скажем, «фита». Слово «фюртэс», насколько мы знаем, греческой буквы не называло.
Совсем неправдоподобны поиски общего между «фертом» и готским руническим именем «Пертра». Может быть, всего более похоже на истину допущение, что слово «ферт» за отсутствием славянских слов, начинающихся на этот звук, было выдумано, как говорится, ad hoc — именно для этого случая и чисто звукоподражательно.
Найдутся читатели, которые подумают: «Перемудрил автор! Чего ж проще: название буквы «ферт» произошло от слова «ферт», означающего франта. Говорят же «стоять фертом»? А «ферт», «фертик» у нас вполне употребительное и не слишком одобрительное выражение».
Представьте себе: тут все с ног переставлено на голову. Именно этот «ферт II», как пишут в словарях, происходит от «ферт I», названия буквы. И первоначально, судя по всему, означало именно «подбоченившуюся, ручки в боки» фигурку, а потом уже и франтика, щеголька, бального шаркуна, нахала… Вспомним народные и литературные употребления этого образа:
«Станет фертом, ноги-то азом распялит!» — ворчит кто-то из героев Мельникова-Печерского. «Там я барыней пройдуся, фертом, в боки подопруся!» — похваляется Бонапарт в одной народной песне, цитируемой Далем.
Я успел рассказать о междоусобицах между «фертом» и «фитою», но уж очень красочно подтверждает все мною сказанное один из эпизодов «Очарованного странника» Н. Лескова.
«— А потом я на фиту попал, от того стало еще хуже.
— Как «на фиту»?
— …Покровители… в адресный стол определили справщиком, а там у всякого справщика своя буква… Иные буквы есть очень хорошие, как, например, «буки», или «покой», или «како»: много фамилий на них начинается, и есть справщику доход. А меня поставили на «фиту». Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется, и то ещё… кои ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят; кто хочет чуть благородиться, сейчас себя самовластно вместо «фиты» через «ферт» ставит. Ищешь-ищешь его под «фитою», а он — под «фертом» себя проименовал».
Как почти всегда у Лескова, тут нет никакого преувеличения.
И сегодня можно тысячею способов удостовериться в неравномерном распределении слов, имён, фамилий, названий городов по буквам алфавита.
В дни выборов к некоторым столам стоят все «однобуквенные» граждане за получением бюллетеней с фамилиями на О, на П, на К. А поодаль, на других столах, вы можете увидеть объявления с двумя-тремя, а то и четырьмя-пятью буквами: Ш, Щ, Э, Ю, Я. Сюда будут стоят и Шапкины, и Щегловы, и Эрдманы, и Ясеневы, и все-таки их очередь кончится скорее, чем очереди «Н… вых» или «К… ных».
Пожалуй, на этом я и закончу разговор о букве Ф, о добром, старом «ферте» кириллицы.
Х
Наше X, через букву в кириллице, именовавшуюся «хер», произошло от греческого «хи». «Хи» передавало звук, довольно сходный с нашим «х», но произносившийся с придыханием.
Этимологи славянское название «хер» рассматривают как сокращение от древнего слова «керубим» — так в иудейской, а затем и в христианской религии называлась разновидность «чинов ангельских» — херувимы.
Без всякой связи с этим «высоким» происхождением крестообразная форма буквы родила в русском языке новое слово «херить», «похерить» — сначала в значении «крестообразно зачеркнуть», а затем и вообще «отменить», «упразднить», «уничтожить»…
Мы и сегодня употребляем это слово, хотя и с некоторой осторожностью: вовсе не по его вине. Подчиняясь тому, что мы именовали «акрофоническим принципом», оно стало сначала в имистическим замещением непристойного слова, а лотом стало употребляться как его синоним. Но старославянские грамотеи даже и не предполагали возможности подобных нечестивых метаморфоз.
Может быть, вас заинтересует попутно, почему латиница, усвоив греческое «хи», стала обозначать ею совсем другой, сложный греческий же звук «кс», для которого в греческой азбуке существовала причудливого вида буква «кси» — ξ, в прописной форме выглядевшая совсем уж странно Ξ. Почему они не приняли её к употреблению?
Увидев свои слова «ксэнос» и «ксэрос» написанными на латинский лад через X вместо «кси», грек непременно прочёл бы их «хенос» и «херос».
Но римлянам это было совершенно безразлично, так как у них ничего похожего на греческое «кс» в языке не было, и букву X они употребляли исключительно в греческих словах. Для того же звука, который теперь, изучая латинский язык, мы называем «ха», римляне довольно естественно использовали греческую «эту», у греков передававшую звук «э» с придыханием.
Именно поэтому имя греческой красавицы Ηλεγη мы теперь произносим как «Елена», а западные языки изображают его как Helene.
Взаимная передача средствами латиницы русской буквы X, а средствами нашей азбуки — европейской буквы H представляет затруднения.
Посмотрите, как сложно и неточно передает французская письменность наше название Харьков — то Cahrkow, то Harkoff, а то и просто как Karkof…
Но и нам ничуть не легче правильно, с точки зрения самих французов, передать любое их слово, начинающееся с Н.
Таких слов во французском языке уйма; масса и таких имен. Многие из них попадают в русскую речь и подвергаются ужасному искажению.
Любители детективной литературы отлично знают француза сыщика Эркюля Пуаро, постоянного героя романов Агаты Кристи. Но мало кто догадывается, что Эркюль — просто приспособление к нашей азбуке имени, которое по-французски пишется Hercules и во всех других случаях в России передается как… Геркулес.
Русская буква X передает глухой фрикативный звук, парный тому звонкому, который послужил поводом для разногласий между Ломоносовым и Тредиаковским. Теперь никто из русских не пользуется звонким фрикативным «γ» при произнесении тех слов, в которых его встречали наши предки — «бογ», «γосподь», «блаγо». Зато появилось обыкновение произносить этот южнорусский или украинский «у» там, где он отродясь никогда не стоял и нормами русской литературной речи не предусмотрен: «уора», «врауам»…
И буква Ф, и буква X могут выражать и твёрдые и мягкие звуки «ф» и «х». Но вот что любопытно: насколько обычно в нашем языке буквосочетание ФЬ, настолько невозможно равносильное ему ХЬ. В конце слов, если верить словарю Бильфельдта, мы можем указать всего одно слово с ФЬ — «верфь». На ХЬ, по его данным, не оканчивается ни одно русское слово.
Ц
Буквы Ц и Ч обозначают аффрикаты. Аффриката — сложный согласный звук, но не всякий, а лишь такой, который состоит как бы из двух согласных же звуков, образуемых при одном и том же общем положении органов речи. Чтобы произнести то, что выражала буква «пси» кириллицы, необходимо сначала сомкнуть губы для звука «п», затем разомкнуть и перевести их и язык в положение, необходимое для произнесения звука «с». Поэтому для русского языка «пс» не аффриката. Такое звукосочетание строится как бы в два приема, а аффриката — одноступенно.
А теперь произнесите «ц». При углубленном изучении «ц» тоже оказывается двухсоставным звуком — «т» плюс «с». Но оба элемента рождаются в одном и том же месте полости рта, при нахождении кончика языка у передних зубов. Не надо прекращать одно из положений, что-бы начать приведение органов речи к другому.
То же и со звуком «ч», только вторым составляющим здесь является не свистящее «с», а шипящее «ш».
Постоянно случается, что пары звуков, внешне очень похожие, появляются без их объединения в аффрикаты: «отсадить» — это одно: «воцариться» — совершенно другое; «отшуметь» — далеко не то же самое в фонетическом отношении, что «очуметь». В одних случаях перед нами некие звукосочетания, в других — вроде бы те же звуки, но уже спаянные в аффрикаты.
Русскому человеку, привыкшему слышать «ч» как единый и неделимый звук, разложение его на элементы представляется, пожалуй, даже какой-то схоластикой. Однако, встретясь с английским и итальянским звуком который мы воспроизводим как «дж» — jem — джем, мы по-первоначалу бываем убеждены, что в этом слове четыре звука, так как по-русски оно пишется в четыре буквы. Точно так же француз и немец считают, что в слове «чума» по меньшей мере шесть, а то и семь звуков: один его напишет — tchuma, а другой так и вовсе — tschuma.
В итальянском и английском языках есть своя аффриката «ч». Англичане изображают ее через две буквы — СН. Русскую фамилию Чернов они могут передать как Chernow. Итальянцы изобразят её ещё проще — Cernov, потому что услышат в нашей букве Ч один звук. А вот французам название города Черновцы досталось бы не без труда: им пришлось бы превращать его в Tchernovtsi…
Наше Ц происходит от кириллического «цы». Слово означало некогда наречие «разве», «или». «Еда есть пес цы луковый бес», то есть «обжорство — дело собачье или бесовское», — сказано в одном «Житии» XIII века. Но трудно теперь утверждать, что наименование буквы пошло отсюда. Вполне возможно, что, утомясь от измышления буквенных «значимых имен», наши предки к концу алфавита могли перейти и на более простой способ, как мы, называющие Ц — «це» и Ч — «че»…
Мы уже видели, что на Западе наше «ц» выражают комбинациями букв Т, S, Z. Так как некоторые из них могут нести в разных языках неодинаковую функцию, то и прочтение иных слов, если переходить «из языка в язык», может вызвать недоразумение. В Париже вывеска над магазином, где продают животных — Zoo, — читается привычно для нас «зоо». В Берлине же точно так написанные три буквы должны быть прочтены уже «цоо».
Но если ещё в Германии человек, в конце концов, будь он французом или русским, привыкает произносить это слово на тамошний лад, то сложнее получается, когда оно, изъятое из своей языковой среды, переносится без особых предупреждений в другую, чуждую. У писателя В. Шкловского есть книга лирической прозы, названная именем Берлинского зоопарка — «Zoo». Это заглавие крупными буквами печатается на обложке, но мне очень редко приходилось за последние полвека с момента выхода книги в свет слышать, чтобы кто-либо, кроме людей, бывавших в Германии или отлично знающих немецкий язык, называли её «цоо». Большинство говорит «зоо», а о французах уж и упоминать нечего…
Что до остальных европейских языков — польского, венгерского, чешского, — поинтересуйтесь сами в их словарях, как они расправляются графически с этими звуками. Не заглядывайте только в словарь финского языка. Ничего не найдете. И понятно: зачем финнам буквы С или Ц, если они таких звуков слыхом не слыхали?!
Ч
Кириллическая буква для звука «ч» выглядела как двурогий церковный подсвечник-дикирии — . Название её было «червь». Только не следует думать, что слово это означало «червяк»; в древнерусском и славянском языках «червь» — красная краска. Слово «червонное золото» означало, собственно, «красное золото».
У двух аффрикат «ц» и «ч» немало любопытных свойств. Во многих говорах русского языка они, например, смешиваются. В ряде мест России слово «чёрт» произносится как «цорт», в других местах вместе «церковь» говорят «черква». Бывает, что одни и те же говорящие одновременно и «цокают» и «чокают». Иногда этот парадокс объясняется сознанием «неправильности» собственной речи: «цокающий» как бы перехватывает через край в стремлении избавиться от «цоканья» и начинает «чокать» там, где это явно противопоказано.
Аффрикаты эти близки друг другу. Но в то же время в них много противоположного.
«Ц» всегда звучит по-русски как твердый согласный. Слово «цилиндр» мы выговариваем как «цылиндр».
А «ч» у нас не бывает твердым. Какие бы звуки ни следовали за ним, он звучит как «тшь», а не как «тш». Даже набрав «для убедительности», как было сказано у одного юмориста, слово «жирный» жирным шрифтом, а слово «черный» — черным шрифтом, вы не заставили бы читателя прочесть тут твердое «ч» и мягкое «ж»,
«Э, нет! — может сказать мне читатель дотошный и упрямый. — А как же такие слова, как «дочь», «печь», «ночь»? Мы пишем «ночь» и рядом «мяч»? Есть же разница?»
Нет разницы! Ь после Ч является пережитком, рудиментом тех времен, когда слова эти звучали с гласным неполного образования вслед за «ч». Ь, вставший на его место, мы храним теперь лишь как знак, что данные существительные являются именами женского рода.
Буквы Ч и звука «ч» греки не знали. Нет специального знака для «ч» и в латинских азбуках европейских языков. Его функции поручают другим буквам, буквам с разными значками или буквосочетаниям. Вот маленькая табличка, в которой я собрал такие варианты.
польский язык — CZ
итальянский — С
английский — СН
испанский — СН
турецкий — С
венгерский — CS
французский — ТСН
финский — ТСН
шведский — СН
Как видите, немало потрачено остроумия, чтобы передать звук «ч». А не пора ли было бы представителям всех латинизированных алфавитов мира взять да и договориться, чтобы повсюду соблюдалось хоть относительное единообразие в приемах выражения одних и тех же звуков примерно теми же буквами? Ведь невольно вспоминается сердитое неодобрение Л. Якубинского по адресу составителей европейских алфавитов, в которых латинские буквы «неуклюже приспособлялись для передачи звуков различных европейских языков».
Оказывается, не так-то все это просто!
Западное «ч» и наше — не совсем одинаковые звуки. Западное несколько тверже русского. Можно легко себе представить звонкую аффрикату, парную к «ч». Во многих языках она есть — «j», что-то вроде «джь». Тонкие наблюдатели находят, что такой звук появляется в речи и у нас в словах «дрожжи», «можжить». Впрочем, буквы для этого звука у нас так или иначе нет.
Заметим: хотя звук «ч» у нас всегда мягкий, за буквой Ч никогда не следуют буквы Е, Ю, Я. Мы пишем «чай», «чума», «чомга»… Непонятно, почему: «чёрный» и «чёрт», хотя никому не приходит в голову начертать — «чёпорный» или «чёкнутый»? Впрочем, в вопросах правописания далеко не все поддается рациональному истолкованию…
«Золотой жук» и закон буквы
Читали ли вы увлекательный (особенно в те дни, когда вы были ребенком) рассказ Эдгара По «Золотой жук»?
Напомнить его содержание, видимо, всё же придётся.
Разорившийся богач, франко-американец, находит в песке на океанском берегу Северной Америки клочок пергамента. Случайно нагрев его, он заметил изображения — черепа и козлёнка — в разных углах куска кожи.
Этот Легран — человек логического ума. Он быстро догадывается, что перед ним написанная симпатическими чернилами записка пирата (череп) Кидда («кидд» — козленок). Проявив остальной текст более энергичным подогреванием, Легран видит запись, состоящую из тайных значков.
К удивлению своего туповатого друга-рассказчика (точь-в-точь доктор Ватсон Конан-Дойля), этот Шерлок Холмс начала XIX века, потрудясь, прочитывает непонятную записку и отправляется с верным слугой-негром и этим своим другом в дикие заросли холмистого побережья, где находит клад капитана Кидда, спрятанный в земле лет двести или триста назад.
Ему приходится объяснять потрясенному другу, как он дошел до истины. Тут-то и оказывается, что помог ему осуществить это «закон букв». Как же воспользовался им он?
Найдя непонятные знаки, Легран заметил: не все они одинаково часто встречаются в грамотке. Чаще всего попадался значок в виде цифры 8. Почему? Раскинув умом, Легран вспомнил: в английской письменной речи самая часто встречающаяся буква — Е. Значит, можно допустить, раз автор — Кидд и документ должен быть написан по-английски, что восьмерка и есть Е.
Попались ему и две-три пары восьмерок, значит, все 88 надо записать как ЕЕ.
Раз так, ясно стало ещё одно существенное обстоятельство. Перед половиной английских существительных стоит определенный артикль — THE. Значит, там, где встречается слово из трех знаков с 8 на конце, это THE. Тогда и два других знака должны совпадать. Так и есть: много раз повторялись «точка с запятой», «четвёрка», «восьмёрка». Легран теперь узнал уже значение трёх разных букв! Началось же все с немногого: со знания, что буква Е встречается в английском языке чаще других букв. Таков закон этой буквы!
Долго ли, коротко ли, искусник прочел всю надпись и записал её содержание. «Доброе стекло в трактире Бишопа на чёртовом стуле двадцать один градус тринадцать минут на норд-норд-ост по главному суку седьмая ветка восточная сторона стреляй из левого глаза мертвой головы прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов…»
Мы бы сочли задачу нерешимой. Леграну она не составила труда. Он нашёл и «трактир Бишопа» — отвесный утес, и «чёртов стул» — неглубокую нишу на этом утесе. Он сообразил, что «доброе стекло» — подзорная труба, увидел в нее на суке дерева череп, спустил из глаза черепа, как отвес, золотого жука, отсчитал нужные футы, и…
«Одних золотых монет было не меньше чем на 450 000 долларов… Было 110 бриллиантов… 18 рубинов… 310 превосходных изумрудов, двадцать один сапфир и один опал… Мы оценили содержимое нашего сундука в полтора миллиона долларов…»
Рассказ написан, как это умел делать Эдгар По; если вам 14 лет, вы проглотите его. Если 44 — прочитаете с большим интересом. Я прочел его моему внуку-первокласснику — он слушал затаив дыхание.
Писать так о сапфирах и миллионах долларов легко. Но разве ненамного труднее с такой же увлекательностью рассказывать о… Да вот о «законе буквы», буквы Е английского языка, которая, вдруг оказывается, обладает свойством попадаться «чаще других букв» в английском письме. А значит, и о законах любых других букв?
Но я следил: и эту часть рассказа мой внук слушал, так же широко раскрыв глаза, так же волнуясь и переживая, как и ту, приключенческую, с бриллиантами…
Вы можете спросить у меня: «А они правильны, эти рассуждения Леграна, касающиеся букв? Ведь «Золотой жук» не языковедная работа: автор-фантаст мог допустить в нём какие угодно предположения и гипотезы, лишь бы они были занимательны и вели его к цели. Никто не запретил ему «к былям небылиц без счету прилагать».
Да, читая «Жука», там можно обнаружить и на самом деле немало чистых выдумок! Но с «законом буквы» все обстоит если и не «прецизионно», то достаточно точно.
Что, если попробовать произвести для русского языка такие же подсчеты, которые, будучи произведены некогда в Англии, дали в руки Леграну и отправной путь его расшифровки, и его полтора миллиона долларов?
Конечно, можно прямо полезть в справочники и выудить оттуда нужные данные. Но мне захотелось предварительно, на ваших глазах, уважаемые читатели, так же как когда-то я и мой соавтор в нашем романе «Запах лимона» зашифровывали таинственную записку, так же как Легран в «Золотом жуке» расшифровывал старую надпись на клочке кожи, — так же произвести для начала опыт таких подсчетов «своими руками».
Я сделал эксперимент, который, собственно, может повторить каждый из вас. Я взял пять фрагментов из совершенно неравноценных друг другу произведений пяти непохожих друг на друга, живших в разные времена, обладавших разной мерой таланта авторов. Писателей-беллетристов.
Я выбрал авторов не по моим личным склонностям: так в беспорядке лежали друг на друге пять книг на столе у моего сына.
Это оказались Чехов, раскрытый на «Бабьем царстве», Гарин-Михайловский — «Студенты», Куприн — «Белый пудель», Мамин-Сибиряк, в котором оставленный кем-то разрезательный ножик указывал на рассказ «В камнях», и, наконец, сборник научно-фантастических рассказов Лениздата «Тайна всех тайн», в котором помещен мой рассказ «Эн-два-о, плюс икс дважды».
Никаких возможностей сравнения, ни малейшей нарочитости в выборе; объективность подсчетов гарантирована.
Я решил у всех этих авторов рассмотреть по 12 первых строк их указанных произведений: еще объективнее; не по выбору, а кто с чего начал!
Шрифты и форматы книг были, конечно, неодинаковыми, но при беглом анализе выяснилось, что в этой дюжине строк всюду укладывалось что-то около 460–500 знаков.
Не пытаясь представить тут перед вами исчерпывающие данные по всем буквам азбуки, я свел в табличку только штук восемь наиболее часто встречающихся на письме букв, а к ним добавил еще четверку тех азбучных нелюдимов, которые обитают в самом конце алфавита и попадаются много реже других.
Любопытная табличка! За малым исключением, числа попаданий той или другой буквы в данные 12 строк текста очень близки друг к другу, несмотря на всяческую несхожесть авторов. Буква О вышла на первое место и у Чехова, написавшего «Бабье царство» в подмосковном Мелихове в 1893 году, и у меня, писавшего свой рассказ почти через 60 лет после этого в послеблокадном Ленинграде. Нет никакой возможности предположить между нами какой-либо сговор или случайное совпадение: там 58 О, здесь 56 О. Это тем более немыслимо, что и у инженера-путейца Гарина-Михайловского, и у поповича Мамина-Сибиряка, и у Куприна — у всех у них в двенадцати строчках буква О повторялась чаще других букв — 49, 68, 59 раз. За О поспевает А — и поспевает примерно в одном темпе у всех пятерых авторов. Мамин-Сибиряк почему-то вырвался вперед — вот это как раз особый случай, требующий специальных разысканий, почему у него настолько больше А?
Больше «чего»? Больше нормы? Так, значит, есть «норма», по которой каждому звуку положено зазвучать в нашей речи, каждой букве «встать в строку» рядом с другими? Может быть, это определяется случайностью?
В какой-то степени да. Куприн начал «Белого пуделя» пейзажным кусочком, описанием Крыма. В этом описании, естественно, оказалось довольно много прилагательных с их характерными окончаниями «-ый». Вот вам и пять-шесть лишних возможностей для появления буквы Ы. Или, например, естественно, что у трёх авторов из пяти в их отрывках не обнаружилось Ф. После «Фу»-истории» мы понимаем, в чем тут дело: закономерность! А вот почему у меня эта редкость вдруг обнаружилась?
Это чистая случайность. Повесть «Эн-два-о» начинается со сценки экзамена: студентка хочет получить зачёт у «профессора». Получай она его у доцента, и «эф» исчезло бы бесследно.
Но в связи с этим мне вспомнился один интересный экспонат, который в 1930-х годах демонстрировался в Ленинградском Доме занимательной науки.
То была доска с бортиками, по этим бортикам застеклённая и закруглённая в верхней части своей. С самого верха сквозь плоскую воронку можно было под стекло на наклонно стоящую доску сыпать пшено или перловую крупу. По всей длине доски, снизу доверху, в неё были набиты, как в детской игре «китайский бильярд», в шахматном порядке гвоздики. Каждое падающее сверху зёрнышко на своем пути вниз ударялось об один гвоздик, отскакивало к другому, седьмому, пятнадцатому. Первая сотня крупинок ложилась у нижней кромки прибора в полном беспорядке.
Но если вы всыпали 100 граммов крупы, уже обнаруживалось, что больше ее зерен обязательно собирается на середине нижнего края, меньше — к бокам. Средняя выпуклость росла, росла, и когда весь выданный вам на руки мешочек с крупой был израсходован, она на поле доски укладывалась точь-в-точь по одной, уже заранее намеченной там красной краской линии, по статистической кривой. Было совершенно безразлично, быстро или медленно сыпали вы крупу, всю сразу или отдельными порциями — беспорядочный «крупопад» образовывал внизу очень «упорядоченную фигуру». Один школьник, долго дивившийся на этот феномен, в конце концов чрезвычайно точно сформулировал его сущность: «Странно… Крупинки падают в беспорядке, а ложатся в порядке…»
Нечто аналогичное этому наблюдается и в языке — в потоке звуков и в распределении букв.
В те времена, когда в Доме занимательной науки производился этот опыт по статистике, никто из языковедов еще не собирался применять статистику к языку и его явлениям; во всяком случае, если такие исследования кое-кем и производились, то в самых скромных масштабах.
С тех пор прошло три с половиной десятилетия, и положение переменилось до чрезвычайности.
Я беру книгу. Она называется «Основы языковедения». Автор — Ю. Степанов, издательство «Просвещение», 1966 год.
«Простейший лингвистический вопрос, разрешить который помогает математика, — пишет автор, — частота фонем в речевой цепи… Если, — продолжает он, — для упрощения принять, что каждая буква русского алфавита обозначает фонему, то…»
Дальше он представляет частоту букв в таблице, а из этой таблицы выводит, что в любом русском тексте на тысячу наугад выбранных в речевой цепи букв и пробелов между буквами приходится в среднем — 90 О, 62 А, 2 Ф… и так далее.
Возьмите сравните с теми результатами, которые дали нам наши кустарные, не претендовавшие ни на какую точность подсчеты, и вы увидите, что в общем-то мы попали при своих попытках довольно близко «к яблочку мишени». И у нас на первое место попала буква О, на второе — Л, а буква Ф оказалась фактически почти не присутствующей в тексте «залётной пташкой».
Прошло, как я уже сказал, лишь немного больше трех десятилетий с упомянутого мною такого недавнего и уже такого бесконечно далёкого довоенного времени, но за это время в мире науки произошли грандиозные перевороты. Возникла, в частности, и совершенно не существовавшая до войны математическая лингвистика, возникла в другой области интересно связанная с нею кибернетика, возникли электронные счётно-решающие устройства и возможность «машинного» перевода…
Благодаря всему этому и вопросы языковедной статистики получили совершенно новое значение и новый аспект.
Теперь уже ставится вопрос о возможности — или невозможности — «атрибуции», то есть как бы «приписания» какого-либо литературного памятника, считавшегося до сих пор безымянным, тому или другому давно усопшему автору — на основании статистического (но, конечно, во сто раз более сложного, чем тот, что я вам показал) учета и звуковых, и буквенных, и лексических, и синтаксических, и любых других элементов текста. При помощи счётных машин стало возможным из сложно наслоившихся на первоначальную основу древнего произведения — эпоса Гомера, русских былин — выделять аналитическим путем и основное ядро, и последующие наслоения…
Ш
Двадцать шестая буква нашей азбуки не могла быть заимствована нами у греков. Они не знали ни звука «ш», ни буквы Ш.
Именно поэтому, заимствуя с Ближнего Востока тамошние легенды и мифы, перерабатывая на свой лад тамошнюю религию, они перестраивали по-своему и звучавшие в них названия и имена. Восточный звук «ш» они заменяли своим «с». Из Шимона у них получился Симон, из Шимшу — Самсон.
Народы, от которых производилось заимствование, имели звук «ш»; естественно, был в их азбуках и знак для этого звука — так называемый «шин».
Слово «шин», по мнению некоторых ученых, могло иметь значение «зубцы» или «горный хребет»; буква отчасти напоминала что-то близкое к этим понятиям. Она слегка походила на позднейшую латинскую «дубль-ве», а в финикийском письме получила начертание, довольно близко смахивающее на Ш кириллицы.
Есть основания полагать, что изобретатели кириллицы и позаимствовали знак для славянского Ш из этого источника. Иначе нам придется предположить, подобно милой девочке Теффимай Металлумай из сказки Киплинга «Как была составлена первая азбука», что наши предки взяли за оригинал для этой буквы «эти противные жерди для просушки звериных шкур»!
Вот тут, едва ли не в первый раз за весь нашразговор, я мог бы, пожалуй, допустить, что изобретателям буквы Ш не мешало бы придумать знак и для схожего звука, для долгого «ш».
Для «долгого согласного»? Это что-то новое. Мы как будто с такими на русской почве не сталкивались.
Да, и все же у нас есть два звука «ш». Краткий — в словах «шиш», «шум» — хорошо нам знаком. А вот долгое «ш» мы за неимением для него специального знака выражаем по-разному.
Если он мягкий, мы означаем его буквой Щ. Слова «щека», «щегленок» мы произносим «шшека», «шшегленок». Твердый долгий «ш» звучит там, где на письме стоят буквы СШ и ЗШ, — «подрошшый», «погряшшый» — мы так произносим эти слова.
Великие славянские первоучители поступили умно, создав для столь широко распространенного в языках славян звука специальный буквенный знак. Вспомните, к каким ухищрениям приходится прибегать нашим западным соседям, для того чтобы выразить звук «ш»:
немцы — sch
французы — ch
англичане — ch, sh
поляки — sz
венгры — s, sz
шведы — ch, sch, sj, stj
Видите, какая разноголосица при кажущемся единстве общей для всех этих национальных азбук базы — латиницы? Может быть, и на самом деле их составителям следовало бы пойти по стопам Константина-Кирилла или тех людей, которые окружали его при совершении им высокого просветительного подвига, и создать для тех западных азбук, хозяевам которых нужно обозначить звук «ш», нечто вроде нашей славянской буквы? Впрочем, теперь мы опоздали с нашими советами уж по меньшей мере на тысячу, а то и на полторы-две тысячи лет…
Щ
Пожалуй, самым интересным свойством буквы Щ можно счесть то, что, по существу, она не передает у нас некоего единого и целостного звука.
Как указывается в академической трехтомной «Грамматике русского языка», буквой Щ графически изображается долгое мягкое «шь шь», причем рядом с таким произношением живет и произношение «шьч».
И тем не менее Щ — настоящая старославянская буква, фигурировавшая и в кириллице, и в глаголице. В те времена Щ означала звукосочетание «шт» — писалось «свеща», «нощь», читалось «свешта», «ношть».
И вот какой «мелкий курьез» возникает. Довольно многим охотникам порассуждать на темы о языке нашего народа, о Востоке и Западе, о разнице в их культурах случалось (особенно в XIX веке) отмечать как резкую характеристическую особенность восточнославянизма два «варварских» звука — «щ» и «ы». Одни их не принимали, другие, наоборот, находили в них очарование, этакую прелестную «племенную» особенность.
Не нужно говорить о всей беспочвенности этих выдумок. В отношении звука «щ» все это неверно хотя бы потому, что такого «звука» у нас нет. Но никому еще не пришло в голову потребовать удаления из нашей азбуки буквы Щ и её замены каким-нибудь двубуквенным обозначением — ШШ, ШЧ или чем-либо подобным…
Тредиаковский считал, что старославянское Щ возникло из лигатуры букв Ш и Т, сочетание которых оно когда-то означало. А что касается рассуждений о том, «красив» или «некрасив» звук «щ» нашей речи, то в хотя бы отчасти наукообразном плане их вести немыслимо. Эстетическая ценность «звучания» человеческой речи — и в ее потоке, и в ее отдельных элементах — вряд ли может быть объективно определена.
Вспоминается рассказ поэта Вяземского, современника и друга Пушкина. Одному заезжему итальянцу называли подряд многие слова русского языка, допытываясь, какое эстетическое впечатление они на него производят. Итальянский язык считался в те времена образцом высшей музыкальности. К великому удивлению поэта и его друзей, иностранец признал самым благозвучным слово «телятина», предположив, что это нечто вроде нежного обращения к девушке. Слово же «люблю» вызвало у него гримаску отвращения: оно показалось ему крайне некрасивым…
Вспомню еще одного моего старшего родственника. Разведясь с женой-немкой, он мотивировал свой поступок отвращением к немецкому языку. «Ну ты сам подумай, что это за язык! — с неприязнью говорил он мне. — Если уж по-ихнему «красиво» — «хюпш», так как же тогда по-ихнему будет «некрасиво»?!»
Ы
Уже по начертанию говорить о букве Ы естественно рядом с «ером» и «ерем», да и само старинное наименование этой буквы «еры» понуждает к этому.
«Еры»? Что это значит: «еры»?
Это значит «ер да и». Соединение Ъ и I образовало собою новую букву Ы.
В те давно прошедшие времена, в каком-нибудь XV или XVI веке, реформы письма проводились не приказом свыше, новизна проникала в писчее дело от писца к писцу. Мало-помалу форма этой буквы изменилась. Место «ера» занял «ерик», «мягкий знак». Но наименование её осталось старым — «еры».
В конце нашей азбуки сосредоточились все буквы с, так сказать, «подмоченной репутацией». Ф — в кои-то веки попадается; Щ не соответствует «отдельному» звуку; Ъ и Ь — можно ли их счесть буквами? Вот и звуку «ы» некоторые ученые отказывают в высоком звании «фонемы». Что это значит?
Фонема — такой звук речи, замена или изменениекоторого меняет смысл слова: «я» и «ль» — две разные фонемы, потому что «пыл» — одно, а «пыль» — другое.
Казалось бы, то же и с «ы»: «мыло» — одно, «мило» — совсем другое. Но, поприслушавшись, можно заметить: дело тут не в изменении качества гласного. Дело в перемене свойств предшествующего согласного. «Ы» мы произносим после твердого, «и» — после мягкого согласного. Сравните: «пыл — пыль», «пыл — пил». В правой паре дело не в свойствах гласных, а в свойствах согласных «п» и «пь». Вот они-то и есть фонемы.
Приведу другой пример.
В Индии произошли важные события — «в ындии…».
Цель Индии — мир! — «…ль индии…».
Меняется не гласный; меняется только согласный, а гласный реагирует на его изменение.
Значит, он не фонема.
Ну что ж тут поделаешь! На нет и суда нет!
«Ы» — звук, свойственный далеко не всем народам, особенно народам Европы. Можно провести причудливую кривую — западную границу языков с «ы»: она оставит «по нашу сторону» Польшу, Румынию, европейскую часть Турции, но на запад за нее перейдет, скажем, наша
Украина — украинский звук «и» непохож ни на наше «и», ни на наше «ы».
В нашем языке «ы» является совершенно равноправным звуком (пусть не фонемой; нас это сейчас не волнует). Вспомним, что при анализе отрывка из «Бабьего царства» буква Ы вышла на вполне почетное место — 15 раз, — обогнав Я (6 раз), почти сравнявшись с В (18 раз), догнав многие буквы нашей азбуки. И все же она живет жизнью «лишенного некоторых особых прав и преимуществ», как выражались дореволюционные законники про покаранных властью людей из высшего круга.
Так, например, она не имеет права стоять в началах слов. А, допустим, в турецком языке это самое обычное дело. Турки, как многие народы, не терпят слов, начинающихся с двух и более согласных. Перед такими заимствованными звукосочетаниями у них возникает звук «ы», который особенно забавно звучит в западноевропейских заимствованиях. Из нашего «шкаф» турок делает «ышкаф»; французское изящное «шмэн-дё-фер» — «железная дорога» превращает в свое щегольское «ышмендефер» (на народном языке она именуется «демирйолу»).
В турецком языке не редкость слова с двумя и тремя «ы». Естественное дело: турецкому языку свойствен «сингармонизм гласных» — тот гласный, что в первом слоге, повторяется и в остальных: «ышылты» — блеск, сияние; «ыттыратсызлык» — отклонение, аномалия.
Но турки далеко не «ы-рекордсмены». До Великой Отечественной войны одна моя небольшая книжечка, называвшаяся «Четыре боевых подвига», была переведена на чукотский язык.
В переводе она получила звучное заглавие «Нырак Мыраквыргытайкыгыргыт».
Шесть «ы» в одном слове!
Что же до западноевропейцев, то для них наше «ы» представляет немалое затруднение при овладении русским языком.
Ъ
Ъ и Ь — не буквы, скорее они могут быть определены как «бывшие буквы», или, пожалуй, их разумнее назвать «знаками», как они именовались во времена моего детства. Вот только эпитеты «твердый» и «мягкий» не вполне удобны, так как в каждом из двух случаев имеют иной оттенок значения.
Итак, «ер» и «ерь».
Современные болгары пишут:
вълна — волна,
вън — вон.
Видимо, «ер» у них просто замещает нашу О?
Не совсем так. «Суд» по-болгарски будет «съд», «трест» — «тръст», «пень» — «пънь».
Выходит, что Ъ у них способен изображать не один звук, а несколько разных. В какой-то степени да, это можно принять. Болгарский «ер» обозначает особый звук, который похож на целый ряд наших гласных звуков отчасти, но не совпадает ни с одним из них в частности. Это звук, более всего походящий на то, что я уже называл «звуком неполного образования». Можно описать его и как звук, отчасти похожий на русский звук «ы».
Когда-то во всех древних славянских языках оба наши нынешних «знака» были буквами и каждый выражал свой звук неполного образования. Звуки эти в точности не сохранились ни в одном из славянских языков, а буквы, их означавшие, нашли себе применение как своеобразные «знаки» только у нас и болгар.
В настоящее время Ъ мы пишем только там, где надо отделить приставку от корня, одну основу слова от другой, и там, где — в нерусских словах — надо показать, что следующие буквы Е, Ё, Ю, Я надо читать как йотированные.
Ь выполняет ту же роль разделителя, что и Ъ. Но может означать и мягкость произношения стоящего впереди согласного, если никаким другим способом она не выражена — «моль» и «мол», «стань» и «стан». А ещё мы ставим Ь на концах существительных женского рода, даже там, где согласные, стоящие впереди, не бывают и не могут быть (или не могут не быть) мягкими. Ь на конце слова «ночь» не заставляет нас произнести Ч хоть на йоту мягче, чем в слове «мяч», но показывает, что мы имеем тут дело с существительным женского рода.
Сейчас в каждом из вас вызвало бы недоумение, если бы вы узнали, что какие-нибудь Иван Иванович и Иван Никифорович поссорились из-за «твердого знака». Но было время, когда весь народ наш был разделен на две части — писавших с «ером» и без «ера» на концах слов.
Было время, когда буква эта вызывала гнев и ненависть, смех и слезы.
Вспомните маленький отрывочек из «Бабьего царства» Чехова. В нем содержалось 472 буквы. В современном издании Чехова вы не найдете там ни единого «ера». Но прежде в том же отрывке их было бы двадцать три — это почти пять процентов от всего числа букв. Рассказ Чехова занимает 41 страницу — что-то около 1700 строк. 80 строк, ровно две страницы, были сплошь заняты «твердым знаком». Невольно вспомнишь Ломоносова — «Подобие — пятое колесо!».
В моей книге «Слово о словах» я в свое время приводил подсчеты: все «еры», разбросанные по томам романа «Война и мир», собери их в одно место, заняли бы примерно 70 страниц.
И если допустить, что до революции роман «Война и мир» вышел тиражом три тысячи экземпляров (что преуменьшено), то это составило бы уже 210 тысяч страниц, заполненных не «мычанием» даже, а глухой немотой.
До революции… А теперь, когда тираж того сборника «Тайна всех тайн», из которого я самого себя анализировал, в 700 страниц объемом, равен 100 тысячам экземпляров? Это была бы катастрофа, миллионы и десятки миллионов рублей, выброшенных не «на ветер», а буквально «на одну букву»…
Ь
Буква Ь тоже выражала некогда редуцированные, неполного образования звуки, но её узкой специальностью были звуки, напоминающие то, что мы слышим в неударных слогах предложения «телефон не работает» и что в одном из вузов страны местные грамотеи из вахтерской изобразили в вестибюле на бумажном объявлении в виде «Тилифон ни работаит».
Если бы грамотею этому пришло бы в голову сделать надпись по-другому: «Тьльфон нь работаьт», нам, пожалуй, пришлось бы признать его отличным знатоком проблемы редуцированных звуков.
То, что я вам только что рассказал о давних судьбах «твердого знака», звучало достаточно трагично. Страшновато.
Теперь мне хочется поведать вам одну историю, связанную с теми же гласными неполного образования, на мой взгляд, в некотором смысле смешную.
Именно «в некотором смысле». Нынче-то мы можем посмеиваться над странными предрассудками прапрадедов, но в свое время за такие вещи ломалось много копий в богословских спорах и, вполне возможно, люди шли на «огненную смерть» за то, что теперь представляется нам совершеннейшей бессмыслицей.
Известно ли вам, что такое «хомовое пение»? Я думаю, нет. До XIV века при церковном пении запись на бумаге или коже (нот в нашем смысле тогда не знали) и ее воспроизведение в голосе или голосах не расходились друг с другом. И там и тут обозначались и «выпевались» так называемые «полугласные» — те самые звуки, которые, мы выше неоднократно назвали редуцированными, гласными неполного образования — «ъ» и «ь».
Как это понимать?
Вот, допустим, слово «днесь» — сегодня. Было время, когда оно и писалось и произносилось «дьньсь» — что-то вроде «денесе», точнее «денесе». Это были не настоящие звуки «е», а полугласные, похожие на них. Постепенно с ними произошли изменения: тот «ь», на который падало ударение, сберегал свою силу настоящего «е», последний полугласный сохранил только память о себе в виде мягкости конечного согласного; редуцировался и «ь» первого слога. Появилось новое слово: «днесь».
Не все ли равно? Да, но попробуйте петь песнопение, в котором мелодия когда-то была подогнана к более длинным словам, а потом эти слова сократились, съежились! Как спеть слово, которое на нотах значится как «дьньсь», а выговаривается уже очень давно как «днесь»?
Священнослужители тогдашней церкви русской нашли странный выход из создавшегося положения. Они стали упрямо все эти многочисленные «ерики» и «еры» тогдашних рукописных нот петь так, как если бы по-прежнему в языке все «еры» означали «о», все «ери» — «е» полного образования. Вместо «дьньсь» тянули «денесе»; там, где написано «съпасъ», выводили «сопасо»…
По смыслу — абракадабра, но зато с напевом сходится, а он — священный, не подлежащий изменению…
Церковный собор 1666 года такое пение запретил. Православное духовенство не без колебания подчинилось, но старообрядцы отказались исполнять приказ собора и продолжали истово выводить свое «сопасо» и «денесе»…
Вы спросите: что же значит слово «хомовое»? Часто встречавшиеся в церковных текстах и песнопениях старославянские глагольные формы на «-хомъ», такие, как «победихомъ» и «посрамихомъ», согласно тому, что я только что рассказал, исправно выпевались как «победихомо» и «посрамихомо». Отсюда — хомовое.
Э
Зачем в нашу азбуку, уже после того, как она немало веков просуществовала с буквой Е, была введена буква Э?
Наши древние предки, встречая Е, понимали, что букву эту надлежит прочесть как «э», потому что для йотированного «е» в азбуке существовала лигатура .
Однако эта лигатура все больше выходила из моды, ею пользовались все неохотнее, и были — уже в кириллице, по-видимому, грамотеями белорусами — сделаны попытки ввести новую букву — Э в нашу тогда еще славянскую азбуку.
Вновь прибывшую встретили без восторга. Учёный-языковед Юрий Крижанич, родом хорват, уже в XVII веке выбранил ее «безделкой», как раз и приписав ее изобретение белорусам.
Когда речь шла о букве Э уже в гражданской азбуке, она тоже не вызывала восхищения. Вечные полемисты Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков объединились в неодобрении её. Тредиаковский видел в ней «повреждение» кириллической азбуки. Сумароков честил ее то «противнейшей», то «уродом». В середине XIX века главный грамматист тогдашней России академик Яков Грот возражал против употребления Э вслед за твердыми согласными — «пенснэ, кашнэ». Однако лишь после реформы 1918 года такое употребление окончательно было сдано в архив, и больших неприятностей это не вызвало: люди грамотные продолжали произносить такие слова правильно; малограмотные, как ираньше, стремились в произношении по возможности на место «э» поставить чеховский «ять»; тех, кто так говорил, буква Э не исправляла.
Теперь мы употребляем букву Э преимущественно в заимствованных чужеязычных словах. Из 100 слов на Э, помещенных в словаре Ушакова (первых по порядку), только шесть русских: междометия «э», «эк», «эка», просторечное наречие «эдак» и производные от него формы.
Зачем мы ставим здесь Э? Да, собственно говоря, больше по традиции, все равно никто не произнесет «экий» как «йекий»…
Я уже говорил в главе о Е о социальной окраске звуков «е» и «э», демонстрируя ее на примерах Игоря Северянина. Тут, пожалуй, стоит только еще раз предостеречь от «гиперкорректного» произнесения «э» на иностранный лад в словах с предшествующим твердым согласным, где для такого произнесения никаких оснований нет — «рэяьсы», «пионэры», «манэры» и так далее. Это случается, когда человек, не уверенный в том, достаточно ли «интеллигентно» он произносит слово «портмоне», внедряет утрированное «тэ» и в слово «тема», и в слово «техника», и вообще невесть куда.
Э занимает в нашей азбуке 31-е место. Никакого аналога себе в латинизированных азбуках она не имеет. Против Э у нас долго и много возражали, а вот буква эта живёт и живёт. По-видимому, надобность в ней все-таки живой письменной речью ощущается.
Ю
У двух последних букв нашей азбуки общее между собою то, что обе они передают йотированные звуки «у» и «а».
У обоих, так сказать, «обновленная форма». В кириллической азбуке и Ю и Я изображались лигатурами, в которых буква I соединялась в одну «монограмму» с обоими «юсами» — большим и малым. При работе над составлением гражданского шрифта эти сложные древние знаки не пригодились и были заменены более современными.
По-видимому, в основу буквы Ю была положена тоже довольно сложная связка знаков — ЮУ, но приходится признать, что в древних рукописях такой знак не встречается, может быть, он был заново придуман со специальной целью. Букву Я гражданской азбуки, судя по всему, надо рассматривать как своеобразный «гибрид» февнейшей славянской буквы «юса» малого и латинской R, взятой как бы в зеркальном отражении.
Начнём, однако, в порядке алфавита, с Ю. Помимо йотированного «у», буква эта передает у нас и звук, более или менее близкий к французскому «и» в слове «бювар» и к немецкому «й» в фамилии «Мюллер».
Не все теоретически возможные соединения Ю с предшествующими согласными допустимы в литературном русском языке. Существует немало слов, где встречаются пары ДЮ — дюжина, дюна, ЗЮ — зюзя, назюзиться. Но вот БЮ или ВЮ появляются только в заимствованных, нерусских словах — бюро, ревю. Любопытно в то же время, что сочетания БЮ или ГЮ вы не найдете ни в каких русских диалектах, а пару КЮ — ее нет в литературном русском языке иначе как в «заграничных» словах — в народных говорах можно обнаружить: «чайкю попить», «Ванькю позвать». Это же относится и к КЯ.
Занятно, что, когда я писал в 40-х годах свое «Слово о словах», мне хотелось поговорить в нём об этих «странностях» любви и ненависти буквы к букве; я был уверен, что сочетания КЮ и КЯ в чисто русских словах литературного языка невозможны. Но я не рискнул это утверждать: надо было предварительно перебрать по словечку весь лексический запас русского языка — ведь КЮ или КЯ могли попасться где-нибудь в самой середине слова.
А вот сейчас я спокойно беру в руки книгу «Структурная типология языков» и нахожу в ней обширный перечень всех реально встречающихся в нашем языке буквенных пар (от АА до ЯЯ), который уже совершенно точно подтверждает правильность моих давних предположений.
Диалектные сочетания КЮ и КЯ в русских словах известны, конечно, только в звучащей речи: на письме они встречаются лишь в диалектологических записях или у художников слова, при изображении речи крестьян.
Наше Ю помогает нам выразить многие иноязычные звуки. Применяя его для этого, будем помнить, что полного равенства между нашим «ю» и хотя бы французским «и» не существует.
Вот хороший пример. Мною помянутый поэт Северянин не только включал с восторгом в свои стихи «импортные» слова; он стремился придать своей поэзии и общее «заграничное» звучание.
Думается, он с наслаждением написал бы русский глагол для большей эффектности латинскими буквами — izmenu. Тогда рифма получилась бы точной.
Теперь же вышло, что французское слово menu приходится произносить с русским мягким «нь» перед Ю. НЮ в слове «меню» начинает звучать как «ню» в русском имени «Нюша». От французской элегантности ничего не остается. Все такие псевдоевропейские приспособления неточны, если дело заходит о тамошних «ю-образных» звуках, которые хотят передать на русский лад. Мы ведь через то же Ю выражаем и английское EW — New Jork — Нью-Йорк, и шведское У — Nykoping — Нючёпинг, и множество восточных звуков, напоминающих наш звук «у» после мягкого согласного.
Как же лучше передавать такие звуки?
Ответ навряд ли возможен. Как и всюду, в вопросах письма каждый способ имеет свои плюсы и свои минусы…
…По-моему, не существует ни в одном языке слова, состоявшего из одной только буквы Ю. А вот удвоенное Ю в какие-то если не слова, то «словоиды» превращаться способно. До революции были папиросы сорта «Ю-ю». У Куприна есть рассказ «Ю-ю» — так звали любимую кошку писателя. Во французских словарях вы найдете слово you-you, означающее небольшую спортивную лодку.
Не отсюда ли пошли и наши «Ю-ю»?
Буква «ты»
«…Оставалась у нас невыученной одна только самая последняя буква — «Я». И вот тут-то, на этой последней буковке мы вдруг с Иринушкой и споткнулись.
Я, как всегда, показал букву, дал ей как следует рассмотреть и сказал:
— А вот, Иринушка, буква «я».
Иринушка с удивлением на меня посмотрела и говорит:
— Ты?
— Почему «ты»? Что за «ты»? Я же сказал тебе: это буква «я».
— Я и говорю «ты».
— Да не я, а буква «я».
— Не ты, а буква «ты»?
— Ох, Иринушка, Иринушка! Наверное, мы с тобой немного переучились. Неужели ты в самом деле не понимаешь, что это не я, а что это буква так называется «я»?
— Нет, — говорит, — почему не понимаю? Я понимаю.
— Что ты понимаешь?
— Это не ты, а это буква так называется: «ты».
…Я выписал это из чудесного маленького рассказа Л. Пантелеева «Буква «ты». Он естественно вспомнился мне, как только у нас с вами осталась невыученной одна последняя буква — Я. Ведь это единственная буква нашей современной азбуки, которая по воле случая, а не сознательного намерения составителей этой азбуки сохранила подобие «предметного наименования». В кириллице была первая буква «аз», а в «гражданке» последняя — Я.
Положение, конечно, ничего общего не имеющее: там букве нарочито подобрали имя по акрофоническому принципу, чтобы она как раз и была первой буквой избранного слова. А тут сама передача в одном знаке йотированного «а» привела к совпадению названия знака со словом «йа» — «я».
Но это совпадение может убедить нас, что измышленный предками мнемонический приём названия букв был чреват опасностями. Как милая Иринушка растерялась, услышав из уст своего учителя, что букву зовут «я», так ребята XVI или XVIII века могли недоумевать по поводу совсем другого знака, почему-то именуемого «он». Это теперь нам, грамотным и привычным к отвлеченному мышлению, все трын-трава, а в торжественный момент, когда человеческий детеныш впервые должен постигнуть связь между звуком и его совершенно на него непохожим начертательным образом-знаком, узнать, что затем, сцепившись с другими такими же звукознаками, он может войти в состав слова и начать значить что-то, в этот трудный миг в жизни каждого любая лишняя психологическая извилина, дополнительный зигзаг, идущий не «прямо», а «наискось», не поможет, а только помешает. К счастью, педагоги поняли это уже давно.
Откуда «пошла есть» наша буква Я, я уже вам сообщил, а о её странных двойных связях и с древним «малым юсом», и с латинской буквой R вам уже все известно… Теперь надо отдать должное «загруженности» нашей Я, буквы «на все руки», буквы-совместителя.
Все знают: в началах слов или внутри слов, но после гласных звуков, а также вслед за «разделителями» Ъ и Ь Я читается как «йа»: «йарко», «туйа», «бадьйа»…
Однако, поскольку А в безударных слогах звучит совсем непохоже на обычное «а», то и Я в этих слогах приходится брать на себя функцию выражения совсем иного звука, пусть йотированного. В слове, встречающемся в этой книге едва ли не чаще других, мы слышим «йезык», хотя и пишем «язык». А в слове «заяц»? Вслушавшись, мы поймем, что тут Я выражает один из памятных нам редуцированных гласных, но поди скажи точно, как его изобразить — «зайец», «зайиц»?.. Туманно… Может быть, и просто «заяц».
Следуя за мягким согласным, буква Я читается как «а». В подударных слогах это слышно ясно «бьака», «вьазко». А там, где ударение отсутствует? Там мы всё равно пишем Я, хотя выговариваем нечто весьма неопределенное — «утя-утя», «готовальня». Стоит-то тут «я», но, пожалуй, правильнее было бы на его место поставить какой-нибудь «паерок» — «ь» — «готовальнь».
Едва ли не в одном лишь случае буква-совместитель отказывается служить — если ей надлежит стоять после Ж и Ш, Ч, Ц, Щ… «Структурная типология языков» покажет вам, что комбинаций «одна из этих букв плюс Я» русский язык не знает ни в иностранных словах, ни в говорах и диалектах и что для «графемы Ж запрещаются пары ЖШ, ЖЫ, ЖЯ…».
Между тем ведь согласные «ч» и «щ» — всегда мягкие. Значит, Я самое бы место стоять после них. Так нет же — «чайка», «щавель», «щадить». Всюду на бумаге А, хотя на языке «я»…
Откровенно скажу — какие рациональные причины лежат в основе этого правила, я вам растолковать не возьмусь.
Это все было «про свой дом», о внутренних, русское язычных делах. Но неутомимая буква Я берется обслуживать и «иностранцев», и, по правде сказать, не всегда с одинаковым правом.
Вот западные имена: Лябурб, Ляó. Так они написаны в томе 25-м БСЭ. Но из тома 24-го я мог бы выбрать Лагранж, Ламарк, Лаплас — и они оказались бы написаны совершенно иначе, хотя и там и тут передается одно и то же буквосочетание латиницы — LA.
Корректоры следят, чтобы таких противоречивых написаний не появлялось бы в одной и той же книге. Но вот, видите, при многотомности это возможно даже в одном и том же издании. А почему?
Западноевропейская буква L не совпадает по своему звучанию ни с нашим «л», ни с нашим «ль». Отсюда возможность и следующий за ней гласный слышать (русским слухом) то как «а», то как «я», то как «у», то как «ю» и т. д.
В результате же букве Я находится лишняя работа, и притом далеко не в тех только ситуациях, которые я уже упомянул. Она берет бесстрашно на себя изображение звуков, достаточно несхожих друг с другом, — от только что упомянутого французского «а» до финского «а».
Как он звучит, этот финский звук «а»?
Финские грамматики для русских считают, что это звук, почти совпадающий с русским «я» в таких словах, как «няня» или «пять», но более точно соответствующий английскому «а» в закрытом слоге — cat — кошка.
Вот головоломка! Попробуйте английское cat выговорить с нашим «я» из «няни» — что-то у вас получится? Или попытайтесь слово «пять» произнести, предварительно научившись правильно выговаривать то же английское cat. He поздравляю вас с результатами! Меня, например, не очень-то удивляет, что за свою долгую жизнь я не увидел еще ни разу в русском написании слова «джентльмен» с буквой Я в последнем слоге — «джентльмян»: просто наши переводчики еще не ознакомились с этим финским указанием. А вот, передавая имя героя «Калевалы», финского старца-вещуна, мы его пишем по-разному: то Вейнемейнен, то Вяйнемяйнен. И трудно категорически сказать, какое написание ближе к оригиналу.
Очень часто нам известно, что в «оригиналах» этих фигурируют звуки, совсем непохожие на наш «я» или «йа». Так, русский этноним «якуты» связан с эвенским словом «екот» — множественное число от «еко» — якут. Помните песню об острове Ямайка, занесенную к нам с пластинкой Робертино Лоретти? Лоретти пел, как и положено итальянцу, «Джамайка». Мы ставим в начале этого топонима наше Я. А само название острова происходит от карибско-индейского «Хаймака» — «Остров источников». Видимо, путь от карибского до русского был сложным. Имя прошло «испанскую» стадию, а в испанском языке звук «х» передается буквой J — «хотой». Но англосаксы, видя написанную «хоту», читают ее как «джи». Слово Jamajka может быть прочитано как «Джамайка» — по-английски или итальянски, как «Жамайка» — по-французски, как «Ямайка» — у нас.
Но в общем надо сказать, что мы с употреблением нашего Я чрезвычайно непоследовательны. Случается, мы рабски следуем за языком, откуда черпаем слово или имя, скажем, именуя затеняющую решетку на окне — «жалюзи» или баснописца Лафонтена — «Жаном», а порой то же самое французское «J» превращаем в наш звук «й», а JA — в Я: «якобинцы», «янсенисты».
Дело доходит до прямых небрежностей. Так, в наших энциклопедиях богослов Корнелиус Янсен именуется Янсеном, а астроном Пьер-Сезар Жансен — Жансеном, хотя во французском словаре Лярусса оба они стоят рядом и оба пишутся одинаково через JA.
Впрочем, составители энциклопедий могут оправдаться: Корнелиус Янсен был всё-таки по происхождению голландец.
Но все мы называем наиболее революционную партию французского Конвента партией «якобинцев», потому что «якобинский клуб» помещался в «якобинском», в честь святого Иакова, монастыре. В то же время мы говорим и пишем о стиле Жакоб в искусстве создания мебели, о фирме талантливых мебельщиков XVIII века «Жакоб», то есть Яковлевых, по святому Иакову.
Во Франции оба слова звучат одинаково: «жакобэн» и «стиль Жакоб».
Основа одна, но русское написание — разное. Почти как в истории про букву «ты».
Вот и все, что я смог рассказать вам и про последнюю букву русской азбуки, и, естественно, про все предыдущие буквы, ее составляющие.
Желая указать на начало и конец чего-либо, какого-нибудь процесса, греки говорили «от альфы до омеги».
Римляне и все их наследники по алфавиту употребляют вместо этого выражения «от а до зет»: последней буквой у них уже перестала быть «омега».
Мы когда-то переводили эту поговорку — «от аза до ижицы», теперь же перешли на новомодное (двухвековое!) «от а до я».
То, что у нас название последней буквы азбуки совпало с формой именительного падежа единственного числа личного местоимения первого лица, явилось поводом для многократного обыгрыванья этого факта и в живой речи, и в литературе, даже в произведениях небесталанных и далеко не невежественных литераторов. «Что ты со своим «я» вперед лезешь? Забыл, что «я» в азбуке — последняя буква…»
Логика довольно слабая, и знание фактов незначительное: до самых дней Петра Первого именем местоимения первого лица называлась первая буква азбуки, а что это меняло? Или тогда следовало «со своим «азом» по праву вперед пробиваться? Нет, народная мудрость в этих случаях явно за волосы притягивается.
Ну вот! А теперь вспомним, чем же кончилась история с буквой «ты».
Через день после уже изложенных тревожных событий рассказчик снова посадил Иринушку за букварь, открыл первую попавшуюся страницу и сказал:
«— А ну, сударыня, давайте, почитайте что-нибудь.
Она, как всегда перед чтением, поерзала на стуле — вздохнула, уткнулась и пальцем и носиком в страницу и, пошевелив губами, бегло, не переводя дыхания, прочла:
— Тыкову дали тыблоко…
…Вам смешно, — пишет далее Леонид Пантелеев. — Я, конечно, тоже посмеялся. А потом говорю:
— Яблоко, Иринушка! Яблоко, а не тыблоко! Они удивилась и говорит:
— Яблоко? Так, значит, это буква «я»?
Я уже хотел сказать: «Ну, конечно, «я». А потом спохватился и думаю. «Нет, голубушка.
Знаем мы вас. Если я скажу «я» — значит опять пошло-поехало? Нет уж, сейчас мы на эту удочку не попадемся».
И я сказал:
— Да, правильно. Это буква «ты».
Конечно, не очень-то хорошо говорить неправду. Даже очень нехорошо говорить неправду. Но что же ты поделаешь? Если бы я сказал «я», а не «ты», кто знает, чем бы все это кончилось. И может быть, бедная Иринушка так всю жизнь и говорила бы вместо «яблоко» «тыблоко»…
…А Иринушка, слава богу, выросла уже большая, выговаривает все буквы правильно, как полагается, и пишет мне письма без единой ошибки…»
Вот какой счастливый конец у этого прелестного детского рассказа. Но мне кажется, что его мораль следует на ус себе мотать не только детям, но и взрослым. Какую мораль? А, например, такую.
Соотношение между двумя явлениями языка — буквой и выражаемыми ею звуками или звуком — есть величина чрезвычайно переменная. Если вас в детстве научили, что такой-то причудливый рисуночек обозначает совокупность звука «й» плюс «а», то вы потом всю жизнь будете связывать его именно с «йа», ни с чем другим. Если вас приучили читать тот же самый рисунок как «ты», ничего особенного не случится: увидите Я, а прочтёте «ты». И, наткнувшись на строчку «Яква вот такой высоя», произнесете спокойным образом: «Тыква вот такой высоты».
Ничто не произойдет именно потому, что связь между звуком и буквой есть величина не только «переменная», но и «произвольно выбранная». Условная.
Можно всем буквам нашего алфавита, «от а до я», придать как раз противоположные значения — А назвать Я, Б считать Ю, В сделать Э. И что же? И ровно ничего не случится. По крайней мере, не случится ничего большего, нежели в том случае, когда пират Кидд заменял букву Е английской азбуки цифрой 8, а букву Т — точкой с запятой.
Как Легран прочёл записку, так можно, чуть подналовчившись, спокойно и свободно читать и все то, что вы напишете вот такой «зеркальной» русской азбукой.
Вы сталкивались с азбукой Морзе?
Это я написал азбукой Морзе слово «яква». А вот теперь ... перед вами слово «тыква».
И если азбука Морзе вам знакома, вы прочтете оба слова эти совершенно уверенно, как если бы они были написаны «по-русски».
Вот вам первая мораль «Буквы «ты».
Вторая, мне кажется, касается отношений читателей с автором. Конечно, самое верное, поставив перед собой цель научить чему-нибудь человека или людей, действовать напрямик и идти честно к цели, без всяких зигзагов. Так, как пробовал поступать, обучая ее «законам букв»,
Пантелеев со своей Иринушкой. Но так ведь у него не получилось, и пришлось ему «применить некоторый зигзаг». Маленькое отклонение от прямого пути.
Он схитрил, объехал ученицу на кривой, поймал в тенета заранее обдуманного приема и добился своего.
Эта моя книжка тоже построена на таком подходе — не в лоб, а с некоторым вывертом, как все занимательно-научные книги.
Пантелееву его хитрый приём удался. Удался ли мой приём мне — вам, читателям, виднее.
|