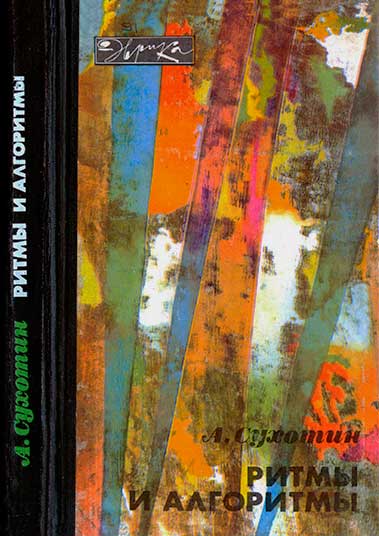|
Ритмы и алгоритмы... Таковы слова, взятые нами, чтобы обозначать два глубинных потока общественной жизни — искусство и науку, потока, в которых особо явственно проступает созидательная мощь человека.
В круговороте исторических событий, в смене поколений и культур всегда высоко ценились творения науки и искусства. В них — все знания о мире и вся правда о человеке, о его радостях и страданиях, его борьбе за социальное равенство. В них сохраняются и живут когда-либо созданные мыслящим разумом ценности, которые не меркнут в веках, ибо даже время не властно заглушить сияние гениев.
Лишь песня поэта Да речь мудреца Проходят столетья,
Не зная конца.
Наука и искусство — слагаемые прогресса, свидетельства восхождения человечества к вершинам цивилизации. В служении общественному долгу, в стремлении помочь своему народу, нации они постоянно совершенствуют нашу жизнь, делая ее достойной человека. Потому что, говоря высоким слогом, нет величия там, где нет истины и красоты,— истины, которую добывает наука, красоты, которую нам приносит искусство.
В книге пойдет речь не только о том, что объединяет эти два раздела человеческой культуры, но и о том, что их разъединяет, точнее, отличает. Но все же главные ударения будут поставлены на содружестве. И поскольку они разные, их содружество может прорастать лишь на почве взаимных обогащений: одно ищет (и находит) в другом то, чего ему недостает. Разъединив, чтобы лучше понять предназначение каждого, мы вновь сведем науку и искусство в высшем единстве, на вершинах их творческих исканий.
Советская наука и советское искусство — на подъеме. Они решают ответственные задачи и еще более ответственные перед ними встают. В созидательных усилиях наука и искусство идут вместе. И лишь помогая друг другу, они способны выполнить назначенную им роль, ибо только в союзе, скрепленном взаимным уважением> чогут родиться творения самой высокой пробы.
ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ
Мир науки и мир искусств. Казалось бы, что у них общего? У каждого свои предначертания, свои вершины и рытвины на пути к ним.
В поисках истины ученый спешит разъять природу на вещества и единицы, не особенно удручаясь, что разымает этим ее красоту. По возможности укротив эмоции, спрятав чувства, он раз за разом испытывает материал природы по шкале точных значений. Человека встретит, и его распределит на части, действуя 'столь же бесстрастно и сосредоточенно. Такими предстают порой герои науки при первом с ними знакомстве.
И совсем иные впечатления выносим от встреч с искусством. Тут все озарено переживанием, проникнуто соучастием художника к тому, что им берется, будь то сам человек, живая структура или мертвое естество. Здесь уже другой угол зрения, другой предмет исследования, чтобы его можно было вот так же рассечь железными ходами непогрешимой логики. Требуются иные подступы.
Под влиянием этих ли, других ли убеждений сформировались взгляды, будто у науки и искусства, у каждого из них настолько особые заботы и вдохновения особые, что между ними якобы пространство глубокого непонимания, а то и вражды. Законченное выражение такие доводы получили, пожалуй, в известном сочинении Ч. Сноу «Две культуры».
Бесспорно, Ч. Сноу — это крайняя позиция, к тому же характерная лишь для западных исследователей, воспринимающих различие культур на фоне общесоциальных антагонизмов буржуазного мира. В других вариантах противопоставление культур производится более размытой границей. Но как бы то ни было, согласиться с подобными взглядами мы не можем. Спору нет, искусство и наука разведены полосой, в некоторых точках очень даже широкой. И все же они имеют много общих касаний, много такого, что делает их не только далекими, но и близкими. Об этом и поведем сначала речь.
Наука и искусство имеют один корень, ставя целью быть полезными обществу. Далеко обгоняя свое время, они наиболее чутко улавливают социальные перемены, постоянно оказываясь на острие событий. «Дружина ученых и писателей, какого б рода они ни были, всегда впереди— во всех набегах просвещения, во всех приступах образованности» — так определил в свое время великий А. Пушкин назначение науки и искусства, высказав должное их деятелям, которые первыми принимают на себя удары в сражениях за будущее.
Конечно, человек науки и человек искусства несут эту службу каждый по-своему. Но результаты их труда оборачиваются общим итогом усилий по изменению естественного и социального окружения, помогая улучшать народную жизнь.
Достигая своих целей, ученые и деятели искусства не просто идут рядом, решая близкие задачи. Близкими оказываются и способы освоения ими окружающей реальности, сам творческий процесс, приемы отображения мира.
Дело в том, что, преобразуя природу, человек переносит свою сущность на продукты деятельности. В процессах труда (любого, не только научного или художественного), действуя как творец, человек, если прибегнуть к философскому языку, «опредмечивает» себя в создаваемых им вещах. То есть как бы запечатлевает свою мыслящую натуру, свой высокий интеллект в тех предметах, которые выходят из его рук. Ведь он воплощает в них свои замыслы, собственные цели и идеалы, отдавая им частицу «я». Но тем самым и вещи обретают нечто от деятеля, очеловечиваются, становятся носителями человеческих качеств.
В сфере же науки и искусства как особых проявлениях творческих возможностей человек наряду с внешней реальностью выстраивает иную реальность — мир, сотканный из художественных образов либо представленный системой понятий. Эти миры, как и результаты любого творческого труда, несут на себе (конечно, каждый по-своему) отпечаток деятельности человека. Поэтому творчество, поскольку оно и в науке и в искусстве характеризуется построением идеализированных реальностей, не может не иметь общих определений. Иначе говоря, художник и ученый нигде так не близки друг другу, как в процессах творчества. Именно в процессах, а не в результатах, ибо по результатам их профессии сильно различаются.
Не только науковеды и искусствоведы, то есть люди, так сказать, со стороны, но и непосредственные исполнители работ в науке и искусстве сами не однажды проводили параллели между научной и художественной деятельностью. Они не раз отмечали плодотворность их взаимных влияний и указывали на большое сходство в самом характере протекания творческих поисков, требующих однородного мыслительного процесса. Когда мы останавливаемся перед высшими проявлениями научного и художественного творчества, пишет, например, советский физик С. Капица, то обнаруживаем, что «расстояние между типом мышления ученого точных наук и образным мышлением художника... совсем не так велико, как это иногда представляют». Быть может, даже, продолжает С. Капица, и рубежи-то между ними стали возводить только для того, чтобы оправдать недостаток полноты в знаниях, образовавшийся вследствие стремительного роста современной культуры.
По-видимому, в наиболее напряженных точках творческих исканий научно-исследовательский процесс и художественное освоение реальности нередко пересекаются, а то и вовсе идут рука об руку. Потому и считают, что настоящие ученые и настоящие поэты сделаны из одного теста.
Действительно, есть основания говорить о некоем едином мыслительном процессе, в котором благотворно соединяются (конечно, в разных пропорциях) научно-исследовательское и художественное начала. Видимо, но случайно ряд ученых и представителей искусства испытывали желание взглянуть на процедуру научного открытия с позиций художественного творчества. А русский инженер конца XIX столетия П. Энгельмайер строил егце более широкую программу. Он прослыл как автор ряда монографий, посвященных изучению научного и технического открытия. Наиболее известно его исследование «Теория творчества». Но примечательно, что он, долгое время занимавшийся вопросами науки и техники, задумал создать новую отрасль знания. В ней хотел проследить, как протекают творческие процессы вообще, то есть не только в науке, но и в искусстве. Для обозначения этой дисциплины он предлагал название «эврило-гия», то есть наука об открытии (от греческого: «эврика» — нашел и «логос» — слово, наука).
ПО ЕДИНОЙ ПРОГРАММЕ
А теперь заглянем в глубь научного и художественного открытия, поищем то общее, что характеризует само протекание творческого процесса. При первых попытках сблизить их замечаем, что основой такого объединения является природа. Источник радости, она не только утоляет творческую жажду, но и манит в новые дали научных и художественных открытий.
Мы у истоков творческого беспокойства, так сказать, спровоцированного общением с природой. Но ее влияние простирается дальше, сопровождая, по существу, весь творческий цикл. Наука и искусство участвуют в едином процессе освоения мира, природного и социального. Воспроизводя его, они хотя и привлекают специфические методы, средства, хотя и получают разные результаты, тем не менее в их деятельности много сходного, поскольку они отражают одну и ту же объективную реальность.
Эта реальность, будучи общей, объединяет людей, как бы ни отличались их воли, характеры и их профессии. Ведь «если,— как говорит Д. Гранин,— загорается северное сияние, не спят все, просто все люди — и поэты и химики. Может быть, потому, что это загадочное явление природы, а может быть, потому, что прекрасно. -Какая разница! Ни один человек не должен спать, если он увидит северное сияние!» Так деятели науки и деятели искусства, проявляя к природе свой профессиональный интерес, оказываются рядом, восхищаясь ее могуществом и испытывая удивление перед ее тайнами.
Окружающая действительность представляет одинаково и ученому и художнику содержание, из которого они черпают материал для научных и художественных открытий, утоляя творческий интерес, действительность побуждает к новым и новым поискам, являясь источником вдохновений. Этим и обусловлено наличие в творчестве ученого и художника общих закономерностей.
Одной из них является то, что творческий процесс и в науке и искусстве проходит два этапа. Вначале создается обилие форм, возможных решений, а затем, на втором этапе, осуществляется строгий отбор, в результате которого путем отсеивания останавливаются на одном, наиболее удачном варианте. Рассмотрим это подробнее.
Считается, что обычно наука не страдает от недостатка идей и гипотез. Дело за «немногим»: как выловить в потоке фантазий действительно плодоносную мысль. Все муки, все сложности творчества сходятся как раз на умении отсеивать возможности. Собственно, проблема гениальности— это и есть, как полагают, проблема выбора. Так в науке. Оказывается, так же обстоит дело и в искусстве. Вот что пишет на сей счет, например, В. Катаев: «Гений должен уметь ограничивать себя, а главное—уметь выбирать. Выбор — это душа поэзии». Знакомый мотив... Он звучит и у известного русского поэта и драматурга прошлого столетия А. Толстого, который утверждал, что хорошие стихи может написать и поэт средней руки, самое трудное — уничтожить стихи плохие (то есть, говоря нашими терминами, провести отбор). Известно выражение, что скульптурный шедевр — это глыба камня, у которого убрано все лишнее.
Как видим, практика и научных исследований, и художественных исканий убеждает, что ответственным, быть может, самым ответственным этапом творчества (и не только в науке и искусстве, а вообще в принятии любого решения) выступает момент выбора.
Но выбирать можно из чего-то. Если же этого «чего-то» нет, то и выбор не состоится. Здесь во весь рост заявляет о себе умение нагнетать варианты. Чем больше «сырья», чем оно разнообразнее, тем надежнее возделана почва, на которой могут произрасти научные и художественные открытия. Не случайно Г. Гейне заметил однажды, что гениальные идеи — это всякий вздор, который идет в голову (добавим: в гениальную голову). Вот из этого «вздора» и вылавливаются путем отсева золотоносные плоды.
А теперь посмотрим, как эти два этапа сочетаются в научном и художественном творчестве. Возьмем науку. Интересно, что иногда ученых разделяют на два следующих типа. Одни — те, кто застревает на первом этапе, будучи захвачен выдвижением все новых и новых идей. Это исследователи с ослабленным отбором. Обычно они не доводят выдвигаемые положения до конца, бросая их без доказательств. И то сказать, мыслей так много, попробуй проверь их каждую. А потом богатство рождает беспечность, идеями не дорожат, их на всех хватит. К тому же гораздо интереснее все время что-то придумывать, наблюдая, как рядом порой бесплодно бьются коллеги.
Другие же ученые создают сравнительно мало нового. И потому дорожат им. Как не дорожить, если оригинальное решение — столь редкий посетитель. Зато если уж явится идея, ее сумеют «оседлать», всесторонне обдумать, поискать аргументы, словом, довести до конца. У этих исследователей, наоборот, сильнее развит отбор.
Конечно, такое деление условно. Обычно же в каждом ученом соседствуют оба начала: продуктивное и проводящее выбор, только смешаны они, естественно, у разных исследователей в разной пропорции. Поэтому любое творческое решение проходит два акта. В первом ведут напряженные поиски вариантов, во втором производят их придирчивый смотр, выбирая нужное.
В связи с этим можно дать начинающему исследователю следующий совет. Обычно молодежь с уважением относится к научным авторитетам и традициям. Однако вместе с таким уважением усваивается и некоторая робость при решении познавательных задач, стремление работать с оглядкой на прежние мнения. Вот здесь и напрашивается рекомендация.
Оказавшись перед новым, неизведанным, ученый, делающий первые шаги, не должен бояться себя, своих гипотез, предположений. Ему надо решительно выдвигать их. И чем их больше, тем легче будет находить ответ. В процессе творческих исканий полезно учесть любые мысли, даже те, которые кажутся ни на что не годными. Полезно поблуждать в лабиринтах идей, возможно, уйти в сторону, заблудиться... Речь идет не о том, чтобы непременно ниспровергать, отменять. Просто стоит позволить себе свободу фантазии, выдумки, ничем не сковывая мысль.
Такое же обилие вариантов в начальной стадии исследования видим и в тех случаях, когда речь идет об эксперименте.
Больших ученых всегда отличает поразительное трудолюбие, благодаря которому перерабатывается огромный опытный материал, столь необходимый для последующего движения творческой мысли. Вот несколько иллюстраций. Одно время М. Ломоносов задумал создать картину из узорной мозаики. Для этого ему потребовалось стекло определенного качества. Чтобы получить его, ученый в течение семнадцати лет испытывал различные составы, смешивал вещества, комбинировал. Он писал тогда: «Применяя не менее 50—60 различных компонентов, сделал более 4000 опытов, коих не только рецепты сочинял, но и материалы своими руками по большей части развешивал и в печь ставил». У химиков есть шутливое правило: полный успех обеспечивает последний опыт, а какой он по счету, не имеет значения. Как видим, у М. Ломоносова он оказался более чем четырехтысячным.
О М. Фарадее говорят, что он отличался не только блестящим умом, но и поразительной работоспособностью, умением затратить большие усилия на стадии именно чернового труда. Ведь в самых успешных случаях, говорил М. Фарадей, оправдывается едва ли десятая доля гипотез, желаний, предварительных догадок.
Расскажем об одном из таких успешных случаев, которые выпали на его долю. После того как физикам удалось, пропуская электрический ток, открыть вокруг проводника магнитное поле, М. Фарадею запала мысль получить обратный эффект. Убежденный сторонник тезиса о единстве природных начал, он полагает, что коли электричество несет магнетизм, то и магнитные силы должны таить в себе электрическую энергию.
Следует одна серия опытов, другая... Все безуспешно. Но не таков этот человек, чтобы скоро отступить. Давно приучив себя к аккуратности, он завел тетрадь, где каждую из попыток записывает особым параграфом. В 1931 году записи были изданы под названием «Дневник Фарадея». Из него мы и узнали, что в течение 7 лет ученый исследовал явление так называемой электромагнитной индукции. В конце концов он настиг удачу. «Последний» эксперимент (тот, что обеспечивает успех) и принес желаемый результат. Оказалось, что, быстро вдвигая и выдвигая намагниченный сердечник в катушку из проводника, можно обнаружить в цепи появление электрического тока. Заключительный параграф этой изнуряющей охоты за неуловимым спутником магнетизма имел номер 16 041.
Шестнадцать тысяч вариантов в течение семи лет! Вместе с тем совершенно ясно, что только это многообразие и позволило в конечном счете взять нужную пробу. Такова высокая цена научного открытия: М. Фарадею было из чего выбирать.
Особым упорством в достижении результатов отличался известный американский изобретатель Т. Эдисон. Для него был характерен свой стиль исследования. Он шел к решению путем простого перебора вариантов в надежде, что рано или поздно случай наведет его на цель. Т. Эдисон не любил теоретизировать, прикидывать возможности, вообще заниматься абстрактными построениями, рассчитывая, где вероятность достичь желаемого больше, а где она поменьше. Понятно, что этот его метод требовал особенно много разнообразных и длительных испытаний, неисчислимых экспериментов.
Так, в поисках нужного материала для нити накаливания в электрической лампочке он провел до десятка тысяч проб, а создавая щелочной аккумулятор, осуществил около 50 тысяч опытов. И так в каждом следующем изобретении. Работал он как одержимый. Спал едва ли 4—5 часов в сутки. Правда, с возрастом он уже не в силах был выдерживать такой ритм. Однако своему стилю— через многообразие вариантов к результату — не изменил.
В современной науке к открытию ведет еще более извилистая линия подготовительных шагов. Это понятно: новое дается все с большим трудом. Действует закон так называемых уменьшающихся отдач: чем дальше, тем все неохотнее природа расстается со своими тайнами.
Чтобы обнаружить след элементарной частицы, позднее названной «антисигма-минус-гиперон», пришлось просмотреть до 40 тысяч кадров. Но ведь их надо сначала получить, отснять. Это делается специальным устройством, которое носит название пузырьковой камеры. Не один исследователь бился над этим, пока наконец молодой физик из города Дубны А. Кузнецов не напал на след частицы. А в это время американские физики искали другую частицу — «омега-минус-гиперон». Она была теоретически предсказана Г елл-Маном — Несманом. Здесь пришлось поработать еще больше: сто тысяч снимков, прежде чем ее нашли.
«ЗОЛОТО ДОБЫВАЮТ ПРОМЫВКОЙ»
Таким образом, в научном поиске очень важно иметь материал для отбора. Чем разнообразнее круг идей и гипотез, чем больше взято проб, испытаний, тем вероятнее надежда на успех.
Аналогичную картину видим и в художественном творчестве: обнаружению совершенных форм предшествует обилие вариантов, годы и годы попыток,- которые затем сменяются строгой критической работой. П. Чайковский так охарактеризовал эти два этапа созидательного труда В одном из писем он говорит о сомнамбулическом, близком к бессознательному, состоянии, в котором производится масса заготовок, но которое сменяется строгим отбором.
Таким образом, творчество художника проходит те же две стадии, что и научное. Сначала стоит дать волю фантазии: ничем ее не стесняя, пустить в свободное плавание по волнам мечты. Цель — нагромоздить как можно больше вариантов. Для этого необходима раскованность мысли, или, как говорил А. Пушкин, нужна своего рода «роскошь и небрежность воображения». Идет большая предварительная работа, она совершается как бы наспех, даже без особой надежды на то, что это войдет в окончательный текст. Нужные образы являются далеко не сразу. Приходится долго вынашивать, вымучивать их, пока не зародится что-то стоящее. Вот что пишет в этой связи В. Маяковский:
...оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Как и в научном поиске, это «брожение воображения» в конце концов завершается благодарным вариантом, тем последним звеном в испытаниях, число которых также заранее неизвестно. Одновременно идет отсеивание ненужного. Тяжелый, изнуряющий труд. Как-то в письме к другу, поэту А. Фету, Л. Толстой поделился опытом своих занятий романом «Война и мир»: «Я теперь и ничего не пишу... а работаю мучительно». Вот ситуация: написанного ни строчки, а между тем, жалуется Л. Толстой, проделан колоссальный труд. В чем же он состоял? «Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них 1/1000 000, ужасно трудно, и этим я занят».
Примечателен разговор, состоявшийся между К. Тимирязевым и Л. Толстым, представителями двух интересующих нас полюсов культуры. К. Тимирязев поделился наблюдениями относительно сходства творчества человека и творчества природы (мы еще скажем об этом). Налицо, отметил он, отбор, имеющий величину почти того же порядка, которым оперирует природа. На это Л. Толстой заметил: «Ну, конечно, золото добывают промывкой».
Многократно продуманные мысли и образы ложатся наконец на бумагу. Однако этим отбор не заканчивается. Начинаются новые поиски, новые муки. Так, Л. Толстой по нескольку раз переделывал, казалось бы, готовые вещи, испытывая свежие варианты, подыскивая нужные слова, выражения. Хрестоматийная истина — Софья Андреевна только «Анну Каренину» переписывала 16 раз! В другом случае ей было немного легче. «Войну и мир» прошла всего лишь... 7 раз. Зато и роман этот в несколько раз побольше.
Очень много правил свои произведения Н. Гоголь, по многу раз возвращаясь к уже завершенным местам. Конец «Ревизора», к примеру, создавал в течение шести лет. И сколько там было вариантов, он и сам едва ли помнил. Писателя однажды спросили, откуда у него такой великолепный стиль. «Из дыма и огня,— ответил он.— Пишу и сжигаю, что написал. И пишу снова». Рассказывают, что второй том «Мертвых душ» до рокового окончательного сожжения уже дважды побывал в огне. Уничтожал и другие работы, полностью или частично.
Мы обращались за примерами, в основном взятыми из области писательского труда. Та же участь переде-
лок, доработок, уничтожений постигала и произведения других видов искусства. Так, известный русский художник В. Суриков первые наброски картины «Боярыня Морозова» сделал в 1881 году, но только три года спустя начал саму картину. Никак не удавалось лицо боярыни. Примеривал массу образов, но лицо никак не мог схватить. «Ведь столько времени я его искал»,— воскликнет однажды художник. Из письма протопопа Аввакума Морозовой он вычитал: «Персты рук твоих тонкокостны, а очи молниеносны. Кидаешься на врагов аки лев...» Слова завязли в памяти, не давали покоя. Такой видел В. Суриков боярыню, такую искал, неистовую, огнепальную.
Много варьировал в поисках удачного решения М. Врубель. Как подсчитали искусствоведы, голову знаменитого Демона, например, он переписывал 40 раз. Художник безжалостно расставался с тем, что ему казалось несовершенным. Едва закрадывалась тень сомнения, неудовлетворенности, и он уничтожал чуть ли не готовые вещи. Так, М. Врубель написал однажды: «Сегодня я дал генеральное сражение всему неудачному и несчастному в картине и, кажется, одержал победу».
Итак, ученый и художник идут к единственному решению через их многообразие. И за всем этим — гигантский всепоглощающий труд. Действительно, получается, что талант — вопрос количества: количества набросков, редакций, экспериментов, количества времени и творческого напряжения, наконец. Этим, кстати, и объясняется исключительно высокая стоимость шедевров искусства, в частности живописи. Ведь в их цену включаются и расходы на создание огромного числа набросков, эскизов, которые в качестве подготовительного материала также требуют больших усилий и потому нередко имеют самостоятельную художественную ценность. Аналогично обстоят дела и в музыке, литературе, других явлениях искусства.
Необходимо подчеркнуть следующее. Наверно, это хорошо устроено, что творческая работа слагается из двух этапов. Хорошо потому, что можно без оглядки на чье-то мнение, на чей-то авторитет смело искать решение, фантазировать, творить. А потом, включив строгие критерии, подвергнуть все это отбору. И, выбирая, снова творить.
Имея за спиной такого жесткого экзаменатора, где-то подсознанием понимая, что есть еще высший суд, ученый и художник, вообще каждый, идущий путем творчества, может отважиться на риск. Пока дело не достигло стадии отбора, стоит насладиться свободой, дать волю всем появляющимся помыслам. Это важно потому, что обычно человек смущается критики, остерегаясь показаться смешным в своих догадках. Лишь три процента людей не подвергнуты такому сомнению.
Но когда придумано достаточно идей и есть из чего выбирать, надо безжалостно провести отбор. Здесь и проявятся все трудности творческого процесса, все его сложности, где никакие рекомендации, что выбирать и как это делать, не помогут и где необходимо лишь большое исследовательское и художественное чутье.
В заключение раздела отметим, что в указанной осо-
бенности проходить два этапа — нагнетание вариантов и строгий отбор — ученый и художник напоминают природу. На это и обращал внимание К. Тимирязев, написавший специальную статью «Творчество человека и творчество природы». Он отмечает, что живая природа ставит слепые массовые эксперименты, число которых колоссально. Потом на фоне этого пестрого разнообразия, в создании которого она столь усердно потрудилась, приступает к работе жесткое сито естественного отбора. Оно безжалостно бракует неудавшиеся, плохо приспособленные к среде варианты, оставляя, с его точки зрения, только лучшее.
Как видим, сходство налицо. Как и в эволюции живого, в человеческом творчестве запущена та же программа: «Громадная производительность и неумолимая критика».
Нам хочется включить в этот разговор слова поэта:
Так связан, съединен от века Союзом кровного родства Разумный гений человека С творящей силой естества.
(Ф. Тютчев. Колумб)
ТВОРИТЬ — ЗНАЧИТ СРАЖАТЬСЯ С ХАОСОМ
Теперь обратимся к другой закономерности, также общей для научного и художественного творчества. Она обнаруживается в том, что оба эти вида деятельности имеют антиэитропийную заостренность. Здесь необходимо отступление. С ходу эту тему не взять.
Под энтропией (от греческого: «еп» — внутрь, «tro-
pe»— поворот, превращение) понимается величина, характеризующая наряду с другими величинами тепловое состояние тела, системы тел. Она свидетельствует о наличии свободной, то есть не связанной и, следовательно, способной к дальнейшим превращениям, энергии. Чем ее меньше, тем выше уровень энтропии. Максимум же энтропии — состояние, при котором никакие энергетические переходы уже невозможны, поскольку свободной энергии нет.
В мире действует так называемый закон, согласно которому любая энергия имеет тенденцию переходить в конечном счете в тепловую, а эта — равномерно распределяться среди тел окружающего пространства. Поэтому каждая физическая система, будучи предоставлена са-
мой себе, неминуемо переходит в состояние с максимумом энтропии. Это состояние представляет равновесное положение, в котором не наблюдается никаких энергетических перепадов. Все тихо, покойно. Отсюда и определение энтропии как меры дезорганизации, хаоса, беспорядка. Такие состояния материи наиболее вероятны, и они выражают общую тенденцию природы к максимуму энтропии.
Теперь понятно, что любое противостояние такой тен-денции, такой устремленности к мировому беспорядку несет антиэнтропийный эффект. Но противиться энтропии способны лишь достаточно высоко организованные системы. И чем выше степень их организации, тем они устойчивее. Такова жизнь во всех ее формах, представляющих очаги сопротивления тотальному наступлению хаоса. Как говорят, жизнь — это питание отрицательной энтропией.
На ступенях эволюции особое место занимает человек. С его появлением антиэнтропийность живых организаций обрела осмысленный вариант. Человек не мог бы ни возникнуть, ни существовать, не научись он наводить порядок вокруг себя и в себе самом.
Борьба человечества с окружающим хаосом развертывается по многим линиям. И конечно же, значительными событиями в этих непрекращающихся сражениях явились плоды творческих усилий, среди которых возвышаются произведения науки и искусства.
Понятно, что в каждой из указанных областей работа, ведущая к понижению энтропии, строится по своим меркам, но имеет одну и ту же задачу: навести порядок в нашем понятийном или чувственно-образном хозяйстве. Средствами науки человек добивается эффективного приспособления к природной среде. И делает это тем лучше, чем глубже сумеет ее постичь, то есть организовать добытые знания: понятия, законы и т. п.— в системы, обладающие высокой степенью упорядоченности. Тогда и природа является нам не хаосом случайного скопления вещей и процессов, а как нечто проникнутое гармонией, организованное. Благодаря этому мы научаемся укрощать, переделывать реальность, окружая себя комфортом и уютом. Так ученый, добывая информацию, вносит своей деятельностью отрицательный вклад в энтропию.
С другой стороны, искусство тоже помогает упорядочивать, но уже не внешние события, а наши впечатления о событиях, наши чувства, эмоции, переживания, соединяя их в целостную ткань художественного творения.
Таким образом, ум ученого дисциплинирует природный хаос, а талант художника — хаос собственных восприятий действительности. Как видим, цели у них оказываются сходными. А. Эйнштейн, говоря о том, что в процессах творчества исследователь и представитель искусства одинаково строят мир, заполненный нами же созданными понятиями и образами, пишет: «Этот мир может состоять из музыкальных нот, так же как и из математических формул. Мы пытаемся создать разумную картину мира, в котором мы могли бы чувствовать себя как дома и обрести ту устойчивость, которая недостижима для нас в обыденной жизни».
Просматривается еще один оттенок, объединяющий науку и искусство по этой антиэнтропийной линии.
Закон энтропии является вероятностным. Согласно ему все состояния тела распределяются таким образом, что за менее вероятным следует более вероятное. Отсюда беспорядочное, хаотичное и обыденное всегда более вероятно, чем упорядоченное, исключительное и неожиданное. Но это и означает, что открыть, создать, будь то в науке или искусстве, редко встречающееся, то есть более антиэнтропийное, гораздо труднее, чем обнаружить, отобразить (научно или художественно) явление, обладающее высокой мерой вероятности. Соответственно и подлинное творчество имеет место, когда труднопредсказуемое утверждается ученым или художником в качестве действительного, сущего.
Таким образом, все науки и искусства воспитаны в стремлении постичь мировую гармонию, увидеть за внешней пестротой вещей и восприятий простые отношения, за путаницей событий — закон. На эту тему обнаруживается немало замечаний, идущих как со стороны ученых, так и от творцов искусства. Их мнения удивительным образом перекликаются. И конечно, не только мнения, но и дела и поступки, потому что идут они к общим целям, хотя и разными путями.
Крупный советский химик академик В. Энгельгардт, характеризуя научное творчество, отмечает, что оно пронизано стремлением внести элементы системы «в тот хаос, который нас окружает» и благодаря этому «увеличить степень упорядоченности наших представлений и познаний мира».
Действительно, если посмотреть, чем занят ученый, к какой бы дисциплинарной ветви его ни отнесли, остается неоспоримым: он занят выявлением порядка, который царит в природе. Поэтому, что бы исследователь ни изучал, ему написано судьбой вносить в наши восприятия организованность, упрощать их, ему назначено просеивать многообразие окружающих явлений, усматривая за ними инварианты и постоянство.
Г оворят, первый признак учености — стремление классифицировать,. Робко, но его считают даже своего рода тестом на возможную причастность испытуемого к числу тех, кто способен к науке. Классифицируют все: дома, сослуживцев, прохожих. Это первые подступы к упорядочиванию внешней пестроты явлений. Позднее человек, если он пойдет по тропе познаний, займется более сложными делами, проникнет в более глубинные пласты. Ему определенно захочется собрать увиденное в системы, потом — научиться управлять ими, осуществить еще какие-то операции, с каждым шагом поднимая степень организованности на несколько делений выше. Вместе с этим приходит и творческое удовлетворение.
С подобным пониманием задач ученого можно встретиться, по существу, в любой естественнонаучной отрасли. Скажем, в химии. Русский исследователь П. Вальден в книге «История органической химии» приходит к выводу, что весь грандиозный опыт этой науки свидетельствует о поисках архитектоники молекул, пронизан стремлением к синтезу различных форм и получению симметричных структур. Может быть, лишь в самом начале химика остановит внешний блеск, великолепие световых переливов. По-настоящему же его манит загадка внутренней упорядоченности соединений.
Антиэнтропийное значение научного результата простирает свое влияние, конечно, и за пределы собственно понятийной сферы знания. Верная своему призванию, наука решительно вмешивается в дела практических преобразований мира, помогая людям овладеть им. Эта антиэнтропийная функция науки особенно зримо проявила себя в условиях социализма. И именно потому, что природа общественных отношений благоприятствует здесь не только развертыванию научных исследований (в масштабах, какие неведомы ни одной иной социально-экономической структуре), но и освоению обществом результатов науки. Характерно, что за годы Советской власти научный потенциал страны увеличился даже не в десятки, а в сотни раз, показав темпы роста, которые не под силу даже самым развитым государствам капиталистического мира.
Те же «организационные» задачи выполняет и искусство.
Упорядочивая мироощущения, оно не только дисциплинирует наши восприятия, но и направляет наши действия. Характеризуя художественное творчество, М. Горький в письме Б. Пастернаку говорил: «Воображать, значит внести в хаос форму, образ». Здесь и лежит назначение искусства — создавать порядок из беспорядка, гармонию из дисгармонии.
Великие организаторы звуков (музыка и поэзия), красок (живопись), форм (скульптура и архитектура) —все они каждый по-своему этому предназначению верны. И здесь обнаруживается полная близость той работе, которую проводит ученый. Если послушать, что говорят, например, о поэтическом творчестве критики, поэты и прозаики, окажется, что их слова буквально воспроизводят те мысли естествоиспытателей, которыми они характеризуют свою деятельность по упорядочиванию природного и социального мира.
Примечательно, что и проза, хорошая проза, отличается столь же высокой организацией материала, как музыка или поэзия. Большой стилист И. Бунин признавался, что, начиная писать, он должен «найти звук». И «как скоро я его нашел,— пишет он далее,— все остальное
дается само собой». Уловить, поймать звук — это и значит отыскать ритм повествования, его звуковую структуру, ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка.
Восхищает напевный слог Н. Гоголя. Однако лишь немногим известно, как великий писатель шел к этому, как вырабатывал ритмику. Он, например, переписывал стихи Г. Державина, осваивая его величавую, торжественную речь. Сквозь прозу Н. Гоголя явственно звучит музыкальная размерность почти поэтически организованного текста: «Русь! Чего же ты хочешь от меня?.. Что глядишь ты так и зачем все, что ни на есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» Или его крылатая песнь о тройке. «Птица-тройка! Знать, у русского народа ты могла только родиться...» и т. д.
Ритмикой слога отличается стиль русского писателя Н. Лескова. Его так и хочется читать нараспев, как читают стихи. Вслед за Н. Гоголем Н. Лескова тоже надо назвать «поэтом отечественной прозы».
Впрочем, хороший слог дрлжен и может украшать сочинение любого автора. По крайней мере, к этому стоит стремиться каждому в меру своих сил, чем бы он ни был занят: писанием ли художественных творений, изложением ученых результатов или даже составлением деловых бумаг.
Наверное, каждый из нас замечал, как нередко какие-то написанные структурные нормы языка диктуют свои права при выборе слов как раз по звуковому предпочтению, по их длине, по тому, как складывается ритм целого предложения. Фразу лучше строить так, чтобы ее было легко читать, не запинаясь о неудобные буквосочетания.
Правда, есть разночтения. Одни полагают, что ритм должен работать на содержание, поэтому вне смысла он, ритм, никакой роли не играет. Другие же подчеркивают известную самостоятельность ритма и вовсе не склонны связывать с ним все содержание. Ритм может и не зависеть от текста, а быть нацелен организовывать восприятие читателя.
Очевидно, та и другая позиции содержат верные мысли, которые и следует принять, очистив их от крайностей.
Таким образом, и ученый и художник мыслят близкими категориями. Их намерения ясны и задания прозрачны: организовать внешние подробности и восприятия в
четкие понятийные и художественные формы, с тем чтобы «укротить» обступающий нас мир, а также мир человеческих страстей и поступков. Поэтому вся научная и художественная практика отмечена 5той тягой к упорядочению знаний и эмоций, их сведению в системы теоретического или образно-эстетического значения.
МАТЕМАТИКА И ПОЭЗИЯ
Обсуждаемую тему хотелось бы раскрыть более доказательно на примере близости конкретных видов научной и художественной деятельности. Мы возьмем для этой цели математику и поэзию. И вот почему.
Казалось бы, у них далекие интересы. Математика, очевидно, ревностнее остальных наук соблюдает пристрастие к точности, к строгому дисциплинарному мышлению. Это и делает ее для постороннего глаза областью сугубо рациональной, даже сухой, стало быть, лишенной образности, эмоций, то есть всего, чем дышит искусство. Наоборот, поэзия — это разгул мечты, всплеск воображения и нестесненных фантазий. В лучших своих результатах она, можно сказать, соткана из образов, наэлектризована эмоциями, отличается отсутствием дисциплины и нестрогостью мысли.
И тем не менее оказывается, что математика и поэзия во многом похожи, тесно связаны и даже порой трудятся по сходным алгоритмам. Следовательно, если удастся показать близость столь внешне далеких сфер, это и будет означать, что между наукой и искусством действительно немало общего, глубоко родственного.
Прежде всего отметим, что в математическом творчестве сильно проявляется, особенно на поворотах ее развития, мятежная и даже, если можно так сказать, поэти-чески-мятежная струя. Тогда разыгрываются настоящие математические страсти, высказываются полумистиче-ские догадки. Тогда вводятся вымышленные сущности, утверждаются ирреальные объекты наподобие мнимых чисел Д. Кардано или понятий «воображаемой геометрии» Н. Лобачевского. Поэтому В. И. Ленин писал, что фантазия столь же нужна и самой строгой науке, какой является математика, именно это выводит ее на новые рубежи.
В раскованности математической мысли, в стремлении создавать фантастические миры явно видна ее близость к поэзии. Недаром известный немецкий математик
XIX века Г. Вейль произнес слова: «Занятия математикой сродни мифотворчеству, литературе или музыке. Это одна из наиболее присущих человеку областей его деятельности, в которой выражается его человеческая сущность, стремление к интеллектуальной сфере жизни, выступающей одним из проявлений мировой гармонии».
Характерно, что математику еще в начале XIX века считали самой гуманитарной наукой, нередко ее называют искусством.
Подобные убеждения имеют достаточно сильных сторонников. Например, в лице самой молодой ветви мощ-
ного математического древа — конструктивизма, Характерно, что если представители классической математики сближают математику с естествознанием, то лидеры конструктивного течения, в частности немецкий исследователь А. Гейтинг и советский ученый А. Марков, видят в ней гуманитарные начала. Подчеркивается, в частности, что конструктивная математика не сводится к логике и вообще творчество математика протекает на более широкой основе, чем способность рассуждать, то есть выводить одни утверждения из других по строго очерченным правилам.
...А из искусств математику чаще всего и сближают с поэзией. Поэтому многие математики хорошо отдают отчет в том, что их мастерство проистекает из того же начала, что и мастерство поэтов. Как у тех, так и у других,
говорит, например, член-корреспондент АН Украины математик Г. Суворов, «вихри образов» и «эмоциональные взрывы» сменяются, точнее, дисциплинируются логикой.
Итак, отмечается общность математического и художественного, в частности поэтического, творчества. И одна из причин, как видно, в том, что, подобно поэту, математик мыслит раскованно, он свободен в своих построениях, несмотря на все строгости его науки. Нам не понять подоплеку этой раскованности, если не обратиться к особенностям математического знания, к его специфическим понятиям и объектам.
В отличие от других наук истина здесь не проверяется прямым сопоставлением с данными эксперимента или заявками производства. Как доверенные истины, показатели практики выступают в отдаленном результате, то есть весьма опосредованно, через ряд звеньев и переходов, пока доберутся от «чистой» теории к ее прикладным применениям. В своей же постоянной работе математик опирается не на опытные, как естествоиспытатель, а на логические подтверждения. К примеру, можно сотни раз измерить углы равностороннего треугольника, убедиться, что они равны, но это не даст нам математического доказательства истины. Мы получим его, когда выведем наше утверждение из аксиом. Так и ученик, определяя, скажем, величину угла в геометрической фигуре, не измеряет ее транспортиром, а проводит по правилам логического следования известные математические преобразования, опираясь на условие задачи и привлекая нужные теоремы, леммы, следствия.
Относительная (во всяком случае, более относительная, чем в любой другой науке) независимость математической мысли от эмпирии, опыта и от самой действительности проявляется и в том, что математик может создавать миры, физически противоречивые, лишь бы они не были противоречивы логически. Таким, к примеру, предстал поначалу мир, построенный Н. Лобачевским. Он противоречил физическим представлениям, укоренившимся на основе геометрии Эвклида. У Н. Лобачевского параллельные пересекались, сумма углов треугольника не была равна 180°, прямые вовсе и не прямые, а дуги на особой поверхности и т. д. Потрясенные современники никак не хотели принимать эту странную геометрию. И лишь много позднее она утвердилась как равноправная теория пространства.
Таким образом, если физика, как и другие естественные науки, решает вопрос, каков окружающий мир, то математика задается целью знать, каким он может быть во всей бесконечности вариантов. С этой позиции построение Н. Лобачевского не результат Исследования практической задачи, а плод усилий выявить логически возможные геометрические системы. Оттого математику и называют наукой, брошенной человечеством на изучение мира в его возможных вариантах. Остальным ученым такие вольности заказаны.
Все это и предопределяет особенность математических понятий и объектов. Рассмотрим их подробнее.
В основе любого понятия лежит абстракция, то есть отвлечение конкретных, интересующих исследователя признаков, когда все остальные признаки опускаются. Так, физик выделяет физические свойства тел (массу, или инерцию, или твердость и т. д.), игнорируя все другое, а, скажем, биолога интересуют лишь биологические признаки, все прочие будут ему только мешать, и он от них мысленно избавляется.
Но какие природные свойства вещей выявляет математика? Ведь она отвлекается от любых вещественных характеристик предметов: физических, химических, социальных, останавливая свой взгляд на пространственных формах и количественных отношениях.
Покажем это на примере такого математического понятия, как число. Возьмем даже не число вообще, а определенное число, скажем, 5. Мы обнаруживаем, что оно не является характеристикой какого-либо конкретного объекта. В частности, если перед нами группа из пяти человек, то это ведь не значит, что каждый из них обладает свойством «быть пятью».
Но к чему же тогда, к каким объектам приложимо выражение «быть пятью»? Оно приложимо к любой совокупности предметов, если эта совокупность состоит ровно из пяти элементов, то есть принадлежит, так сказать, к семейству пятерок, каковы бы они ни были по своему составу. Пять пальцев, пять олимпийских колец, пять стран света, более того, четыре студента и один декан, взятые вместе, и т. д.— все это пятерки, составляющие вышеназванное семейство, и каждая из них может быть характеризована свойством «быть пятью».
Таким образом, числовыми значениями наделяются не предметы сами по себе, а те совокупности, в которые они вступают. Поэтому здесь уже не суть важно, какими физическими, вещественными свойствами обладают сосчитываемые предметы, важно, что они входят в некое множество. Математика объединяет предметы в классы, совершенно не считаясь с их природными признаками. Она, как говорил в шутку В. Маяковский, может складывать вместе окурки и паровозы, тем самым как бы нивелируя вещи.
Отнимая у объектов все физические свойства, математика оставляет им единственную обязанность подчиняться отношениям, количественным и пространственным. Тут открывается поле математическому творчеству, фантазии, игре воображения. Дело в том, что отношения здесь тоже особые. Они хотя и подсказаны внешней реальностью, но эта связь весьма опосредована. Лишь первые исходные отношения взяты прямо из действительности, а над ними надстраиваются другие, которые могут в настоящее время и не встречаться в природе, но которые, возможно, будут открыты в будущем.
Оттого многие видят суть математики именно в свободе, во всяком случае, в большей свободе, чем она завоевана естествоиспытателем: физиком, химиком, биологом.
Известный венгерский ученый А. Реньи проводит такую грань между математиками и другими исследователями. Он ставит вопросы (и отвечает). Существовали ли бы звезды, не будь астрономов? Безусловно. А болезни, если бы не было врачей? Конечно. Но существовали ли бы числа, не будь математиков? Вот здесь, говорит А. Реньи, мы затрудняемся с ответом. Скорее надо признать, что числа лишь подсказаны природой, но они не обитают в ней подобно тому, как там обитают прообразы естественнонаучных понятий: звезды, болезни, биологические виды.
Поэтому если все ученые, изучающие природу, действуют с веществом, со зримой, осязаемой материей, то математик не просто действует, а священнодействует с им же самим созданными объектами. У всех исследователей есть рабочие места, свои лаборатории, установки; единственная лаборатория математика — его интеллект. Ему не нужны ни ускорители, ни реактивы, ни подопытные кролики.
Свобода от внешних обязательств, раскованность и риск в постановке проблем сближают математика с поэтом. Как и поэт, он черпает идеи из самого себя, а внешняя жизнь только подсказывает ему темы. Конечно, и
здесь нет безоглядной, ничем не очерченной свободы. Творчество математика детерминировано логикой развития его науки, ее предшествующими завоеваниями, общекультурным состоянием эпохи. Наконец (но не в последнюю очередь), оно детерминировано формами и отношениями действительного мира, а также практическими приложениями. И все же в сопоставлении с остальной наукой математика обладает большей независимостью от внешней реальности, хотя в конечном итоге также служит ей, помогая преобразованию мира, только служит по-своему, не так, как другие дисциплины.
КРАСОТА И ЭНТРОПИЯ
А теперь настала пора вернуться непосредственно к вопросу об антиэнтропийной деятельности математика и поэта. Однако прежде отметим еще один общий мотив, который проходит через их творчество. Этот мотив эстетический, четко улавливаемый в поэзии, но и хорошо слышимый также в математике. В своем месте о его проявлениях в научном поиске пойдет речь более подробная. Здесь же затронем этот вопрос только по линии касания понятий красоты и энтропии.
Безусловно, стоит обратить внимание на то, что хаос и дезорганизация не могут вызывать положительного эстетического чувства. Наоборот. Следовательно красота связана с энтропией некой обратной зависимостью: красивый предмет обладает меньшей энтропией, чем некрасивый. В последнем содержится больше «шума». Поэтому понятия порядка и красоты в качестве оценок явлений природы или научных теорий и произведений искусства идут рука об руку. Их родство подтверждают и психологические опыты. Предъявляя испытуемым организованные (упорядоченные) и лишенные этого качества геометрические фигуры, ученые увидели, что чувство эстетической удовлетворенности появляется именно тогда, когда улавливается внутренняя организация форм.
Ранее отмечалось, что на почве стремления к порядку, а также стремления к красоте как раз и сходятся наука и искусство. Теперь же мы намерены их соседство раскрыть на примере проявления близости между математикой и поэзией.
В математике значительно сильнее, чем в других дисциплинах, обнаруживается черта организованности, стремление находить скрытый порядок во всем, что нас окружает. Наверно, поэтому математика и представляется внешнему наблюдателю занятием для умов слишком строгих, обделенных способностью замечать все краски жизни и, значит, далеких от поэзии и красоты.
Теперь возьмем поэзию. В ней очень сильно проступает образное художественное начало. Здесь оно даже сильнее, чем, например, в прозе, и доступнее, чем, скажем, в музыке. Более того, поэзия соединяет в себе образность словесных средств выражения и музыкальность ритмики. Поэтому можно сказать, что поэзия — это музыка и живопись одновременно, но на более высокой спирали, ибо поэзия и услаждает слух, и радует глаз.
Однако, несмотря на то, что математика и поэзия стоят на разных полюсах, они сходятся. Оказывается, математика устремлена к поискам не только порядка, но и красоты, в то же время и поэзия ищет не только красоту, но и порядок.
Многие, очень многие математики, характеризуя свою деятельность, отмечают, что ими руководит потребность в достижении совершенства, эстетической законченности построений. Так, советский академик Л. Соболев подчеркивает: «Истинный математик тот, кто не только решает задачу, но стремится решить ее красиво». Наверное, поэтому многие математики и приходят к выводу, что их наука сродни поэтике. С. Ковалевская, например, крупнейший ученый XIX века, говорила: «Нельзя быть математиком, не будучи поэтом в душе».
Таким образом, выявляя формы и укладывая в них внешние события, математик создает порядок, то есть он понижает уровень энтропии, но тем самым творит эстетически совершенное.
Но не то ли же самое делает поэт? Конечно, его предназначение— нести прекрасное. Вместе с тем ему необходимо определенным образом упорядочивать свой материал, свои впечатления. Очевидно, умение превращать беспорядок в форму есть первый признак поэтического дара, есть то, без чего не может состояться художник. Если же поэт, восприняв поток впечатлений, так и не смог его организовать, он не пробудит ответных читательских чувств и его поэзия не станет нитью, помогающей людям ориентироваться в потоке восприятий окружающего мира.
Говорят, что в отличие от естествоиспытателя, который лишь отделяет информацию от шума, математик из этого шума информацию создает. Аналогичную работу проводит и поэт. Судите сами.
В одной из статей А. Блок писал: «Поэт — сын гармонии, и ему дана некая роль в мировой культуре». И далее поясняет: «Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки из родной, безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых, привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих, внести эту гармонию во внешний мир». Обратим внимание на то, как четко здесь выражена упорядочивающая работа поэта: уловить в шумах, идущих извне, нужные звучания и сложить из них прекрасное.
Видимо, А. Блока по-настоящему беспокоила эта тема — тема поэта, слагающего из хаоса звуков мировые гармонии. Так, он записывает: «Гениален, быть может, тот, кто сквозь ветер расслышал целую фразу, сложил слова и записал их». Не потому ли так часты у А. Блока упоминания о неясных звуковых ощущениях, которые доносятся откуда-то из глубин, но которые под рукой поэта принимают организованные в ритм формы.
Ты — как отзвук забытого гимна...
Или:
Ко мне по воздуху неслись Зари торжественные звуки,
Багрянцем одевая высь.
А его великолепные строки:
В ночи, когда уснет тревога,
И город скроется во мгле.—
О, сколько музыки у бога,
Какие звуки на земле!
Недаром же об А. Блоке кто-то из современников сказал, что он улавливает звуковые волны, опоясывающие вселенную, и лепит из них стихи. И сам поэт признавался, что он постоянно слышит вокруг звуки: выходишь на лестничную площадку, звучит лестница; идешь по улице, звучит улица, звучат дома, снег, воздух... По-этому-то он и говорил: «И стихов я не выдумываю, я их слышу. Сначала музыку, потом стихи». Характерно следующее. В последние месяцы жизни очень больной А. Блок жаловался, что не чувствует звуков, что он потерял ритм жизни. Поэт говорил тогда К. Чуковскому: «Все звуки прекратились. Разве вы не обратили внимание: звуков нет, они исчезли».
Это характерно и для других поэтов — умение прослушивать внешнее пространство, обнаруживать в нем звучания и составлять из них стихотворные размеры. Так, Г. Гейне уловил в шуме волн, бьющихся о скалы Рейна, чарующую и властную мелодию коварной Лореляй. Так, в наше индустриальное время талантливый советский поэт Геннадий Юров в промышленном дыхании больших строек ощутил песенный ритм эпохи:
...Мой город, тебя узнаю.
Я песню тебе не слагаю —
Я слушаю песню твою.
Подобно поэту, извлекающему звуки из внешнего окружения, математик выбирает знаки и, организуя их в структуры, также создает гармонию. Потому советский ученый Ю. Шрейдер, приводя слова А. Блока о назначении поэта соединять освобожденные им звуки в формы, замечает: «Трудно было бы попытаться дать равное по силе определение назначения математика».
Итак, пути математика и поэта определенно пересекаются. Несмотря на то что они ставят разные цели, бьются над разными задачами, в чем-то их действия оказываются одинаковыми и достигают они похожих результатов. Упорядоченность и красота — вот что роднит их труд.
Конечно, освещены далеко не все стороны взятой темы. Но сейчас хотелось бы остановиться и «закрыть» ее, подчеркнув, что, хотя математика обычно и считается строгой, она близка поэтическому творчеству, тесно связанному с миром фантазии. Зато поэзия, которую любят за игру образов и произвольность мысли, обнаруживает сходство с математикой, поскольку у поэта слова также объединяются в строгие формы.
Подведем итог. Многие факты в самом деле заставляют поверить в тесную близость научного и художественного творчества, примеры же их сочетаний в одном лице (о чем еще речь впереди) добавят к этой вере новые штрихи. Словом, есть основания устанавливать между наукой и искусством четкие параллели, есть право выделить у них пункты, соприкасаясь в которых-ученый и художник оказываются способными приносить по-настоящему высокий творческий результат.
И все же, чтобы лучше понять плодотворную мощь союза искусства и науки, стоит проникнуть в их специфические черты. Это значит, что они должны быть разъединены и рассмотрены по отдельности. Лишь тогда можно полно узнать, что они способны дать один другому. Но пусть об этом расскажут идущие следом главы.
«НАУКА-ЭТО МЫ. ИСКУССТВО-ЭТО я»»
Сколь ни близки искусство и наука, все же у каждого из них есть свои особенности. Попытаемся рассмотреть их, что называется, «в разводе», войти в жизнь, которую они ведут, поглубже, оглядеться, подумать. Для этой цели мы рассмотрим вопрос о роли и месте личности в научном и художественном творчестве, об особенностях реализации «я» ученым и художником.
Конечно, как тот, так и другой осваивают внешнюю реальность, населенную людьми, вещами, событиями, и потому в их основе лежит единый творческий процесс. Вместе с тем это разные способы вйдения мира, опреде-ляехмые природой их предмета. Главное же отличие, повторимся, не вдаваясь пока в подробности, состоит в следующем. Если наука стремится описывать мир, так сказать, беспристрастно, то искусство преподносит его в восприятиях личности автора, через авторские оценки. В этом и коренятся те особенности, которые разводят их по разным углам, предопределяя характер отражения действительности, а также присущие каждому формы воплощения добытого содержания.
Сначала о науке. И чтобы решительнее прочертить границы двух культур, станем касаться преимущественно естествознания.
Науке назначено помогать человеку овладевать природой. Но прежде чем владеть, надо проникнуться ее делами, научиться разговаривать с ней на подходящем языке. Люди науки в стремлении узнать окружающее озабочены поисками истин, в которых были бы разгаданы механизмы движения природы, ее тайные намерения, цели. Ученый узнает и записывает для нас явления внешней реальности, управляющие ее «поведением» законы, вообще все, что коснулось его внимания. Но записывает так, как есть само по себе, ничего не утаив и не прибавив, иначе от его стараний не будет проку.
Конечно, каков мир «сам по себе», знать трудно, ибо он дан нам через наши восприятия. Но с помощью различных средств и ухищрений мы стремимся к возможно более объективной, очищенной от человеческих добавлений картине действительности.
Наука добивается знания объективного, то есть, как отмечал В. И. Ленин, независимого ни от человечества, ни от отдельного человека, от индивидуальных особенностей ученого, подданства, мест проживания, тем более его вкусов, оценок, душевного состояния. Как заметил А. Чехов: «национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука».
В том и особенность науки, что ее нельзя развивать лишь благодаря усилиям ученых одной страны. Ведь если не пользоваться плодами других народов, потребуется много времени, чтобы эти плоды вырастить самостоятельно. А потом — и это главное — результатом будет то же наднациональное, единое для всех знание.
Истина общечеловечна. Другое дело, что она не всем может нравиться, особенно когда затрагивает классовый интерес. Сколько бы людей и каких бы разнообразных по характеру ни трудилось над ее открытием, она одна, единственно верная и неподдельная. Ее ни подкрасить, ни очернить. Здесь столь же недостойно заниматься приписками или занижать показатели.
Этим определяются особенности реализации личности творца в науке по сравнению с тем, как она реализуется в искусстве. Что касается последнего, тут проблема понятна, хотя и не столь проста. Художник воплощает в произведении опыт собственного «я». Как именно это происходит, с какими «оговорками», речь чуть позднее. А сейчас нас интересуют пути проявления личных качеств ученого в научном поиске.
Человек науки имеет дело с объективной истиной. Поэтому, что он найдет, познавая действительность, какое содержание откроется ему, предопределено заранее. Естествоиспытатель обнаружит только то, чем богата природа и чем она рада (или не рада) поделиться с исследователем. Но если ученый может открыть лишь нечто, не им придуманное, а только ему предъявленное, значит, он обязан и очистить найденное от любых посторонних «примесей». Должен, так сказать, подарить нам лишь то, что взял у природы, освободив от всего, привносимого им как индивидуальностью. Вот что писал в связи с этим А. Герцен: «Личности надобно отречься от себя, чтобы сделаться сосудом истины, забыть себя, чтобы не стеснять ее собою».
Таковы правила научной игры, суровые и, быть может, при первом взгляде несправедливые. Несправедли-вьде потому, что ведь каждый исследователь — личность со уюими неповторимыми узорами души. И вот от лично-стного-то, от своего и требуют отказаться, тщательно
убрать любые проявления неповторимости, не дать им внедриться в научный результат. Не обидно ли?
Окинув под этим углом историческую панораму науки, увидим, что она насыщена как раз борьбой за «чистоту» добываемого содержания, стремлением избавиться, по выражению Б. Паскаля, от ненавистного «я». То есть от тех многообразных личностных добавок, которые неизбежно сопровождают поиск истины, но которые способны внести в нее нечто лишнее, субъективное, искажающее. Собственно, развитие познания и представляет постепенное освобождение создаваемой общими усилиями картины мира от следов антропоморфизма, иначе
сказать, от «человекоподобных», несущих печать личности ученого, вообще его принадлежности роду человеческому наслоений.
Это можно проследить, в частности, на примере эволюции обозначения чисел. Когда-то они функционировали в виде чисел-эталонов, то есть величин, выражающих свои значения путем указания количества пальцев одной руки, двух рук, рук и ног вместе. Соответственно создавались и названия, отражающие эту конкретно-чувственную «привязку» величин к элементам человеческого тела. В языке отдельных народов и поныне в числовых обозначениях сохранились подобные антропоморфные следы, когда число 5, скажем, именуется словом «рука», число 20 — выражением «весь человек» и т. п.
Со временем происходит очищение от наглядности, старые имена уходят из обращения, а их место занимают уже не антропоморфные, а нейтральные понятия — продукты чистой абстракции.
Еще один пример изгнания антропоморфизма дает переход от геоцентрической системы к гелиоцентризму. Благодаря этому человек шагнул в новый, хотя и менее домашний, зато более правильный мир, центром которого мыслится уже не привычное нам земное местоположение, а совсем иное, определяемое нахождением Солнца. Пространство отодвинуло свои границы, лишив картину вселенной антропоморфного уюта. И теперь уже Солнце не как прежде всходит и заходит, заглядывая к нам в окна, а держится где-то далеко, отчужденно, одинаково обслуживая и нас, и соседние планеты.
Но этим дело не кончилось. Подобно тому, как геоцентризм был смещен гелиоцентризмом, последний сам начинает вытесняться более широкой точкой зрения на строение мира — космоцентризмом, где антропоморфный элемент еще более уходит в тень.
И так по всему фронту науки. По мере развития она все более отрывается от непосредственной данности, взбираясь по лестнице абстракций ввысь, подальше от чувственных восприятий. Чтобы понять глубокие тайны природы, надо как бы отойти от нее на расстояние, создать известную дистанцию между показаниями органов чувств и разумом, предоставив ему некоторую свободу маневра.
Это и будет означать, что исследователь окажется в точке, из которой видно далеко, но откуда уже неразличимы детали и подробности. Окружающее предстает обескровленным, выраженным в форме отвлеченных понятий. Это мир неслышимых звуков, невидимых цветов, неощущаемого тепла. Одно слово: неантропоморфный мир.
Но сказанное не в упрек науке, а лишь констатация того, насколько она последовательна, проводя линию на очищение добываемого содержания от человекоподобных внедрений.
И все же как ни стараются ученые убрать антропоморфные элементы из своих результатов, это им в полной мере не удается, да и, видимо, не удастся вообще.
Антропоморфизм входит в науку по двум линиям: в виде следов видовой сущности человека и в качестве влияний, накладываемых индивидуальными особенностями конкретной личности ученого в процессе его деятельности. Сейчас мы коснемся только первого типа антропо-
морфных проявлений, поскольку лишь им и удается проникать в конечный результат.
Мыслящий разум, коли ему дано постигать природу, вольно или непроизвольно подходит к ней с точки зрения своей исключительности и своего положения. Вселенная оказывается ориентированной на нас, ибо просматривается с той позиции, где помещается наше «я». Полагая себя пунктом отсчета в мировой сетке координат, мы все видим и записываем именно под этим углом зрения. Оттого и получается, что хотя наука постепенно раздвигает зону охвата (Земля — Солнце — Галактика), но в центре неизменно остаемся мы, земляне. Смена этих астрономических парадигм,конечно, поубавила наши антропоцент-ристские притязания, но не избавила от них совсем.
И в другом разрезе. Свои земные дела мы также обсуждаем с человеческой платформы. Скажем, все события на планете уложены нами в своеобразную пирамиду, символизирующую поступательное движение, разумеется, с человеком на вершине. Сначала природа поработала, чтобы создать живое, а живое, оказывается, устроено так, что никуда иначе, как только к мыслящей субстанции, его эволюционные этажи подниматься не могут. Других направлений развития человек знать не желает.
Но, безусловно, рассмотренные моменты не отменяют общей тенденции познания — снять с добываемого знания антропоморфные слои.
Бессубъектный характер научного продукта предопределяет коллективную природу науки. Плоды индивидуальных усилий, будучи освобождены (насколько это удается) от личностных сопровождений, складываются в общую копилку знаний, образуя единое содержание. Благодаря подобным совокупным усилиям наука умножает свои богатства, переплавляя добытое в суммарный итог общего значения. Кем бы персонально ни были достигнуты результаты, они нивелируются, и в этом обезличенном виде только и могут получить «прописку» на карте знания. Именно поэтому родилось выражение: «Наука — это мы».
С отмеченной особенностью связаны так называемые кумулятивные процессы в науке (от латинского cumula-tio — увеличиваю, складываю). Прибавляя одно к одному, суммируя и наращивая свое содержание, наука постоянно и неумолимо поднимается ввысь. В этом движении она не забывает ничего ценного позади себя, передавая ранее накопленное новым поколениям исследователей.
Верно, относительно кумулятивности познания мнения не сходятся. Кто-то и вовсе отрицает эту особенность науки, другие признают, но с оглядкой. Ссылаются на революции и кризисы, которые, дескать, обнажают несопоставимость следующих друг за другом научных теорий и парадигм (то есть норм, образцов решения познавательных задач).
Действительно, поступательное и внешне плавное течение познания порой нарушается очень уж бурными событиями.
Со временем обнаруживается, что господствующая научная концепция не справляется со своими обязанностями, то есть не может объяснить некоторых фактов, либо в ее теоретических основаниях выявляются противоречия. Так или иначе, но назревают перемены, вследствие которых старое знание отменяется и уступает место новому. Революция.
Однако вместе с переворотами, часто весьма ощутимыми, удивительным образом сохраняется то ценное содержание, которое позволяет науке идти вперед, наращивая свой познавательный потенциал.
Такие странные события. С одной стороны, наука бессильна продвинуться хотя бы на одно деление выше, если не будет опираться на свои прошлые заслуги. «Вижу дальше, потому что стою на плечах гигантов» — так определил И. Ньютон связь времен в движении человеческого познания. Наука на любом повороте своего восхождения по спирали прогресса бережно сохраняет ранее собранные зерна, без которых не могли бы прорасти ее будущие урожаи. Поистине,
То, что жизнью взято раз,
Не в силах рок отнять у нас.
Ибо однажды завоеванное наука уже не отпустит. Да и как отпустить, ведь тогда придется снова завоевывать уже покоренные вершины.
Это одно. А с другой стороны, лишь перечеркивая старое, решительно преодолевая прежние рубежи, познание способно продвинуться дальше. И вот некогда найденные и обласканные истины перестают восхищать ученый мир. Зреет недовольство. С таким упорством выстраданное знание уже не удовлетворяет, и молодые умы готовятся к решительным битвам против седых авторитетов, ускоряя наступление больших и малых революций.
Так, соединяя два противоборствующих процесса, наука продвигается вперед. Как видим, она постоянно в «ремонте», зачеркивая и обновляя старательно написанные ранее страницы. Оттого полностью, до конца ни одно научное начинание исчерпать предмет познания не может, потому что наивысшей полезностью обладают те достижения, которые ложатся в основание, чтобы замостить дорогу идущим вслед. Лучшее в науке то, что способно «погибнуть» и этим дать жизнь другим. Ибо результат, на который нельзя опереться в попытках продвинуться дальше, такой результат не обладает нужной научной потенцией.
Таким образом, приходится говорить только об относительной завершенности продуктов труда ученого — об отдельных теориях, законах, уравнениях, которые, однако, с точки зрения истории науки выглядят лишь наиболее заметными звеньями в непрерывной цепи познавательных результатов.
Получается, что, хотя научное знание составляется из отдельных лоскутов, пестрых, порой даже несовместимых, в целом оно образует одно общее содержание, в котором исчезают пестрота и несовместимость. Это содержание и передается по эстафете преемственности новым отрядам исследователей, питая их так же хорошо, как они сами будут питать своих преемников. Так празднует свои победы диалектика.
Познание непрерывно. Оно нигде не подходит к черте, за которой ее развитие начиналось бы с нулевого значения. Все это подтверждает ту мысль, что содержание науки — плод общих усилий ее творцов. Поэтому оно может быть преобразовано, перелито в свежие формы, улучшено. Наука собирает, аккумулирует однажды добытые знания, благодаря чему она и представляет в каждой точке пути сжатый итог всего предыдущего развития.
Здесь мы хотели бы привлечь внимание к выдающемуся французскому просветителю XVIII столетия Ж. Кондорсэ. В книге «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» он писал: «Результат, обнаруженный в каждый данный момент, зависит от результатов, полученных в предшествующие моменты, и влияет на те, которые должны будут достигнуть в будущем». Для обозначения этого процесса одновременного
сохранения и преобразования содержания науки был выбран термин «уплотнение» знаний.
С аккумуляцией — уплотнением связано и то, что научная информация поддается обработке и, так сказать, шлифовке. Как правило, только что добытые понятия, теории крайне сложны и с трудом доступны освоению. Даже для самих первооткрывателей они поначалу едва ли отчетливы. Однако со временем, благодаря упрощениям и уточнению, овладевать ими становится легче, а еще позднее их настолько «отполируют», что они становятся ясными массовому пониманию.
К примеру, операции дифференциального исчисления, применяемые в современной практике, отличаются от тех, что родились под пером И. Ньютона и Г. Лейбница. Целые поколения ученых потрудились над тем, чтобы придать методам дифференцирования сегодняшние формы.
Интересно сравнить. Если наука от упрощения (конечно, когда оно не искажает содержания) лишь выигрывает, то искусство, напротив, не терпит никаких упрощений, вообще переделок, доработок и прочее. В доказательство этого советский физик А. Мигдал любит демонстрировать превращения известных пушкинских строк:
Пьяной горечью Фалерна Чашу мне наполни, мальчик
Конечно, можно упростить. Например: «Мальчик, принеси мне вина». Действительно, просто. Но поэзии здесь уже нет.
СУБЪЕКТИВНЫЕ КРАСКИ НАУКИ
Итак, наука изымает из продуктов творчества все, что напоминало бы о личности исследователя или о его видовой принадлежности. Она оставляет только содержание, независимое ни от индивидуальных особенностей ученого, ни от его человеческих качеств вообще (в той мере, в какой это последнее достижимо).
Однако отсюда не следует, что никакие черты характера исследователя, его личные особенности не проявляются в научной деятельности.
Как мы уже видели, антропоморфные элементы в виде определений видовой сущности человека проникают даже в конечный познавательный результат, где вообще не должно быть чего-либо человекоподобного. Если же взять сам процесс постижения истины, а также дальнейшие события, которые разыгрываются в борьбе за ее утверждение, то здесь индивидуальные свойства ученого проявляют себя полно и глубоко. Иначе говоря, мы переходим сейчас к описанию проявлений антропоморфизма второго типа, связанных с конкретными особенностями отдельных исследователей.
Научная работа эмоционально насыщена, совершается в обстановке психологически неспокойной, сопровождаясь чередой разочарований и удач, всплесками удивления или отчаяния. Наука значительна, а во всем, что значительно, есть свои взлеты и падения, есть поводы для радостей и для уныния тоже.
Словом, было бы несправедливо представлять исследователя сухим, лишенным переживаний, неверно выдавать его за человека, отрешившегося от всего эмоционального. Более того, ученый, который лишает себя эмоций и, погружаясь в холодный расчет, отгораживается от поэтического мироощущения,—такой ученый рискует оказаться творчески бесплодным. Мы выделили бы три сферы проявления личностного начала в научном творчестве: в процессах поиска истины, при оформлении ее для печати и, наконец, на этапе последующей борьбы за признание открытия. Рассмотрим эти проявления, так сказать, по порядку поступления предложений.
Конечно, наиболее ответственный этап творчества — получение результата. Напряженные искания перенасыщены эмоциями, сопровождаются глубокими психологическими движениями. Поэтому здесь сильнее всего и заявляют о себе личные качества исследователя. Соответственно этому ученых делят на психологические типы. Наиболее распространено отнесение к двум видам — романтики и классики.
Первые зарекомендовали себя людьми с беспокойным характером, склонными к неожиданным, непредсказуемым поступкам и решениям. Они быстро загораются новыми проблемами, смело идут на риск выдвижения свежих идей, не особенно считаясь с авторитетами. Обычно им и удается ломать устоявшиеся традиции науки, обогащая ее по-настоящему новаторскими приобретениями.
Наоборот, классики привержены старому, осторожны, когда речь заходит о переменах. Не особенно наделенные фантазией, они работают методично, всесторонне обдумывая свои предложения.
Но указанные типы ученого — это выражение определенных качеств личности, как они, эти качества, проявляются в научной работе. Возьмем, к примеру, рыцаря фантазии, можно сказать, неисправимого романтика и бунтаря итальянского математика XVI века Д. Кардано. Он и в обыденных делах отличался неудержимым характером. Вел достаточно неупорядоченный образ жизни, далеко выходящий за пределы рациональных режимов. Под стать самому Д. Кардано были и придуманные им мнимые числа. Как и он, с характером, поскольку не укладывались в привычные для тех времен числовые ряды. «Числа-уроды» — так прозвали их современники, ибо в мире существовавших тогда величин они выделялись неожиданными свойствами и строптивым «поведением».
А с другой стороны, типичный классик науки К. Линней— бесстрастный и дотошный систематик живой природы. Видимо, он и по характеру ровный, спокойный человек, аналитик мысли, поглощенный тем, чтобы все укладывать в строгие ряды систем. О нем пишут, что сначала он классифицировал геологические образцы пород, ракушек, металлы, затем взялся упорядочивать авторов книг по ботанике. Любимое занятие переросло в сильнейшее увлечение, ставшее делом его научной жизни.
Им осуществлена грандиозная разбивка организмов по классам и рубрикам. Обработки не избежал и сам человек, которого он поместил вместе с животными. Это было сделано впервые в науке и представляло прогрессивный шаг. Однако такой поворот не всем пришелся по нраву. Характерный эпизод. В классификации имелись изъяны, потому что порой принимались в расчет случайные, внешние признаки. Так, например, человек оказался рядом с... лошадью. Французский философ Ж. Ламет-ри увидел тут хороший повод уколоть К. Линнея, заявив: «Сам он лошадь». На что присутствовавший при разговоре Ф. Вольтер заметил: «Но, согласитесь, что если Линней лошадь, то это лучшая из лошадей».
Особенности личности ученого проявляются на этапе научного поиска и в тех оценочных критериях, которыми руководствуется исследователь при отборе идей и концепций, вариантов уравнений, химических формул, технических конструкций и т. п. В частности, в случаях, когда экспериментальное или практическое подтверждение найти не удается, охотно прибегают к дополнительным показателям истины, среди которых видное место занимают эстетические, то есть соображения красоты, элегантности, изящества. Об их роли говорят многие ученые, и нам еще предстоит к этому вопросу вернуться. Здесь же отметим лишь, что эстетические оценочные критерии реализуются у каждого исследователя специфично, сообразно его индивидуальным особенностям, воспитанию, склонностям. И хотя нормы и идеалы красоты формируются при участии всего социального опыта людей и на основе художественной практики эпохи, применяются они отдельной личностью, вносящей в творческий процесс свои неповторимые движения души.
Следовательно, путь к истине немыслим без субъективных переживаний ученого и его личных пристрастий. Однако — и здесь принципиальное отличие науки от искусства — все это следует оставить «за кадром». Эмоции, впечатления, оценки, вообще богатый душевный мир исследователя— ничто не должно отразиться на содержании добытых знаний. Эмоции только помогают ковать истину, сама же она обязана предстать свободной от любых психологических сопровождений. В конечном продукте, как говорится, не должен быть виден зигзаг удачи.
И вот, если открытие состоялось, перед ученым не запятнанная привходящими личностными моментами истина, очищенная и освобожденная от его «я». Теперь добытое знание надо представить на всеобщее обозрение, внедрить в научный обиход. Возникает задача: должен ли исследователь, оформляя работу к печати, сообщить только чистый результат и его основание, или же он может рассказать все, что пережил, испытал, продвигаясь к нему? Может ли он показать, например, свои сомнения, ошибки, также и чувства, владевшие им?
Некоторые пытались это делать. Так И. Кеплер вместе с полученными выводами излагает и побочные линии, сопровождавшие научное изыскание, отступления, заблуждения, давая понять, насколько трудной была проблема и какие препятствия подстерегали его. То есть И. Кеплер выходил далеко за рамки задач, которые возлагались на него как автора научной публикации. Так же М. Эйлер из Петербургской академии порой кратко, порой пространно говорит -о перипетиях поиска и риска. Он любит поделиться с читателем тем, как пришел к какой-либо мысли, как увидел те или иные числовые отношения, что при этом подумал и т. п.
Однако большинство научных трудов свободно от таких откровений. По сложившейся традиции, в научные издания помещают лишь конечный результат — истину и ее доказательство. Все остальное убирается. Возьмите любую монографию. Разве вы найдете в ней рассказ о том, как ее автор выбрал тему исследования, какие сомнения испытал, выдвигая проблему, о чем волновался, решая ее и т. п. Писать об этом не принято.
Между тем путь к истине всегда индивидуален и потому поучителен, ибо насыщен событиями персонального значения, впитавшим навык, как правило, незаурядной личности. Надо ли доказывать, насколько важно донести до сознания читателя, особенно молодого читателя, эти сведения. Приобщение молодых умов к опыту больших ученых — немаловажное подспорье в воспитании будущих исследователей.
В связи с этим хочется познакомиться с одним замечанием крупного немецкого естествоиспытателя и методолога прошлого века Г. Гельмгольца. Вот что он писал: «Я могу сравнить себя с путником, который предпринял восхождение на гору, не зная дороги. Долго и с трудом взбирается он, часто вынужден возвращаться назад, ибо дальше нет прохода...» Много сил тратится им, чтобы обойти препятствия. «Наконец, когда цель уже достигнута, он, к своему стыду, находит широкую дорогу, по которой мог бы подняться, если бы сумел верно отыскать начало». Однако, заключает ученый, «в своих статьях я, конечно, не занимал читателя рассказом о таких блужданиях, описывая только тот проторенный путь, по которому он может без труда взойти на вершину».
Мы видим, что Г. Гельмгольцу есть о чем рассказать. И не только в смысле достигнутых результатов, но и о том, как они были получены. Однако мы видим также, что и Г. Гельмгольц в согласии с традицией опускает из описаний все, что прямым образом не подводит к истине.
Конечно, в ряде случаев все же можно узнать, как делается открытие. Узнать из воспоминаний, из научно-популярной литературы (особенно, когда она создается крупными учеными), на основе писем. Но это лишь малая доля того, чем могли бы поделиться деятели науки.
После того как научное исследование закончено, оформлено для печати и даже опубликовано, открывается еще одна страница в деятельности ученого, насыщенная большим эмоциональным напряжением — полоса признания (или непризнания) открытия. Какие тут разыгрываются психологические бури! А все оттого, что новое в науке (и не только в ней) пробивается через неслыханные барьеры. Приходится убеждать, доказывать, бороться. Автор и здесь должен проявить характер, чтобы отстоять свое завоевание, ввести его в научное обращение.
Далеко не каждый из первооткрывателей выдерживает такие нагрузки. Некоторые бывают сломлены и либо уходят от борьбы в бессилии пробить косность, либо еще хуже...
Во второй половине прошлого столетия с оригинальными идеями выступил австрийский ученый Л. Больцман. Фактически им были заложены основания статистической физики — учения настолько нового, необычного, что Л. Больцмана никто не хотел принимать всерьез. Встретив всеобщее непонимание, а с ним, как это водится, насмешки, глумление, ученый надломился и покончил жизнь самоубийством. Подозревают, что и знаменитый изобретатель двигателя нового принципа Р. Дизель так же не смог противостоять травле и в отчаянии покончил с собой, выбросившись с парохода в ночное неспокойное море. Надо сказать, здесь сыграли большую роль обстоятельства, затронувшие интересы тех предпринимателей, что вложили крупные капиталы в конструкции и механизмы устаревших типов двигателей.
Однако новаторы-ученые испытывают не только внешнее давление. Источником эмоциональных драм может быть и внутренний разлад в умах исследователей. Чаще всего это конфликт вновь добытых результатов с устоявшимися взглядами, теориями, как это случилось, например, с М. Планком или Дж. Томсоном.
Когда в начале нашего века немецкий ученый М. Планк вводил для описания некоторых явлений микромира, не объяснимых старыми теориями, понятие кванта, он встал перед неизбежностью разрыва с традицией. Его гипотеза спасала физику от противоречий, но не уберегала от борьбы с самим собой. Ему казалось, что созданная им новая теория разрушит, как он писал, «стройное здание классической науки». Поэтому, выпустив свою идею в свет, ученый сам же просил коллег... не принимать ее окончательно, а лишь терпеть, пока не подыщется что-то более подходящее.
Похожие волнения чуть раньше М. Планка испытал и англичанин Дж. Томсон, открывший в 1897 году электрон. Он был обескуражен, смущен и даже потрясен тем, что нашел, так как не мог поверить в существование тел, которые были бы меньше атома. Не без колебаний дались ему первые выступления перед коллегами и первые публикации, тем более что приняли его сообщение, мягко говоря, без энтузиазма. К. Рентген, например, даже запретил сотрудникам произносить в ёго присутствии слово «электрон».
Как видим, личность ученого, творца заявляет о себе на всех этапах научной деятельности. Индивидуальные качества, тип характера, психологический рисунок его души —все это так или по-другому отражается на работе исследователя. И только в одном не может быть места для внедрения личностного, субъективного в самом научном результате. Как итог, как завершение познавательных усилий истина должна быть очищена от любых напластований индивидуального.
Теперь, проведя это рассмотрение, перенесемся на другой полюс проявлений личного начала в творчестве — в искусство.
ТОЧКА ОТСЧЕТА — ЛИЧНОСТЬ
Сфера искусства полностью погружена в индивидуальное. Нет такого участка, в котором не ощущалось бы присутствие автора-творца. «Все во мне, и я во всем». Так определил Ф. Тютчев фронт слияния личности поэта с тем, что он переживает и что отдает читателю, В отличие от науки, где нам встретилась обширная, так сказать, бессубъектная зона, искусство подобных зон не знает. Мы видели, с каким тщанием наука убирает из готового результата все индивидуальное. В художественном же творчестве не только сам процесс, но и его результат настоян на индивидуальном, личном.
Это определено задачами искусства — выражать не просто окружающий мир, но мир, каким его видит художник. Поэтому если у автора не появилось собственного, отличного от других восприятия действительности, лично им пережитого и осмысленного, ему лучше отойти от дела. Именно потому, что искусство классово, художник не может — в отличие от естествоиспытателя — выступать с позиции некой всеобщей, общечеловеческой абстрактности. Это и означает, что, выражая свое понимание мира, автор произведения искусства вместе с тем проводит линию тех социальных сил, которым симпатизирует.
Невозможно обойти проблему самовыражения.
Когда в произведении не чувствуется индивидуальный почерк его создателя, присущие ему строй дум и характер образов, можно считать, искусство не состоялось. Путь к художественности проходит через утверждение и воплощение «я». Конечно, здесь, как и в других случаях, грани весьма тонкие. Право на выражение «я» относительно, ибо вопрос поворачивается другой стороной: может ли художник создать от своего имени нечто общезначимое, представляющее социальный интерес, есть ли у него для этого опыт? Перерабатывая внешний материал, пропуская его через внутренний мир, он воссоздает переживаемое в художественных формах. Поэтому в искусстве утвердилась своего рода норма: «Что не для тебя, то никому не нужно».
Видимо, заметнее всего, точнее сказать, доступнее, чем где-либо, это проявляется в литературе. Если обратиться к мнению самих писателей, то вот оно. Л. Толстой, как известно, постоянно державший проблемы творчества в поле зрения, подчеркивает, что «только в глубинах своей души художник может обнаружить интересное людям». Характерны также и достаточно тверды убеждения многих других писателей.
Сложнее увидеть этот личный план в других видах искусства. Но, безусловно, он присутствует и в них. Скажем, в музыке. Выдающийся венгерский композитор Ф. Лист говорит об этом следующее. Он разделяет коллег на два типа. Одни, передавая ощущения внешнего мира, просто группируют и сочленяют звуки, выстраивая их по определенным правилам, заложенным традицией. Это обыкновенные музыканты, скорее, ремесленники, быть может, и высшей руки. Настоящий же сочинитель— поэт звуков. Посредством их он говорит о пережитых впечатлениях, чувствах. Для него язык музыки есть возможность выразить глубоко личное понимание окружающих явлений и событий. Ибо, заключает Ф. Лист, «если композитор не говорит о своих печалях и радостях, о своем смирении или страстных желаниях, он оставит слушателя равнодушным».
Итак, индивидуальное выступает в искусстве во всей полноте власти. Вот и получается, что, сколько бы авторов ни работало над одним и тем же предметом, темой, сюжетом, в результатах ничего похожего. А если бы это касалось науки, все результаты должны были быть одинаковыми.
Но если точка зрения художника оказывается определяющей, если именно в его восприятии преподносится весь материал произведения, это обусловливает и положение автора в системе образов, его роль в организации художественного текста. Авторское присутствие ощущается во всем. Не только в содержании, но в композиции, в выборе формы повествования и даже в так называемых «стилистических привычках». Оказывается, у каждого писателя свои пристрастия, есть у него наиболее используемые слова, любимые словосочетания, конструкции фраз. Будучи строго индивидуальны, они образуют своего рода «литературные отпечатки пальцев».
Итак, точкой отсчета в произведениях искусства выступает личность художника. Она есть, так сказать, начало координат.
Следовательно, населяя свое сочинение людьми, событиями, пейзажами, писатель не просто организует их в некую систему согласно внешнему состоянию дел. Он потому и организатор, архитектор, что увидел героев и осмыслил все образы, все содержание с позиций своего «я», под углом собственных мировоззренческих, эстетических и классовых установок. Можно владеть богатством жизненных впечатлений, носить в себе массу сведений, притом не быть обделенным даром образного видения окружающего, но до тех пор, пока у автора не проявится ко всему личная точка зрения, настоящего художественного полотна ему не создать.
Поучительный случай из своей писательской практики рассказал К. Паустовский. Как-TQ он задумал книгу
сб истории города Петрозаводска. Было такое время, когда по призыву М. Горького создавали истории заводов, предприятий, целых городов. Включился в это движение и К. Паустовский. Собрал массу фактов, понаблюдал, составил даже план. Словом, сделал все как положено, а книга не получалась. Материал расползался, не шел по задуманному сценарию. Сами по себе отдельные куски были интересны, но они никак не ложились рядом, существуя отдельными фрагментами. Явно чего-то недоставало. Наконец он понял: необходим собственный взгляд на факты. Его и не хватало. «Я писал о водяных машинах, о производстве, о мастерах,— говорит К. Паустовский,— писал с глубокой тоской, понимая, что пока у меня не будет своего отношения ко всему этому... ничего из книги не получится».
Как явствует, автор занимает в произведении особое место. Он своего рода фокус, где сходятся нити описываемых событий, точка пересечения всех жизненных дорог его героев и сюжетных линий. Если привнести сюда научные термины, то это нечто вроде «автоцентризма», где все обращается вокруг личности художника. И это авторское право надо уважать, во всяком случае, учитывать его, оценивая произведения искусства.
Именно поэтому во власти художника смещать события, группировать их согласно своему замыслу, изображать под определенным углом зрения. Более того, художественно оправданными оказываются и вовсе на первый взгляд недозволенные приемы, которые в науке, нз-
пример, явно запрещены. Мы имеем в виду литературные описания, когда в одном произведении высказываются по поводу одного и того же события совершенно исключающие мнения. Все зависит от авторского решения и его оценок изображаемого, от того, как эти оценки складываются в определенные моменты времени.
Возьмем поэму С. Есенина «Анна Онегина». Вначале поэт говорит о ранней поре своей жизни, когда он был молодым, наивным и, конечно, влюбленным. Однако на его признание Анна, как помнит читатель, ответила ласковым «нет». Так родились строки:
Далекие милые были.
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас
Таково начало. А в конце поэмы, возвращаясь к тем же дням молодости, к тому же событию, С. Есенин пишет уже по-другому:
Мы все в эти годы любили.
Но, значит, любили и нас.
Совсем иная развязка. И тем не менее она столь же мотивирована, как и начальные строки, потому что случившееся осмыслено теперь с позиции человека, немало узнавшего на дорогах жизни, умудренного ее опытом, человека, испытавшего взаимную любовь. Таким образом, один и тот же факт получает разное освещение.
Но у С. Есенина противоположные оценки разделены по крайней мере дистанцией времени. А вот Р. Казакова в одном стихотворении пишет:
Люби меня по-отчески, воспитывай, лепи,— как в хорошем очерке, правильно люби...
Люби совсем неправильно, непедагогично, нецеленаправленно, нелогично.
Тут и вовсе противоречия, недопустимые в ученых трактатах, но вполне оправданные и порой даже неизбежные при описаниях состояний души.
Личная точка зрения проявляет себя даже в исполнительских видах искусства. Казалось бы, это не тот случай, когда можно утверждать свою индивидуальность. Актер, пианист, вообще исполнитель передает умонастроения автора, его переживания и чувства. И чем точнее, тем, очевидно, больше должно ценить его мастерство.
Все верно. И тем не менее исполнитель обязан проявить себя, принести зрителям, слушателям собственное понимание художественного текста, передать не только авторское восприятие изображаемого, но столь же и свое.
Так, многие пианисты и скрипачи, дирижеры и даже сами композиторы решительно восстают против рабского копирования музыкальных работ, убеждены, что нетворческая, формальная игра способна оттолкнуть других исполнителей от произведения, а то и вовсе создать вокруг него пустоту. Артисту не пристало укрываться за готовый текст. Он должен вести свою партию, насыщая музыкальное сочинение интерпретацией и утверждая право на собственное прочтение партитуры.
Особый разговор об актерском мастерстве, вокруг которого постоянно ходят рассогласованные мнения.
Деликатный вопрос: позволено ли исполнителю выразить свое понимание описываемых в пьесе событий? Выразить в дополнение, в развитие авторского замысла, оставаясь, конечно, верным духу и тексту первоисточника? Речь не о том, чтобы переиначивать содержание произведения, а лишь о его обогащении опытом исполнителя, впитавшего опыт своей эпохи.
Лучшие режиссеры, руководители театральных коллективов, непосредственные исполнители ролей, наконец, всегда защищали принцип самобытности артиста, его право воплощать на сцене собственное толкование героев. Более того, ему рекомендуется вести, как говорится, собственную игру. Ибо, если он будет кому-то подражать, «списывать» образ с другого, пусть и талантливого, быть может, даже великого актера, на этом пути вершин мастерства не достичь.
Одно из требований знаменитой системы К. Станиславского, например, состоит как раз в предписании артисту «играть себя в прилагаемых обстоятельствах», то есть обогащать персонаж личным пониманием, насыщая образ красками из собственного «реквизита». Можно привести и еще более сильные слова. Как считает одна из выдающихся деятелей советской сцены, Е. Гоголева, роль следует играть лишь в том случае, «когда у актера возникает личное отношение к той ситуации, которая живет в пьесе».
Конечно, в театральной работе, как и повсюду, не следует поддаваться крайностям. Право актера на самовыражение, на собственное прочтение роли не должно оборачиваться безудержной свободой и полной независимостью от текста. Есть художественное произведение, и никому не дозволено толковать его вольно, что называется, вкривь и вкось и еще по диагонали.
В идеале надо добиваться органичного соединения, с одной стороны, авторского замысла, а с другой — режиссерского и актерского понимания пьесы. Драматургический текст, бесспорно,— основа театрального представления. Только к нему требуется подойти глубоко, поняв смысл произведения и раскрыв его идеи с позиций сегодняшней действительности, обогатив их личным опытом. И здесь индивидуальность исполнителей может и должна проявиться столь же полно, как полно проявилась личность автора пьесы.
Выдающийся артист И. Москвин, близко знавший А. Чехова, рассказывал, как тот, обращаясь к актерам, учил: «Вы должны создавать образ, совершенно свободный от авторского». Значит ли это игнорирование содержания, заложенного в произведении? Да нет же. Известно, насколько А. Чехов был строг, требуя точного понимания подлинника. Речь шла, следовательно, о творческом союзе драматурга и исполнителя, союзе, благодаря которому только и может произойти слияние двух образов, авторского и актерского, слияние, так сказать, двух «я».
Говоря о самовыражении творца в исполнительских видах искусства, напомним об одном важном моменте. Лишь тот артист сможет полно выразить замысел произведения и донести зрителю свое понимание героев и событий, кто не просто находится на сцене, а живет делами своего героя, страдает, ненавидит и любит, как страдают и любят в настоящей жизни. Не забудем высоких и точных слов Б. Пастернака:
Искусство — это Рим, который,
Гремя турусами колес,
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.
Это и значит, что большие мастера отдаются театру, роли целиком, без остатка. Они действительно сгорают
на сцене. Подобно тому как отзывчивый врач умирает и возрождается вновь с каждым исцеленным больным, так и хороший артист, разделяя со своим героем его заботы и радости, отдает ему частицу собственного «я», выражает себя в нем.
Вообще, личное отношение к предмету своих занятий важно не только в искусстве. Оно необходимо в любом виде деятельности. Указанное обстоятельство хотелось бы особо подчеркнуть, адресуясь к молодому читателю. Творчество там и начинается, где видим пробуждение глубокого интереса к делу, независимо от того, большое оно или малое. Быть может, в этом и заложен один из эстетических мотивов труда. Бывают такие задания, что и браться за них неохота, но преодолеешь себя, начнешь выполнять (только добросовестно), как приходит желание сделать лучше, сделать хорошо, принести радость себе и людям.
«РАССВЕТНОЕ ИМЯ СТРАНЫ..»
Итак, искусство держится на индивидуальном, личном. А теперь постараемся увидеть, как именно, какими сторонами своего содержания личность входит в художественный текст.
Вначале отметим ту особенность произведений искусства, что они несут (конечно, не все в равной степени) черты автобиографичности.
В публикациях ученого, особенно — естествоиспытателя, мы не найдем указаний на то, какие, например, этапы на своем жизненном пути он прошел, где жил, с кем встречался, какие невзгоды или, наоборот, радости испытал — здесь откроется прежде всего специалист, да порой можно будет догадаться о некоторых чертах его характера, художественных вкусах и пристрастиях.
В произведениях же искусства личность творца проступает более отчетливо. В них можно прочитать не только свойства психического склада, но и эпизоды его биографии, события эпохи, которые он пережил и участником которых явился. Не потому ли о жизни писателей, музыкантов, поэтов и т. д. известно гораздо больше, чем о жизни деятелей науки? Ведь любое произведение так или иначе хранит следы пережитого его автором. Поэтому наблюдается обоюдная зависимость. Чтобы понять воплощенные художником идеи, эстетические и мировоззренческие установки, надо обратиться к биографии. А с другой стороны, знание последней дает ключ к пониманию его творчества.
Это и объясняет тот неподдельный интерес, который питают исследователи к личной жизни мастеров искусства.
Так, А. Пушкин изучен настолько, что о нем известно фактически все. Лишь относительно 12 или 13 дней из его жизни (с той поры, как он стал известен) пушкиноведы не могут сказать чего-либо определенного: не знают, где был, что делал, с кем встречался. Остальное описано полностью, притом досконально, со всеми подробностями и деталями, как под микроскопом. О дотошности изысканий в биографии и произведениях поэта говорит, например, такой факт, как появление работы «О букве С у Пушкина».
Уровень же изученности ученых, в том числе и великих, значительно ниже. Конечно, о таких гигантах, как А. Эйнштейн, Н. Лобачевский, Д. Менделеев, известно многое. Однако сведения о них касаются скорее собственно научной деятельности, научного окружения, судеб созданных ими теорий. Но остальная жизнь освещена слабее.
В силу биографичности творений искусства художник в своих героях отражает то, что пережил сам. Поэтому в истоках творческого горения и обнаруживаются события большого жизненного значения: неразделенная или, наоборот, «разделенная любовь», рождение сына, дочери
;ли смерть близких. И чем глубже это отразилось на судьбе художника, тем талантливее его произведение.
Вот лишь одна из многочисленных тому иллюстраций.
В. Гёте в пору сравнительно раннего этапа его жизни прошел через сильное душевное потрясение. Он перенес в то время глубокую любовь, не имевшую, как в таких случаях пишут, счастливого исхода. Появлялись даже мысли о самоубийстве. Все же поэт, как он говорит, «преодолел эти мрачные настроения и решил жить. Но для того чтобы жить спокойно, я должен был,— заключает В. Гёте,— написать произведение, где выразил бы чувства, мечтания, мысли того важного периода моей жизни».
Таким громоотводом явился знаменитый роман «Страдания молодого Вертера». Герой определенно унаследовал черты автора. Испытав сильную любовь к девушке, хотя и ответившей взаимным чувством, но помолвленной с другим, Вертер кончает жизнь самоубийством. Биографы считают, что, если бы В. Гёте не переложил свою боль, свои страдания на плечи героя, возможно, он сам ушел бы из жизни. Но появился роман, доставшийся, как видим, ценой больших душевных мук.
В художественных произведениях подобного рода содержится, говоря языком философии, объективированная человеческая боль, которая как бы отторгнута от человека, ее выносившего, и воплощена в нечто наблюдаемое со стороны, доступное восприятию других людей. Слезы, жалобы, которыми наполнено наше существование,— это тоже объективированные человеческие переживания. У мастеров искусства они, переживания, получают выход в творчестве созданием шедевров культуры. Художник словно отрывает куски прожитой им жизни, наделяя их собственным существованием. «Госпожа Бо-вари — это я!» Слова принадлежат Г. Флоберу, который перенес вместе со своей героиней все ее страдания. Рассказывают, что во время обдумывания сцены отравления Бовари с ним самим приключились судороги, и он был вынужден позвать врача.
Трудно утверждать, является ли это утешением художнику, но он знает, что его творения, покупаемые столь высокой ценой, находят ответные чувства в душевных движениях читателей, вызывают ощущения, близкие тем, что испытал и он сам. А порой они имеют такой характер и их действие бывает настолько сильным, что приходится даже говорить об опасных влияниях искусства на умы людей.
Так, вслед за появлением только что упомянутого романа «Страдания молодого Вертера» (что было в 70-х годах XVIII столетия) по Германии прошла волна самоубийств. Встревоженный таким положением дел соотечественник В. Гёте, драматург и искусствовед Г. Лессинг ?чел даже нужным просить автора написать еще одну главу с другим, не столь безысходным окончанием в надежде, что это могло бы остановить столь нежелательное развитие событий.
Каждый художник, большой или менее значительный,— сын своего народа и в творчестве, естественно, отражает и выражает питающую его дар национальную почву. В этом искусство также явная противоположность науке.
Было бы странно видеть, как меняется научный факт, кочуя сквозь государственные границы, переходя от одной нации к другой. Вопреки остроумному афоризму — «истина по ту сторону Пиринеев превращается в заблуждение по сю» — она повсеместно одинакова, добудут ли ее под Новосибирском или на Японских островах.
Искусство все, от первой страницы до последней, просвечено народным духом и каким-либо иным, наднациональным, быть не может. Бездомные персонажи, герои с выхолощенными чертами национального облика — все они обречены на неудачу.
Сила художника, власть художника в том, что он не просто создает для народа, но думает и чувствует его Думами и его чувствами, сливаясь с народом. Величие А. Пушкина, по Ф. Достоевскому, в том, что «Пушкин не угадывал, как надо любить народ, не приготовлялся, не учился. Он сам вдруг оказался народом». Поэтому, заключает Ф. Достоевский, «не понимать русскому Пушкина, значит, не иметь права называться русским». Конечно, это высшие проявления национального духа в искусстве, и не каждому дано к ним приблизиться, но этому стоит хотя бы поучиться.
Говоря о народной основе творчества художника, необходимо особо подчеркнуть его национальную самобытность, то именно, что он поднялся из своего народа, уходит глубокими корнями в его историю, культуру.
Национальный дух искусства проявляется в содержании произведений, в характере героев, в языке, во всем складе авторских мыслей и чувств. Но не только быт, национальные традиции и история питают художественное творчество. Родная природа, своеобразие ее пространств, растительные и животные формы также оказывают свое влияние на художника. И необязательно непосредственно, но и преломляясь через психологию нации.
Где, как не в душе русского могли сложиться такие строки, напоенные певучим простором, размахом приволья с убегающими в бесконечность горизонтами:
Россия...
Прозрачные краски на долы и горы легли, и можно шагать без опаски от края до края земли.
И не превращая в присловье названье лесной стороны, я вновь повторяю с любовью рассветное имя страны:
Россия..
(В. Широков)
Размах социальных преобразований, предпринятых советским народом в годы строительства социализма, еще более усиливает то ощущение простора, которое характерно для нашей Родины. В связи с этим примечательно одно высказывание современного японского писателя Сакё Камацу. Он говорит, что его уже давно привлекала в произведениях советских фантастов особенная широта взглядов, которая отличает их от американских, английских, да и японских коллег. Побывав же в Советском Союзе, С. Камацу заявил, что теперь-то ему понятны причины этого. «Ведь за полвека,—сказал он в интервью корреспонденту «Литературной газеты»,— вы сумели перестроить у себя жизнь, которую я бы, не боясь, назвал жизнью человечества. Поистине СССР — страна фантазии».
В науке нет специфически национальных терминов, употребительных только в этой стране, тем более национальных научных языков. Верно, ученые выражают результат в словах родной речи, но их содержание переводимо (хотя и не всегда гладко) на любой язык.
Совсем иное в искусстве художественной литературы. Конечно, и здесь переводу подвластно все: слова, выражения, целые тексты. Однако при этом утрачиваются многие оттенки мысли, образность, тускнеет выразительная сила произведения, а с ним и личность автора. В переложении еще можно сказать то же, что в оригина-
ле но сказать так же невозможно. Поэтому национальный язык для искусства больше, чем просто способ выражения мысли. Он сама суть, ткань и плоть художественного творения.
Это особенно характерно для больших художников, умеющих проникать в самые основы народного языка, погружаться в его стихию, обнаруживая новые оттенки и созвучия.
Ловил я нежные слова,
Искал таинственных соцветий,
пишет А. Блок. И он находит их в глубинах национальной культуры.
Известно, насколько С. Есенин чувствовал слово, тонко улавливал смысловые грани родной речи. Как-то, вернувшись из заграничной поездки и ступив на землю Отечества, он воскликнул: «Россия! Слово-то какое: роса, сила, синь». Произнес и... заплакал.
Национальные истоки художественного языка проступают и в его звуковой организации. Потому и говорят о присущей каждому языку особой музыкальности.
Так, слова нашей речи отличаются плавностью, навевающим раздумья протяженным звучанием- «вдохновение», «очарованный», «привязанность». Русский текстособенно вышедший из-под руки большого мастера, отточенный, читается легко, свободно Язык избегает даже небольшого скопления согласных, обычно выдерживая правило, когда один (реже два) согласных звука чередуются с гласным. Это и придает языку необыкновенную певучесть, задушевность.
Безусловно, язык, будучи могучим средством выражения мыслей и чувств, каналом общения людей, не может не накладывать печать на образ наших мыслей и чувствований. От языка идут влияния и на музыку. Если говорить об отечественной музыке, то ее выделяет также протяжность и какая-то глубокая невысказанная грусть.
Интересно признание М. Глинки. Он утверждал, что может писать музыку только по-русски. Язык и музыка так слились, что лучшие исполнители оперных партий (В. Атлантов, Е. Образцова) считают обязательным для достижения наивысшего эффекта петь арии только на языке оригинала, ибо даже в лучших переводах музыкальные характеристики смещаются.
Крупнейший в США оперный театр «Метрополитенопера» ставит спектакли на языке оригинала. Из русской классики успешно идут «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П. Чайковского; «Борис Годунов» М. Мусоргского. Наш Свердловский театр оперы дает «Силу судьбы» Д. Верди на итальянском. Даже знаменитая своими традициями миланская «Ла Скала», где пели только по-итальянски, стала отходить от традиций. С недавнего времени там идут «Хованщина» и «Борис Годунов» на русском языке.
«ВСЕ СУЩЕЕ — ОЧЕЛОВЕЧИТЬ»
Личностное начало в искусстве имеет еще одно сильное проявление. Мы имеем в виду очеловечение природы, наделение ее чертами, свойствами людей, даже их переживаниями и целями.
Если, как мы уже отмечали, наука всеми силами старается очистить свои результаты от антропоморфных, человекоподобных моментов, то совсем иное в искусстве. Описывая природу, социальное окружение, вообще все, что попадает в поле внимания, художник, наоборот, стремится перенести на предмет свои чувства, обогреть его участием и как бы возвысить до собственного, человеческого уровня.
О, я хочу безумно жить:
Все сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить,— писал А. Блок.
Желая наиболее полно раскрыть свои сущностные силы, человек, видимо, и находит в антропоморфных описаниях природы один из действенных путей. Если, реализуя творческие возможности, люди труда переносят свои человеческие качества на продукты деятельности, то ученый ищет другие способы. Он проникает в тайны природы и чем глубже ее познает, тем ярче демонстрирует величие мыслящего разума.
А как достичь этого искусством? Поскольку оно изображает не просто внешние явления, а наше к ним отношение, то важным признаком художественности, очевидно, и оказывается способность автора уловить в природе нечто ее возвышающее, найти намеки на антропоморфное, человеческое. Недаром М. Горький, говоря о воображении как основном приеме художественного освоения мира, писал: «Можно сказать, что воображение — это способность придавать стихийным явлениям природы и вещам человеческие качества, чувствования, даже намерения».
Почему, очеловечивая природу, мы выявляем не столько ее (природы) возможности, сколько свои?
Как представляется, дело в следующем.
Известно, что количество информации обратно пропорционально вероятности (точнее, логарифму вероятности) появления того события, о котором идет речь в сообщении. Иначе говоря, чем реже встречается явление, тем труднее его обнаружить и тем, следовательно, больше информации принесет тот, кто это сделает. Нечто сходное имеет место и здесь. Когда удается в низшем
(природа) выявить чрезвычайно слабые подобия, скорее даже намеки на высшее (человек), то есть найти почти невероятное, в этом и проявляется мощь нашего разума.
И кроме того, не сказывается ли здесь еще и то обстоятельство, что, замечая в природе едва сходное с собой, человек как бы подтверждает дистанцию? Он сознает несоизмеримость величин и тем самым подчеркивает свое величие. Так ведь и взрослый, снисходя до бесед с ребенком, не только оказывает ему покровительство, но и укрепляется в своем возрастном превосходстве.
Таким образом, устремляясь навстречу окружающему, художник раскрывает себя, силу собственного интеллекта, глубины своих эмоциональных богатств. И когда он воссоздает природу, то не просто переписывает с натуры, а посредством таких описаний выражает присущие человеку душевные состояния.
Очеловечивание окружающего мира характерно, видимо, всем видам и родам искусств, но особенно наглядно, зримо оно проступает в художественной литературе, потому что осуществляется здесь вполне доступными пониманию читателя средствами.
Человеческими чертами наделяется буквально все, с чем бы ни встретился автор. Возьмем животных. Они даны не просто через восприятия людей, но наделяются их переживаниями, поступками, даже умением рассуждать.
В представлении чеховской Каштанки, например, слон — то же, что и для малосведущего человека или ребенка: «толстая громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта». И так по всему тексту. Каштанка все видит человеческими глазами и осмысливает, как если бы на ее месте был человек. А что есть животного, так это оценки, которые она выносит увиденному в присущих ее положению категориях.
Вот, скажем, как рисуется Каштанке поведение хозяина (столяра) в одном из жизненных эпизодов: «На улице прямо на них шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и залаяла. К великому ее удивлению, столяр вместо того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся... и сделал под козырек».
Одушевляются и вочеловечиваются не только животные, которые, конечно, ближе к нам в эволюционной лестнице, но также цветы, деревья, травы, вообще вся внешняя реальность, успевшая или еще не успевшая превратиться в окружающую среду. Но реальность — только способ, точнее сказать, повод, чтобы передать душевные состояния человека. Оттого сколько сочувствия, любви к родной земле, населяющему ее многообразию растительных форм у больших художников! Какими тонкими, совсем человеческими проявлениями наделен мир растений!
Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,—
пишет С. Есенин.
Снова низкими поклонами Рожь приветствует меня.
Это М. Исаковский. Молодой поэт Б. Рябухин, раскрывая антропоморфную тему, рисует свой узор:
Не встретит родня на пороге.
Не бросится радостно пес.
Но ждет, как всегда, у дороги,
Склонившись, одна из берез.
Очеловечивается и неживая природа: солнце, луна и звезды, горные выси и дальние дали, океаны и поднебесья. Когда, например, Ф. Тютчев пишет «дыханием ночи обожгло» или М. Горький — «море смеялось» и т. п.— это понятно и близко. Ночь, море воспринимаются подобно живым созданиям, подобно человеку.
К. Паустовский, делясь опытом художественного творчества, отметил, что про неодушевленные предметы надо писать так же, как пишем о людях, то есть с сочувствием, с любовью, радуясь и страдая за них. Он признается, что всегда испытывает физическую боль, наблюдая, как автомобиль, выбиваясь из последних сил, берег крутой подъем. «Я устаю от этого, пожалуй, не меньше, чем машина,—заканчивает К. Паустовский.— Я убежден, к машинам, если хочешь написать о них, надо относиться как к живым существам».
Примеры одушевления неодушевленного, его очеловечения можно было бы множить и далее. Однако нам хочется рассмотреть в связи с этим один вопрос.
Если искусство стремится возвысить природу до человека, наделить ее антропоморфной красотой, то, очевидно, оно не может, не должно поступать наоборот — приземлять человека до природного, опускать его ниже, чем ему назначено иерархией живых существ.
Писатели, поэты порой используют сравнения, в которых люди уподобляются животным, растениям либо даже предметам неживой материи. Однако такие приемы весьма ограниченны и проводятся крайне осторожно, сверхделикатно. Фактически они применяются, когда желают подчеркнуть какое-либо физическое и очень редко душевное качество человека. Скажем, способность далеко видеть (зоркость орла), легко бежать (подобно лани), хорошо плавать и т. п.
Но, согласитесь, что даже лучший набор подобных сравнений не во всем облагораживает человека, да н представляет скорее рудименты фольклорного стиля мысли. Что же касается более тонких (нежели просто видеть, бегать, плавать) человеческих свойств, таких, например, как доброта, вежливость, честность, то здесь мы
вообще не найдем, с чем было бы нас сравнивать, разве что в ироническом смысле.
Раскрывая тему эстетических отношений искусства к действительности, Н. Чернышевский делает одно важное замечание. Почему, ставит он вопрос, нам так нравится пение соловья или звучание скрипки? И дает следующий ответ. Потому что они ближе всего напоминают человеческий голос.
Значит, любые параллели, возвышающие соловьиные ли трели или скрипичные до уровня певческого мастерства, будут уместны, художественны. Но попробуем поступить наоборот... Когда о ком-то говорят «поет, как соловей», того человека это сравнение не украсит: просто перед нами краснобай, из которого льются одни обещания. Так в случае со скрипкой. Коли сравнивают с ней человека, то для того лишь, чтобы показать на монотонное однообразие его речей, жалоб и упреков.
Таким образом, если очеловечение природы идет полно, по всему фронту человеческих качеств (и здесь нет запретных тем), то встречные сравнения могут проводиться лишь в очень узком смысле По-видимому, в искусстве действует своего рода неписаное правило: широко допуская очеловечивание внешних предметов, оно жестко ограничивает диапазон уподоблений человека остальной природе. И когда от этого правила отступают, художника подстерегает опасность очутиться в плену двусмысленностей.
В 50-х годах алтайский поэт И. Фролов задумал стихи о доблести советского воина. Отличная тема получила местами неплохое исполнение. Но вот это никак не назовешь успехом. Поэт пишет:
Про богатырскую отвагу
Недаром люди речь ведут.
Солдат не отступил ни шагу.
Солдат стоял в бою, как дуб.
Сравнение определенно хромает. В действиях бойца видится нечто тупое, бездумное. Характеристики, выданные солдату, скорее говорят не о стойкости, а о деревянном упрямстве. Могут возразить, что тут просто неудачно сказано и что стоило бы поискать другие слова. Мы полагаем, что на этом пути удачи не предвидится и «других слов» вообще нет, ибо подорвана основа искусства, призванного вочеловечивать сущее, а не сводить человека до природного естества.
Хочется провести следующее сопоставление. В одном из стихотворений С. Есенин пишет:
...Клен и липы в окна комнат,
Ветки лапами забросив,
Ищут тех, которых помнят.
Впечатляющий образ очеловеченной живой природы, которая наделена антропоморфными «поступками».
А теперь возьмем другие стихи, в которых, наоборот, предприняты усилия сравнить уже человека с растительным миром. Только что из этого получается... Один из современных поэтов, обращаясь к близкому человеку, говорит:
Руки твои —
Ветвистые ели.
Безусловно, автор хотел сказать что-то ласковое, нежное. Но, видит читатель, образ не удался. Причина та же — забыта антропоморфная заповедь искусства.
Как явствует из сказанного, литературные пробы, понижающие уровень человеческого, приравнивающие его к событиям, стоящим на низших этапах эволюционных градаций, такие пробы чаще кончаются неудачей.
Конечно, описывая животных, птиц и т. п., художник должен окунуться в ситуацию и побывать в их обличье. Он должен, так и просится сказать, перевоплотиться, подобно тому, как это делают, описывая характер или поведение героя.
...Однажды, увидев старого, изможденного коня, JI. Толстой повернулся к И. Тургеневу и сказал: «Хочешь, я тебе расскажу, что чувствует эта лошадь?» И тут же умно, логично и художественно начал излагать ее долгую и нелегкую жизнь. Было настолько правдиво, что И. Тургенев в шутку спросил: «Когда-нибудь, вы, Лев Николаевич, были лошадью?»
Однако, проводя подобный маневр, используя прием уподобления, писатель никогда не снижается до состояния животных. Наоборот, их поднимает до себя, вочело-вечивает. Здесь как в общении с детьми. Рассказывая им разные истории, участвуя в детских забавах и тем самым приноравливаясь к их образу мыслей, поведению, языку, взрослый все-таки должен сохранять уровень взрослости. Дети не верят тем, кто, разговаривая с ними, сюсюкает, намеренно коверкает слова (разве что с самыми маленькими, еще не умеющими говорить), то есть как бы пытается стать ребенком. Надо ли это? Недаром же говорится, что для детей следует писать так же, как для взрослых, только еще лучше.
МОЕ И НАШЕ
Завершая рассказ о месте и специфической роли личности творца в научной и художественной деятельности, подчеркнем еще раз главное. Если науку отличает коллективное, так сказать, коллегиальное начало, то на искусстве лежит печать субъективного. Поэтому содержание настоящей главы можно уместить в словах, которые вынесены ее заглавием и которые принадлежат знаменитому В. Гюго: «Наука — это мы. Искусство — это я».
Однако, прежде чем поставить точку, важно провести одно необходимое разъяснение.
Настаивая на личностном, субъективном характере искусства, на том, что оно есть самовыражение «я», не будем забывать главного: речь должна идти о личности, умеющей выражать не просто свое «я», но в нем, через него — устремления века, идеалы и мысли, созвучные ожиданиям народа. Ибо произведение искусства должно быть (и является у настоящих мастеров) выражением социальных условий бытия художника, тех общественно-политических отношений, в которых он вырос и которые его питают. Большой художник понимает, что он за все
в ответе, и это понимание стремится донести до своего читателя, зрителя, слушателя.
А что значительного собирается сообщить певец лишь собственной убогой судьбы, автор, у которого одна поэтическая нота, одна мелодия? Создаваемое им, конечно, тоже плод самовыражения, но только очень мелкого, самодельного «я». Если, скажем, писатель, поэт, композитор и т. д. в периоды острых социальных перемен, в трудный для Отечества час вместо отражения этих злободневных тем сосредоточивается на своей сугубо личной драме, не умея преломить ее через общенародное, такой художник не затронет умы и сердца читателей. Ему не суждено создать значительных творений искусства, которые волновали бы современника, которые бы оставались жить в памяти потомства. Разве можно стать выразителем духа народного с такими вот мелкими чувствами, отгораживаясь от событий дня и упиваясь своими домашними страстями?
Истинных художников всегда отличало понимание того, насколько велик груз ответственности, который они себе определили. Такова уж их профессия — выступать полным голосом от имени народа, быть средоточием его болей и надежд. И им есть что сказать — сказать свое, сугубо личное, но в то же время глубоко общественное. Можно понять Г. Гейне, поэта и борца, когда он однажды воскликнул: «Мир раскололся на две части, и трещина прошла через мое сердце». Именно потому, что Г. Гейне все беды нации переживал как свои собственные, потому что болел ее болями, оттого стоящие у кормила власти всегда считали его социально опасным.
Что греха таить, тезис о самовыражении встречают порой с оглядкой, едва ли не настороженно. Как бы не открыть этим дорогу субъективизму, бесконтрольности индивидуального. Такая опасность реальна. Но если художнику предъявляются по-настоящему строгие мерки и если, более того, он сам назначает себе повышенные требования, его право на самовыражение следует уважать. И хотя он выражает себя, вместе с тем его произведения несут обобщенную практику эпохи, выражая то, что является важным, интересным для других.
Можно указать немало примеров именно такого понимания писателями, поэтами, композиторами своих задач, понимания, в котором соединены нити собственной судьбы с биографией народа, нации. «Искусство,— говорит, в частности, Л. Толстой,— это опыт личной жизни, рассказанный в образах и ощущениях,— личный опыт, претендующий стать обобщенным».
У писателя с развитым чувством беспокойства о том, какое нравственное воздействие он способен оказать, у такого писателя индивидуальное переходит в социально значимое. Подобное понимание роли художника характерно для многих русских литераторов.
Когда, например, декаденты пели о своем одиночестве, А. Блок заявлял: «В поэтическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим, чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он «свое» и «не свое». Поэтому в эпоху бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта переплетаются с бурей и тревогой».
Эти убеждения А. Блок пронес и через творчество, воплощая в художественный материал с годами все тверже и последовательнее Так, размышляя о замыслах известной поэмы «Возмездие», которую он писал в течение 12 лет, поэт ставил целью как бы пропустить через себя жизнь века и на личном опыте понять судьбу своего поколения. Он писал: «Поэма означает переход личного в общее. Вот главная ее мысль». А в стихах А. Блок выразил эту идею следующим образом:
..Что через край перелилась Восторга творческого чаша,
И все уж не мое, а наше,
И с миром утвердилась связь
Поэтому А. Блок решительно встал на сторону революционного народа, порвав с теми литераторами, которые противились новому.
Поскольку у настоящего художника индивидуальное переходит в общезначимое, он имеет право выступать от имени собственного «я», право выйти к людям с сокровенными помыслами. В стремлении говорить полным голосом души его ничто не должно сдерживать: ни ложный стыд перед читателем, ни боязнь оказаться кому-то неугодным, ни, наконец, опасность попасть под желчное перо критики. Поэтому, как считает, например, К- Паустовский, писать надо для себя и только для себя или ради очень близкого человека, забыв обо всем на свете, предоставив «свободу своему собственному миру».
Таким образом, если художник действительно глубок, если ему свойственны не поползновения, а порывы,
не тление, а горение, тогда то, что он создает, обретает высокое общественное звучание. Поэт похож на всех, но на него не похож никто. Так в подобных случаях измеряют величину таланта. Думы, чувства, переживания — как у других, однако они столь индивидуальны, ярки, что рассказать про это такими же яркими красками уже никто, кроме него, не сможет.
В заключение главы хотелось бы обратить внимание на следующее. Может быть, то, что в большом искусстве «мое» и «общее» сливаются,— в этом надо видеть своего рода компенсацию. Ибо, хотя искусство в противоположность коллективным основам науки субъективно, индивидуально, в факте слияния личного и общего как раз и проступают коллективные начала искусства.
АЛГЕБРА ГАРМОНИИ
Побывав у науки и искусства во внутренних покоях, там, где создаются шедевры, оценив назначенные той и другого особые задания, снова вернемся к теме единения и союза двух этих сфер. Но теперь посмотрим на них уже с позиции конкретных вложений каждого союзника не просто в общее движение прогресса, но и в дела друг друга.
Однако, прежде чем подняться до высших проявлений их взаимности, надо обойти одно препятствие.
Нередко можно встретиться с мыслью, будто между наукой и искусством не то чтобы союз, а вообще мало близкого, словно они и не принадлежат одной цивилизации.
Конечно, основания для такого взгляда имеются, и серьезные. Они в достатке предстали при характеристике особенностей, описанием которых заполнена предыдущая глава. Действительно, у каждого из них свои заботы, свои сугубо личные обязанности, довольно резко отличающие науку и искусство. Это и подталкивает иных сделать вывод, что между ними мало сказать, что есть различия, но наличествует самое настоящее непонимание и даже разрыв, и идут они отнюдь не рука об руку, а в полной изоляции, чураясь друг друга и избегая встреч.
Мотивы отчуждения родились не сегодня, но особую остроту обрели как раз в наши дни. Поражает, насколько несправедливы, даже иногда враждебны уколы, которыми обменивались во все времена люди столь высокого призвания.
В наше время на Западе можно нередко встретиться с убеждением, что существуют два самостоятельных мира — наука и искусство, которые нигде и ни в чем не пересекаются, мало того — враждуют.
С подобными настроениями подходит к делу, например, английский естествоиспытатель А. Мартин, обладатель многих титулов и званий: доктор философии, профессор, крупный специалист в биохимии, лауреат Нобелевской премии 1952 года, которую он разделил с Р. Синджем за разработку методов отделения сложных химических смесей. О своем отношении к искусству он заявил откровенно: «Литература не влияет на науку». И пояснил. Подобно тому, как ученые стоят вдалеке от сфер, согревающих интерес писателей, так и последние — на отшибе от всего, что волнует естествознание, ибо их привлекает не наука, а донаука наподобие психоанализа.
Мы подошли к основному очагу возбуждения. Пора напомнить о выступлении Ч. Сноу с идеей двух культур. Как известно, он сведущ и в науке и в искусстве. Имеет солидную репутацию ученого-физика. Питомец всемирно известного Кембриджа. В 25 лет — доктор наук, сотрудник лучших исследовательских лабораторий Англии, ученик самого Э. Резерфорда. В годы второй мировой войны занимал большой пост в военном министерстве.
Все же Ч. Сноу более известен как писатель. Ему принадлежит несколько романов, частью переведенных на русский.
В середине 50-х годов он выступил с брошюрой о существовании двух культур, утверждая, будто между учеными и художественной интеллигенцией — трещина «взаимного непонимания», которая все больше углубляете я. Конечно, это случилось, по его мнению, не вдруг. Но если в прежние годы противостоящие культуры просто не разговаривали, обмениваясь холодными улыбками вежливости, то ныне от вежливости ничего не осталось и они «строят друг другу гримасы».
Автор доводит до сведения итоги опроса около 40 тысяч ученых (это четверть научных кадров Англии середины века) и 80 тысяч инженеров. Результаты обеску-раживающи. Мало того, что связи научно-технической интеллигенции с традиционной культурой оказались слабыми. Выяснилось и другое. Ученые видят в собратьях-писателях «литературных интеллектуалов», которым недостает «широты взгляда» и которые, в сущности, антиинтеллекту альны.
Глухими к подобным выпадам собратья не остались и, в свою очередь, назвали ученых хвастунами, обвинив в том, что их мало интересует человек.
И все-таки Ч. Сноу хочет надеяться на перемены, он верит, что в будущем между культурами утвердятся контакты и в их отношениях наступят лучшие дни.
Другие более категоричны и непримиримы. Биохимик из США М. Юдкин, например, полагает, что наводить мосты между наукой и искусством по меньшей мере бесполезно, поскольку движение по ним будет якобы односторонним. Ученый без труда освоит произведения живописи или музыки, но чтобы работнику искусства понять, о чем говорят ученые, надо, мол, употребить всю жизнь, и то будет мало.
Действительно, хвастовства хоть бери экскаватором. Отчего такая уверенность, будто овладевать произведениями искусства (тем паче создавать их) легко? Уметь читать вовсе не означает подняться до уровня прочитанного, равно как слушать музыку не значит слышать ее, то есть испытать хотя бы часть того, что чувствовал композитор, чем он жил.
Творения искусства несут мир идей и эмоций столь богатый, что раскрыть его во всей мощи не хватает порой и столетий. Недаром же вокруг них постоянно кипят
страсти, возникают новые интерпретации. Созданные века назад, они волнуют и поныне. Тогда как ученые трактаты прошлого, кстати заметить, имеют для нас лишь историческое, но не собственно познавательное значение, поскольку последнее уже давно освоено последующими этапами научного развития и осело в них в преобразованном виде. Однако это не в упрек. Просто мы сталкиваемся здесь с разными, несопоставимыми по указанным параметрам творческими результатами.
Подведем итог. Сколько бы ни накалялись отношения, как ни старались бы иные прочертить между наукой и искусством линию непонимания, развести их не удается. Мало того, они нужны не только обществу, но и друг другу и без этой взаимной поддержки многое потеряли бы. Практически ни ученые, ни творцы искусства не верят в антагонизм «двух культур», потому что берут у коллег много ценного, отдавая им взамен свои ценности.
На этом и можно поставить точку в обзоре мнений о связи культур. Очевидно, мало проку, если ученые и поэты будут упражняться в остроумии, выискивая одни у других слабые места. Не лучше ли подойти к делу с обоюдным уважением, признав, что на пути взаимных сближений легче решать свои внутренние задачи. В конце концов они дети одной общечеловеческой цивилизации и одинаково состоят на ее службе.
«ЗАВУАЛИРОВАННАЯ АЛГЕБРА»
Итак, подойдем к искусству и науке с точки зрения того, чем они полезны друг для друга. Вначале о том значении, какое имеет наука для искусства.
Как бы ни определяли искусство, какими бы эпитетами его ни сопровождали, бесспорно одно: животворящим началом художественного является красота. В ней сходятся помыслы больших и малых мастеров, к ней тянутся все нити творческих стараний, ее ищет зритель, читатель, слушатель. Красота скульптурных композиций и архитектурных ансамблей, красота музыкальных форм, живописных полотен, образцов поэтического слова — повсюду нас встречает красота.
Даже там, где изображается уродливое, отвратительное, даже описывая безобразное, художник руководствуется нормами прекрасного. Самой природой творчества предназначено отталкивающее запечатлеть в формах, приличествующих требованиям искусства, то есть в совершенных формах. Ибо создается так называемая вторая реальность. Она не копия, не зеркальное подобие действительного, а нечто с ней соперничающее. Это особый мир, который существует по своим законам, отличным от законов окружающего, и утверждается этот мир благодаря идеалам красоты.
В том и парадокс (один из парадоксов) искусства, что безобразное в жизни должно, пройдя через руки художника, обернуться прекрасным исполнением. И тогда мы говорим: «Великолепно». Мы говорим это, видя, как на полотнах живописцев, на страницах романов, в театре перед нами проходят герои, которые совершают недостойное, подличают, причиняют горе.
Но что такое красота? Ее не понять, обходя стороной науку, методы точного анализа. Однако на пути к нему обнаруживается одно методологическое препятствие. Вправе ли мы вообще подвергать произведения искусства аналитическим испытаниям, поверяя «алгеброй гармонию»? Ведь художественные творения можно принимать (или не принимать), опираясь на чувства, целостно. Разве допустимо разымать их на части, измеряя на весах холодной рассудительности? Немецкий философ XX века М. Хайдеггер, например, считает бесполезным прибегать в подобных делах к услугам науки. Это можно практиковать, по его мнению, только применительно к разлагающемуся искусству. Об искусстве не надо говорить ничего. Вообще, не думайте, а смотрите. Таково мнение еще одного философа, австрийца Л. Витгенштейна.
Против анализа художественных произведений восстает фактически и М. Алигер. В очень сердитых тонах поэтесса заявляет: «Терпеть не могу, когда растолковывают стихи». Но отчего же? Истолкованию не поддаются только бессодержательные, заумные стихи.
Каждое художественное явление, а поэтическое в особенности,— отрезок биографии автора, эпизод его жизни. Комментарий лишь поможет глубже войти в истоки творчества, провести параллели между жизненным и эстетическим.
Но это одна сторона вопроса. Нередко стоит разъяснить и сам образ, раскрыть смысл метафоры, указать на ассоциации, которые окружают эпитет, сравнение. Прелесть строки от этого отнюдь не потускнеет.
Недавно вышла книга известного советского исследователя академика Д. Лихачева «Литература — реальность— литература». Автор призывает к вдумчивому, «медленному» чтению художественных текстов и рядом примеров показывает, как это надо делать. Вот до отчетливости знакомая пушкинская строфа:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь.
Кажется, все ясно. Но Д. Лихачев приглашает читателя к раздумьям. Почему «торжествуя»? И. почему лошадь, «снег почуя, плетется рысью как-нибудь»? Чтобы добраться до смысла, ученый обращается к другим пушкинским характеристикам труда крестьян, он даже советуется с мастером конного спорта Д. Урновьш, не удаст-
ся ли у него выяснить, отчего так рада свежему снегу лошадь.
Вспоминается, как умно «растолковывает» И. Бунин одно блоковское место:
Какая грусть! Конец аллеи Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи Через сугробы поползли...
«Какие змеи?» — недоумевала Лика, героиня одноименной повести. И вновь, пишет И. Бунин, ей надо было разъяснять, что это — метель, поземка.
Будем откровенны. Едва ли мы оказались понятливее, особенно если знакомы с полем зимним в основном по впечатлениям кино и телевизора. Но разве стихи потеряли после этого разъяснения свою красоту? Наоборот.
Вообще, мало ли таких поэтических, да и прозаических мест, которые просят объяснения и которые, получив его, лишь заблестят еще ярче. Опасность не здесь, а в попытках свести художественное как проявление эмоционального к чистой формуле, утопить все богатство содержания в однозначных дефинициях. Станем придерживаться той позиции, что в основе искусства и красоты лежат строгие гармонии числа и меры, но это не дает права считать, будто прекрасное есть число и ничего более.
Французский скульптор начала XX века Э Бурдель однажды заметил: «Искусство — это завуалированная алгебра, отнимающая жизнь у тех, кто стремится приподнять ее покрывало». В самом деле, не приходится отрицать того, что творчество в искусстве опирается на некие количественные нормы, с которыми художник должен считаться. Но именно потому и стоит «приподнять покрывало», окутывающее прекрасное. Не ради того, чтобы приземлить, а чтобы ближе понять тайну его очарования.
Издавна повелось считать подоплекой красоты гармонию. Само по себе это слово едва ли прояснит обстановку, если не пойти дальше. Пытаясь же разузнать, отчего гармония пробуждает эстетические волнения, неизбежно столкнемся с отношениями и структурами, которые поддаются точному количественному описанию. Иначе сказать, всякая гармония, несущая красоту, может быть выражена числом, хотя, как было отмечено, к числу не сводится.
Так мы полошли к выводу, важному для понимания пользы содружества культур. Он состоит в том, что фундамент точного знания — математика оказывается также положена в основания красоты и потому составляет опору для многих видов искусств, прежде всего изобразительного и музыкального. Нам остается лишь это утверждение развернуть.
Определением гармонии и красоты значится симметрия. Далее придется перейти на язык немного сухой, академический, отлученный от искусства.
Симметрия есть соразмерное расположение элементов, точек и т. п. предмета, когда одна часть кажется как бы зеркальным отражением другой. Наверно, это представляется достаточно абстрактным, но мы попытаемся оживить текст полнокровными, взятыми из самой жизни иллюстрациями.
Выделяют ось, плоскость и центр симметрии. Если предмет симметричен и, следовательно, достоин проходить по разряду эстетических, в нем можно отыскать по крайней мере одно из указанных проявлений симметричности. Конечно, есть и другие свойства: перенос в пространстве (трансляция), перемещение во времени, вращение и т. д. Вообще, предмет считается симметричным, когда с ним можно делать нечто, после чего он будет выглядеть точно таким же, как и прежде.
Рассмотрим ось симметрии. Это линия, проходящая через центр фигуры. Порядок оси указывает на число совмещений фигуры самой с собой при ее полном повороте вокруг оси. Скажем, равносторонний треугольник обладает осью третьего, квадрат — четвертого и т. п. порядка.
Плоскость симметрии, если таковую можно прочертить, рассекает предмет на две соразмерные половины, что и выдает его симметричность, а следовательно, присутствие красоты. К примеру, лицо человека, вообще человеческое тело в целом. Тут, конечно, положена оговориться. Половинки оказываются не строго симметричными. Так, сердце расположено в левой части, а печень — справа. Одна рука, обычно правая, развита лучше. Подсчитана, что на 1г6 тысяч правшей приходится один левша. Симметричность нарушается и тем, что левый шаг короче правою... Как-то на площади святого Петра в Риме провели такой эксперимент. Испытуемым завязывали глаза и предлагали по прямой пересечь площадь. Все отклонялись влево. По той же причине неравности шагов идущие а лесу без ориентиров и дорог блуждают по кругу, возвращаясь на прежнее место.
Обнаружены и другие «шероховатости». Возьмем две одинаковые фотографии одного и того же человеческого лица; разрежем их по плоскости симметрии и вновь составим лицо, только одно — из левых половинок, а другое — из правых. Окажется, что лица непохожи, как будто это фотографии разных людей.
Однако подобные отступления отнюдь не порочат присущую симметрии и гармонии красоту. Они лишь вносят в жесткий распорядок что-то непокорное, придавая вещам разнообразие и живость. Впрочем, это стоит особого разговора, и не здесь его начинать.
Итак, симметрия в качестве проявлений соразмерности, согласованности в расположении частей и элементов целого несет ощущение красоты, изящества. Послушаем мнение большого специалиста в этой сфере, автора основательного исследования «Симметрия» Г. Вейля: «Как бы широко или узко мы ни понимали это слово, симметрия есть идея, с помощью которой человек веками пытался объяснить и создать порядок, красоту, совершенство».
Еще одним проявлением красоты является ритм. В основе его лежит правило повтора элемента. Симметрия тоже строится на повторениях, но здесь они представлены, так сказать, в застывшем виде. Ритм же использует повторяющиеся элементы для воссоздания динамики процесса, для передачи речевых, музыкальных и т. п, структур, выступая их организующим во времени началом.
Таковы важнейшие определения красоты и гармонии. Но и симметрия и ритм покоятся на отношениях и пропорциях, характеризующихся точными количественными значениями. Теперь мы посмотрим их в действии, как они реализуются в художественной практике.
KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ
|