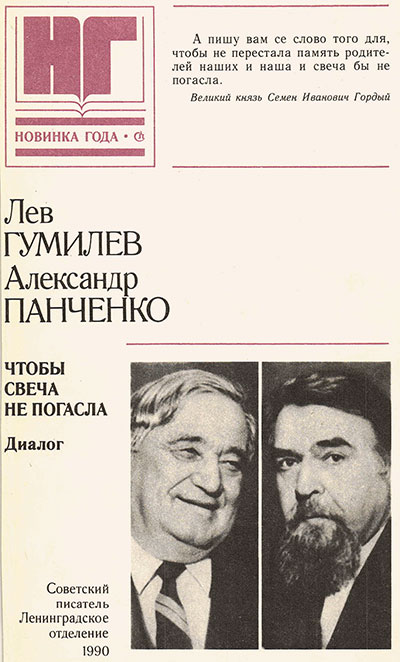Лев Николаевич Гумилев родился в 1912 году в Царском Селе, в семье поэтов «серебряного века» Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой. Л. Н. Гумилев учился в Ленинградском университете, на историческом факультете, который окончил экстерном в 1946 году. В 1949 году защитил кандидатскую, а в 1961 году докторскую диссертацию по историческим наукам; в 1974 году он защитил докторскую диссертацию по географическим наукам. Перу Л. Н. Гумилева принадлежат получившие широкую известность в нашей стране и за рубежом книги: «Хунну» (1960), «Открытие Хазарии» (1966), «Древние тюрки» (1967), «Поиски вымышленного царства» (1970), «Гунны в Китае» (1974), «Этногенез и биосфера Земли» (1989), «Древняя Русь и Великая Степь» (1989), а также около двухсот научных статей и стихотворных переводов с восточных языков.
Александр Михайлович Панченко родился в 1937 году в Ленинграде. Изучал славистику в Ленинградском университете, затем в Карловом университете в Праге, который окончил в 1958 году. Кандидатскую (1964) и докторскую
(1972) диссертации по филологии защитил в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, где работали его погибший на фронте отец и мать и где работает он сам. У А. М. Панченко — около двухсот научных публикаций на русском и других языках, в том числе книги: «Чешско-русские литературные связи XVII века» (1969), «Русская силлабическая поэзия» (1970, Большая серия «Библиотеки поэта»), «Русская стихотворная культура XVII века»
(1973), «Смех в Древней Руси» (1984, в соавторстве с Д. С. Лихачевым и Н. В. Понырко), «Русская культура в канун Петровских реформ» (1984). А. М. Панченко — профессор Педагогического института им. Герцена.
ОГЛАВЛЕНИЕ
От авторов
Светлая Русь
Кумир их — ложь
А пишу вам се слово того для, чтобы не перестала память родителей наших и наша и свеча бы не погасла.
Великий князь Семен Иванович Гордый
ОТ АВТОРОВ
Все согласны, что история — это школа, что нет уроков важнее исторических. В то же время все признают, что уроки эти не идут человечеству впрок, поскольку оно ими чаще всего легкомысленно пренебрегает. Быть может, правы обыватели-прагматики, считающие, что коль скоро история — явление неуправляемое, заниматься ею не стоит? Нет, не правы.
«Простой гражданин должен читать историю, — писал Н. М. Карамзин. — Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества».
В России ответ на вопрос о цели и смысле истории был сформулирован 600 лет назад. Этот бесхитростный ответ и дал название нашей книге. Форма ее — диалог, — не спор, а беседа. Это не значит, что авторы во всем согласны друг с другом. Это значит, что они отказываются от амбициозных целей и в меру своих сил стремятся к познанию исторического пути России.
СВЕТЛАЯ РУСЬ
А. Панченко. Судя по духовным грамотам первых московских князей, они любили выражение: «свеча бы не погасла». Ему придавалось особое, даже чрезвычайное значение. Это были заветные слова, «ясак», выражаясь по-старинному, — то есть пароль, своего рода семейный девиз, притом девиз созидательный. Московские князья собирали, а не расточали, строили, а не разрушали. Они крепко держались друг за друга, почитали родителей и заботились о чадах: в первых пяти поколениях, от младшего сына Александра Невского Даниила, который получил в удел Москву в 1263 году и «затеплил свечу», и до Василия Дмитриевича, наследовавшего победителю Мамая, нет или почти нет фамильных распрей, — дело для тогдашней Руси неслыханное. Впрочем, ошибется тот, кто сочтет эту семью безупречной. С соперниками из Рюрикова племени, княжившими по соседству, она не церемонилась. И Русь, и Орда были потрясены жестокостью и коварством Юрия Даниловича Московского, за ярлык на великое княжение погубившего своего двоюродного дядю Михаила Ярославича Тверского. Церковь причислила Михаила к лику мучеников, тем самым вынеся национальное порицание Москве.
Кстати, о великорусском месяцеслове, о круге лиц, признанных святыми. Месяцеслов — дело умов и душ человеческих, не все попадают в него по заслугам. Но, при всех ошибках, он отражает «глас народа», общественное мнение. Обратим внимание: в месяцеслове князей очень много, собственно, он с них и начинается — со страстотерпцев Бориса и Глеба, детей равноапостольного Владимира, убитых старшим братом Святополком Окаянным в 1015 году. Но из московских князей святости удостоился лишь основатель дома, Даниил Александрович. Даже Дмитрий Донской, признанный национальным героем, из-за вмешательства в духовные дела оказался вне круга, попав туда только в год тысячелетия крещения Руси.
Если судить о репутации и общественной оценке Москвы по месяцеслову, необходимо отметить, что из царей всея Руси, «благоверных и благочестивых», как значилось в официальном титуле, тоже ни один канонизован не был. Собирались, правда, сделать исключение для «благоюродивого» и действительно добросердечного, незлобивого Федора Ивановича, последнего в роде, даже приготовили его житие, но канонизовать «соборне» не успели, потому что вскоре началась Смута.
- А после нее настали другие времена — с другими заботами.
Итак, месяцеслов и соответственно «глас народа» не высказывался о московском великокняжеском доме монодически, в унисон, не пел ему аллилуйя. Он высказывался весьма сдержанно, но все-таки сочувственно. Причина в том, что митрополиты с 1326 года переселились в Москву, сделав ее тем самым церковной, то есть духовной, столицей всех великороссов. Соответственно Куликовская битва, в которой победила не Тверь, не Нижний Новгород, не Рязань, не Новгород Великий, а Москва, — Куликовская битва воспринималась как битва за православие. В 1328 году Иван Калита получил ярлык на половину великого княжения, а через четыре года стал владеть и второй его половиной. В ближайшие четверть века на службу в Москву переехали поистине «большие» бояре, потомки которых прославили Россию. Рядом с Калитой и его сыновьями были прямые предки Пушкина, Кутузова, Дениса Давыдова, славянофила Юрия Самарина, родоначальники Романовых и Шереметевых, Годуновых, Морозовых, Салтыковых, Шейных, Бутурлиных... Московских князей ценили за то, что они жили не суетно, «как на ветру свеча горит», а дальновидно и рачительно. «Свеча бы не погасла...»
Л. Гумилев. Но в истории случалось и случается так, что ветер гасит свечу, и разверзаются хляби небесные и тушат огонь, и воцаряется тьма, и умолкают голоса, и мир объемлет молчание. Оно страшнее всего,
нотому что сопутствует бездне и обрекает души на одиночество.
Ведь люди — организмы, живущие в коллективах, возникающих и исчезающих в историческом времени. Эти коллективы — этносы, а процесс от их возникновения до распада — этногенез. У всякого этноса есть начало и конец, как есть начало и конец у человека. Этнос рождается, мужает, стареет и умирает.
Обычно к истории прилагают две формы движения: вращательную, породившую в древности теорию цик-лизма (она опровергнута фактами), и поступательную, характеристика которой, увы, постоянно сопровождается оценками «выше — ниже», «лучше — хуже», «прогрессивнее — регрессивнее». Попытка их объединить породила образ спирали. Но есть и третья форма движения — колебательная. Тронутая струна на скрипке звучит и смолкает, но в ее движении нет ни «переда», ни «зада». Именно эта форма движения — затухающая вибрация — отвечает параметрам этнической истории.
Однако теории неудобоваримы, особенно новые, находящиеся вне сферы интеллектуальных привычек. Они усваиваются с трудом.
Принцип этнологии прост. Каждый этнос — или скопление этносов, суперэтнос, — возникает вследствие микромутации, изменяющей бытующий стереотип поведения, то есть мотивацию поступков, на новую, непривычную, но жизнеспособную. Новый этнос часто «забывает» сменить свое название, но стереотип его поведения и внутренняя структура отличаются от прежних настолько, что историку очевидно то, что незаметно участнику события из-за аберрации близости, подобно тому как абрис здания не виден зрителю, находящемуся на расстоянии одного сантиметра от стены.
Возникший этнос проходит фазы подъема активности, перегрева и медленного спада за 1200 — 1500 лет, после чего либо рассыпается, либо сохраняется как реликт — состояние, в котором саморазвитие уже не ощутимо. При таком подходе сама идея «отсталости» или «дикости» не применима. Бессмысленно сравнивать в один момент профессора, студента и школьника по любому признаку: количеству волос на голове, физической силе или умению играть в бабки. Однако это делается часто при применении к этнической истории шкалы линейного времени.
Но если принять принцип диахронии — счета по возрасту — и сравнить шестилетнего ребенка со студентом и профессором, когда им было тоже по шесть лет, то сопоставление имеет смысл и научную перспективу. Так, цивилизованные ныне европейцы стары и потому чванливы. Они гордятся накопленной культурой, как все этносы в старости. А ведь всего тысячу лет назад «франки» и «норманны» только начали учиться у византийцев и арабов богословию и мытью в бане. А какими они стат нут еще через тысячу лет, можно предположить путем сравнения их с эллинами и римлянами, уже исчезнувшими, но оставившими следы своей культуры.
Учесть надо и другое. Никто — ни один человек, ни один народ — не живет одиноко. Видимая этническая история — это непрерывные этнические контакты. Контакты этносов всегда проходят по-разному и кончаются с разными результатами.
Наши предки великорусы в XV — XVI — XVII веках смешались легко и довольно быстро с татарами Волги, Дона, Оби и с бурятами, которые восприняли русскую культуру. Сами великорусы легко растворялись среди якутов, объякутйвались и постоянно по-товарищески контактировали с казахами и калмыками. Женились, безболезненно уживались с монголами в Центральной Азии, равно как и монголы и тюрки в XIV — XVI веках легко сливались с русскими в Центральной России.
Русские землепроходцы прошли почти без сопротивления от Урала через Сибирь до Тихого океана, преодолевая скорее просторы и трудности пути, чем противостояние аборигенов. Воевали только на степной полосе с тюркскими этносами, которые вовлекались в орбиту культуры ислама, чтобы сохранить свою, самобытность. Россия вышла к Аляске и захватила северный берег Америки и Алеутские острова, где жили эскимосы и алеуты. Всё так же без всякого сопротивления, постоянно устанавливая контакты с местным населением. Смешение русских с «язычниками» в Центральной Азии и Сибири наглядно и описано этнографами и миссионерами. А смешение тюрок и монголов — в фамилиях и родословных — присутствует в «Бархатной книге», «Родословной книге князей и дворян российских и выезжих», в «Синодальных списках родословных» и в «Общем российском Гербовнике» (тома I — X), изданных в Петербурге в 1797 — 1836 годах. Однако контакты были столь же неоднозначными, как и поведение самих землепроходцев. Например, великого, как сказали бы испанцы, конкистадора Атласова убили собственные казаки за жестокость. Сабуров, основатель крепости Албазин на Амуре, ушел из рук нерчинского воеводы, который поклялся его повесить на первой же березе. А нерчинский воевода был человек серьезный, и повесить беглеца вместе с товарищами он собирался за издевательство над инородцами.
И вот эти землепроходцы — абсолютно жестокие, свирепые и страшные люди, не спускавшие обид никому и прежде всего друг другу, имели своими проводниками эвенков, которых тогда называли тунгусами. Союзниками имели бурят, которые позвали русских устроить в их земле крепость Иркутск. Соседями по хозяйству были якуты, друзьями — монголы-ламаисты.
Однако при смешении указанных народов финноугорские этносы Севера, как и западной России, сохранили свою самобытность, несмотря на долгое, тесное и дружеское общение со славянами. Это и эстонцы, и такой маленький народ, как вепсы.
Еще более экстремален был контакт русских с чукчами. Чукчи не пускали на свои земли русских, отбивая нападения казаков. При этом для меновой торговли в Анадырь они собирались ежегодно, но напряженность в отношениях с русскими проявлялась вплоть до начала XX века.
Дело в том, что чукчи — американоиды, люди другого не только этноса, но и суперэтноса. А алеуты и эскимосы, как тунгусы и монголы, настоящие монголоиды. С монголоидами у русских, как я уже говорил, была положительная комплиментарность. Она осложнялась ходом социального развития, но пафоса взаимного ист. ребления не возникало. С алеутами вообще отношения были замечательные, они оказывали русским и инородцам, тоже выступавшим под именем русских, искреннюю помощь. Алеуты позволили построить фактории, деревни, принимали православие: до сих пор существует митрополия — Аляски и Алеутских островов. Там были русские библиотеки, замечательные храмы, деревянная резьба — богатая культура.
На Аляске этнические контакты тоже не осложнялись, пока русские не столкнулись с индейцами-американоидами, точно так же, как до этого с чукчами. Индейцами были атапаски, к ним принадлежали и прославленные в беллетристике и опозоренные в кинематографе США апачи, а также тлинкиты, прибрежные индейцы, которые жили на островах и били морского зверя.
Атапаски русских на свои земли просто не пустили. Тлинкиты вообще объявили войну. И хотя Баранов, директор Русско-Американской компании, построил военные форты, создал десантные поселения в русской Калифорнии, гордо назвал город «Форт-Росс» — все пришлось бросить из-за вражды местного населения. Многие осуждали и осуждают Николая I и его сына Александра II за то, что они отказались удерживать Америку силой на широте Сан-Франциско, где русские занялись земледелием. Осуждая царское правительство, многие думали, что, если бы туда отправили невоинственных русских (например, послали бы декабристов вместо нер-чинских рудников), они с индейцами наладили бы контакты. Историки настаивают на этом решении, но с точки зрения этногенеза дело обстоит сложнее. Опыт показал, что с индейцами у русских контакты всегда шли гораздо труднее и были куда менее конструктивны.
А теперь взглянем от России на запад. Во время Тридцатилетней войны 1618 — 1648 годов Россия поддерживала протестантскую унию Швеции и Германии против Католической лиги, а Россия долго выбирала, с кем ей дружить! Шведский король Густав-Адольф получал огромную помощь русским хлебом. Россия при нимала охотно на службу протестантов-немцев, создала слободу Кукуй в Москве и предоставила монополию в торговле Голландии. Петр I и его двор срослись с немцами. Таким образом, у протестантов с православными было положительное чувство созвучия стереотипов поведения — положительная комплиментарность, а у католиков — резко отрицательная. Но ведь католичество по догматике и, что очень важно, по обряду куда ближе православию, нежели лютеранство. А лютеране в России состояли на государственной службе, и обрусевшие немцы продолжали быть лютеранами в быту. Переход же в католичество, например, некоторых Голицыных создавал скандал в обществе, и Чаадаев, признавший католичество более веским, нежели православие, был объявлен умопомешанным. С католиками наши предки не хотели иметь ничего общего. Вспомним войны на Украине. Очевидно, во всем этом этнический момент все же преобладал над доводами разума, культуры, социальных пристрастий.
Протестанты и православные оказались этносами с положительной комплиментарностью. Чтобы замкнуть нашу цепь сопоставлений, посмотрим, как, собственно, вели себя протестанты и католики, контактируя с индейцами Америки. При колонизации Америки было замечено, что испанцы и французы относительно легко вступали в контакты с индейскими племенами, хотя и не со всеми. Англосаксы же не умели наладить отношений, кроме чисто дипломатических, с ирокезами в XVII веке и организовали в XVIII веке охоту за скальпами, выдавая премии за убитого индейца. В чем же дело?
Надлом западноевропейского суперэтноса, то есть резкое снижение его пассионарности, вылился в колоссальный поведенческий сдвиг — Реформацию. Общность суперэтноса нарушилась, — он раскололся на две части, и религия, вернее, принятое исповедание, стала символом принадлежности к одной из них. Каждый человек «выбирал» симпатичный ему стереотип поведения и в соответствии с ним строил свои отношения со всеми другими людьми, с окружающим миром и ландшафтом. То есть каждый европеец шел, говоря грубо, в «капитализм», как об этом писал М. Вебер, либо оставался дома, становясь добрым, «отсталым» жителем страны с феодальными пережитками.
Не только протестанты, но и католики после Вселенского Тридентского собора стали весьма не похожи на своих предков, потому что так называемые религиозные распри этнокультурно, психологически деформировали и тех, и других. И как следствие — произошло обособление наций и расхождение стереотипов поведения. А это и определило разное отношение европейских колонистов к индейцам.
Вероятно, в ритмах полей католических этносов (испанцы, французы) имелись созвучия с индейскими, а у тех, кто избрал протестантизм в Европе (англичане, голландцы, немцы), их не оказалось.
И наоборот: у православных близость ритма наблюдалась с протестантами, а с индейцами и католиками такого совпадения не было.
Этот длинный пример, уже приводившийся мною однажды, для нашей темы просто необходим, ибо понять направление развития нашей этнической системы можно лишь учитывая ее взаимодействие с другими этническими системами такого же ранга. В противном слу-
чае мы просто не сможем понять, когда же, пользуясь Вашим выражением, «затеплилась свеча» отечественной истории и кто ее затеплил. Я совершенно согласен с Вашей датировкой великорусского «начала» XIII веком, но хотел бы сразу уточнить, что применительно к истории Московской Руси происходящее нельзя рассматривать вне контекста русско-татарских этнических контактов. Само становление Москвы не может быть оторвано от истории Евразийского континента.
А. Панченко. «И почему было Москве царством быть, и хто то знал, что Москве государством слыть? Были тут по Москве-реке села красные, хорошие боярина Кучка Степана Ивановича...» Так начинается одно из сочинений XVII века, принадлежащее к историческому «баснословию», к разряду исторической беллетристики. Прислушаемся к этим словам. В них звучит недоумение: почему именно Москва возвысилась и стала «царством»? Но в них звучит и признание того, что ответ на этот вопрос нужно искать в XIII и XIV веках (поскольку герой сочинений — князь Даниил Александрович, не имеющий, впрочем, ничего общего со своим реальным прототипом; упоминается также Иван Калита). Датировка «великорусского начала» та же. Попробуем проверить эту датировку по национальной культурной символике.
Из домонгольской эпохи мы унаследовали в качестве символических — прежде всего — былинных богатырей. Но это фольклор, а как обстоит дело с реальной историей? Пожалуй, только Владимир Мономах удержался в национальной памяти («шапка Мономаха»). Другие князья — лишь силуэты, очерченные одним-двумя штрихами. О Владимире Святославиче известно, что он крестил Русь, любил устраивать пиры и «побежден был похотью женской». Про Олега помнится, что он прибил щит на вратах Царьграда и умер от змеиного укуса (босиком он ходил, что ли, или в лаптях, — ведь гадюка прокусить сапог не в силах, а других ядовитых змей на Руси не водится). Что до Ольги, первой христианки в княжеском роду, она похожа на героиню сказок о разборчивой невесте: то на ней хочет жениться древлянский князь Мал, то император Константин Багрянородный, а она предпочитает оставаться вдовой. Все это штрихи резкие, но декоративные. Домонгольская Русь кажется нам странной, несколько театральной.
Есть люди-символы и есть события-символы. Сколько бы нация за свою историю ни породила героев, сколько бы ни совершила подвигов, — это всегда считанные люди и считанные события. Они наперечет именно потому, что приобрели символическое значение: ведь символов не может быть много, как не может быть много гениев и нравственных заповедей. Иначе они обесценятся.
В связи с этим показательно, что ни одна битва, ни один поход домонгольских времен не попали в символический ряд (видимо, по той причине, что воевали или в чужих землях, или друг с другом, а об этом нация предпочла забыть). Он начинается с Невской битвы и с Ледового побоища, то есть с Александра Невского, который, в свою очередь, стал первым национальным героем. Но символический «толчок» — это Куликовская битва.
Л. Гумилев. Последний Ваш тезис, на мой взгляд, требует уточнения. В плане культурогенеза Ваше наблюдение бесспорно, но в этногенезе вопрос сложнее. Этногенез — явление биосферное, и «толчком» в нем выступает мутация — появление наследственного признака пассионарности. Пассионарность человека — это его органическая способность к сверхнапряжению, к жертвенной деятельности ради иллюзии — высокой цели. Не касаясь вопроса о природе самой пассионарности (он далек от нашего сюжета), скажу лишь, что толчок (микромутация) падает в России именно на XIII век. Подъем пассионарности в России начался именно тогда и совпал с эпохой так называемого «татаро-монгольского нашествия». Сложность состоит в том, что ни об одном исторической явлении не существует столько превратных мнений, как о создании монгольского улуса в XIII веке. Монголам приписывается исключительная свирепость, кровожадность и стремление завоевать весь мир. Основанием для такого мнения, предвзятого и неверного, служат антимонголь-ские пасквили XIV века, принимаемые доверчивыми историками за буквальное описание событий. Не будем вдаваться в подробности исторической критики, что уже было сделано, а приведем некоторые цифры. В Монголии в начале XIII века жило около 700 тыс. человек, раздробленных на племена. В Китае, Северном и Южном, — 80 млн.; в Хорезмийском султанате — около 20 млн.; в Восточной Европе — приблизительно 8 млн. Если при таких соотношениях монголы одерживали победы, то ясно, что сопротивление было исключительно слабым. Действительно, XIII век — это кризис феодализма во всем мире. Этнический подъем монголы испытали одновременно с чжурчжэнями, и понятно, что эти этносы стали соперниками и врагами. В решающей войне (третьей) 1211 — 1235 годов китайцы империи Сун выступили против чжурчжэней — как союзники монголов. Однако китайцы терпели поражения, и вся тяжесть войны легла на плечи монголов. Но после победы китайцы потребовали у монголов передачи им земель, отнятых у чжурчжэней. Попытка договориться кончилась тем, что китайцы убили монгольских послов. Это вызвало длительную войну, осложненную для монголов тем, что их конница не могла разворачиваться в джунглях Южного Китая и была бессильна против китайских крепостей.
Так обстояло дело на Дальнем Востоке. Но ведь был и западный фронт. В 1237 — 1241 годах Батый огнем прошел через Русь, после чего его войска отошли в прикаспийские степи. Точно так же, как через Русь, ор- дынцы прошли через Польшу и Венгрию, одержали победы при Лигнице и Шайо, но затем отошли на левый берег Волги, где им не угрожали контрудары побежденных, но не покоренных народов. Перелом же в войне с Китаем наступил лишь в 1257 году благодаря рейду Урянгхадая, который с небольшим отрядом вышел через Сычуань к Ханою и поднял местные бирманские, тайские и аннамитские племена на войну против Китая. Таким образом, малочисленные монголы победили Великий Китай, объединив все те народы, которые не соглашались стать жертвой китаизации. Итак, до 1260 года монголы везде одерживали победы, а к 1279 году закончили завоевание Южного Китая. Приобретение Китая не пошло на пользу монголам. Слишком различались между собой эти два народа. Хан Хубилай, основатель династии Юань, велел засеять один из дворов своего дворца степными травами, чтобы отдыхать в привычной обстановке. Китайцы до сих пор не едят молочных продуктов, чтобы ничем не походить на ненавистных степняков. При таком несоответствии этнопсихологии и разнице поведения компромиссы были недостижимы, а господство монголов в Китае было вынужденно жестоким насилием. Не произошло даже ассимиляции, ибо монголо-китайские метисы извергались из того и другого этноса, вследствие чего гибли. А ведь с мусульманами и русскими, монголы охотно вступали в браки, дававшие талантливых потомков. Только евреев монголы чуждались больше, чем китайцев. Освободив от податей духовенство всех религий, они сделали исключение для раввинов — с них налог взимали.
Ожесточение китайцев против монголов вылилось ,в восстание, начавшееся тем, что по знаку тайной организации «Белый Лотос» монгольские воины, находившиеся на постое, были зарезаны в постелях хозяевами домов. И примечательно не само убийство спящих, а то, что этот день считался национальным праздником китайцев.
Легко увидеть, сколь трудной была внутренняя и внешняя политическая ситуация в Улусе XIII века. Лишних сил не было, война шла непрерывно на нескольких фронтах. Половцы в 1208 году приняли к себе врагов монголов — меркитов... и пострадали вместе с ними. Хорезмшах Мухаммед казнил монгольских подданных и оскорбил послов; хорезмийский султанат был разрушен. Батый для проведения западного похода получил, кроме собственных 4000 воинов, войска трех своих дядей: верховного хана Угедея, «хранителя ясы» (нечто вроде обер-прокурора по судебному ведомству) Чага-дая и правителя собственно монгольских земель Тулуя, младшего сына Чингиса. Во время похода Гуюк, сын Угедея, и Бури, сын Чагадая, поссорились с Батыем. Ему пришлось выслать их на родину, где отцы подвергли их опале. Но после смерти Угедея в 1241 году Гуюк оказался претендентом на престол, что грозило Батыю смертью.
По монгольскому праву, хан — должность выборная. Выбирали, по установившейся традиции, царевичей Чингисидов, но решающее слово произносило войско, собиравшееся для этой цели на курултай. А пока хан не выбран, никто не имел права что-либо решать. Выборы Гуюка затянулись до 1246 года, и это спасло жизнь Батыю. Пятилетнюю отсрочку он употребил на то, чтобы подружиться с русскими князьями, в чьих руках были денежные и людские ресурсы. То же стремился сделать и Гуюк. Великий князь Ярослав Всеволодо-
вич, отец Александра Невского, от позиции которого зависела судьба монгольской империи, стал выбирать себе подходящего хана в союзники. Сначала его симпатии клонились на сторону Гуюка, но во время переговоров в ставке будущего великого хана один из бояр свиты русского князя оговорил Ярослава. Поверившая оговору мать Гуюка отравила Ярослава. Это оттолкнуло сыновей погибшего, которые договорились с Батыем, после чего последний обрел силу, позволившую ему открыто выступить против Гуюка. В 1248 году Гуюк умер при невыясненных обстоятельствах, а Батый три года спустя посадил на престол своего друга и сподвижника Мункэ, оставив за собой должность главы ханского рода. Сторонники Гуюка и Бури были казнены.
Итак, Батый победил благодаря союзу с сыновьями Ярослава Всеволодовича. Его мотивы вполне понятны. Но что толкало на такой союз со своим «поработителем» Александра Ярославича? Поведение его становится вполне логичным, если взглянуть на Запад.
За двести лет до описываемых событий Западная Европа только начинала свой экономический и культурный подъем. В XI веке европейское рыцарство и купечество под знаменем римской церкви начали первую колониальную экспансию — крестовые походы. Они окончились неудачей. Сельджуки и курды выгнали крестоносцев из Иерусалима и блокировали их города на побережье Средиземного моря. Тогда крестоносцы стали искать добычу полегче. В 1204 году они захватили Константинополь, для самооправдания объявив греков такими еретиками, что «самого Бога тошнит».
Одновременно они начали продвижение в Прибалтику, основали Ригу и подчинили себе пруссов, леттов, ливов и эстов. На очереди был Новгород. Александр Невский двумя победами остановил натиск шведов и крестоносцев, но ведь Прибалтика была страшна не сама по себе. Она являлась плацдармом для всего европейского рыцарства и богатого Ганзейского союза северонемецких городов. Их силы были неисчерпаемы, тем более что искусной дипломатией они привлекли на свою сторону Литовского князя Миндовга и натравили Литовцев на Русь.
Конечно, на Руси было много храбрых людей, богатых городов, но удельная дезорганизация препятствовала консолидации сил, и город за городом становились жертвой агрессии: Юрьев, Полоцк. А ведь это были форпосты Руси!
Вот тут — в положении, казавшемся безнадежным, — проявился страстный до жертвенности гений Александра Невского. За помощь, оказанную Батыю, он потребовал и получил помощь против немцев и германофилов, в числе которых оказался его брат Андрей, князь Владимирский, сын убитого ордынцами Ярослава. В 1252 году Андрей был изгнан татарскими войсками, и вскоре затем остановилось немецкое наступление на Русь.
Жизнь князя Александра была исключительно трудной. Он дважды (в 1240 и 1242 годах) спас Новгород от позорной капитуляции, отогнал литовцев, захвативших даже Бежецк... Однако новгородцы изгоняли его из города, а владимирцы передались его бездарному брату Андрею. Александр был вынужден казнить своих земляков, чтобы не дать им убить монгольских послов, ибо монголы страшно мстили за гостеубийство как за худшую форму преступления. Он нарушал каноны православного поведения в понимании того времени, потому что пил кумыс и ел конину, находясь в гостях у Батыя. И он побратался с сыном завоевателя Сартаком, а после его гибели примирился с убийцей побратима — ханом Берке. И все свои поступки князь оправдывал евангельской фразой: «Нет больше любви, если кто душу положит за други своя».
Зато после смерти Александра, когда немецкие рыцари в 1269 году снова решили напасть на Новгород, оказалась весьма полезной поддержка небольшого татарского отряда. Узнав о появлении степняков, немцы оттянули войска за Нарову и запросили мира, «ибо зело боялись даже имени татарского»: агрессия захлебнулась.
И все-таки героический гений Александра Невского спас Русскую землю лишь от западных завоевателей. Обывательский эгоизм, взращенный в тепличных условиях изолированной домонгольской Руси, был в XII — XIII веках присущ князьям и старцам градским, дружинникам и смердам. Именно этот этнический стереотип поведения был объективным противником Александра и его ближних бояр, боевых товарищей. Но сам факт такой контроверзы показывает, что наряду с процессами распада появилось новое поколение — героическое, жертвенное, патриотическое. Иными словами, появились люди, ставящие идеал (или далекий прогноз) выше своих личных интересов или случайных капризов. Пусть их в XIII веке были единицы — в XIV веке их дети и внуки составили уже весомую часть общества. Эти пассионарии стали затравкой нового этноса, впоследствии названного «великороссийским».
Взрыв этногенеза — явление стихийное, связанное с тем или иным регионом и потому захватывающее разные этнические субстраты. Так и здесь: не только Русь, но и Литва проявила завидную активность; в эти же десятилетия в западной части Малой Азии сложился этнос турков-османов. Но общей между этими новорожденными этносами была только повышенная пассионарность, а культурные традиции, экономические отношения и социальные структуры были во всех случаях оригинальными. Поэтому литовцы, османы и русские имели свои неповторимые судьбы. А не затронутое этническим взрывом Поволжье находилось в состоянии быстрого и неотвратимого упадка под нажимом чуждой культуры купеческих городов и оседлых аборигенов.
В Золотой Орде тоже шли процессы этногенеза. Двадцать тысяч монголов улуса Джучиева рассеялись по трем ордам: Большой, или Золотой, на Волге, где правили потомки Батыя; Белой — на Иртыше, доставшейся старшему брату Батыя — Орде-Ичэну; Синей орде хана Шейбана, кочевавшей от Аральского моря до Тюмени. При таком рассредоточении дезинтеграция наступила быстро, и к началу XIV века монголы смешались с половцами настолько, что стали неразличимы. И тогда на них навалилась культурная сила ислама, столь же активная, как на Западе была культурная сила католицизма. Некоторые ханы принимали ислам лично, не принуждая подданных следовать их примеру. Но в 1312 году царевич Узбек, захватив престол, объявил ислам государственной религией, обязательной для всех его кочевых подданных. Монгольские нойоны отказались «принять веру арабов». Тогда Узбек казнил всех не подчинившихся, в том числе семьдесят царевичей Чингисидов. Сопротивление реформе шло до 1315 года, когда погиб хан Белой орды Ильбасан. В этой гражданской войне погибли многие, но не все. Уцелевшие спаслись бегством на Русь и стали ядром московских ратей, разгромивших Мамая на Куликовом поле, а затем остановивших натиск Литвы.
Русские источники пишут об этом перевороте сверхсдержанно. В летописи (Симеоновской) по этому поводу имеется лишь одна фраза: Узбек «сел на царство и обесерменился».
Невозможно допустить, чтобы летописец не понял грандиозности событий, превративших кочевую державу в заурядный мусульманский султанат. Но говорить об этом он не хотел. Вероятно, у него были к тому достаточные основания: у хана были очень длинные руки.
Отношения между Золотой Ордой и Русью при Узбеке изменились радикально. Вместо этнического симбиоза появилось соглашение Орды с Москвой и жестокий нажим на Тверь и Рязань. Этот союз не был искренним. Обе стороны не доверяли друг другу. Узбек поддержал Юрия Даниловича Московского потому, что его предшественник Тохта, носитель и защитник традиций кочевой культуры, поддерживал Михаила Яросла-вича Тверского, честного, открытого, непродажного. Узбеку были ближе московские князья, блюдущие свою выгоду, подобно алчным и хитрым купцам, доходы коих зависели от хана. Но ставка хана на князя-приказчика была ошибочной, так как в княжестве существовал еще и народ, состоявший из земледельцев и бояр, служилых людей и монахов, местных уроженцев и эмигрантов из Киева, Чернигова, с Волыни, пустевших в то время из-за постоянных набегов татар и литовцев. Все пребывало в быстром и направленном движении. Поэтому единение ордынского султана с московским князем оказалось недолговечным.
Сделаем вывод. Процесс этнического симбиоза продолжался до тех пор, пока ордынцы были язычниками или христианами-несторианами, то есть не входили в чужой и враждебный Руси суперэтнос. Сама по себе смена религии не имела бы значения, но с ней было связано изменение политического курса, направления культуры и всего строя жизни. Став из степного хана мусульманским султаном, Узбек сделал ставку на купеческий капитал торговых городов Поволжья и Ирана, отодвинув на задний план интересы земледельческой Руси и кочевой степи.
В XIV веке на Руси антиордынские настроения выкристаллизовались в мощное движение, связанное с новым взрывом этногенеза, которое возглавил Сергий Радонежский. Именно оно толкнуло русских людей на
Куликово поле, где бой шел не с «погаными», то есть язычниками, а с «бусурманами», или мусульманами, представителями чуждого мира и враждебной системы. Именно здесь началась грандиозная борьба, закончившаяся полной победой русских. Именно перенос политической ситуации XIV века на XIII век и стал источником всеобщей монголофобии, объясняющей все проблемы русской истории XIII века злыми татарскими делами. Но нелишне отметить, что монголофобия была лозунгом либерально-буржуазной (модной) историографии, тогда как добросовестные историки — как дореволюционные: Н, М. Карамзин, С. М. Соловьев, С. Ф. Платонов, так и советские: А. Н. Насонов — отмечают сложность проблемы и отсутствие «национальной» вражды монголов с русскими. Действительно, мусульманские султаны Сарая: Узбек и Джанибек всеми способами выжимали серебро, необходимое им для оплаты армии, но они же защищали кормилицу Русь от натиска литовцев, захватывавших город за городом, область за областью. Победоносная Литва подчинила себе Полесье, Северную Русь, Волынь, Киев, Полоцк и тянулась к Твери, Рязани и даже Москве. Князья Гедимин, Ольгерд, его сын Ягайло имели в подданстве больше русских людей, чем литовцев. А литовцы подчинялись обаянию культуры завоеванного русского населения, принимали православие, женились на княжнах и боярышнях, учили русскую грамоту, удачно воевали с татарами и москвичами. Казалось, что Вильна вот-вот вырвет у Сарая гегемонию в Восточной Европе.
Узбек и Джанибек, сменив веру и обычаи, выиграли материально, приобретя симпатии мусульманских купцов богатых городов Поволжья. Но они потеряли морально, ибо те кочевники, которые служили им не за страх, а за совесть, откачнулись от нарушителей степных традиций. Лишь на Востоке, в Белой орде, хан Тохтамыш мог доверять своим подданным, и на Западе, в Крыму, нукеры исполняли приказы темника Мамая.
Войско Мамая не разложилось вместе с Золотой Ордой, и он мог возводить на престол Чингисидов и менять их по своему усмотрению. Мамай был близок к тому, чтобы уничтожить Золотую Орду, но ему мешали три обстоятельства: наличие в заволжских степях не разложившихся кочевников Тохтамыша, нехватка денег для оплаты достаточно большого войска и отсутствие
сильного союзника. Деньги дали генуэзцы, владевшие тогда городами на южном берегу Крыма; на эти деньги Мамай нанял воинов из ясов и касогов. А союзником его стал Ягайло Литовский, сторонник католической Европы. Но с Дмитрием и с Тохтамышем воевать Мамаю пришлось.
Безусловно, на Москве не было единого мнения по поводу всех этих ордынских и литовских дел. Защита самостоятельности государственной, идеологической, бытовой и даже творческой означала войну с агрессией Запада и союзной с ней ордой Мамая. Именно наличие этого союза придало ocTpofy ситуации. Многие в Москве считали, что куда проще было подчиниться Мамаю и платить дань ему, а не ханам в Сарае, пустить на Русь генуэзцев, предоставив им торговые льготы, и в конце концов договориться с папой о восстановлении церковного единства. Тогда был бы установлен долгий и надежный мир. Любопытно, что эту платформу разделяли не только некоторые бояре, но и церковники, например духовник князя Дмитрия — Митяй, претендовавший на престол митрополита. Мамай пропустил Митяя через свои владения в Константинополь, чтобы тот получил посвящение от патриарха. Но Митяй по дороге внезапно умер.
Сторонники этой платформы были по складу характера людьми спокойными, разумными обывателями. Им противостояла группа патриотов, чьим идеологом был Сергий Радонежский.
Москва занимала географическое положение куда менее выгодное, нежели Тверь, Углич или Нижний Новгород, мимо которых шел самый легкий и безопасный торговый путь по Волге. И не накопила Москва таких боевых навыков, как Смоленск и Рязань. И не было в ней столько богатства, как в Новгороде, и таких традиций культуры, как в Ростове и Суздале. Но Москва перехватила инициативу объединения Русской земли, потому что именно там скопились страстные, энергичные, неукротимые люди. Они рождали детей и внуков, которые не знали иного отечества, кроме Москвы, потому что их матери и бабушки были русскими. И они стремились не к защите своих прав, которых у них не было, а к получению обязанностей, за несение которых полагалось «государево жалованье». Тем самым служилые люди, используя нужду государства в своих услугах, могли служить своему идеалу и не беспокоиться о своих правах: ведь если бы великий князь не заплатил вовремя жалованья, то служилые люди ушли бы, а государь остался без помощников и сам бы пострадал.
Эта оригинальная, непривычная для Запада система была столь привлекательна, что на Русь стекались и татары, не желавшие под угрозой казни принимать ислам, и литовцы, не симпатизировавшие католицизму, и крещеные половцы, и меряне, и мурома, и мордва. Девиц на Москве было много, службу получить было легко, еда стоила дешево, воров и грабителей вывел Иван Калита. Но для того чтобы это скопище людей, живущих дружно и в согласии, стало единым этносом, не хватало одной детали — общей исторической судьбы, которая воплощается в коллективном подвиге, в свершении, требующем сверхнапряжения. Именно эти факты становятся концом только биологического становления и началом исторического развития.
Когда же народу стала ясна цель — защита не просто территории, а принципа, на котором надо было строить быт и этику, мировоззрение и эстетику, короче — все, что называется оригинальным культурным типом, — то все, кому это было доступно, взяли оружие и пошли биться с иноверцами: половцами, литовцами, генуэзцами (чья вера считалась неправильной) и с отступниками — западными русскими, служившими литвину Ягай-ло. Только новгородцы уклонились от участия в общерусском деле. Они больше ценили торговые пути, выгодные сделки, контакты с Ганзой, несмотря на то, что немцы не признавали новгородцев равноправными членами этой корпорации. Этим поступком Новгород выделил себя из Русской земли и через сто лет подвергся завоеванию как враждебное государство. Но будем последовательны: Новгород сохранил черты культуры, присущие древнерусским городам, и, подобно им, пал жертвой близорукого эгоизма. А вокруг Москвы собралась Русь преображенная, способная к подвигам, вплоть до жертвенности.
На Куликово поле пошли рати москвичей, владимирцев, суздальцев и т. д., а вернулась рать русских, отправившихся жить в Москву, Владимир, Суздаль и т. д. Это было началом осознания ими себя как единой целостности — России. Таким образом, мы можем датировать толчок великорусского этногенеза началом XIII века, инкубационный период — XIII — XIV веками, а осознание русскими себя как целостности — 8 сентября 1380 года.
А. Панченко. Но я думаю, что необходимо видеть и другую сторону проблемы. Бесспорно, разрыв этнической традиции между Киевской и Московской Русью был, но я бы не стал утверждать этого о традиции культурно-религиозной.
На чем покоится единство культуры и устойчивость культурного типа? В чем воплощается? Культура располагает запасом устойчивых форм, которые актуальны на всем ее протяжении. Это касается не только сюжетов и мотивов (они как раз не считаются с границами и могут кочевать по всему свету), но и нравственных ценностей. Куликовская битва — именно нравственная ценность.
Обратимся к тому фрагменту «Сказания о Мамаевом побоище», который касается «испытания примет» в ночь перед сражением. Дмитрий Донской и Дмитрий Боброк выехали на Куликово поле. Боброк «слез с коня и приник к земле правым ухом надолго. Потом встал, и опечалился, и вздохнул... И сказал князь великий: „Ну что, брат Дмитрий?" А он молчал и не хотел ничего говорить. Князь же великий понуждал его. Тогда Боброк сказал: „Одно тебе на пользу, другое же — к печали. Слышал я, что земля плачет: одна сторона плачет о чадах своих по-эллински, другая же сторона, подобно некоей девице, возопила горько-прегорько, как свирель, жалостно было слышать"». Боброк толкует это предзнаменование как счастливое для русских: «А твоего христолюбивого воинства много падет, но все же твой верх, твоя слава будет». Так повествует Основная редакция «Сказания». В Летописной редакции есть вариация первой части формулы: одна сторона плачет как вдова. Остальные редакции принципиальных изменений в текст не вносят.
Попробуем истолковать этот фрагмент. О врагах («по-эллински» — значит «неправославно») земля плачет, как мать о детях или вдова о погибшем муже. Эта часть формулы ясна и затруднений не вызывает. В литературе известны многочисленные образцы вдовьих плачей — княгини Евдокии в «Слове о житии и преставлении Дмитрия Донского», вдов убитого в Орде
князя Михаила Черниговского и князя Михаила Тверского. Известны и плачи земли-вдовы — например, по «Житию Меркурия Смоленского», где рыдает «общая наша мати-земля».
Это вполне соответствует языческому представлению о «матери сырой земле». Для наших предков и после крещения эта мифологема была живой реалией, а не художественной или отвлеченной идеей. В покаянной дисциплине это отразилось вполне наглядно. На того, кто «лег чревом на землю», духовный отец налагал епитимью: две недели есть всухомятку и каждый вечер класть по тридцати поклонов. Этот грех отождествлялся с непочитанием родителей, рассматривался как нарушение пятой заповеди: «Если отца или мать лаял или бил, или, на земле лежа ниц, как на жене играл...»
Вторая часть формулы находит параллель в эсхатологических сочинениях о «последних днях», когда будет «рыдание и стенание», когда от воплей и криков «потрясется земля, и солнце померкнет, и луна в кровь преложится, тогда восплачется земля как девица красная о погибели человеческой». Понятно, почему Боброк «вздохнул»: сражение предстояло кровавое, с большими потерями. Но отчего плач девицы-земли предвещает победу и одоление, отчего, как сказано в Псалтири, «сеющи слезами, радостию пожнут»? Такой ход мысли связан со сложным комплексом народно-православных представлений. Прежде всего это брачная символика.
- Брак, пир, битва, смерть и судьба в русском сознании связаны накрепко. Но здесь также звучит свирель, а свирель указывает на временную смерть и новое рождение. Источник — евангельский рассказ о том, как Иисус воскресил дочь Иаира (в его доме тоже звучали свирели — по покойнице, а покойница воскресла). Звук свирели — это перенесенная на землю небесная гармония, это нравственная чистота, поскольку свирель — пастырский атрибут, а Христос — Добрый Пастырь. В голосе свирели есть жертвенность, ибо тема невесты-земли тождественна теме невинной жертвы. В древнерусских апокрифах погребение Авеля, первого мертвеца и первого мученика, объясняется как брачная его ночь с девой-землей. Фольклору тоже известна эта трактовка. Вот смертельно раненный казак велит своему коню передать весть о гибели:
Ты скажи молодой жене,
Что женился я на другой жене,
На другой жене мать-сырой земле,
Что за ней я взял поле чистое,
Нас сосватала сабля острая,
Положила спать калена стрела.
Эта тема подхвачена Александром Блоком — во второй строфе цикла «На поле Куликовом»:
О Русь моя! Жена моя! До боли Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли Пронзил нам грудь.
Куликовская битва как символ стоит в одном ряду с Полтавской баталией и Бородинским сражением, а Дмитрий Донской, который бился с врагами «в лице», «напереди всех», — рядом с Петром и Кутузовым. У этих событий есть нечто общее. «Таким событиям суждено возвращение» (Блок).
В самом деле: нация запомнила и сделала символами победы на грани поражений, победы с громадными потерями. После Мамаева побоища еще не раз горела Москва, и Русь окончательно сбросила ордынское иго лишь сто лет спустя; от Полтавы до Ништадтского мира был путь длиною в двенадцать лет; после Бородина, которое Наполеон считал своей победой, пришлось оставить первопрестольную столицу. Но это как бы окончательные, решительные победы. Россия, если можно реставрировать ее символическое мышление по литературе, ставит героизм выше одоления, а самопожертвование и самоотречение выше силы.
Размышляя далее о Куликовском «толчке», мы увидим, что Куликово поле, Полтава, Бородино — вынужденные сражения. Россия защищалась, значит, была безусловно права. Это сражения на родной земле или на ее рубеже. Россия не посягала на чужое, она опять-таки была права. Для нации эти битвы были нравственной заслугой. Без нее символ невозможен. Именно поэтому в качестве символов избирались не легкие, а тяжелые, жертвенные победы: подвиг и жертва неразделимы.
Недавно по случаю двух юбилеев, 150-летия Толстого и 600-летия Куликовской битвы, на устойчивость национальной топики (обойдясь без этого термина) обратил внимание Д. С. Лихачев. Он отметил, что и в русских воинских повестях XIII — XVII веков, и в
«Войне и мире» сходно, с помощью одинаковых литературных средств воплощается народный нравственный кодекс: «Все значительнейшие воинские повести посвящены оборонительным сражениям в пределах Русской земли... Историческая сторона романа в ее нравственнопобедной части вся оканчивается в России, и ни одно событие в конце романа не переходит за пределы Русской земли. Нет в «Войне и мире» ни Лейпцигской битвы народов, ни взятия Парижа. Это подчеркивается смертью Кутузова у самых границ России. Дальше этот народный герой «не нужен». Толстой в фактической стороне событий усматривает ту же народную концепцию оборонительной войны».
Старомосковские книжники одобрили бы Толстого. В Наполеоне из «Войны и мира» они тотчас бы опознали типичную для великорусских воинских повестей фигуру захватчика, предводителя вражьей силы. Он горд, то есть грешен первым из семи смертных грехов, он самоуверен, он фразер, краснобай — совсем как Биргер и Мамай, с которыми сопоставляет Наполеона Д. С. Лихачев. Старомосковские книжники согласились бы с Кутузовым и с Толстым, что Бородино — победа, решительная и бесспорная, хотя после нее пришлось отдать французам Москву. Это было сражение на своей земле; враг был сильнее, наших полегло больше, но мы не дрогнули. «Не в силе Бог, но в правде».
Нравственно-художественная топика, общая для допетровской Руси и России нового и новейшего времени, появляется не только в принципах и оценках, но также в художественных деталях, а совпадение деталей всегда красноречиво, особенно если исключено прямое заимствование. Вернемся еще раз к «испытанию примет» в «Сказании о Мамаевом побоище»: «И, обратившись на полки татарские, слышит стук великий, и клич, и вопль, как на торгу или на строительстве города... И обратился на полки русские — там великая тишина». О такой же ночи вспоминает старый солдат из лермонтовского «Бородина»:
И вот на поле грозной сечи Ночная пала тень.
Прилег вздремнуть я у лафета,
- И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый...
В действительности это невероятно: громадные русские армии и на Куликовом, и на Бородинском поле не могли пребывать «в тишине великой». Эти поразительно похожие сцены порождены национальной топикой, равно актуальной и обязательной для автора «Сказания о Мамаевом побоище» и автора «Бородина», хотя между ними пролегли четыре столетия.
Как видим, русский символический ряд укладывается в «великорусские» хронологические пределы, начинаясь с Александра Невского.
Впрочем, одного домонгольского героя мы все же в свой символический ряд включили. Это апостол Андрей Первозванный. Он, в качестве крестителя Руси, утверждается в русском сознании в XVI веке. Для его возвеличения больше всего сделал Петр, учредивший в 1698 году «кавалерию» Андрея Первозванного — старший из русских орденов. На косом орденском кресте по четырем его концам изображались латинские буквы S, А, Р, R, то есть Sanctus Andreas Patronus Russiae (Святой Андрей, Покровитель России). К Петровской эпохе относится и морской андреевский флаг, и другие очень яркие проявления культа апостола, будто бы «святым крещением первоначально пределы наши просветившего».
Каждому ясно, что Андрей никак не мог крестить Русь — при нем такой страны в помине не было. Попробуем воссоздать историю этой легенды.
Канонически об Андрее известно крайне мало. По Евангелию от Матфея, он был галилеянином и братом апостола Петра. По Евангелию от Иоанна, Андрей — один из учеников Иоанна Крестителя, еще прежде Петра призванный Христом на Иордане (отсюда — «Первозванный»), Скупость известий Писания восполняется красноречием множества апокрифов — коптских, эфиопских, сирийских, греческих, латинских, славянских. Общей чертой этих отреченных сочинений об Андрее, церковью не признанных, но некогда популярных, — надлежит считать то, что он изображается апостолом Севера и скифов, просветителем южных, восточных и северных берегов Черного моря. Местопребыванием Андрей избирает Синоп, откуда и совершает свои миссии, общим числом четыре. Самый северный предел третьего путешествия — Херсонес Таврический, древнерусская Корсунь, город в пределах нынешнего Севастополя. Отсюда Андрей возвращается морем в Синоп и отправляется в последнюю роковую дорогу. Крестив попутно Византию, он прибывает в Патры Ахайские, где оканчивает земное служение мученической кончиной. Его распяли на косом кресте, который потом стали называть «андреевским» (он изображен на флаге русского императорского флота).
Некий древнерусский книжник сочинил новый апокриф — о путешествии Андрея по Днепру и по новгородской земле. Апокриф вошел в «Повесть временных лет». Пересказываю его по Лаврентьевской летописи.
Андрей пребывал в Корсуни и собирался в Рим. Узнав, что неподалеку днепровское устье, он поплыл вверх по Днепру. Случилось так, что на ночь апостол пристал к берегу под горами, где впоследствии выстроился Киев. Утром Андрей предсказал «сущим с ним» ученикам, что на горах воссияет благодать божия, воздвигнется великий город с множеством церквей. «И взошел на горы, и благословил их, и поставил крест». Потом он прибыл в землю словен, «где ныне Новгород», и подивился обычаю здешних жителей, «как они моются и хлещутся». Через страну варягов Андрей добрался до Рима и там рассказал: «Дивные дела видел я на пути сюда, у словен. Видел я бани деревянные, и натопят их докрасна, до большого жара, а сами разденутся донага, и обольются щелоком, и бьют себя молодыми побегами, — до того, что вылезут чуть живыми, и окатятся студеной водою, и тогда оживут. Это их всегдашний обычай, никто их не мучает, они сами себя мучают, для них это — мовенье, мытье, а не мученье». Римские слушатели изумились, Андрей же, побыв в Риме, воротился в Синоп.
Что побудило сочинить этот апокриф? Импульс формальный очевиден: пребывание Андрея Первозванного в Корсуни дало возможность «вклинить» еще одно путешествие — между третьим и четвертым.
Кружной путь в Рим — через Восточную и Северную Европу — не казался встарь нелепостью. В 1054 году, году «схизмы», то есть формального разделения православия и католичества, папские легаты именно через Русь возвращались из Царьграда в Рим. Видимо, бывали причины, заставлявшие предпочитать окольную дорогу.
В летописи нет и намека на то, что Андрей крестил Русь. Крестить — нечто совсем иное, нежели предсказать будущее величие и благочестие пустых киевских
гор. Для крещения нужны люди, Андрей же, увидев словен, просвещать их почему-то не стал.
Вообще не следует преувеличивать легковерие древних, особенно людям XX века, которые на больших пространствах и долгое время вели упорную войну со здравым смыслом. В XX веке человеческая глупость расцвела пышным цветом, и нечего смотреть на прошлое свысока. Рискну утверждать, что большинство читателей «Повести временных лет» осознавало апокрифичность, «неистинность» легенды. Сказано в летописи под 983 годом: «Телесно апостолы здесь не бывали». Если судить эту фразу и легенду по принципу «правда или ложь?», нужно что-то принять, а что-то отбросить, поскольку логически они непримиримы. Но их можно примирить эстетически. Фраза констатирует исторический факт. Легенда к факту имеет отношение косвенное, как всякое художественное упражнение. Попробуем доказать это с помощью анализа сюжета.
В науке принято житейское объяснение апокрифа. Оно сводится к тому, что летописец-киевлянин, не знавший парных бань (как и теперь их не знают на Украине), высмеял новгородцев, любителей пара и веника. Смех — персонаж легенды, это чувствуется, но кто и над кем смеется? Л. Мюллер показал, что апокриф явно распадается на две автономные части — киевскую и новгородскую. Киевская не имеет никаких сюжетных следствий (о восхождении на днепровские горы Андрей в Риме не рассказывал), а новгородская имеет, притом незамедлительные, — удивление апостола и удивление римлян. Значит, ядро предания было новгородским, киевская часть — механическая прибавка, и ее я разбирать не буду.
Что до ядра, для его толкования лет тридцать назад немецкий филолог Д. Герхардт привлек «банный анекдот» из латинской «Истории Ливонии» Дионисия Фабрициуса, написанной в XVI веке. Автор повествует о случае, будто бы имевшем место в XIII веке в католической обители в Фалькенау, недалеко от современного Тарту. Местные монахи потребовали у папы увеличить содержание, ссылаясь на свою аскетическую жизнь, на «сверхзаконное», не предусмотренное иноческим уставом изнурение плоти. И действительно, посол, специально прибывший из Рима, стал очевидцем того, как ливонские чернецы в страшной жаре хлещут себя прутьями, потом окатываются ледяной водой — и так раз за
разом. Итальянец не понял, что это «мовенье», а не «мученье» (все прибалтийские, балто-славянские и финские бани, в сущности, одинаковы). Так северяне надули простофилю-южанина. По докладу итальянца папа нечто приплатил монастырю в Фалькенау.
Впрочем, Д. Герхардт полагает, что давным-давно это было именно «мученье», актуальный некогда для восточноевропейских «поганых» религиозный очистительный обряд, лишь с течением времени ставший «мовеньем», бытовой привычкой. Трудно сказать, так это или не так. Конечно, баня была связана с языческим культом (по гипотезе Б. А. Успенского, она первоначально выполняла функцию домашнего храма Волоса-Велеса). Баня и после христианизации сохраняла языческие реликты, хотя бы в оболочке «двоеверия». Так, в великий четверг, поминая усопших, им топили баню. В предбаннике на протяжении многих столетий обязательно снимали нательные кресты. »
Но нет резона привлекать языческие верования для толкования русского апокрифа и ливонского анекдота. Нетрудно понять, отчего именно в XIII веке братии из обители Фалькенау захотелось обмануть папу и отчего ей удалось надуть легата. Это — эпоха расцвета движения флагеллантов, «бичующихся» (от латинского fla-gellare — хлестать, сечь, бить, мучить). Флагелланты-клирики сами бичевались в монастырях, бичевали прихожан перед отпущением грехов. Процессии флагеллантов (первая волна — 1260 год) наводнили Италию, Южную Францию, затем Германию, Фландрию, добирались до Моравии, Венгрии и Польши. Собираясь толпами, обнажаясь (даже в зимнюю стужу), они «удручали» плоть. Только Англия и Русь остались в стороне от этого изуверского движения.
Когда легенда о новгородских банях попала в «Повесть временных лет» — остается только гадать. Это могло случиться и раньше и позже 1260 года. На сей счет предложены разные текстологические построения, но оставим их. Флагеллантство — как теория и как практика — появилось задолго до этой даты и до «первой волны». При Карле Великом «самоистязателем» был Св. Вильгельм, герцог Аквитанский. В X веке на этом поприще рьяно подвизался Св. Ромуальд, жестоко истязавший себя и своих монахов. XI век дал теоретика флагеллантства Петра Дамиани (1007 — 1072), автора трактата «Похвала бичам», где предложена следующая
апология бичевания и самобичевания: 1) это подражание Христу; 2) это деяние для обретения мученического, венца; 3) это способ умерщвления и наказания скверной и грешной плоти; 4) это способ искупления грехов. Образцом ревностного флагелланта Петр Дамиани выставлял Св. Доминика, биографию которого и написал.
В этой связи понятно любопытство Андрея, точнее псевдо-Андрея, созданного фантазией летописца. Посещая Новгород, он хотел узнать, что же происходит в жарких деревянных банях, где «разболокшиеся» ело-вене били себя прутьями до изнеможения: неужели и на Русь проникло флагеллантство? «Словене» (включая летописца) разубедили Андрея, он посмотрел и успокоился, а потом успокоил и римлян (скорее всего, своего брата Петра, первоверховного апостола и римского первосвященника). Таков смысл новгородского путешествия «апостольской тени»: наблюдатель встретил культуру, вовсе не восхвалявшую самоуничтожение и самоуничижение.
Л. Гумилев. Флагеллантство входит в «антисистемы», которые в I тысячелетии увлекали людей всех стран, — кроме Руси и Сибири, где антисистемы не сложились. Поясню, в чем дело.
Человеческому роду присуща аттрактивность — влечение к абстрактным ценностям. Импульсы, формирующие это влечение, могут быть жизнеутверждающими, а могут быть и отрицательными, когда индивид спасается от тягот мира за счет отказа от горя и радости, от заботы о близких и далеких, от любви к истине и отрицания лжи.
Для определения направления доминанты нужен исключительно чуткий прибор, и таковым является история мировоззрений и философских учений, о положительном значении коих мы уже говорили. Но наряду с ними встречаются жизнеотрицающие системы, которые мы вправе называть отрицательными. Казалось бы, что такие самоубийственные идеи не могут оказать воздействия на здоровые коллективы, многочисленные популяции, крепко слаженные этносы. Однако, могут — и оказывают. Это происходит в тех случаях, когда столкновение этносов с различной комплиментарностью насильственно связывает их в одну химерную целостность,
которая всегда бывает неустойчивой. Вот в ареалах столкновений этносов, где поведенческие стереотипы неприемлемы для обеих сторон, повседневная жизнь теряет привлекательность, обязательную целеустремленность, и люди начинают метаться в поисках смысла жизни, которого они никогда не находят. И вот тут-то возникают философские концепции, отрицающие благость человеческой жизни и смерти, то есть диалектического развития.
В начале новой эры в Средиземноморье, когда мысль была раскована от предрассудков, осыпавшихся как шелуха при контакте эллинского, иудейского и персидского мировосприятий, люди излагали свои соображения без обиняков. В III — IV веках н. э. эти концепции кристаллизовались в несколько систем: гностицизм, талмудический иудаизм, христианство, зороастризм. Все они заслуживают специального описания, которое мы отложим, чтобы не отвлекаться от главного — уяснения принципа биполярности. В этносфере этот принцип дошел до нашего времени и сформулирован уже в XX веке двумя поэтами, стоявшими по отношению к биосфере на двух противоположных позициях. Поскольку нам здесь нужна не история проблемы, а принцип классификации, — ограничимся двумя наглядными примерами.
Первая позиция — мироотрицание.
И понял он... и под вечерним садом
Ему открылась тысяча смертей, —
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ
Смотрели из травы.
Природы вековечная давильня
Объединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Разъединить два таинства ее.
(Н. Заболоцкий)
В этой позиции соединены взгляды гностиков, манихеев, альбигойцев, карматов, махаянистов — короче, всех, кто считал материю злом, а мир — поприщем для страданий.
Вторая позиция — мироутверждение.
С сотворенья мира стократы
Умирая, менялся прах,
Этот камень рычал когда-то.
Этот плющ парил в облаках.
Убивая и воскрешая,
Набухать вселенской душой,
В этом воля земли святая,
Непонятная ей самой.
(Н. Гумилев)
Сходство позиций только в одном: иррациональности отношения персоны (человека или животного) к биосфере. Остальное — диаметрально противоположно, как в средние века и, видимо, до нашей эры.
В первой позиции — стремление заменить дискретные системы (биоценоз) на жесткие («И снится мне железный вал турбины...»), которые, по логике развития, превратят живое вещество в косное, косное, при термической реакции, разложится до молекул, молекулы распадутся до атомов, из атомов выделятся реальные частицы, которые, аннигилируясь, превратятся в виртуальные. Лимит такого развития — вакуум. И наоборот, при усложнении систем, где жизнь и смерть идут рука об руку, возникает разнообразие, которое немедленно передается в психологическую сферу, создает искусство, поэзию, науку. Но, конечно, «за все печали, радости и бредни» придется отплатить «непоправимой гибелью последней».
Должно сказать, что этническая история имеет три параметра: 1. Соотношение каждого этноса с его вмещающим и кормящим ландшафтом, причем утрата этой связи восполнима: упрощаются, а вернее, искажаются и ландшафт, и культура этноса. 2. Вспышка и последующая утрата пассионарностй; этногенез — как энтропийный процесс. 3. Выделение из этноса отдельных персон и консорций (сект), изменяющих стереотип поведения и отношение к природной среде на обратное.
Только в этом последнем параметре решающую роль играет свободная воля человека, обеспечивающая ему право выбора, но и подлежащая морально-юридической оценке: если некто желает стать преступником и злодеем, осуждение его уместно.
В эти три формулы умещается вся теория, необходимая этнологии для объяснения, почему история народов и государств идет не прямо по пути прогресса, а зигзагами и частыми обрывами в никуда. И почему,
на фоне столь трагичном, этносы существуют и радуются жизни.
Конечно, никто не живет одиноко, даже если очень этого хочет. Невидимые нити связывают страны, обитатели которых никогда не видели друг друга. И как ни называть эти связи: культурными, экономическими, политическими, военными... — они нарушают течение этногенезов, создают зигзаги истории, порождают химеры и зачинают антисистемы.
Идеологические воздействия иного этноса на неподготовленных неофитов действуют подобно вирусным инфекциям, наркотикам, массовому алкоголизму. То, что на родине рассматривается как обратимое и несущественное отклонение от нормы, губит целые этносы, не подготовленные к сопротивлению чужим завлекательным и опьяняющим идеям. К числу таких принадлежал гностицизм как логика жизнеотрицания.
Бывают эпохи, когда людям жить легко, но очень противно. Именно таким был закат Римской империи, а с рождением Византии появились цели и интерес к жизни. Византийский суперэтнос вылупился из яйца христианской общины, социальным обрамлением которой была церковная организация. Но в этом яйце таился и второй зародыш, так называемый гностицизм.
Словом «гностицизм» мы определяем те течения той же христианской мысли, которые не были приняты церковью, восторжествовавшей несколько веков спустя. Это явление имеет свою предысторию.
Александр Македонский, завоевав Персию с ее провинциями Малой Азией, Сирией и Египтом, решил, что он создаст из эллинов и восточных людей единый грандиозный этнос. Для этого он даже женил несколько сот своих офицеров-македонян на осиротевших дочерях погибших в войне персидских вельмож. Конечно, нового этноса не возникло: по приказу — этноса, явления природы, не создашь. Как социальная система его империя раскололась, как этнический конгломерат она превратилась в химеру. Пришлые греки и аборигены жили в одних и тех же городах, занимались теми же ремеслами и торговлей, развлекались в тех же кабаках, но упорно чуждались друг друга.
Так, в Александрии — столице Египта, где правили потомки одного из македонских полководцев — Птолемеи, 50 % населения составляли греки, 40 % евреи и 10 % все остальные, в том числе и египтяне.
В это время впервые греко-римский мир получил возможность ознакомиться с текстом Библии. Птолемей — царь Египта убедился, что его философы никак не могут переспорить еврейских раввинов. Философы изложили Птолемею свою точку зрения таким образом: «Мы никак не можем с ними спорить, потому что мы не знаем, что они доказывают; мы опровергаем один их тезис, а они говорят: «Да это вы не то опровергаете» — и выдвигают совсем другой. Мы должны знать точно, что в их книгах написано».
Птолемей отреагировал на жалобу в духе времени. В одну ночь в Александрии было арестовано 72 раввина. Царь вышел к ним и сказал короткую речь: «Сейчас вам каждому будет дан экземпляр Библии, достаточное количество папируса и письменных принадлежностей, и посадят вас в камеры-одиночки. Извольте перевести свою книгу на греческий язык. Филологи мои проверят, и, если будут несовпадения, я не буду разбираться, кто прав, кто виноват, а всех вас перевешаю, наберу новых раввинов и все равно получу перевод». Но больше не пришлось никого сажать — перевод он получил. Раввинов отпустили по домам. Так была создана Библия септуагинта — Библия в переводе семидесяти толковников.
Прочитав ее, греки не могли прийти в себя от изумления: как же, по книге Бытия, мир-то создан? Бог создал сначала весь мир, тварей и животных, потом человека Адама, потом из его ребра Еву и запретил им есть яблоки с древа познания Добра и Зла. А Змей соблазнил Еву, Ева — Адама. Они вкусили с запрещенного древа яблоко и узнали, где добро, где зло, и тем самым вызвали гнев Бога, который их лишил рая. Греки отнеслись к этому так: «Самое главное для нас — познание, а еврейский Бог нам его запретил; вот Змей — хороший, вот этот нам помог», — и они начали почитать Змея и осуждать еврейского Бога, сотворившего мир, и даже называли его «ремесленник» — Демиург. Представители этого течения богословской мысли назывались офиты, от греческого слова «офис» — змей.
По этой логико-этнической системе в основе мира находится Божественный Свет и его Премудрость, а злой и бездарный демон Ялдаваоф, которого евреи называют Яхвэ, создал Адама и Еву. Но он хотел, чтобы они остались невежественными, не понимающими
разницу между Доброми Злом. Лишь благодаря помощи великодушного Змея, посланца Божественной Премудрости, люди сбросили иго незнания сущности божественного начала. Ялдаваоф мстит им за освобождение и борется со Змеем — символом знания и свободы. Он посылает потоп (под этим символом понимаются низменные эмоции), но Премудрость, «оросив светом» Ноя и его род, спасает их. После этого Ялдаваофу удается подчинить себе группу людей, заключив договор с Авраамом и дав его потомкам закон через Моисея. Себя он называет Богом Единым, но он лжет; на самом деле он просто второстепенный огненный демон, через которого говорили некоторые еврейские пророки. Другие же говорили от лица других демонов, не столь злых. Христа Ялдаваоф хотел погубить, но смог устроить только казнь человека Иисуса, который затем воскрес и соединился с божественным Христом.
С более изящными и крайне усложненными системами выступили во II веке антиохиец Саторнил, александриец Василид и его соотечественник Валентин, переехавший в Рим.
Александрийские гностики представляли Бога Высочайшим существом, заключенным в самом себе, и источником всякого бытия. Из него, подобно солнечным лучам, истекли второстепенные божеские существа — зоны. Чем более отдалялись зоны от своего источника, тем слабее они становились. Все они в совокупности назывались плеромой, или Полнотой всего сущего. Вместе с плеромой существует грубая, безжизненная материя, не имеющая действительного бытия, а только вид его. Она называется Пустотой. Мир возник из соприкосновения и смешения этих двух стихий — плеромы и материи. Самый крайний из эонов по слабости своей упал в материю и одушевил ее, благодаря чему образовался видимый мир. Противоположность божественного и материального стала причиной зла в людях и демонах.
Зон, из-за которого возник мир, гностики также называли Демиург и приравнивали его к Богу Ветхого Завета. Они полагали, что он сделал мир неряшливо, что он бы и рад освободить дух из уз материи, но сделать этого не умеет. Была также гипотеза, что он злобно противится помощи, которую могут ему оказать высшие зоны.
Высочайшее Божество постоянно заботится о жертвах Демиурга — людских душах. Оно стремится поддержать в них мысль об их высоком происхождении и укрепить их в борьбе с материей. Для этой цели оно по временам сообщало людям, к тому способным, — пророкам и философам — новые духовные элементы и, наконец, послало на Землю первого зона в призрачном теле. Этот зон соединился при крещении с человеком Иисусом и показал людям путь обратно в плерому. Раздраженный этим Демиург, а по другим мнениям — Сатана, довел Иисуса до распятия. Небесный Христос оставил человека Иисуса на кресте и возвратился к Верховному существу. Итак, спасение души — это освобождение от материи через борьбу с ней.
Антиохийская школа, где учил Саторнил, трактовала проблему несколько иначе: «Нет, материя и дух — пер-возданны, они всегда были, просто материя захватила часть духа и держит его, и хотя освобождение из этих уз необходимо, но материя, вообще говоря, тоже существует наряду с духом». Из этой саторниловской школы вышло замечательное учение персидского пророка Мани.
В Иране обстановка была несколько иной. Воинственные парфяне объединились со степными саками и выгнали македонян из Ирана. Их цари мужественно отстаивали свою землю от македонян и римлян, но обаянию эллинской культуры подчинились и они. В их столице, Ктезифоне, ставились трагедии Еврипида, шли диалоги о философии Платона, переводился на персидский язык Аристотель. И, соответственно, в этой химерной целостности — Парфянской державе — расцвел гностицизм.
В 224 году князь из дома Сасана Арташир Папа-ган изгнал парфян из «Священной земли Ирана» и восстановил учение Заратуштры. Но к участию в зоро-астрийском культе допускались только персы, а население Месопотамии принимало либо христианство, либо гностицизм. И вот на границе двух миров — эллинского и персидского — в Месопотамии родился исключительно тонкий, талантливый художник, каллиграф и писатель Мани. В поисках мудрости он ездил даже в Индию, а вернувшись на родину, проповедовал новое учение, в дальнейшем сыгравшее огромную роль в развитии культуры, истории и даже этногенеза.
Заметим, что гностиками становились мечтатели, богоискатели, почти фантасты, стремившиеся, подобно античным философам, придумать связную и непротиворечивую концепцию мироздания, включая в него добро и зло. Гностицизм — это не познание мира, а поэзия понятий, в которой главное место занимало неприятие действительности. Гностические системы были совершенно потрясающими по красоте, логичности, неожиданности. Но они не имели никакого отношения к научной мысли, ничего не объясняли и не считали нужным объяснять, за одним исключением: учение Мани и его последователей. Манихеи объясняли людям, что такое зло, Мани же проповедовал такую идею: раньше свет и тьма были разделены между собой и тьма была сплошная, но не одинаковая в своей концентрации. Мрак двигался в беспорядке, в таком броуновском движении, и однажды случайно он подошел к границе света и попытался туда вторгнуться.
Против мрака выступил «первочеловек», под которым надо понимать Ормузда. Именно он стал бороться против контакта мрака со светом. Но облака мрака облекли Ормузда собой, разорвали его светлое тело на части и мучают частицы этого света. Таким образом, мир есть смесь мрака со светом, и надо добиться, чтобы эти частицы были освобождены, ради чего приходил сначала Христос, а потом он, Мани — Утешитель.
По учению Мани, ради освобождения нужно вести себя очень аскетически, не есть и не убивать животных с теплой кровью, есть растительную пищу. Предлагалось также воздерживаться от всякого рода плотских развлечений, потому что семья естественным образом оздоровляет организм, и он еще крепче держит душу. При этом разрешались оргии с полным и анонимным развратом, именно потому, что это помогало душе освободиться. Система, как видно, логичная.
Самоубийство не помогает, потому что признавалось переселение душ из тела в тело, и добиваться стоило лишь подлинной смерти — полной потери вкуса к жизни. И хотя Мани трагически погиб, казненный по проискам магов — зороастрийского духовенства, но его учение распространилось по всей Ойкумене, от Китая до Тулузы, и везде встречало крайне враждебное отношение, потому что в нем отчетливо проявлялось неприятие живой природы, семьи, творчества и самой истории этносов, как порождения злого начала — Мрака.
Стоит отметить, что большинство гностиков не стремилось распространять свое учение, ибо они считали его слишком сложным для восприятия невежественными людьми, и их концепции гасли вместе с ними. Но в середине II века христианский мыслитель Маркион, опираясь на речь апостола Павла в Афинах о «Неведомом Боге», развил гностическую концепцию до той степени, что она стала доступной широким массам христиан.
Маркион происходил из Малой Азии. Сначала был торговцем, потом, как человек образованный, занялся филологией и написал большой трактат о Ветхом и Новом Завете, где доказал очень квалифицированно, что Бог Ветхого и Бог Нового Завета — это разные боги и что, следовательно, христианину поклоняться Ветхому Завету нельзя. А так как поклонение Богу Ветхого Завета вошло в обиход, то большая часть церковников его не приняла, но Церковь разделилась на две части — маркионитов и противников Маркиона. Победили тогда — во II веке — маркиониты, но в III веке дуалистов одолели сторонники монизма.
Маркиона объявили последователем Сатаны и не признали его учения. Церковь его отлучила, а книгу его подвергли осторожному замалчиванию — самое страшное, что может быть для ученого, — на эту тему считалось неприлично говорить. (Восстановил систему доказательств Маркиона немец Доллингер, который из разных текстов собрал аргументы Маркиона, доказывающие, что Бог Нового и Бог Ветхого Завета противостоят один другому, как добро и зло.)
Однако учение Маркиона все же не исчезло. Через сотни передач оно сохранилось на родине Маркиона, в Малой Азии, и в IX веке, преображенное, но еще узнаваемое, стало исповеданием павликиан (от имени апостола Павла), выступивших на борьбу с византийским православием, причем они даже заключили союз с мусульманами.
Павликиан нельзя считать христианами. Несмотря на то, что они не отвергали Евангелия, павликиане называли крест символом проклятия, ибо на нем был распят Христос, не принимали икон и обрядов, не признавали таинств крещения и причастия и все материальное почитали злом. Будучи последовательными, павликиане активно боролись против Церкви и власти, прихожан и подданных, сделав промыслом продажу плененных юношей и девушек арабам. Вместе с тем, в числе павликиан встречалось множество попов-рас-
стриг и монахов, а также профессиональных военных. Удержать этих сектантов от зверств их духовные руководители не могли. Жизнь брала свое, даже если лозунгом борьбы было отрицание жизни. И не стоит тут винить Маркиона, в идеологическую основу антисистемы могла быть положена и другая концепция.
Павликианство было разгромлено военной силой в 872 году, после чего пленных павликиан не казнили, а поместили на границе с Болгарией для несения пограничной охраны. Так смешанная манихейско-маркио-нистская доктрина проникла к балканским славянам и породила богомильство, вариант дуализма, весьма отличающийся от манихейского прототипа, укрепившегося в те годы в Македонии.
Богомилы учили, что глава созданных Богом ангелов, Сатаниил, из гордости восстал и был низвергнут в воды, ибо суши еще не было. Сатаниил создал сушу и людей, но не мог их одушевить, для чего обратился к Богу, обещая стать послушным. Бог вдохнул в людей душу, а Сатаниил сотворил Каина. Бог в ответ на это эманировал Иисуса, бесплотного духа, для руководства ангелами, тоже бесплотными. Иисус вошел в одно ухо Марии, вышел через другое — и обрел форму человека, оставаясь призрачным. Ангелы скрутили Сатаниила, отняли в его имени суффикс «ил», в котором таилась сила, разумеется мистическая, и загнали его в ад. Теперь он не Сатаниил, а Сатана. А Иисус вернулся в чрево Отца, покинув материальный, созданный Сата-ниилом мир. Вывод из концепции был прост: «Бей византийцев!»
Как видно из описания, разница во взглядах у манихеев, маркионйтов, богомилов была больше, нежели у католиков и православных. Однако дуалисты имели единую организацию из шестнадцати церквей, тесно связанных друг с другом. Сходство их было сильнее различий, несмотря на то, что основой его было отрицание. В отрицании их сила, но также и слабость; отрицание помогало им побеждать, но не давало победить.
В этом выразилась ограниченность отрицания. Мироощущение альбигойцев, манихеев, павликиан, исмаилитов и прочих — это система негативной экологии. Не любя мир, манихеи не собирались его хранить, наоборот, они стремились к уничтожению всего живого, всего прекрасного. Вместо любовной привязанности к миру и к людям - они культивировали отвращение и ненависть. К счастью, у мани»хеев возможности были ограничены: победить до конца, реализовать свою идею целиком они не могли принципиально. Если бы манихеи достигли полной победы, то для удержания ее им пришлось бы отказаться от разрушения плоти и материи, то есть преступить тот самый принцип, ради которого они стремились к победе.
Став на позиции проклятия жизни и приняв за канон ненависть к миру, нельзя исключить из этого собственное тело. Поэтому и флагеллантство необходимо рассматривать в более широком контексте, как инвариант антисистемы того времени. Логическая игра ума, как мы видели, получает простор в специфических условиях суперэтнического контакта, формирующего разрыв или, вернее, зигзаг этнической традиции.
А. Панченко. Всецело согласен, что флагеллантство — это факультативное, побочное ответвление старинного и вечного вероисповедания, которое основывается на ненависти к миру. Эта конфессия рядится в разные одежды. Она то признает бессмертие души, то отвергает его, иногда будто бы чтит Бога (какого? — вот вопрос), иногда яростно бунтует против него. Она создает для самооправдания всяческие мировоззренческие «суммы», религиозные или атеистические. Они не обязательно лицемерны, потому что верить можно и во вздор, и в зло. Это печально, но так уж устроено человечество. Но эти «суммы», говоря по-старинному, всегда «соблазн» и «лесть». Психологическая их подоплека одна и та же: страх перед жизнью, сознание собственной неполноценности, зависть к другим — к их мужеству, дарованиям, добродетели и просто душевному равновесию, «благоволению». Результат же — либо пессимизм (это еще не так вредно), либо злодейство.
Впрочем, по слову апостола Иоанна, «в любви нет страха», она противостоит злу, и, как свидетельствует история, небезуспешно. Какие бы зигзаги ни делало человечество, оно неизменно возвращается к учениям любви. Мне кажется, что в наше трудное время, когда всех порядочных людей тревожит умножение зла, полезно перечитать, например, Максима Исповедника, христианского оптимиста VII века. У него историческое движение оправдано: коль скоро мир сотворен Богом, то история — не зло, а добро. Весь тварный мир предсуществует в Логосе, «все предметы участвуют в Боге по аналогии, в силу того, что исходят от Него...». Из этого следует, что мы должны любить, ценить, охранять, спасать все, что нас окружает, — и природу, и культуру. Теперь все толкуют об экологии, но в этих толках есть нечто от инстинкта самосохранения, нечто небескорыстное, какой-то испуг. Максим Исповедник учит как раз «благоволению».
Поскольку мы рассуждаем о русском пути, надлежит задуматься об эпохальных состояниях русской души, в частности, об истории нашего пессимизма и оптимизма. Андреевская легенда — один из симптомов, позволяющий судить о том, что домонгольская Русь смотрела на мир с улыбкой, пребывала в состоянии нравственного здоровья и не впадала в смертный грех отчаяния. Любопытно, что этим веселым рассказом, если верить книжной традиции, люди довольствовались вплоть до XVI века (об этой эпохе страха и лжи нам еще придется говорить). Когда Русь стала «царством», «банная» легенда была попросту похерена (как нечто легкомысленное) и в исторических сочинениях заменена серьезным и несколько натужным «умствованием».
Такова карьера Андрея Первозванного на восточноевропейской равнине, где он заведомо «телом не бывал». Карьера началась в домонгольской Руси, успешно продолжалась в Московском государстве и достигла вершины в петербургской России. В наш диалог я включил этот эпизод не в качестве аппликации, не для того, чтобы яркостью ее привлечь читателя. Из андреевской легенды ясно, что существуют сквозные линии, автономные от процессов этногенеза. Давным-давно нет на свете древних эллинов, никто не станет спорить, что между ними и теперешними жителями Афин мало общего. Но разве Сократ, Платон и Аристотель не пребывают среди них и среди нас в ранге вселенских учителей? Они бессмертны. В некотором смысле похож на них и апостол Андрей. Мы о нем почти ничего не знаем, но это не беда. Андрей — один из двенадцати, и уже поэтому наделен правом патроната.
Пусть он до наших пределов не доходил, креста на киевских горах не ставил, в северной бане не парился, пусть он «небывалый» для Руси герой, но его никак нельзя сопоставлять с Царь-пушкой, которая никогда не стреляла, ни с Царь-колоколом, который не звонил. Царь-колокол, и Царь-пушка, и Мономахова шапка принадлежат сфере вещей, Андрей же — сфере духа, он наш вечный спутник, он подтверждает и утверждает, что Русь домонгольскую и Великороссию объединяет духовная преемственность. Каковы механизмы, ее обеспечивающие?
В житии Александра Невского описано, как один из его сподвижников, крещенный в православие ижорский старейшина сподобился видения перед Невской битвой. Он видел ладью, в ней стояли князья Борис с Глебом (гребцы были как бы окутаны утренним туманом), и старший брат сказал младшему: «Брате Глебе, вели грести, надо помочь сроднику нашему Александру». Они, конечно, родня, но в седьмом колене и по боковой линии! Что это, «зов крови»? И да, и нет. Попробуем разобраться, ибо генеалогическая тема чрезвычайно важна для непредвзятого понимания великороссийской цивилизации.
В. Л. Комарович в своей посмертной и замечательной статье «Культ Рода и Земли в княжеской среде XI — XIII вв.» (иждивением Д. С. Лихачева она была напечатана в 1960 году в XVI томе «Трудов Отдела древнерусской литературы») показал, что на протяжении этих двух столетий у князей Рюрикова дома было принято уповать на помощь «дедней и отней молитвы», что ей приписывали избавление от всяческих бед. Ею в 1169 году спасся от половецких сабель Михалко, сын Юрия Долгорукого; ей считали себя обязанными замирившиеся в 1217 году Константин и Юрий Всеволодовичи, кстати говоря, родные дяди Александра Невского; последним, кто испытал на себе благую ее силу, был Михаил Ярославич Тверской, которому она как-то раз помогла в борьбе с татарами. Это произошло в 1294 году. После этой даты Лаврентьевская летопись, где есть еще несколько аналогичных эпизодов, молчит о «дедней и отней молитве».
Она, конечно, нецерковная и с православной точки зрения вольнодумная: ни один из пособивших потомкам дедов и отцов не был причислен к лику святых. Следовательно, нельзя было поручиться, что деды эти и отцы не пребывают в геенне огненной, а оттуда нелепо ждать заступничества. Эта молитва, конечно, — пережиток язычества, «окличка» усопших предков, связанная с культом Рода и Рожаниц. Не случайно в более поздних летописных сводах проведена ортодоксальная противоязыческая цензура: «отцова молитва» либо вычеркивается, либо заменяется молитвою «святого отца», то есть духовника. Эта замена свидетельствует, что в мироощущении наших предков в XIV веке наступила новая фаза. Культурогенез в данном случае вполне соответствует Вашим, Лев Николаевич, этногенетическим воззрениям.
Дело в том, что в Великороссии постепенно сложилась и вплоть до середины XVII века оставалась действенной особая, не ведомая ни Руси домонгольской, ни католическому Западу система духовного «окормле-ния». Население страны состояло из семей кровных и семей покаянных («покаяльных»), Жители обоего пола, достигнув взрослости, выбирали себе духовных отцов, притом в условиях полной свободы, исходя из принципа «покаяние вольно есть». Миряне и бельцы выбирали белого же священника, иноки — иеромонаха. Духовный отец исповедовал, налагал епитимью, причащал. За чад своих он нес полную ответственность, что было закреплено характерным жестом: исповедующийся клал правую руку на шею исповедника, и грехи как бы переходили от одного к другому. Считалось, что православные на том свете предстают пред неумытным судией именно семьями. «Се аз, Господи, — говорит духовный отец, — а се мои дети».
Видимо, эта система стала своеобразной компенсацией за исчезновение или ослабление культа Рода. В домонгольские времена человека «окормляла» церковь и усопшие предки. Во времена «великороссийские» человек, оставаясь прихожанином, уповал на помощь покаянной семьи. Приведенный выше эпизод из жития Александра Невского — веха, означающая перемену в русском сознании. Борис и Глеб — святые, небесные заступники по сану. Но они также — «родители», предки, и в этом качестве могут помочь своему сроднику.
Таким образом, мировоззренческие постулаты обнаруживают тенденцию к устойчивости. Смена культа Рода покаянной семьей — это смена форм, а не сущности. Сущность, так сказать, упряма. Ее изоморфные проявления можно наблюдать на разных фазах этногенеза.
Обратимся снова к Борису и Глебу. Их канонизации, как известно, константинопольская патриархия противилась довольно долго. Резон в этом сопротивлении
был; конечно, это мученики, но погибли они не за веру. Г. П. Федотов в известной своей книге «Святые Древней Руси» объяснил почитание Бориса и Глеба следующим образом. Они пострадали не за Христа, но вослед Христу. Спаситель добровольно принял крестную муку. Подобно ему и русские князья не пытались уклониться от смерти, хотя могли или сопротивляться, или бежать. В этом подобии — их святость. Толкование изящное и тонкое, но, быть может, слишком изящное и слишком тонкое... Дело проясняется, если мы обратимся к поздним севернорусским святым XVI — начала XVII века.
Это необычные святые. Никодим Кожеезерский на трапезе в гостях случайно вкусил отравы, приготовленной для хозяина злодейкой-женой. Артемий Верколь-ский, двенадцатилетний отрок, был убит молнией в поле, где пахал вместе с отцом. Варлаам Керетский, убив в исступлении ума жену, наложил на себя тяжкий искус: в лодке, сам-друг с покойницей, плавал вдоль Кольского берега, «дондеже... мертвое тело тлению предастся». Кирилл Вельский, не стерпев притеснений воеводы, принародно утопился в,реке. Как видим, даже самоубийца, которого по православным канонам нельзя отпевать и хоронить в освященной земле, в народном сознании сподобился святости!
Одна из главных функций агиографии — указывать образцы для подражания. В севернорусских житиях эта функция не учитывается. Нет никакой возможности подражать, «ревновать» Кириллу Вельскому, Варла-аму Керетскому или Артемию Веркольскому. Отчего их почитали? Оттого что пожалели. Это не подвижничество, это горькое горе, люди сострадали горемыкам, заметили их и запомнили. И Борис с Глебом, и севернорусские местночтимые святые — это вариации того типа, который воплотился в «несчастненьких» Достоевского.
Выходит, что существуют культурогенетические скрепы, и главная из них — вера. Без нее в исследовании русского пути не обойтись, и поэтому нам надлежит вернуться во времена крещения Руси.
Л. Гумилев. Крестились не великороссы, не русские, а русичи. Это разные этносы. Русичи, как и вообще славяне, появились на исторической сцене в результате пассионарного толчка I — II веков. Этому
предшествовало этническое оскудение, которое мы смеем называть фазой обскурации. Оскудение охватило и Рим, и Парфянскую империю, а также германские и сарматские племена, опустившиеся и терявшие былую боевую доблесть. В Риме население сокращалось, добродетель предавалась забвению, площадь запашки уменьшалась.
Если римляне и побеждали варваров, то лишь по той причине, что варвары слабели быстрее римлян. Изучая детали и общий ход кампаний Цезаря в Галлии, Помпея — в Сирии, Марка Антония — в Парфии и Клавдия — в Британии, мы видим, что успехи сопутствовали римским орлам только там, где сопротивление исключительно слабо. А когда римские легионеры столкнулись с китайскими арбалетчиками у Таласа в 36 году до н. э., то те перестреляли римлян, не потеряв ни одного бойца.
Но во II веке процесс всеобщей обскурации был нарушен. На широкой полосе между 20° и 40° восточной долготы началась активная деятельность дотоле инертных народов (пусковые моменты, или взрывы этногене-зов, там, где их можно проследить на строго фактическом материале, совпадают по времени и располагаются в регионах, вытянутых либо по меридианам, либо по параллелям, либо под углом к ним, но всегда как сплошная полоса). Первыми выступили даки, но неудачно; они были начисто перебиты легионерами Траяна. Затем проявили повышенную активность иллирийцы, которые активно пополняли римскую армию и посадили на престол цезарей своих предводителей Северов. Почти весь III век этот маленький народ был гегемоном Римской империи, но надорвался от перенапряжения, и потомки его превратились в разбойников-арнаутов. Больше повезло готам, быстро покорившим огромную территорию от устьев Вислы до берегов Черного моря и простершим набеги до побережий моря Эгейского. Судьбу кровавого взлета с готами делили вандалы и анты. Анты-славяне широко распространились из Прикарпатья до Балтийского, Средиземного и Черного морей.
Но самым важным событием было образование нового этноса, называвшего себя «христианами». У этого этноса принципиально не могло быть единства по происхождению, языку, территории, ибо сказано: «Несть варвар и скиф, эллин и иудей». В системе Римской
империи, где была установлена широкая веротерпимость, христиане были исключением. Разумеется, причиной тому были не догматы, которые до 325 года и не были установлены, и не правительственный террор, ибо императоры стремились избежать гонений, специальными эдиктами запрещая принимать доносы на христиан, и не классовые различия, потому что христианами становились люди всех классов, а острое ощущение «чуждости склада» христиан всем остальным. Христианином в I — III веках становился не каждый, а только тот, кто чувствовал себя «в мире» чужим, а в общине — своим. Количество таких людей все время увеличивалось, пока они не начали преобладать в IV веке. Тогда Рим превратился в Византию.
Что бы ни было сказано в евангельской доктрине, но в этногенезе ранние христиане показали наличие всех тех качеств, которые необходимы для создания нового этноса и которые можно свести к двум: целенаправленности и способности к сверхнапряжению. Инерции толчка I века хватило на полторы тысячи лет, за которые Византия прошла все фазы исторического периода и фазу обскурации.
В тот суперэтнос, который мы условно называем «византийским», славяне вошли в IX — X веках. В 864 году ославяненный болгарский царь Борис принял крещение. То же совершил в 988 году киевский князь Владимир Святославич.
А. Панченко. Как это произошло, при каких обстоятельствах? Каковы были побудительные импульсы? Одна из важнейших и сложнейших историкокультурных проблем касается ментальности. По-русски этот варваризм (в западных университетах уже давно читаются особые курсы ментальности той или иной эпохи, страны, нации) можно передать сочетанием «дух времени». Когда-то, при Карамзине и Пушкине, у нас оно считалось вполне научным, но потом поблекло, так сказать, стушевалось.
Относительно ментальности древнерусского общества в период крещения существуют прямо противоположные мнения. Одно — гиперкритическое, настаивающее на том, что решение Владимира ввергло большинство населения в пессимизм. В доказательство приводят тот фрагмент «Повести временных лет», согласно
которому новую веру вводили принудительно, и Владимир, побуждая киевлян креститься, прибег к угрозе (не явившиеся на реку объявлялись врагами князя). Когда же понадобились отроки «на ученье книжное», своего рода семинаристы, Владимир употребил силу. Он набирал будущих причетников из семей «нарочитой чади», социальной элиты. «Матери же сих чад плакали по ним, ибо еще не утвердились в вере, и как по мертвецам плакали». Б. А. Успенский сопоставил деяния Владимира с деяниями Петра I, также вводившего насильственное европейское обучение. А. С. Пушкин, основываясь на фамильном предании, писал: «Жены молодых людей, отправленных за море, надели траур (синее платье)».
В качестве доказательства привлекается и археологический материал, будто бы подтверждающий позднее, считавшееся баснословным известие Иоакимовской летописи о вооруженном сопротивлении крещению (Пу-тяте и Добрыне) жителей Софийской стороны Новгорода: они расправились с прихожанами Спасского храма, которые до 988 — 989 годов мирно уживались с языческим большинством. В. Л. Янин, локализовав церковь Спаса на Разваже улице, где и позднее существовал храм с тем же названием, произвел здесь широкие раскопки и обнаружил «следы пожара 989 года, уничтожившего всю застройку».
Итак, гиперкритики полагают, что Русь пережила крещение как драму и даже трагедию. Это сомнительно. Матери всегда оплакивают разлуку с детьми. Мы знаем, что никаких общественных потрясений отправка дворянских недорослей в Европу не вызвала. По аналогии можно допустить, что и в исходе X века все обошлось более или менее спокойно. Что до «увязки» позднелетописного баснословия и новгородского пожарища, сделанной В. Л. Яниным, — ее надлежит счесть излишне смелой. Археологическая датировка с точностью до года в данной ситуации невероятна. Невероятно также и крещение новгородцев «мечом и огнем» (так читается в Иоакимовской летописи). Ни у Путяты, ни у Добрыни, ни у его племянника князя Владимира для этого не было никаких возможностей. Ошибочно представлять себе киевского князя самодержцем вроде Петра Великого. Князь очень зависел от веча, народ был вооружен, и ополчение по силе превосходило дружину (это показано в работах И. Я. Фроянова).
Не будем рассматривать — : по причине явной недостоверности — противоположную «миссионерскую» точку зрения, согласно которой крещение вызвало всеобщий энтузиазм и умиление, как на известном полотне
В. М. Васнецова. Гораздо вернее полагать, что Русь отнеслась к акту Владимира с большим спокойствием, частью с любопытством, частью равнодушно, поскольку этот акт не затронул большинства. Вся сумма исторических свидетельств подтверждает, что именно так было на самом деле.
Есть три вехи на пути человека — рождение, брак, смерть. Их обрядовое обрамление необходимо и достаточно для оценки религиозной ориентации общества. Из правил митрополита Иоанна II известно, что в поколениях внуков и правнуков Владимира венчание в храме оставалось прерогативой элиты. Простой же народ продолжал «играть» свадьбы без попа.
Масса сельских жителей и покойников своих хоронила по-язычески. Крестики в домонгольских погребениях в общем редки (хотя от столетия к столетию их становится больше). К тому же они как бы уравнены в правах с амулетами, например с медвежьими клыками. Это делается чисто по-русски, «на всякий случай», по принципу «на том свете разберут». Даже когда дело касается погребений заведомо крещенных людей (например, новгородских посадников), строгости в обряде не наблюдается: погребают с оружием, не опасаясь обвинений в неправославии.
Что до рождений, у нас нет материала, дабы судить о том, сколько из них сопровождалось крещением младенцев, а сколько — нет. Однако в нашем распоряжении всегда остается именослов, источник беспристрастный и красноречивый. Обратимся к нему.
Для летописца Владимир и после крещения остался Владимиром, хотя его надлежало именовать Василием. История помнит не Георгия, а Ярослава Мудрого, не Романа и Давида, а Бориса и Глеба. Их канонизация под именами мирскими, а не крестными, как и почитание Св. Ольги, а не Св. Елены, — красноречивое свидетельство о русской свободе в церковных делах. Эта двоименность, сохранившаяся у рязанских князей вплоть до XV века, а у дворян и крестьян почти до Смуты, осознавалась, бесспорно, как сосуществование языческого «обычая» и христианского «закона».
«Аз, худый, дедом своим Ярославом, благословений, славным, нареченый в крещении Василий, русьскым «менемь Владимир...» — так начал свое «Поучение» Мономах. Соответственно двоименности автора оно разделено на две не похожих одна на другую части. Про первую можно сказать, что она написана Василием: это коллаж из цитат, прежде всего из Псалтири. Впрочем, даже здесь нет аскезы. По Мономаху, для спасения души достаточно трех добрых дел — покаяния, слез и милостыни. Они не тяжки. Не надо переносить «одиночество» (затвор), «чернечество», «голод», «как иные добрые терпят», можно «малым делом получить милость Божикр». Заметим, что пост Мономах простодушно называет голодом! Вторая часть написана князем Владимиром, воином и охотником. Достаточно прочесть ее, чтобы увидеть: ни Десятословие, ни Нагорная проповедь на этот текст не влияют.
У новообращенных народов можно считать почти правилом появление «Юлиана Отступника», когда государь, наследующий первому христианину из правящей фамилии, пытается реабилитировать и восстановить язычество. Так было в Болгарии, в Польше, в Чехии, так было и в Швеции XI века после падения династии Инглингов. Но Русь являет собою исключение из этого правила. Она не последовала примеру соседей. Казалось бы, нет ничего естественнее, нежели обвинение в неоязычестве Святополка Окаянного, убийцы Бориса и Глеба. Однако в борисоглебских памятниках, резко враждебных убийце, такого обвинения не находим. Ясно, что для него не было ни малейших оснований и что оно никому не пришло в голову. Значит, для крещения Руси была характерна «пониженная драматичность». Задумаемся о ее причинах.
Бесспорно, что христианство распространилось в Киеве задолго до Владимира. Бесспорно, что отношение к христианству князей и дружины менялось. Из договоров с греками видно, что при Игоре оно было сочувственным (часть его дружинников клялась Перуном, часть же — церковью Илии), а при Святославе равнодушным, но всегда терпимым. «Жила Ольга с сыном своим Святославом, и учила его мать креститься, а он об этом и слышать не желал; но если кто хотел креститься, князь не возбранял, но высмеивал его... Ольга часто говаривала: „Я, мой сын, Бога познала и радуюсь; познаешь ты — тоже будешь радоваться". Он же не внимал, возражая: „Как мне одному принять Закон? Дружина моя смеяться станет"». Христианство, с точки зрения Святослава, — смешная вера. Святослава можно понять, если сопоставить походную и кровавую жизнь этого сурового и жестокого воина с евангельскими заповедями. Но важен эмоциональный подтекст ответа: христианство не страшно, оно смешно, а со смешным не борются, его терпят.
Положение резко меняется при Владимире. За одно десятилетие он провел две конфессиональные реформы — сначала языческую, в 988 году христианскую. Побуждения, надо полагать, оба раза были схожими: Владимир считал, что единению Руси может и должна соответствовать и способствовать единообразная культура, в тогдашних условиях — единая вера. Монокультура всегда навязывается сверху и обычно сопровождается насилием. Крайнее его проявление — убийство киевских первомучеников, двух варягов-христиан, сына, которого собирались принести в жертву кумирам, и отца, который защищал своего отпрыска. «И осквернилась кровьми земля Русская», — гласит летопись.
Почему Владимир так скоро отрекся от своего днепровского «Олимпа»? Во-первых, монокультура, как показывает опыт, вообще недостижима, тем более на языческой основе. Если даже для маленькой Греции была характерна неупорядоченность культов, что же тогда говорить о бескрайней Русской равнине? Во-вторых, языческая реформа не могла не встретить отпора: не зря же о кровавых жертвоприношениях не забыли и в летописные времена. К тому же Владимир был крайне непопулярен.
Л. Гумилев. Это был самый непопулярный из русских государей. Прежде всего он — братоубийца. Владимир погубил Ярополка «лестью», коварством, предательски заманив его к себе. Мало того, Владимир не погнушался и кровосмешением, взяв в наложницы вдову Ярополка, гречанку, к тому же беременную Святополком. «От греховного корня зол плод бывает», — укоризненно заметил летописец. Этого никто ни одобрить, ни простить не мог — ни язычники, ни киевская христианская община, существовавшая здесь со времен патриарха Фотия (Ольга воспитывала Ярополка в уважении к христианству). А насилие над полоцкой княжной Рогнедой, сопровождавшееся убийством двух ее братьев и отца Рогволода? Оно тоже популярности Владимиру не прибавило. Да его просто терпеть не могли!
А его бездарный поход на Корсунь? И летопись, и нынешние историки изображают этот поход победоносным, а он был неудачный, и Русь дорого за него заплатила. Что сделали в ответ византийцы? Самое умное, что могли и должны были сделать: они подняли против Руси печенегов. При вступлении Владимира на престол граница проходила по Черному морю, а при нем выход к нему был потерян, и граница переместилась к днепровским порогам. Княжение Владимира — полный провал и крах.
Он так надоел, что все с нетерпением ждали его смерти. Приближенным пришлось ее утаить, потому что они боялись бунта: «Ночью же разобрали помост между двумя клетями, завернули тело в ковер и спустили на веревках на землю; затем, возложив его на сани, отвезли и поставили в церкви Святой Богородицы, которую он сам когда-то построил». Так умирают только те государи, которых народ ненавидит. И хотя летописец утверждает, что «сошлись люди без числа и плакали по нем — бояре как по заступнике земли, бедные же как о своем заступнике и кормильце», — это не более чем дань приличиям. Сам летописец сетует: мы «не воздаем ему почестей по делу его... Если бы мы усердно молились Богу в день его преставления, то Бог... прославил бы его». Значит, люди за князя не молились и никаких чудес от его тела не чаяли.
Святополка, которого Владимир не любил и держал в заточении, тотчас же освободили. А Бориса, которому отец предназначал киевский стол, Владимирова дружина, узнав о его кончине, бросила: «Воины разошлись от него, Борис же остался с одними своими отроками».
Можно сказать, что страна выступила против Владимира, но была удержана христианской общиной.
А. Панченко. Одна из самых важных проблем, связанных с крещением Руси, — это проблема «выбора вер». Согласно летописи, презумпция была монотеистической, но какова реальность состязания между единОбожными иудаизмом, исламом, латинством и греческим обрядом? Ведь контакты с четырьмя монотеистическими вероисповеданиями — не выдумка. Когда киевского князя именуют «каганом», то подразумевается, что Киевская держава выступает в роли государственной правопреемницы Хазарии, данниками которой еще сравнительно недавно были днепровские поляне. Государственный континуитет может предполагать и континуитет конфессиональный — по крайней мере, в качестве проблемы (Хазария была единственной в Европе страной, где официально исповедовали иудаизм). Мусульманский мир был знаком Руси не хуже, хотя бы потому, что она граничила с Волжской Булга-рией. Нет сомнения и относительно культурного обмена с Германией, то есть с латинством: это и посольство княгини Ольги к Оттону I в 959 году, и какие-то германские планы несчастного Ярополка, быть может, одновременно брачные и конфессиональные.
Л. Гумилев. Не надо думать, что летописный рассказ о посольствах — сплошь выдумка. В арабском «Сборнике анекдотов» (XIII век), написанном Мухаммедом ал-Ауфи, я нашел рассказ о посольстве Буламира-Владимира в Хорезм (не в Булгар!) с целью «испытания» ислама на предмет обращения в мусульманство. Были посольства и на Запад. Вообще не надо думать, что русские искатели веры не знали о сложных переплетениях символов исповеданий и политических программ в мусульманском мире, о спорах относительно догматов в мире католическом. Да не могли они этого не знать!
Киевские купцы и воины постоянно бывали в Константинополе, сражались на Крите и в Малой Азии, торговали с египтянами и сирийцами. Постоянно общались русские с Польшей, где проповедовали немецкие монахи. Им также было известно, что папа Иоанн XIII (965 — 972) запретил в 967 году богослужение на «русском, или славянском языке». В этом запрещении трудно было усмотреть благожелательство к русским...
Но вот о чем надлежит помнить: выбор веры — не только выбор догматов. В любой религиозной системе существуют обычаи и установления, передаваемые от поколения к поколению как предание. Для массы ново-обращаемых такие обычаи имеют порой большее значение, чем Писание, особенно когда оно написано на непонятном языке (Коран, например, требует изучения арабского языка, а для славян это было трудно). Зато арабские обычаи, запрещавшие вино и свинину, были понятны, но неприемлемы.
На Руси князь делил трапезу с дружиной. Это обычай светский, но обязательный, потому что совместное участие в пире скрепляло дружбу князя с воинами. А в тех условиях взаимная симпатия была жизненно необходима. Непременная принадлежность пира — хмельные напитки, но строгий ритуал не допускал пьянства. Исходя из этого и надо понимать знаменитые слова Владимира: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти».
Из летописи очевидно, что пиры и впоследствии оставались на Руси важнейшим общественным институтом, причем не только для элиты, но и для «простой чади». Так что князь Владимир, отвергая мусульманские установления, выразил волю своего народа.
А. Панченко. Согласен, что слова князя Владимира заслуживают самого пристального внимания и самого обстоятельного комментария. Все их знают, все время от времени произносят, но чаще всего в застольных разговорах, с улыбкой, как анекдот: сам-де креститель Руси благословил наше пристрастие к хмельному питию. Попробуем в этом разобраться, начав комментарий с темы источниковедческой. В отношении к источнику противоборствуют крайности. Одна крайность — слепая вера, другая — гипертрофированный скепсис. Одни склонны верить каждой строчке древнего текста, другим всюду чудится ложь. Полагаю, у текста те же права, что и у человека, ибо текст — чье-то отзвучавшее высказывание. В средние века, кстати говоря, книги читали только вслух, даже наедине с собой. Толику этого мы унаследовали: при чтении стихов «про себя» они как-то в нас звучат. Б. М. Эйхенбаум метко сравнил это с чтением партитуры. Текст нельзя лишать презумпции невиновности, но ухо надо держать востро, чтобы расслышать сомнения, фальшь, лукавство, лесть... Итак, будем исходить из того, что сказанное было сказано. Но в шутку или всерьез? Ведь в этом вся соль.
Против шутки многое. Летопись вели православные монахи, а с их точки зрения смех греховен. Все они знали (если не из размышлений над Евангелием, то из Иоанна Златоуста), что Иисус Христос никогда не смеялся. Смех — «антипривилегия» бесов и пекла. Там грешники воют в прискорбии, а дьявол громогласно хохочет. На исповеди нашего предка спрашивали о «смехе до слез», и на повинившегося в этом грехе накладывали епитимью — три дня поститься, есть всухомятку, класть по двадцати пяти поклонов. «Смехй да хихй введут во грехи».
Максима князя Владимира помещена в рассказ о выборе вер, когда легкомыслие противопоказано. Речь идет не только о цивилизационной модели, но и спасении души. Каждая из обсуждаемых «высоких» конфессий провозглашает, что лишь она истинна и что истина — одна. Неофиту нельзя ошибаться, иначе он заведомо погубит душу.
Однако нелепо представлять монахов людьми с постными физиономиями. Всеблагий творец создал мир благим и прекрасным, и созерцание его вызывает духовное веселье. Истинный христианин живет улыбаясь. Поэтому в летописи шутки встречаются, хотя и редко. Под 984 годом рассказано, что воевода Владимира по прозвищу Волчий Хвост победил радимичей на реке Пищане, и с той поры Русь (т. е. киевляне и черниговцы) «корится радимичам»: «Пищанцы волчьего хвоста бегают». Это — из разряда дразнилок, до которых русские всегда были охотники. Множество дразнилок собрано И. Сахаровым в I томе «Сказаний русского народа» (1841): кашинцы «собаку за волка убили да деньги заплатили»; «Орел да Кромы — первые воры, да и Карачи на придачу»; туляки «блоху на цепь приковали» (последнее присловье стало основой сюжета знаменитого «Левши»).
Между дразнилкой и словами Владимира в «Повести временных лет» всего 236 слов, включая служебные (я нарочно сосчитал). Не пошутил ли все же равноапостольный князь? Нет, не пошутил.
Вскоре в одном из сборников Пушкинского Дома выйдет замечательная статья Т. А. Новичковой «Пир в кабаке». С ее помощью мы сможем понять Владимира. В одной белорусской обрядовой песне поется: «Сам Бог меды сытит, Илья пиво варит». Это указывает на некое священнодействие, и так оно и было во времена былинные, когда на Руси пили меды ставленные (такой мед парят, замазав наглухо, в вольном духу) и переваренные на ягодах, малиновые и вишневые, пиво белое и пиво черное, да брагу — не то сусло, которое готовят для перегонки, а хмельное полпиво то из овсяного солода, то из разварного и заквашенного пшена, а то из ржаной муки, с добавлением малины. Такая брага выходит густа, сладима, сусляна и пьяна.
Миром варили, миром и пили. Т. А. Новичкова пишет, что новопоселенца могли жестоко избить в его же собственном доме за неучастие в пивных церемониях, назвать «еретиком» и «нехристем», хотя бы он и служил молебны. Пиво варили в память и для задабривания усопших, в честь святых — покровителей села, в праздники церковные и в праздники заветные, установленные сельской общиной по случаю пожаров, падежей скота, повальных нахожих болезней. В сознании наших предков жизнь была неразрывно связана с идеей пира. На полях одной пергаменной книги писец так воззвал к Богу: «О Господи, дай ми живу быти хотя 80 лет, поже-дай ми, Господи, пива сего напитися». Когда чаша выпита до дна, приходит смерть. Эти языческие корни проросли и в православной Руси. В храмах ставили «канун», хмельной напиток для покойников, попы участвовали в пивных церемониях. За тяжкие грехи человека лишали права посещать не только церковь, но и «братчины», или «братбвщйны», мирские застолья в складчину.
Князь Владимир, отвергая мусульманскую проповедь, оберегал «веселье» — не разгул, а нормальную жизнь. Ей угрожают злые силы, их надо умилостивить и употчевать, согласно пословице: «Больного потчуют, здоровому наливают». Только тогда можно рассчитывать на утеху и отраду, избыть печаль и кручину.
Хмеля стали бояться гораздо позже, после того как средневековые алхимики додумались до винокурения, до перегонки винного сусла, после того как в русских пределах появилась водка. Слово это — полонизм (уменьшительно-ласкательное от woda, по-русски: водица, водичка), и подразумеваемая жидкость притекла в Великороссию не с Востока и не с Юга, уже ставших мусульманскими, а с Запада, из Речи Посполитой. Уже в XV веке в русском книжном обиходе были сочинения, в которых Хмель стал человекоподобным и заговорил: «Аз есмь силен более всех плодов земных... Ноги мои тонки, утроба не обжорлива, руки же мои держат всю землю, а главу имею высокоумну, никто мне умом не
равен. А кто со мной подружится и ко мне привыкнет, того перво-наперво сделаю блудником, а к Богу не молебником, а в ночи не сонливым, а на молитву не встанливым. Ляжет спать — ему стенание и печаль на сердце, встанет с похмелья — голова болит, глаза на белый свет не глядят, ничто доброе на ум нейдет, и есть он не желает, горит от жажды душа его — еще выпить хочется».
Люди, естественно, задумывались о генеалогии Хмеля. Сомнений относительно родоначальника не было — это нечистая сила, о чем можно прочитать хотя бы в одном из народных рассказов Льва Толстого. Но в какой момент она проявила себя? На Руси на этот счет были в ходу две версии. По одной приготовлять вино дьявол научил жену Ноя, первого пьянчуги в человеческом племени. Другая прямо касалась обстоятельств первородного греха.
Человеческое сердце несмыслённо и неуимчиво: прельстился Адам со Еввою, позабыли заповедь Божию, вкусили плода виноградного от дивного древа великого...
Так сказано в полуфольклорной повести о Горе-Злочастии. Мы привыкли заповедное «древо познания добра и зла» отождествлять с яблоней. Это вольномыслие (поскольку в Библии — просто «древо», без пояснений) — такое же допустимое вольномыслие, как отождествление его с виноградной лОзой, характерное для простонародной традиции. Первые люди начали с того, что упились. Поэтому Бог изгнал их из Эдема, а вино проклял. Христу, новому Адаму, искупившему вольной страстью грехопадение Адама ветхого, пришлось и с вина снять осуждение. Он сделал это на брачном пиру в Кане Галилейской, претворив воду в вино. «Невинно вино, виновато пьянство» — в этой пословице, известной по рукописям XVII века, вполне выражена суть дела. Человеку надлежит ограничиваться тремя чашами, которые узаконили святые отцы, — теми, что выпиваются за монастырской трапезой во время пения тропарей. Притом чаша — не такой вместимости, чтобы из нее лошадей поить, а «душник мерный», с расчетом на один глоток. Первая чаша во здравие, другая на веселие, третья в отраду, а четвертой не замай — четвертая «во пианство».
Когда кабак описывал протопоп Аввакум, он возвращался к роковому событию в райском саду, по-старинному «винограде», или «вертограде». Вот Ева, послушавшись змия, сорвала кисть винных ягод, вкусила от запретного плода и угостила Адама, «понеже древо красно видением, и добро в снедь, смоковь красная, ягоды сладкие, умы слабкие, слова между собою льстивые; оне упиваются, а дьявол радуется. Увы невоздержания тогдашнева и нынешнева!.. Оттоле и доднесь слабоумные так же творят, лестию друг друга потчива-Ют, зелием нерастворенным, еже есть вином процеже-ным... А после друга и посмехают упившагося. Слово в слово бывает, что в раю при Адаме и при Евве, и при змее, и при дьяволе... Ввел дьявол в беду, а сам и в сторону. Лукавой хозяин накормил и напоил, да и з двора спехнул. Пьяной валяется ограблен на улице, а никто не помилует... Проспались, бедные, с похмелья, ано и самим себе сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнех, голова кругом идет со здоровных чаш».
Дьявол очень похож на целовальника — опоит, разденет донага, вышибет вон — тогда из Эдема, теперь из кабака. Кружало, питейный дом, корчма, шинок, то есть государев кабак, в просторечии «иван елкин», — по еловой ветке, которая укреплялась над дверным косяком и служила опознавательной вывеской, — это учреждение позднее, эпохи московских царей, притом также заимствованное из Речи Посполитой. В народном сознании кабак выглядит как исчадие зла, некая антицерковь, храм и община умерших при жизни, уподобившихся бездушным скотам. Они «с голодом звонят, с босотою припевают, глядят из запечья, что живые родители (покойники. — А. П.), что жуки из калу выползли, пищат, что щенята, просят денежки на чарку», — сказано в «службе» кабаку (XVII век). Корчемные завсегдатаи исказили образ и подобие божие, они «безобразны» и «неподобны», они пребывают в состоянии религиозного безумия. Вместо молитв у них «сатанинские песни», вместо всенощного бдения — «всенощный сон», вместо поста безмерное пьянство, вместо благоухания фимиама смрад от телес и афедронов, «вместо панихиды родителей своих всегда поминающе матерным словом».
Конечно, многое здесь надо отнести на счет литературной формы, поскольку «служба» кабаку использует композицию, стилистику и ритмику церковной службы.
Но одной формой не объяснить того мистического ужаса, который вызывал кабак. На борьбу с ним народ благословил любимого своего заступника Илью Муромца: в поздних былинных редакциях он крушит кабаки и побивает целовальников. Притом этот патриарх богатырства, витязь без страха и упрека, в ком народ не видит и малейшего нравственного изъяна (в отличие, например, от Алеши Поповича), — отнюдь не трезвенник. Привычная ему чара в полтора ведра, которую он подымает одной рукой и выпивает одним духом, в былинах остается. Разгромив кружала, Илья велит выкатить бочки народу. Все пьют и радуются: зло побеждено и порок наказан! Что за притча — разбить кабак и пить за его погибель? Есть ли тут логика? Логика есть, и она одинакова для языческой и для православной Руси.
Слова «праздный» и «праздничный» встарь были синонимами. Если речь шла о времени, то имелось в виду «пустое» (от работы) время. Однако праздник не равнозначен праздности, ничегонеделанью. Когда он наступает, трудится душа — ив церкви, и на братов-щине. Грех в будни праздновать. Такой же и даже худший грех в праздники работать: «Мужик проказник работает и в праздник». Жизнь — не хаос, она подчиняется определенному порядку, уставу, типикону. Для язычников sero функции выполняет земледельческий календарь с вкорененной в нем идеей круга, повторения, «коловращения жизни». Это календарь глубоко религиозный, о чем надлежит помнить. Исполняя его предписания о буднях и праздниках, о связанных с ними обрядах, человек мог надеяться на благополучие, на милостивое отношение умерших «родителей», на плодородие. Он мог рассчитывать и на поддержку мира, на своих односельчан, с которыми работал иногда сообща, но чаще порознь, а праздновал всегда сообща, после трудов праведных «привязывая душу» и веселя сердце. Мудр князь Владимир: «Не можем без того быти».
Что до календаря христианского, он обнаружил способность к адаптации. Масленица, например, была «привязана» к подвижной во времени Пасхе, стала в конце концов неделей, предшествующей Великому посту, который тоже подвижен и тоже зависит от Пасхи. Мирская жизнь слилась с жизнью приходской, «обновление» души совершалось теперь и в церкви, и на «почестном пиру». Его роль не умалилась, тем более что и церковный год, и церковная неделя основываются на чередовании постных и скоромных дней. В иные времена православный типикон ослабляет, отменяет или даже запрещает пост. Такое запрещение действует на Святках, в двенадцатидневье между Рождеством и Богоявлением, когда душа поистине веселится и пирует — и по-старому, ибо это время зимнего солнцеворота, и по-новому: Богочеловек соединил небо и землю, снизошел до людей и поднял их до себя.
Кабак ужасен не тем, что потчует вином, а тем, что его завсегдатаи — отщепенцы, оторвавшиеся от родимого древа и поправшие все нормы мирского и христианского поведения: «Ни в пир, ни в мир, ни в добрые люди». Но князь Владимир в этом не повинен.
Л. Гумилев. Теперь необходимо объяснить неприятие проповеди, шедшей из Рима. Это сделать сложнее, потому что аргумент Владимира невнятен: «Идите, откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого». Дальше осуждение латинства вложено в уста греческого философа, но это осуждение аморфно и его можно опустить. Важнее ссылка на мнение «отцов наших», то есть на имевшую место в прошлом проповедь и ее неудачу.
Действительно, в 961 — 962 годах король Германии Оттон I послал в Киев епископа Адальберта из трирского монастыря Св. Максимина, дабы крестить княгиню Ольгу и ее подданных. Адальберт потерпел неудачу, однако «не по своей нерадивости», как отметил папа Иоанн XIII. Можно догадаться, что дело было весьма испорчено поведением и репутацией предшественника этого папы. В средние века на Святой престол иногда всходили форменные злодеи.
Папа Иоанн XII, он же Октавиан, сын «сенатора Рима» (т. е. правителя), был избран в 955 году, шестнадцати лет от роду — и поистине заслуживал прозвания «развратника веры». То, что он превратил свой дворец в лупанарий, спал с наложницей своего отца, с ее сестрой и с ее племянницей, играл в кости и пьянствовал, — это еще не самое страшное. Владимир ведь тоже не славился целомудрием. Но то, что папа давал пиры с возлияниями в честь древних богов, предлагал гостям пить в честь сатаны и служил черные мессы, — этого русские люди перенести не могли. Иоанн XII был отрешен в 964 году, но долго боролся за власть, продол-
жал безобразничать, калечил и жестоко мучил пленных, пока не умер от паралича в доме одной из своих дам. Наивно думать, что Русь не была обо всем этом осведомлена. Хронологическое совпадение папских бесчинств в Риме с изгнанием Адальберта из Киева не может быть случайностью.
С соблазном сатанизма русские люди сталкивались и позднее. Нестор закончил «Повесть временных лет» около 1113 года. Следовательно, он не мог не знать о трагической судьбе княжны Евпраксии Всеволодовны, ставшей, на свою беду, императрицей Адельгейдой. Муж ее Генрих IV оказался николаитом, то есть сатани-стом, и принуждал жену к участию в черных мессах. Несчастная женщина бежала в замок графини Матильды — Каноссу (а Каносса по тем временам была неприступна), где ее принял под покровительство папа Урбан II. Он дал ей отпущение невольного греха и отправил домой, в Чернигов. Там Евпраксия постриглась 6 декабря 1106 года и умерла 9 июля 1109 года. Летописец Нестор о судьбе Евпраксии умолчал. Почему?
Дело в том, что в XI — XII веках в Киеве существовала латинофильская партия, вождями которой были князья Изяслав Ярославич и его сын Святополк II, под чьей эгидой работал Нестор. Эта партия была непопулярна в народе и в 1113 году, с вокняжением Мономаха на киевском столе, распалась. Видимо, определенную роль в этом сыграли вести о распространявшемся в Германии сатанизме, «соблазняющем» мировоззрении.
Выбор греческого обряда был закономерным.
А. Панченко. Следует подчеркнуть суверенность выбора. Византия не навязывала Руси свою веру, да и не в силах была ее навязать. После разысканий А. В. Поппэ дело представляется следующим образом. В 987 году Василий II Македонянин был императором без империи. Узурпатор Варда Фока занял всю Малую Азию. Последней надеждой императора был киевский князь. Один отряд он отправил на Босфор, а во главе другого отправился в поход на корсунских мятежников.
Платой за помощь была рука порфирогенетки Анны, сестры императора, которая, возможно, прибыла в Киев летом 988 года. До этого Владимир крестился и стал Василием (возможно, в день Богоявления 6 января; память его небесного патрона Василия Великого празднуется 1 января). Что до крещения киевских жителей, то из предлагаемых дат самой приемлемой кажется мне 27 мая 988 года, день Троицы, или Пятидесятницы. Во-первых, в конце мая по старому стилю вода в Днепре уже теплая (надо же посчитаться с чувствами и здоровьем земляков!); во-вторых, Пятидесятница, когда Святой Дух снизошел на апостолов и они вдруг заговорили на разных наречиях, — это реабилитация, по сравнению с ветхозаветным Вавилонским столпотворением, наций и национальных языков. Крестится «язык нов», и хвалить Бога он будет на своем либо почти своем языке, церковнославянском, или древнеболгарском. Выбор дня Пятидесятницы — как бы благодатная для Руси отметина.
В самом деле: в ту пору в христианской Европе господствовала так называемая теория «триязычия». Языками веры, а значит и культуры, могут быть только древнееврейский, греческий и латынь — те языки, на которых по приказу Понтия Пилата была начертана на крестном древе надпись: «Сей есть Царь Иудейский». Практически древнееврейский из этой триады давно выпал — вместе с исчезновением иудеев-христиан апостольских времен. Цивилизованная Европа в X веке пользовалась лишь греческим и латынью. Славяне нарушили эту традицию, создав тем самым третий очаг культуры и обновив сакральную триаду.
Но какие религиозные и культурные идеи оплодотворяли реформу Владимира? Об этом можно судить по летописной «Речи философа». Она обращена к оглашенному, или катехумену, то есть язычнику, готовящемуся к таинству крещения. Это, в сущности, учебный текст, краткое, облегченное, рассчитанное на уровень неофита изложение истин веры. Но текст этот чрезвычайно важен, так как рассчитан на русского неофита, притом могущественного монарха. В «Речи философа» неизбежны определенные уступки Владимиру, приспособление к его традициям и чаяниям. Поэтому ее надлежит расценить как зародыш «русского варианта православия» (подчеркиваю: дело не в догматике, а в культуре). Начнем с вероучительных купюр, с того, чего нет в «Речи философа».
В ней нет буквально ни слова о нравственности, о десяти заповедях и Нагорной проповеди. Следовательно, Владимир не воспринимал крещение в качестве этического обновления и этического обязательства. В сфере этики русские неофиты продолжали следовать обычаю, национальному преданию. Примечательно, что многие десятилетия спустя летописец-христианин, притом монах Киево-Печерской обители, не настаивал на связи нравственности с вероисповеданием. Со ссылкой на византийского хрониста Георгия Амартола он пишет о том, что одни народы руководствуются письменным законом, другие — устным обычаем, и не эти «руководства» определяют черты их нравственной физиономии. Благонравны поляне: «Своих отцов имеют обычай кроток и тих». Легко возразить, что это самовосхваление. Полянам (т. е. себе) — хвала, соседям-древлянам — хула. Но апологию сирийцев (они, следуя отеческим нравам, не склонны «любодействовать и прелюбодействовать, ни красть, ни клеветать, ни убивать, ни делать зло») никакими человеческими слабостями и племенными интересами не объяснить. Значит, это историософская концепция.
Это показатель того, что христианизация не осознавалась как перерыв традиции. Хотя первые русские писатели охотно пользовались расхожими при всякой смене культурного статуса оппозициями «тьма — свет», «мрак — заря», но состояние язычества в их понимании не было состоянием варварства. Поэтому у Иларио-на, первого «русича» на киевской митрополичьей кафедре, в памяти нации равноправны и «просветитель» Владимир, и его предки-язычники «старый Игорь» и «славный Святослав». Они «в свои лета владычествовали, мужеством и богатырством прослыли в странах многих, и за победы и храбрость поминаются ныне и прославляются: ибо не в худой и неведомой земле владычествовали, но в Русской, которая ведома ч слышима всеми четырьмя концами света».
Если «худость» внеположна язычеству, то она вне-положна и его устной культуре. Это убеждение отобразилось, в частности, в скудости летописных сведений о славянской письменности, хотя в Киеве и в Новгороде прекрасно были осведомлены о Кирилле и Мефодии, как и о том, что болгарская литература — мать русской литературы. Мы расцениваем изобретение письма как решительный цивилизационный перелом: недаром его принято сравнивать с обретением огня. Летописцы были далеки от такой трактовки, и небезосновательно.
Упорядоченная жизнь в сфере устной культуры очень возможна и даже имеет некоторые преимущества. Устная культура тренирует память (вспомним об индийских мудрецах, которые из поколения в поколение заучивали наизусть упанишады). Устная культура вырабатывает привычку к афористической, речи. Не случайно человечество среди своих учителей числит людей, которые не оставили ни строчки, — того же Христа или, например, Сократа.
Что до позитивного момента «Речи философа», он очевиден: это историзм. Начав с дней творения, философ заканчивает проповедью апостолов. Это эмоционально нейтральная, даже олимпийски бесстрастная речь, но в ней множество цивилизованных идей. Среди них первенствует идея познаваемости мира. Крещеному славянину становились ведомы его начала и концы. Реформа Владимира — не просто приращение знания, это принципиальная переоценка человека. Раньше он ощущал себя игрушкой судьбы, каких-то неведомых сил, «страшилищ», говоря по-старинному, — теперь он овладел историей.
Митрополит Иларион, не сомневаясь в божественном промысле, рассматривал реформу и как цивилизационную веху. Она свершилась «во времена своа», то есть на определенном этапе исторического пути. По Илариону, на смену дряхлеющим народам приходят народы юные, у которых все впереди. Это, в сущности, нечто подобное Вашей, Лев Николаевич, теории о возрастах этноса, хотя Иларион имел в виду скорее культурогенез.
Иной позитивный момент касается бессмертия души. Завершается «Речь» рассказом о Судном дне, после чего праведники обретут «царство небесное, и красоту неизреченную, и веселье без конца». Грешникам уготована вечная мука, но кто — грешник? Тот, кто не верует в Христа и отказывается от крещения. Для вечного блаженства вполне достаточно веры, о «добрых делах», о нравственных заслугах опять-таки нет ни слова.
Можно, конечно, считать, что это уловка и приманка для неофитов. Но попробуем стать на точку зрения самих неофитов. Крещение есть спасение — вот главный вывод, ими сделанный (об этом некогда писали Н. К. Никольский и М. Д. Приселков). Это, разумеется, вольнодумство, потому что крещение — лишь условие
спасения; далее человек руководствуется свободной волей, избирает путь «тесный» — в царствие небесное или «широкий» — в погибель. Однако это вольнодумство имело важные следствия.
Основываясь на постулате «крещение есть спасение», современники Владимира и их потомки избавлялись от страха смерти и загробного наказания («историзм» избавлял их от страха перед существованием земным). Митрополит Иларион назвал своих пребывавших в язычестве земляков «безнадежниками». Христианство принесло с собою надежду, «упование», которые стали мощным цивилизационным импульсом.
Л. Гумилев. Православие принесло с собой добро, мудрость (теологию) и красоту. Православие победило отца лжи Маммону и человекоубийцу Перуна, очистило Русь от скверны и подарило ей тысячелетнюю историю. Нет, конечно, русские люди остались грешными, одержимыми страстями души, плоти и гордости житейской. Но всенародное крещение даровало нашим предкам высшую свободу — свободу выбора между добром и злом.
КУМИР ИХ - ЛОЖЬ
Л. Гумилев. Есть ли ложь в живой природе? В какой-то мере есть. Мимикрия животных — это попытка обмануть хищника или добычу. Но как хищники, так и их жертвы имеют право спасать свою жизнь, которой угрожает либо голод, либо съедение, так что мимикрия оправдана закономерностями биосферы, находящимися вне добра и зла.
А. Панченко. Нечто подобное есть и в человеческом общении — так называемая «ложь во спасение» (не собственной шкуры), например, та неправда, которую всегда говорят умирающему у смертного одра. Бывают и другие разновидности бескорыстной лжи, хотя бы краснобайство, что подтверждается «оправдательной» пословицей: «Красно поле с рожью, а речь с ложью». Это хорошо понимал городничий из «Ревизора», а точнее — Гоголь, которому в быту случалось вести себя так, как Вел себя Хлестаков. Такая ложь — не грех, а слабость.
Л. Гумилев. Древние люди в этой проблеме не путались. Они ввели понятие «клятва», то есть юридически оформленное отречение от полезной, а подчас и спасительной (для себя) лжи. Право на обман, двусмысленность, уклончивость за человеком сохранялось, но только в повседневной жизни. Клятва же выделялась как экстраординарный акт, как отказ от следования закону природы, то есть инстинкту сохране-
ния. Поэтому в свидетели, а точнее в охранители соблюдения клятвы призывались боги или духи стихий, которые должны были наказать клятвопреступника. Этим оттенялось супернатуральное значение клятвы.
В Евангелии ставшим на путь самосовершенствования или святости рекомендовано не клясться, а всегда говорить только правду. «А я говорю вам: не клянись вовсе... Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого». Но для всех прочих, обычных людей во всех христианских странах клятва названа присягой и сохранена как полуюридический-полурелигиозный акт, до сих пор имеющий значение и смысл. Ибо обман — это просто неблаговидный поступок, а нарушение клятвы, то есть обман доверившегося, — это преступление противоестественное и про-тивобожественное, это оскорбление мирового порядка — предательство.
На организмическом уровне ложь отдельных персон это не только несимпатичный стереотип поведения, но и способ воздействия на окружающую среду, этническую и ландшафтную. На популяционном уровне это уже массированная дезинформация в антисистемах, воздействующая на среду социальную и культурную. Но на биосферном уровне происходят процессы упрощения, которые ведут к замене высших животных — микроорганизмами (гниение трупов), к превращению живого вещества в косное, к распаду космического вещества на молекулы, молекул — на атомы, внутриатомных реальных частиц — на виртуальные, к переносу фотонов в Бездну, то есть в вакуум. А ведь начина-лось-то как будто с- пустяков.
Но что тцкое истина, противостоящая лжи? Не надо мудрить и мистифицировать читателя, да и самого себя. Будем называть истиной суждение, адекватное заданной сумме наблюденных фактов, где погрешность не превышает законного допуска.
А. Панченко. Разным странам и народам приходилось переживать эпохи большой лжи. Россия — не исключение. А. С. Хомяков, истово веровавший в то, что «светла ее дорога», не зря же обращался к ней так:
Но помни: быть орудьем Бога Земным созданьям тяжело.
Своих рабов он судит строго,
А на тебя, увы! как много : Грехов ужасных налегло!
В судах черна неправдой черной И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!
О, недостойная избранья.
Ты избрана! Скорей омой Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья Не грянет над твоей главой!
С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели!
Этот «канон покаяния» (так назвал Хомяков свое стихотворение), сочиненный в 1854 году, в разгар несчастливой для России Крымской войны и в исходе лицемерного и кичливого николаевского царствования, естественно, не мог быть тогда напечатан. Оппозиция, от Шевченко до Герцена, знавшая «канон» в списках, была от него в восторге. Что до «общества», оно завалило автора пасквилями, «даже с онёрами извозчичьей речи», как он выразился в одном письме. По предписанию Третьего отделения у Хомякова отобрали расписку в том, что он не будет никому сообщать своих сочинений прежде, нежели их дозволит цензура. В общем, обыкновенное дело: и обличение, и реакция на него типичны для тоталитарных режимов. Чем хуже идут дела, тем больше лгут и тем больше оскорбляются правдой.
Но вот что показательно: коллеги по поэтическому ремеслу предъявили Хомякову претензии по части христианской нравственности, обвинили его в нарушении пятой заповеди. Когда читаешь стихотворные ответы Н. В. Арсеньевой («Стыдись, о сын неблагодарный, отчизну-матерь порицать...») и графини Е. П. Ростопчиной («Сам Бог сказал: чти мать свою!..»), кажется, что дамы сговорились. Однако и состарившийся либерал князь П, А. Вяземский им вторит: «Подобает быть почтительнее и вежливее с матерью своей; добрый сын Ноя прикрыл плащаницею слабость и стыд своего отца».
Получается, что Хомяков плохой сын, что он похож на библейского Хама, который посмеялся над наготою Ноя.
Откуда такое поразительное единомыслие? И почему все оппоненты мыслят религиозно? Можно, конечно, предположить, что они хотят больнее уколоть Хомякова (всем было известно, что он человек глубокой и теплой веры, «Рыцарь Православной Церкви», согласно позднейшей апофегме Н. А. Бердяева). Но важнее, на мой взгляд, вспомнить о русском обыкновении (если угодно, о предрассудке) толковать историю провиденциально, как и толкует ее православнейший Хомяков: история есть некое согласование Промысла Божия и свободной воли обремененных грехами людей. Для тех, кто живет в сфере религиозного сознания, это всего лишь норма. Но провиденциальность актуальна и для XX века, несмотря на то, что в известный момент наше общество объявило себя светским и даже атеистическим.
«Светлое будущее» — это не по-человечески понятная надежда, не расчет, а религиозное убеждение, своего рода кумир, «тмутараканский болван». Не зря же в разные десятилетия XX века разные люди без тени сомнения и смущения опубликовывали сроки наступления этого «светлого будущего». Между тем его апологетам следовало бы задуматься над тем, что сходные пророчества высказывались не раз и не два — и никогда не сбывались. По закону больших чисел, они и не исполнятся. Вообще, как это ни печально, гораздо реальнее пессимистические прогнозы, нежели оптимистические. Иерусалим был разрушен, а «Город Солнца» не построен до сих пор.
Если искать истоки этого убеждения, оставаясь в пределах христианской цивилизации и опуская некоторые посредствующие звенья, мы неизбежно придем к «тысячелетнему царству Христову на земле», о котором говорится в 3 — 6-м стихах 20-й главы Апокалипсиса. На этом тексте основывается очень старая ересь хилиастов, «тысячелетников» (отметим, что православная церковь, веря в богодухновенность Апокалипсиса, тем не менее в богослужении им не пользуется и земного рая не сулит; что до царствия небесного, оттуда еще никто не возвращался и его не опровергал).
А слово «покаяние», столь часто ныне употребляемое? Оно всегда звучало в России при конце культурноисторических циклов. Таков и хомяковский «канон покаяния», составленный, в канун отмены крепостного права и великих реформ Александра II. Культурная привычка, или по-нынешнему традиция (в данном случае традиция провиденциального осмысления национального бытия), — могучая работница на историческом поле. Но работает она и во благо, и во зло.
Л. Гумилев. История — это изучение процессов, протекающих во времени, но что такое время, не знает никто. В этом нет ничего удивительного. Вероятно, рыбы не знают, что такое вода, потому что им не с чем ее сравнить. А когда они попадают на сушу, то у них не остается времени, чтобы* заняться сравнением воздуха с водой. В. И. Вернадский определил смерть как разделение пространства и времени, ибо, по его мнению, косное вещество вневременно. Он прав, но историки имеют дело только с процессами умирания, при которых сущее становится прошлым.
А реально ли прошлое? В этом вопросе единства у современных ученых нет. Существует и весьма распространено мнение, что прошлого вовсе нет. Джованни Джентиле пишет: «В прошлые времена люди рождались, думали, трудились... но все они мертвы, подобно цветам, красотой которых они наслаждались, или листьям, которые зеленели у них на глазах весной и, желтея, осыпались осенью. Память о них живет, но мир воспоминаний, подобно миру фантазии, есть ничто; и воспоминание не лучше, чем мечта... Историк знает, что жизнь и значение прошлых фактов не могут быть открыты в хартиях, надписях или любых действительных останках прошлого; их источники в собственной личности историка». Согласиться тут невозможно, но повременим спорить, так как есть и другие авторы, писавшие на эту тему.
Еще категоричнее П. Гардинер и Б. Рассел. «Не существует абсолютных реальных причин, которые ждут, чтобы их открыли историки, пишущие на различных уровнях и с различных расстояний, с разными целями и интересами, в разных контекстах и с различных точек зрения» (П. Гардинер). Ценность истории — в том, что она дает знание «о человеческих существах, находящихся в обстоятельствах, чрезвычайно отличных от наших собственных», но это «не строго аналитическое научное знание», это «нечто вроде того знания, которое
любитель собак имеет о своей собаке» (Б. Рассел). Думается, что материал для такого пессимистического вывода перечисленным мыслителям дали историки того типа, который удачно описал Анатоль Франс во введении к «Острову пингвинов»: «Да разве мы пишем историю? Разве мы пытаемся извлечь из какого-нибудь текста, документа хоть малую крупицу жизни или истины? Мы просто-напросто издаем тексты. Мы придерживаемся буквы... Мысль не существует». Защищать эту позицию не хочется, а ведь по сути спор идет именно по ее поводу. Так внесем необходимую ясность.
Спор, если бы он был начат, был бы основан на филологическом недоразумении. Историей ныне называют целый ряд занятий, хотя и связанных друг с другом, но весьма различных: 1) публикацию и перевод древних источников — занятие необходимое, но дающее только сырье; 2) историческую критику, отсеивающую сознательную, а иногда несознательную ложь древних авторов — получение полуфабриката; 3) сопоставление добытого материала с накопленным ранее — это уже продукт, но еще не предмет потребления; 4) интерпретацию данных в плане поставленной проблемы и 5) постановку новых проблем, выходящих на стык наук. Перечисленные выше и подобные им философы огорчались, по существу, тем, что не получали из необработанного сырья сувенира на заказ без предварительной обработки. Это действительно невозможно, но иного пути нет и не будет. Правы философы в другом: пройти этим путем может отнюдь не каждый.
Самые на вид простенькие обобщения требуют такого душевного подъема и накала чувств, при котором мысль плавится и принимает новую форму, сначала поражающую, а потом убеждающую искреннего читателя. И дело не в том, каким ходом мысли или подбором аргументов доказан тезис; это кухня научного ремесла, знать которое, конечно, надо, но одного знания мало. Дело в том, почему иногда удается новый тезис найти и доказать. Это таинство психологии творчества, которое древние греки приписывали музе истории — Клио.
Эта муза подсказывает нам, что скепсис философов неоправдан, что прошлое — не личное переживание и не мечта. Ибо настоящее — только момент, мгновенно становящийся прошлым. Будущего нет, ибо не совершены поступки, определяющие те или иные последствия, и неизвестно — будут ли они совершены. Грядущее можно рассчитать только статистически, с допуском, лишающим расчеты практической ценности. А прошлое существует; и все, что существует, — прошлое, так как любое свершение тут же становится прошлым. Вот почему наука история изучает единственную реальность, существующую вне нас и помимо нас.
А. Панченко. Отрицание прошлого есть, в сущности, порицание прошлого, что житейски вполне понятно: там предостаточно крови, горя, голода и слез. Мы все это наследуем и всего этого страшимся. Поэтому взгляд вспять и взгляд окрест рождают печаль и чувство безнадежности. «И возненавидел я жизнь, — говорит Екклесиаст, — потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем; ибо все — суета и томление духа!» (гл. 2, ст. 17). Печальна, например, античная мифологема «золотого века», которую мы знаем по Гесиоду и Овидию. Золотой век — некое «предпрошедшее», плюсквамперфектум человеческого бытия. Тогда все было прекрасно, люди не враждовали, умирали как бы во сне... Но золотой век сменяется серебряным, потом медным, потом железным. Становится все хуже, и хуже, и хуже...
Век девятнадцатый, железный,
, Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный Беспечный брошен человек!..
Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла (Еще чернее и огромней Тень Люциферова крыла).
Это — из «Возмездия». В 1919 году Александр Блок пояснил: историософская концепция поэмы «возникла под давлением все растущей во мне ненависти к различным теориям прогресса». Античная мифология, как видим, новейшему русскому поэту пригодилась (впрочем, у него было правильное историко-филологическое образование).
Но с безнадежностью трудно смириться, печаль хочется избыть, и с этой благой целью созданы различные умозрительные конструкции. Придумана, в частности, мифологема противоположной направленности, в которой золотой век переместился из плюсквамперфекта в футурум. На этой мифологеме основаны все теории прогресса.
В России вера в «светлое будущее» выражалась по-разному. Умеренный ее вариант любил Чехов. Его герои мечтали «о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как... тихое, воскресное утро». Это не просто мечта, это также призыв к действию. Дадим слово персонажу рассказа «Невеста»: «Если бы вы поехали учиться! — говорил он. — Только просвещенные и святые люди интересны, только они и нужны. Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие Божие на земле. От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне — все полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди...»
Утопия, конечно, и весьма наивная, приличествующая этому персонажу — бескорыстному, прекраснодушному, но недалекому, неодзренному, несколько комичному. Однако в его рацее есть некоторые слова-сигналы, которые общи всем чеховским мечтателям и, значит, могут быть сочтены «чеховскими». Коль скоро речь идет о «просвещенных и святых людях», то очевидна установка на учебу, на приращение знания, притом корректируемого и умеряемого нравственными правилами. Гипертрофия незаинтересованного, «чистого» знания — не русская традиция (XX век показал, какими бедами чревата такая техницистская гипертрофия). Россия всегда смотрела на науку как на путь и правду. Что до выражения «мало-помалу», оно предостерегает против предрассудка поспешности и взывает к терпеливости. «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
Угроза для настоящего возникает тогда; когда верующие в «светлое будущее» решают, что оно — близко, за порогом, и переступают этот порог. Ради такого «светлого будущего» настоящего не жалко. Ради вожделенного рая на земле можно звать к топору, пустить красного петуха, «кастетом кроиться миру в черег пе». Не жалко ни ближних, ни дальних, ни природы, ни культуры, ни дворян, ни крестьян. Вера в «светлое будущее» оборачивается религией силы, каким-то неоязычеством. Ведь язычники ценят в идолах только силу. Если в ней усомнятся — горе идолам!
Вспомним, как их свергали в Киеве. Владимир «Перуна велел привязать к хвосту коня и волочь с горы
по?Боричеву взвозу к Ручью, и приставил двенадцать мужей — колотить его жезлами». Летописец ощущал двусмысленность этой сцены и счел необходимым ее пояснить: «Не потому это делали, что у дерева есть чувства, но для поругания беса, прельщавшего людей в этом образе, да примет он возмездие от человеков». Слукавил летописец, слукавил... Просто ему очень хотелось обелить киевских неофитов, из которых язычество еще не выветрилось. На деле же они не «образ», не символ пороли, а дружинного бога, побежденного Христом. Язычество вообще крепко коренится в душе, и не мудрено, потому что христианству всего две тысячи лет, а язычеству — много-много больше. Когда пушкинский Евгений грозил Медному Всаднику «Ужо тебе!», когда после революции в московском Кремле накинули удавку на шею статуи Александра II и сдернули ее с пьедестала — все это были раскаты языческого эха, отголоски той киевской порки. Наши современники, называющие себя атеистами, чаще всего подразумевают, что они не верят в Иегову, Иисуса Христа и в Аллаха. Но многие ли из этих «атеистов» не боятся черной кошки?
Религия силы по-своему вполне логична: если настоящее помеха и препятствие, его надлежит разрушить. Но той же логике подчиняется и самая религия силы: она принадлежит настоящему (ведь в «золотом веке» все будет иначе, по-доброму), и ее тоже не жалко. Она тотчас же начинает уничтожать самое себя — глашатаев и певцов, жрецов и причетников собственного культа. Этой религии нужны новые и новые жертвы. Сначала страдают слабые, сила ломит солому, но скоро, очень скоро вспыхивает междоусобная брань сильных. Они занимаются друг другом, и поэтому на земле остается сколько-то места для людей иных вероисповеданий, и эти люди перешагивают из столетия в столетие.
Религия силы, естественно, не в ладах с истиной. Сила не терпит препятствий и ограничителей. Истина — всегда ограничитель. Следовательно, сила не терпит истины, сначала презирает ее, а потом, достигши дряхлости и маразма, боится. Эпохи, когда господствует религия силы, неизбежно становятся эпохами лжи. Сказано у пророка Иеремии: «Истукан его есть ложь». Впрочем, правильно и обратное: в эпохи лжи всегда поклоняются силе.
Это можно было бы продемонстрировать на примере николаевского царствования (тем более что речь о нем уже шла). Но чистота такого исторического эксперимента сомнительна. Верно, что император Николай Павлович, оканчивавший свои рескрипты кичливыми словами «с нами Бог», претендовал на роль не только главы государства, но и главы церкви. Это четко, даже барабанно сформулировано в тогдашнем законодательстве: «Император яко христианский государь есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в церкви святой благочиния». Внешне формулировка соответствует установлениям Петра I, упразднившего патриаршество: при Петре, как и при его праправнуке, члены Синода приносили верноподданническую присягу монарху, «крайнему судии Духовной сей Коллегии». Но это соответствие буквы, не духа.
«Веротерпимость составляла одну из славных основ империи, созданной Петром I; Николай издал суровый закон против лиц, переменивших религию». Так сказал А. И. Герцен, и он же назвал православие Николая показным, «холодным, ледяным, как петербургский климат». Герцен прав и не прав. Петр, получив от царевны Софьи в наследство самосжигающуюся и разбегающуюся страну, действительно в первые годы своего правления сделал ставку на толеранцию. В Голландию и Англию он ездил не только для того, чтобы плотничать на верфях. Он ездил за идеями. В Роттердаме он осматривал статую Эразма (единственный в тогдашней Европе памятник писателю), а за Ла-Маншем познакомился с Джоном Локком, скорее всего, очно (в королевском правительстве тот ведал заграничной торговлей). Тогда Эразм и Локк олицетворяли историю и современность благородной идеи веротерпимости. У тех «птенцов гнезда Петрова», которые умели размышлять и обнаруживали склонность к мировоззренческой рефлексии, возникла даже мода на Локка, о чем в 1702 году с раздражением доносил из Москвы своему орденскому начальству один тайный иезуит. Было от чего раздражаться: Локк призывал уважать любую религиозную доктрину, если она не мешает нормальному отправлению функций общественного организма, — кроме атеистической (атеизм отождествлялся С безнравственностью, со вседозволенностью, в соответствии с позднейшим тезисом Достоевского: «Бога нет, все позволено!») и кроме иезуитской (иезуиты не стеснялись в средствах для достижения
своих глобальных духовно-экспансионистских целей). При Петре у нас Локка не только читали и переводили, но и прислушивались к его рекомендациям.
Больше всего это почувствовали инославные — евангелисты разных толков, но также и католики. Им жилось свободно, о чем на Западе хорошо знали. Карл XII даже попытался сыграть на этой свободе, пугая в королевских универсалах украинцев тем, что царь будто бы ведет тайные переговоры с папой о соединении церквей. Петра обеспокоила такая «грубая лая», и он опровергал ее в манифесте от 3 февраля 1709 года. Старообрядцы после падения правительства царевны Софьи тоже вздохнули с облегчением и практически отказались от самосожжений. Но пределы петровской толеранции были строго очерчены, «писаны кнутом», если воспользоваться выражением Пушкина, причем эти пределы ограничивали прежде всего «своих», природных русаков.
К старообрядцам все-таки относились как к отщепенцам; им даже предписали носить особое платье. Православных за переход в чужую веру жестоко наказывали. Труднее же всего пришлось русской церкви. Учредив Синод, Петр лишил ее всякой самостоятельности, а священников превратил в чиновников. Присно-и пёчальнопамятный указ царя о нарушении тайны исповеди (предписывалось доносить о злоумышлении на особу государя и вообще о «шатании умов») посеял семена недоверия к священству. К сожалению, такое нарушение в известной мере вкоренилось. Вот сцена из «Старых годов в Плодомасове», написанных Лесковым, отпрыском старинного поповского рода, приязненным духовному сословию.
К матери приезжает в отпуск из Петербурга сын-гвардеец (все герои сцены — весьма «положительные»). Барыня, воспитавшая его как красную девицу, хочет удостовериться, «что взлелеянное ею дитя ее действительно непогрешимо в своей чистоте, и потому священник, отец Алексей/ получил поручение узнать это ближе». Поп исповедует юного гвардейца — и вот конец: «Он вошел к ней и благопокорно прошептал: „Девственник!"» Лесков не видит ужаса этой сцены, хотя по всем законам божеским и человеческим попа надо было «запретить», «отлучить» и т. п. А у нас в России это казалось нормальным.
С Петра начался «век разума», эпоха Просвещения.
В истории русской религиозности это из ряда вон выходящее явление: «общество» (т. е. верхи) живет как бы вне православной церкви. Конечно, храмЁг посещают, раз в год говеют, исповедуются и причащаются, но образованные люди делают это с неохотой, с каким-то «затеканием ног», как было у толстовского Стивы Облонского. Поскорей бы это «стояние» кончилось... Идут в масоны и куда угодно, только не в православный храм.
Ко временам Пушкина человек «общества», в особенности петербургского света, оказался окружен плацентой религиозного и церковного равнодушия. Это видно по Евгению Онегину, «карманному зеркалу русской молодежи», как сказал о нем П. А. Плетнев. В зеркале этом отразился и Пушкин, и вообще люди его поколения, его состояния и воспитания. Онегин гуляет в Летнем саду, взрослеет, влюбляется, становится театральным завсегдатаем, танцует на балах и делает разные разности. Однако он ни разу не заглядывает в церковь и лба не крестит. Когда им овладела хандра, то есть он впал в смертный грех отчаяния, ему и в голову не пришло отправиться за утешением к духовнику. Что до деревни, куда Онегин удалился, в ее поэтических ландшафтах и поэтических интерьерах мы не найдем ни храма, ни иконы. Герой поселился в доме дяди:
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах...
Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
Но где образа и где лампады? Разумеется, и образа в доме висели, и лампады теплились (тем более что после похорон прошло мало времени), но взгляд Онегина (и Пушкина) скользит мимо них. Нет в романе ни теплой веры, ни даже бытового православия. Пусть Онегин «лишний человек». Но и мечтательный Ленский посетив кладбище и пролив слезы над прахом родителей, в церковь — ни ногой. Такова и «русская душою» Татьяна: прощаясь с родными краями, она с церковью, где ее крестили и где отпевали ее отца, проститься не удосужилась. «В жизни», конечно, было иначе.
Что все это значит? Это значит, что в Александровскую эпоху общество не видело и не искало в церкви опору, ибо в опоре оно не нуждалось. «Золотой век» русской поэзии светел и гармоничен, потому что и в обществе преобладало гармоническое настроение. Его не могли поколебать ни нашествие двунадесяти языков, ни эксцессы, связанные с крепостничеством и с военными поселениями. «Хандра» и ханжество только-только зарождались. Они расцвели пышным цветом при Николае I.
При нем переменилась ориентация. Если прежний император до последнего года своего царствования больше всего ценил веротерпимость (в цензурном уставе решительно запрещалось порицать какую-либо из христианских инославных церквей) и не выказывал национального либо конфессионального самодовольства, то младший его брат, оказавшись волею судеб на троне, «отставил» толеранцию. Это выразилось в пресловутой триаде «самодержавие, православие, народность». Настала эра апофеоза православия, но это не пошло ему на пользу, так как благочестие Николая было показным и действительно холодным. От священников теперь требовалось не служение, а служба, для чего надлежало затвердить катехизис, церковный устав, нотное пение — и довольно. Духовному холоду, конечно, противостояла и толика тепла — в Оптиной пустыни, у того же Хомякова. Но вообще тогда было больше надрыва, нежели веры; так всегда бывает во времена ханжества и лжи.
Чем-то болезненным отзываются утопии священного царства, которыми увлекались Александр Иванов и Гоголь. «Власть государя — явление бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле», — читаем в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Это сказано с благими намерениями, но кому это сказано? Гоголь почему-то надеялся, что «все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возбо-лев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству». Наивные мечты, беспочвенные упования! И сколько раз ими обманывалась бедная, простодушная Россия!
Обычно эти мечтания относят на счет самого Гоголя, видят в нем одиночку, устранившегося от проблем", которые волновали его современников (отчего они, за редкими исключениями, дружно выругали книгу). Но мы лучше поймем Гоголя, если учтем, что те, кому через несколько лет выпала судьба стать ниспровергателями основ и сокрушителями кумиров, переживали тогда сходное религиозное возбуждение. Чернышевский в 1848 году ожидал прихода Мессии. Юный Писарев, не без влияния «Выбранных мест», ударился в крайнюю аскезу, переводил «Мессиаду» Клопштока, проповедовал абсолютное целомудрие — в нелепой надежде, что Бог вознаградит человечество за эту жертву, дарует людям бессмертие или устроит как-нибудь так, что они будут рождаться «чудесным образом, помимо плотского греха» (делением, что ли?). Добролюбова только внезапная смерть родителей привела к отказу от экстатической веры в Провидение.
Без этого духовного надрыва и кризиса ни шестидесятников, ни шестидесятые годы не понять. Вдруг осознанная (в ходе Крымской войны) и всех поразившая большая ложь вызвала вспышку отрицания. В такие моменты общество всегда переменяет ценностные знаки, ставит вместо плюсов минусы, и наоборот. Тогда естественным образом на первый план выдвинулся атеистический нигилизм.
Трактовать его в качестве безверия я бы остерегся. Нигилизм, в конце концов, есть новая религия. Постулату «Верю, что Бог есть» — он противопоставляет постулат «Верю, верю, верю... что Бога нет». Атеист может возразить, что слово «верю» — не из его лексикона, что он «уверен», однако это дела не меняет. Четвертый сон Веры Павловны генетически восходит к старинному жанру видений: в средневековых русских текстах (их попович Чернышевский знал хотя бы в пересказах) Христос, Богородица, святые угодники часто являются визионеру «в тонком сне» — и сообщают ему некие истины, чаще всего о грядущем. О грядущем грезилось и Вере Павловне. Ее дамские грезы материализовались в учение и во множество учеников, хотя надо признать, положа руку на сердце, что цена дамскому сну невелика, даже если его придумал представитель сильного пола. Но дело даже не в том, что нигилистический атеизм — это конфессия, а в его разрушительном направлении.
Вообще атеизм нормален для петербургского периода русской истории, по крайней мере для части общества. Но русский атеизм бывает разный. Психологические его следствия трояки. Равнодушных людей он не выводит из равнодушия: Бога нет, нечего о нем и толковать. Других он искренно печалит, и к этому типу принадлежит Пушкин, который в молодости тоже грешил атеизмом. Приведу знаменитый отрывок из перлюстрированного письма Вяземскому из Одессы, отправленного весной 1824 года, — того письма, за которое автор угодил в псковскую ссылку: «...Беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, qu’il ne peut exister d’etre intelligent С eateur et regulateur (что не может быть существа разумного, Творца и правителя), мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная».
Почему одесские уроки Гутчинсона не вызвали у Пушкина энтузиазма? Потому что приходилось расставаться с обетованием вечной жизни, приходилось смириться с тем, что смерть — не рубеж, не веха, означающая конец земного странствия и переход в иной, быть может лучший мир, а конец абсолютный и бесповоротный. В такой перспективе, действительно, мало радости, особенно для молодого человека, который еще не устал от жизни и не знает, что есть вещи похуже смерти. Одесские уроки нимало не поколебали нравственных правил ученика.
Что до нигилистов, Отрицателей и разрушителей, им атеизм придает силы, поскольку избавляет их от страха загробного воздаяния. Это описано Достоевским в «Бесах».
Нет, «религию силы» на николаевском царствовании не описать. Конечно, императора, «самого красивого монарха в Европе», боялись в России, на Западе и в Турции, многие трепетали перед ним, многие, но не все. Хватало людей, которые потешались над его претензиями играть роль государя «по божьему изволению».
«Воротиться к патриархально-варварской власти царей московских, не утратя ничего из цезарского величия петербургского императорства, — такова была задача Николая». «Все для государства, т. е. для престола, ничего для людей». «Самодержавие — как цель. Вот наивная философия истории русского самодержца». Все эхо — опять Герцен. Он описал гнет, но было и противодействие гнету. Дело даже не в персонах, которые протестовали, не в Герцене с Огаревым и не в петрашевцах, — их действительно можно чуть ли не по пальцам пересчитать. В тиранические эпохи протестовать трудно, гораздо легче делать это в эпохи либеральные. На Николая покушений не совершали, хотя он ездил и ходил без охраны, а сына его, освободившего крестьян и совершившего великие реформы, затравили как зайца и разорвали-таки бомбой. Дело в том крайнем оппозиционном мироощущении, которое только при Николае появилось, — в отождествлении России и Зла. Прежде этого никогда не было. Видимо, царь очень потрудился.
Декабристы боролись со злом (или, если угодно, с тем, что они считали злом), доходя в своем радикализме до мысли о цареубийстве. Но не с Россией они боролись, а с ее бедами, ее беззаконием и неустройством. Рылеев, подговаривавший Каховского застрелить Николая, одновременно (в буквальном смысле слова) сочинял патриотические думы (сейчас, уверен, многие сочтут их ходульно-патриотическими). У декабристов еще было органическое сознание, вообще для эпохи характерное. Величие и красота русского «благоволения» полнее всего выражены Толстым в «Войне и мире» — с оттенком сожаления и потери, ибо при Николае «благоволение» приказало долго жить.
При Александре невозможны были бы инвективы Пушкина («черт меня догадал родиться в России с умом и талантом»), Лермонтова («немытая Россия, страна рабов, страна господ»), в известной степени Чаадаева, потом Чернышевского, который сказал как припечатал: сверху донизу — все рабы. Положим, что все это говорилось и писалось «в состоянии аффекта», в раздражении или в отчаянии. Но почему бы нам не поверить этим инвективам (хотя бы условно) и не сделать из них логические выводы? Ограничимся Чернышевским. Либо он тоже раб, как российский гражданин, либо находится вне российского круга. Чернышевский, конечно, предпочел бы последнее, и нам ничто не мешает стать на точку зрения этого страдальца. Если он не раб, он маргинальный человек. Если он не внутри круга, значит, он противостоит России. Так оно и есть. При Николае
Россия раскололась — и до сих пор пребывает в состоянии раскола. Для корректного исторического эксперимента нужна другая эпоха, которой присуще хотя бы относительное духовное единство.
Поэтому послушаемся Герцена и воротимся в Московскую Русь, во времена Ивана Грозного, когда на Восточно-Европейской равнине, то враждуя, то замиряясь, жили язычники, мусульмане и православные, но не было ни одного атеиста. Люди верили в разное и по-разному, но непременно верили в Бога (или в богов). Следовательно, история могла ими переживаться и переживалась только религиозно. Это подходит для исследования русского провиденциализма.
Шестнадцатый век можно назвать веком русского одиночества. Такое состояние — для России не правило, а исключение. В средние века она входила в православную общность, которая возглавлялась Византией (принадлежали к ней южные славяне, Молдавия и Валахия, где языком веры и культуры тоже был церковнославянский) К XVI веку все переменилось.
Византия и Балканы не так давно стали провинциями Османской империи. Из православных держав только Русь и Грузия (регулярных связей с ней не было) сохранили независимость. Одиночество осознавалось, о чем свидетельствует заключение 1-й редакции Русского Хронографа, сочинения официозного, возникшего как раз в эпоху, когда Москва «собрала» удельную Русь. Господь, говорится здесь, предал неверным благочестивые царства за наши (читай: православных) прегрешения. Но нам нельзя впадать в отчаяние (которое, напомним, входило в разряд семи смертных грехов), нужно каяться, нужно надеяться, что из искры, которая тлеет «в пепеле во тме неверных властей» (т. е. мусульман), возгорится пламя, и тогда оживут и воспряйут православные. «Наша же Российская земля, Божией милостью и молитвами пречистой Богородицы и всех святых чудотворцев, растет и младеет и возвышается. Дай же ей,Христе милостивый, расти и молодеть и расширяться до скончания века».
Значит, Русь пощажена и Русь избрана. Православные братья под игом, а русские княжества, которых еще недавно было много, собрались под высокую руку Москвы, которая освободилась от ордынской зависимости и вскоре завоюет Казань и Астрахань. Но культурное одиночество — это проблема. Надлежит определить свой путь — при том, что он наперед представляется единственно правильным. Ведь Москва — Третий (и последний) Рим, четвертому Риму не бывать. Только в Москве истина, благочестие и свет, только здесь может пребывать православный царь.
Иван Грозный и стал первым венчанным, то есть законным, царем. (Раньше титул царя применялся на Руси к двум государям — к византийскому императору и к хану Золотой Орды. В XVI веке царями называются и преемники последнего — хан казанский, хан астраханский, хан крымский. Турецкий султан, узурпатор власти василевса и его фактический наследник, тоже как бы имеет право на этот титул, и в русском литературном обиходе появляются сочинения о «царе Магмете».) Новоявленному московскому царю естественно было обращать взор к Царьграду, сообразовываться с византийскими политическими концепциями.
Из них Москва переняла религиозную трактовку монарших прерогатив. Русские публицисты разных направлений были согласны в том, что Бог — «царь небесный», а царь — «земной бог». Эта мысль в XVI веке имела широкое, даже повсеместное распространение, что подтверждается наблюдениями иностранных путешественников. Немец П. Одерборн в памфлете на Грозного (1585 год) заметил, что при жизни царь — земной бог, одновременно император и папа для своих подданных. Еще в 1612 году, в разгар Смуты, голландец Исаак Масса писал, что московиты считают царя «почти земным богом». Нечто подобное писал Грозному из крымского плена опричник Васюк Грязной: «Ты, государь, аки Бог», ты делаешь человека и малым, и великим. Это, конечно, слова пустого бахвала и застольного шута, деятеля «исторического» в ноздревском смысле. Но они тем более показательны: значит, мысль о «земном боге» стала расхожей, перешла в общее пользование.
Охотно ею воспользовался и Грозный. В послании в Кирилло-Белозерский монастырь он заявил, что ощущает себя «наполовину чернецом». И действительно, в Александровской слободе он имитирует монашеские обряды, сам играет роль игумена, опричники наряжаются иноками. Иностранцы утверждали, что царю случалось служить обедню «как священнику». Трудно решить, правда это или вымысел, но самые толки весьма характерны. Вот как вел себя Грозный в 1583 году р Новгороде, на свадьбе своей двоюродной племянницы ййяжны Марии Владимировны Старицкой и герцога Магнуса Ливонского: вместе с молодыми иноками царь плясал под напев Символа веры Св. Афанасия, отбивая такт пресловутым своим жезлом — по головам сотрапезников. Есть свидетельства, что этот «получернец» «певал иногда на своих пирах Символ веры Св. Афанасия и другие молитвенные песни за столом и находил в том удовольствие».
Все это очень похоже на святотатство. «В пиру пия-ным пети святого пения», с православной точки зрения, непозволительно. Тот, кто так делает, обрекает душу на вечную муку: это славословие не Богу, а бесам. Но Грозного не волновало то, что он попирал нормы христианского поведения. Напротив, он утверждал, что не грешил «отступлением», то есть был «нормальным» православным. Насчет молитвословий за пиршественным столом царь, быть может, по-своему прав. Еще при Антиохе Кантемире это наблюдалось в русском быту: «Обычно пьяным людям Священное писание всуе употреблять; так пьяница, когда принимает от целовальника стакан с вином, говорит: «Чашу спасения прииму»; когда выходит вон с кабака, говорит: «Изыдите, винограда делателие», и прочее без числа». Грозный, выходит, подлаживался под простонародье. Тираны любят играть простецов и даже простаков.
Указанием на это обстоятельство он отвел упрек князя Курбского в «трапезах бесовских», в «богомерзких» игрищах, в том, что якшается со скоморохами (известно, что боярин князь М. П. Репнин-Оболенский заплатил жизнью за отказ плясать на царском пиру в маске вместе с ними). Грозный заявил, что потворствует игрищам из снисхождения «к немощи человеческой», из-за народного «младенства». Народ подобен ребенку. Народ любит веселье — и «ради младенства», духовной своей незрелости заслуживает снисхождения. Так Грозный оправдывал установку на худших.
Впрочем, все это мелочи в религиозном самообожании Грозного. Порвав с «избранной радой», с Адашевым, Сильвестром, Курбским, он не устает вчуже бранить их за «восхищение учительского сана», за то, что они дерзали быть царскими наставниками и советчи-
нами. Царь не устает подчеркивать, что никого не хочет и никого не будет слушаться.
Быть может, он намеревается брать уроки в школе истории? Ничуть не бывало. Если он к ней прибегает, то лишь затем, чтобы найти опору и оправдание своей позиции автаркии царя. Деяния преждебывших государей, ветхозаветных, византийских и других, нужны ему для одной цели — подчеркнуть, что те монархи, которые слушались советников, духовных или мирских, «в погибель приидоша». Зато те, кто им голоса не давал, победили всех врагов и прославились. Внимания и подражания заслуживает только такая традиция — «обычай» никого не слушаться и ни у кого из людей не учиться.
Власть царя — от Бога, и только божество может предложить ему модель поведения. Но божество троич-но, и «рассекать» Троицу нельзя. Это страшный грех, это путь к погибели. При «рассечении» нарушится равновесие монаршего поведения, равновесие между законом и любовью к ближнему, между силой и кротостью. В русской публицистике это было осознано и выражено. Иосиф Волоцкий, апологет крутой руки, утверждавший, что монарх «властию подобен есть вышнему Богу», сделал тем не менее весьма важную оговорку. Если царь позволяет царствовать над собою скверным страстям и грехам, сребролюбию, гневу, лукавству, неправде, гордости, ярости и т. д., — это не божий слуга, а дьявольский, не царь, но мучитель. Этот тезис Иосифа Волоцкого, различающий царя и тирана, как бы предвосхищает теории западных «монархомахов» второй половины XVI века — Юния Брута, Буханана, Марианы, которые выдвинули сходную формулу: «Rex imago Dei, tyrannus diaboli» («Царь — подобие Бога, тиран — дьявола»).
Что до Ивана Грозного, он перед «рассечением» не остановился и отдал предпочтение первому лицу Троицы — Богу-отцу Саваофу, богу грозному и карающему. Другим образцом для русского монарха стал Михаил Архангел. Он, как объяснял Грозный в первом послании Курбскому, «пособствует» всем «царям» — Моисею, Иисусу Навину, Константину Великому, первому христианскому императору. Эрудиция Грозного в данном случае безупречна. Михаил (имя его значит «кто, яко Бог») — это своего рода заместитель Бога и его двойник, это воитель и архистратиг, великий князь небесных
сил и державный царственный ангел, «ангел истории». Этй функции приписывались ему и в западном христианстве. В каролингскую эпоху он воспринимался как патрон императоров — и Карла Великого, и в особенности Оттона III. В облике европейского рыцаря он представал в видениях Жанне д’Арк, с его именем на устах она сражалась с англичанами. Когда во Франции снова восторжествовала королевская власть, Людовик XI учредил орден Св. Михаила. Позднее в Испании был орден «Михайлова крыла». В связи с этим понятно, почему Иван Грозный (под псевдонимом Парфений Уродивый) сочинил обращенный к Михаилу Архангелу «Канон Ангелу Грозному Воеводе» (канон опубликован и иселедован Д. С. Лихачевым).
Если мы присмотримся к этому небесному патрону, мы поймем логику монарших деяний Ивана — логику страшную, но строгую. В восточнохристианских легендах (перешедших и на латинский Запад) о приближении Св. Михаила часто возвещает удар грома. В книге О. А. Добиаш-Рождественской о его культе читаем: «Светлое и мрачное чередуется в нем. В нем надежда и угроза. С ним опасно шутить, его нельзя безнаказанно увидеть. С другими святыми легче иметь дело. Его можно ждать в виде пожара с неба, урагана с гор, в виде водяного столба в море... Он почти на границе добра и зла. Борясь за добро, он часто бывает яростен; иногда он бесцельно жёсток. Он карает, убивает, сечет розгами, уносит смерчем, ударяет молнией. Это гневный Бог и святой Сатана. Его больше боятся и чтут, чем любят».
Чем не портрет, не «подобизна» Ивана, прилежного ученика небесного наставника? Оба они — «грозные», и недаром в каноне этот эпитет употреблен двенадцать раз! Установлено, что в приложении к царю эпитет «грозный» не имел отрицательного оттенка. «Достоит царю грозну быти», — говорится в одном русском сочинении середины XVI века, и эти слова нельзя толковать как призыв править жестоко и безжалостно. Это ясно из контекста: прилагательное «грозный» и существительное «гроза» появляются там, где речь идет о порядке в государстве. Поэтому и возможен оксюморон (мнимый!) «царская смиренная гроза» (в этом сочетании — предостережение против «рассечения» Троицы). «Грозный царь имярек» — просто-напросто титулярная формула, которая означала самодержавного
государя, власть которого никем и ничем не ограничена.
Но Иван Грозный казнил и заточал не только злодеев, он проливал кровь, не заботясь о виновности или невинности жертв, и нисколько этим не смущался. Более того, он был уверен, что пролитие крови неумыт-ным судией не будет вменено ему в вину, и уверял в этом Курбского: «Воспомяни же и в царех великого Константина: како, царствия ради, сына своего, рожденного от себе, убил есть!.. И во святых причитается!» Выходит, что Грозный одобрил императора Константина Великого, который в 326 году казнил своего сына Криспа (ведь Константин признан святым и равноапостольным, а значит, пребывает в раю на лоне Авраамовой). Лучше бы Грозный этого не писал, потому что слово обладает способностью материализоваться, и эта фраза отлилась ему полной мерой: он как бы запрограммировал сыноубийство за семнадцать лет до насильственной смерти царевича Ивана Ивановича.
Откуда такая несокрушимая уверенность в собственной правоте? Она обусловлена именно религиозным взглядом на историю. Грозный подражает Саваофу, который может карать без видимой вины: ведь наказу-ется общее зло мира (все люди грешны, только Христос был безгрешен), а не каждое конкретное проявление зла. «Аки Бог» ведет себя Иван IV, обрушивая царскую грозу на все общество. Он громит Новгород, Тверь, собирается громить Псков — и даже Москву! Когда 25 июля 1570 года царь решил устроить на Поганой луже в Китай-городе публичную казнь последних уцелевших «изменников» по новгородскому делу, среди земского населения стольного града поднялась форменная паника. Лавки закрылись, улицы опустели, все попрятались по домам. Иван, разъезжая на коне, успокаивал народ, «говоря, что, правда, в душе у него было намерение погубить всех жителей города, но он сложил уже с нихсвой гнев» (это свидетельство немца А. Шлихтинга).
Царь подражает архангелу Михаилу: ведь архистратиг не только «царственный ангел», но и «ангел смерти». Перед тем как повести душу по двадцати загробным мытарствам, он исторгает ее из тела огненным трезубцем. Это долгая и нестерпимая мука — оттого-то царь в своем каноне просит воеводу небесных сил: «Соблюди раба божия (Ивана, конечно. — А. П.) в бедах и в скорбех и в печалех, на распутиях, на реках, в пустынях, в ратех, в царех, и в князех, в вельможах, и в людех, и во всякой власти, и от всякой притчи (от наговора. — А. П.), и от диявола... Соблюди... от очию злых человек (от сглаза. — А. П.) и от напрасный смерти и от всякого зла».
Впрочем, праведнику нечего бояться, его кончина подобна отходу ко сну, это «успение». Тогда, в XVI веке, всякий мало-мальски образованный человек знал прелестный рассказ на эту тему. У смертного одра праведника архангел Михаил одесную и архангел Гавриил ошую ожидают разлучения души и тела, ибо господь повелел ждать, не брать душу насильственно, «с ну-жею». Душа медлит, архангелы спешат, Михаил взывает к Богу, и тот... Тот посылает на землю сонм райских жителей во главе с Давидом-псалмопевцем. Они поют, а Давид играет на псалтири (это струнный инструмент вроде гуслей) — несказанно прекрасно, так что душа заслушалась и «от радости изыде из тела и прииде на руце к Михаилу». Если Михаил — владыка души, то и «подобный» ему Грозный присваивает себе права не на одни тела, но и на души подданных.
«Исповедую и знаю, — провозглашал царь, — что тем, кто живет во зле и преступает божьи заповеди, не только там мучиться, но и здесь суждено испить чашу ярости господней за свои злодейства и испытать многообразные наказания, а покинув этот свет, в ожидании праведного господнего суда, претерпят они горчайшее осуждение, а после осуждения — бесконечные муки». Грозный презрел Христову заповедь: «Мне отмщение, и Аз воздам», а свои мучительства, свою ярость кощунственно отождествил с «чашей ярости господней».
Это поистине религия силы, это земной ад. И Курбский, и замученный Малютой митрополит Филипп Колычев называли опричников «кромешниками» и «полком сатанинским». Комментарием могут служить рассуждения академика С. Б. Веселовского: «Слова опричь и кроме синонимичны. По тогдашним представлениям о потустороннем мире, «царство божие» было царством вечного света, за пределами, опричь, кроме которого находилось царство вечного мрака, «царство сатаны»... Выражения кромешный и кромешник, образованные по аналогии со словами опричь, опричный и опричник, были не только игрой словами, но одновременно клеймили опричников как исчадье ада, как слуг сатаны».
Вовсе не нужно думать, что Грозный «просмотрел» эту языковую ассоциацию при учреждении опричнины. Скорее всего, этот блестящий стилист ее предусмотрел. Если царь подобен Богу, то опричники подобны бесам. Они «тьмообразны», как адское воинство, одеты с головы до ног в черное и ездят на вороных лошадях (черти по причине их «тьмообразия» назывались в старину «синьцами» или «ефиопами»). Доктрина наказания, как она сложилась в политическом богословии Грозного, в сущности, чрезвычайно проста. Ее можно выразить с помощью параллелизма: на том свете наказание определяет Бог, а осуществляют сатана и бесы. На этом свете опалу налагает царь, а карательной практикой занимаются опричники-кромешники.
Подобно бесам, они совершают надругательства над душой. Они рассекают тела, и это не бесцельная жестокость. В русском варианте православия существовало (и существует) народное заблуждение, будто для того, чтобы встать на Страшный суд, необходимо «иметь тело», пусть истлевшее, хоть косточки. А после опричников оставались куски мяса, да и те пожирались собаками, потому что хоронить казненных запрещалось. Опричники убивают «всербдне», семьями, включая детей и старцев, — дабы не осталось близких, дабы некому было возносить заупокойные молитвы, которые как-то облегчают участь усопших. Опричники пользуются самыми изощренными орудиями мучений и казней, потому что ориентируются на апокрифические описания пекла. В православном аду одновременно очень жарко и очень холодно. «Боюся тартара ледовитого, яко не причастен есть теплоты», — сказано в одном старинном памятнике. Поэтому зима, мороз, замерзшие реки все подходит опричникам, как подходит им громадная сковорода, нарочно выкованная для поджаривания людей.
И для чего все это делается? Как это объясняет Грозный?
«Я же усердно стараюсь обратить людей к истине ц свету, чтобы они познали единого истинного Бога, в Троице славимого, и данного им Богом государя и отказались от междоусобных браней и преступной жизни, подрывающих царства... Это ведь и есть сладость иевет!» Знакомая песня... о рае на земле. Свет — это рай («Аз есмь свет», — сказал Христос), и сладость тоже рай, почему к Христу обращаются: «Иисусе сладчайший» и «Спасе, истинная сладосте».
Впрочем, ощущая себя обладателем истины, Грозный все-таки не прочь был получить подтверждение своей правоты свыше (ведь он знал — из тех же апокрифов, — что царям, которые «равнялись Богу», тоже уготовано место в адских пещерах). В 1577 году, когда была завоевана вся Ливония, царю казалось, что такое подтверждение ему дано. «Не моя победа, но Божия», — с торжеством написал он Курбскому из Вольмара. Потом его уверенность поколебалась. Ливонская война была проиграна. После смерти царевича Ивана Ивановича угроза нависла над самой династией (и она действительно пресеклась на Федоре Ивановиче). К старости у царя появилось что-то вроде рефлексии. По его приказу был составлен Синодик опальных, (чтобы поминать их), он стал делать вклады по душам казненных... Но было поздно.
Тирания не только разорила страну, она ее развратила. Ставка на худших, воплотившаяся в опричнине, удалила от власти порядочных людей, а худших сделала еще хуже. При вступлении в «сатанинский полк» было обязательным клятвенное отречение от родителей, то есть прямое нарушение пятой заповеди. Ложь стала поведенческим принципом тех, кто хотел «выбиться в люди», и это выразилось в самозванстве.
Показательно, что, в отличие от Западной Европы, русские источники до начала XVII века не знают ни одного самозванца, хотя в историческом бытии ситуации, «предрасполагавшие» к самозванству, возникали многократно. Таковы и феодальная война XV века, когда за великокняжеский стол боролись две линии потомков Дмитрия Донского, и схватка за трон между внуком и сыном Ивана III еще при жизни последнего, и в особенности конец царствования Грозного, когда от руки отца погиб наследник. Между тем ни в одной из этих ситуаций самозванец не появился.
Вне русских пределов самозванство — довольно редкое и спорадическое, но, так сказать, «равномерное» явление (вспомним мага Гаумату, Лженерона, Лжеаг-риппу, Лжежанну д’Арк, наконец, Лжелюдовика XVII). На Руси же оно ограничено четкими хронологическими рамками — от первых лет XVII века до крестьянской реформы 1861 года, от Лжедмитрия до Лжеконстантина
(функция «избавителя» сначала приписывалась Константину Павловичу, а потом и Константину Николаевичу, который считался самым либеральным из великих князей). Зато в этих рамках мы произвели великое множество самозванцев.
Относить их на счет истории русской глупости нет резона. В Смуту одновременно подвизалось до десятка самозванцев. Никто не верил, что все они подлинные царевичи. В лучшем случае верили одному, а от других открещивались. Самозванство интересно с социальной точки зрения (низы пришли к мысли о соперничестве с властью, но в той же монархической оболочке), но еще интереснее с точки зрения национально-психологической. Было два типа самозванцев. Один представлен Гришкой Отрепьевым. Это нарушитель канонов, реформатор, демонстративно презирающий царский и православный этикет. Но Гришка, русский по рождению и воспитанию, был в сущности европейским авантюристом, поскольку свою роль он выучил в Польше, которая в ту пору была раем для проходимцев, мечтавших о какой-нибудь короне или хотя бы о предводительстве в крупном мятеже. Второй и самый распространенный тип самозванца — тип народного, точнее, крестьянского «царя-батюшки». Этот сказочный тип с «царскими знаками» на теле лучше всего известен по Емельяну Пугачеву.
Однако независимо от рубрикаций все самозванцы присваивают чужие имена. В плане культурного генезиса это связано с так называемым «мифологическим отождествлением», то есть с представлением о тождестве обозначения и обозначаемого, слова и твари. В великорусском ономастиконе многие имена имеют устойчивый ореол, что ясно, например, из поговорки: «Одно дитя и то Фома». По старинной традиции считалось, что царь и бояре принадлежат к исключительным родам, что «родословие» и «честь» наследуются, а не жалуются и не выслуживаются. Когда Пугачев в оренбургских степях назначал своих графов, он дал им не только титулы, но и фамилии. Чика Зарубин, например, стал Чернышевым. «Граф Зарубин» звучит не хуже чем «граф Чернышев», тем более что Чика и не выдавал себя за вельможу из этой семьи, да и графское достоинство было для России не исконным, а жалованным и к тому же Недавним. Чика — не самозванец, а «двоезванец». Массовая перемена имен в среде революционеров XX века — поздний отголосок этой традиции (заметим, что революционеры остались при чужих именах и после того, как захватили власть; теперь они вполне могли обойтись без псевдонимов, но не обошлись же: воистину выше лба уши не растут и выше головы не прыгнешь).
В обществе религиозном отказ от своего имени и присвоение чужого переживаются крайне болезненно. Человек теряет все, что получил при крещении и наречении, — ангела-хранителя, то есть небесного помощника и заступника, крестного отца и крестную мать. Он лишается также прав, вытекающих из самого факта рождения, — прав на любовь и поддержку тех, с кем он кровно связан. Самозванство — незаконнорожденное дитя опричнины, хотя их, если не ошибаюсь, никто не сопоставлял и не связывал. Для тех и других становится недействительным отречение от дьявола, которое совершается в таинствах крещения и миропомазания. Напротив, тот, кто присваивает чужое имя, отрекается от Бога и становится отщепенцем. Это как бы и не человек: он «никто, и звать его никак», согласно поговорке. Он неизбежно оказывается в бесовских сетях, то есть в сфере зла.
Все это — азбука православия, и каждый опричник, каждый самозванец не мог сомневаться в том, что душу погубил (ибо тогда еще верили в бессмертие души). Ему уже нечего было терять. Все знают знаменитые слова Пушкина о русском бунте, «бессмысленном и беспощадном». Это наблюдение, и наблюдение точное, но в чем объяснение? На мой взгляд, в том, что русский бунт не столько социален, сколько религиозен. Самозванство — это народная оболочка наших старинных бунтов, всех без исключений.
На знамени Болотникова было начертано имя «истинного царя Димитрия Ивановича», а в войске присутствовал и воплощенный самозванец, царевич Петр, из холопов. Когда разницы двигались по Волге в центральные уезды России, то среди их челнов плыли две барки,, одна черная, другая красная. Цвет имел символическое значение: Разин распускал слухи, будто заодно с ним опальный патриарх Никон (на черной, монашеской барке) и гонимый царевич Алексей Алексеевич, в действительности уже покойный (красный цвет, пурпур и багрец — знак царской власти). По крайней мере на одной из этих барок, красной, был поддельный хозяин. Предоставляем слово очевидцу казни Стеньки Разина: его везли «по Тверской улице на телеге с рундуком (возвышение с приступками. — А. П.), сгоячц,, распетлен накрест, окованы руки и ноги, а над главой? ево была против лица ево повешена петля. А подле ево к тому же рундуку брат по левую сторону прикован ево Фролко Разин, а по другую сторону самозванец-царевич, который назывался царевичем Алексеем Алексеевичем. И бежали у рундука скованы пеши». Можно приводить и другие примеры, но этих, полагаю, достаточно. Напомню только, что пушкинское наблюдение — это наблюдение над пугачевщиной, то есть над типичным, возглавлявшимся самозванцем восстанием.
Религиозная подоплека бунтов не в том состоит, что предпочитается какая-либо конфессия за счет иной. Так было на Западе, а в Великороссии войн за веру не было. Даже в самые тяжелые для старообрядцев времена они сжигались, а не сражались (исключение — некоторые эпизоды в казачьих землях). Если у некоторых бунтов и заметна конфессиональная окраска, она все же очень слаба. Когда летом 1682 года Москвой владели восставшие стрельцы, тогда «ревнители древ-лего благочестия» сделали последнюю попытку восстановить в русской церкви старый обряд. Пятого июля в Грановитой палате был знаменитый диспут, на котором суздальский священник Никита Добрынин-Пусто-свят старался «перепреть» архиереев во главе с патриархом Иоакимом. Без поддержки стрельцов (они толпились снаружи, а выборных послали в палату) этот диспут не мог бы состояться. А что в итоге? В итоге через несколько дней царевна Софья приказала отрубить Никите Пустосвяту буйную голову, а стрельцы и пальцем не пошевельнули.
Другое дело, что в-расколотой на «общество» и «народ» России петербургского периода секуляризованная культура верхов часто воспринималась низами как ересь, вероотступничество, уход «в немцы». За одежду, манеры, музыку, непонятный православному уху разговор, французскую кухню и т. п. — за всю западную плоть, которая наросла на барской белой кости, прихо-,-. дилось страдать. Так Пугачев вздернул астронома за астрономию (поближе к звездам). Так в 1905 году и позднее скопидомные и бережливые крестьяне жгли/ помещичьи усадьбы — не строения жгли и не то, что находилось внутри, а великую, но чуждую им усадебную культуру, которая возникла недавно, в XVIII веке.
Религия бунтов — это религия их предьодителей-самбзванцев. Будучи добровольными отщепенцами, они знают, что надежды на спасение души у них нет. Им остается одно — «погулять», покуда живы, и они гуляют, разрешают себя от уз нравственных правил, дают волю страстям и порокам («вольному воля, спасенному рай»). Прежде они боролись с ними, потому что, как все православные, надеялись заслужить загробное оправдание, теперь оставили о том попечение. Это отчаянные люди, им все нипочем, они живут очертя голову, в какой-то лихорадке зла, готовы на всякую крайность, для них, по словам Пушкина, головушка — полушка и шейка — копейка (своя и тем более чужая).
Таково мироощущение самозванцев. Впрочем, это реконструкция, а всякая реконструкция условна. Но достоверность ее подтверждается подробностями частной и семейной жизни самозванцев, донельзя мерзкими. Лжедмитрий, влюбленный в Марину Мнишек, в ожидании ее приезда растлил Ксению Годунову и вступил в противоестественную связь с молоденьким князем Иваном Хворостининым (пример можно было брать с того же Грозного, у которого в любовниках состоял Федька Басманов, сын человека, выдвинувшего идею опричнины). Пугачев женился от живой жены. Подьячий Тимошка Акундинов, выдававший себя то за сына, то за внука Василия Шуйского, в ночь перед бегством из Москвы сжег свой дом вместе с женой, которую там запер. Это случилось в 1643 году, и ему еще предстояло десять лет странствий. Он бывал в Стамбуле, Риме, Стокгольме, «бусурманился», принимал с католиками «сакрамент», переходил в лютеранство. Выдала его (за некоторые торговые уступки) Голштиния. По дороге пленник тщетно пытался покончить с собой, был пытан в застенке и четвертован в Москве. Незадолго до казни ему устроили очную ставку с матерью-инокиней Стефа-нидой (в миру Соломонидой). Тимошка и от нее отрекся... А Лжедмитрий, напротив, «приписался» к чужой матери, к последней супруге Ивана Грозного.
Самозванцы в большинстве своем были людьми одаренными. В нравственно здоровом обществе они, быть может, и совершили бы нечто дельное и доброе. Но большая ложь и тирания Грозного, его религия силы надорвали русскую душу. Не прошло и двадцати лет после того, как архангел Михаил исторг душу из тела своего самозванного ученика, — и на Руси началась Смута, гражданская война, когда все воевали против всех, а страна и нация повисли на волоске. Так мы расплатились за попытку подстегнуть историю, за самодовольство и мнимое богоподобие. Опять пришлось каяться и размышлять о грехах, и долгим было покаяние.
Л. Гумилев. Политическое богословие Грозного не единственно в истории. «Философская вера», точнее негативная идеология, съедает этнос, в котором она нашла приют, так же как бледная спирохета съедает организм человека и гибнет вместе с ним. Торжество негативной идеологии означает провал в бездну. Но что такое «бездна»? Читатель не обязан, да и не может этого знать, ибо это отнюдь не просто.
В XVIII веке Лавуазье сформулировал закон сохранения вещества, который оказался неверным, а скорее, неточным. Сгорание в герметическом сосуде показало химику того времени неизменившийся вес только потому, что у него были недостаточно чуткие весы. На самом деле был потерян фотон, но уловить потерю Лавуазье не мог. Теперь физики знают, что при интенсивных термодинамических процессах идет утрата вещества, преображающегося в световую энергию, а последняя уходит из своей системы в межгалактическую бездну. Это аннигиляция — не смерть, но страшнее смерти.
Так как процессы этногенеза имеют энергетическую природу, то, очевидно, на них распространяется и эта физическая закономерность. Древние мудрецы это знали. Они даже персонифицировали, как это было тогда принято, принцип аннигиляции и назвали его Люцифером, «носящим свет» (правильнее будет неточный перевод — уносящий свет; куда? в бездну!). А бездну сопоставили с адом — самым страшным из всего, что они могли вообразить. И они не смешивали с «духом бездны» простых земных демонов, проявляющих себя в явлениях природы. Этим приносили жертвы и старались наладить отношения. А дух бездны был враг, контакт с ним означал отречение от радостей мира, от любви к миру, означал полное одиночество, проистекающее из принципа отрицания.
Какова причина возникновения антисистем и антиимпульсов? Она — в сознательной деятельности людей, ибо заблуждения и ошибки свойственны только сознанию.
Земля, в отличие от других планет, обладает биосферой, способной поглощать и накапливать энергию космических лучей (это концепция В. И. Вернадского). Все живые существа смертны, но смерть, то есть распад, нужно классифицировать. Смерть на организмическом уровне, где распад идет на молекулы, — явление заурядное, просто форма существования биосферных феноменов. Распад до атомного уровня — это энтропия, которую производит Время. (В отличие от Н. А. Козырева, я полагаю, что Время не выделяет энергию, а распределяет ее равномерно по пространству, то есть превращает Космос в Хаос.) Этот процесс обратим. Но самое трагичное — аннигиляция, когда распад идет на субатомном уровне, причем выделяются частицы света, уносимые в межгалактические бездны. Это «унесение света» можно рассматривать как наибольшее несчастье, обедняющее Землю.
Самое существенное то, что на планете Земля происходит не только накопление солнечного света путем фотосинтеза, но и творческие его преобразования в формы, с устремлением к иррациональным понятиям: Истина и Красота. Эти процессы можно рассматривать как преодоление третьего вида смерти — «кражи света», и даже как борьбу с аннигиляцией, то есть Бездной.
Но, может быть, Бездна — праздная фантазия древних людей и идеалистических философов? В таком случае стоит ли о ней говорить? Оказывается, стоит. Современная физика тоже оперирует этим понятием, конечно, называя его по-своему — вакуум.
Бездна — пространство без дна, без конца, а следовательно и без начала. Начало и конец имеют все частицы вещества, все импульсы энергии. Значит, бездна — это Пустота.
По современным данным, около 98 % вещества сосредоточено в звездах и планетах, но и пространство между ними заполнено космической пылью и пронизано потоками элементарных частиц. Но все они движутся в пустоте благодаря наличию пустоты, вакуума. Без пустоты не было бы и движения, ибо любой импульс затухал бы в той же точке пространства, где и начался. А поскольку движение есть везде, даже в самом плотном веществе электроны вращаются вокруг атомного яд-
pa, — значит, вакуум пронизывает материю, так же как материя (вещество + энергия) пронизывает вакуум, скрытый и не понятый нами физический мир, не являющийся частью нашего реального мира.
Вакуум — это мир без истории. В каждом малом объеме пространства непрерывно рождаются пары «частица — античастица», но тут же взаимоуничтожаются, аннигилируют, испуская кванты света, которые, в свою очередь, «проваливаются в никуда». В результате — ничего нет, хотя в каждый момент в любом микрообъеме существует многообразие частиц и квантов излучения. Возникая, оно тут же уничтожается. Оно есть, и его нет. Это явление именуют нулевыми колебаниями вакуума, а несчастные частицы, которые существуют и одновременно не существуют, названы виртуальными.
Ну разве это не ад в понимании древних, считавших бессмертную душу частицей света? Становясь виртуальной, эта частица, по воззрениям жизнеприемлющих религий, страдает. И ведь контакт материи с вакуумом происходит постоянно, ибо вакуум присутствует даже внутри атомов, где частицы вертятся вокруг ядра.
Но если на «пустоту» воздействовать сильным электрическим полем, то виртуальные частицы могут превратиться в реальные, могут спастись из ада. Однако основа двуединого мира именно «пустота», а вещество, поля, излучения — только рябь на ее поверхности. Но ведь без этой «ряби» вакуум не мог бы проявить себя, не мог бы получить те реальные частицы вещества и света, которые он превращает в виртуальные. Иными словами, он потерял бы даже то существование, благодаря которому его можно обнаружить, а вещество и энергия утратили бы возможность движения. Значит, разделение субстанции и пустоты — конец мира, по крайней мере такого, в котором мы живем и который мы изучаем.
И ведь вот что интересно: такая постановка проблемы была известна уже две тысячи лет тому назад, а возможно, и еще раньше. Только в те времена обходились без физики, заменяя ее философией. Наиболее распространенные философемы начала нашей эры утверждали биполярность мира, расходясь только в одном: что считать благом, а что — злом. Естественно сложилось деление на системы жизнеутверждающие, согласно которым материальная субстанция — благо, а Пустота, то есть Бездна, — зло, — и системы, полагающие, что материя ловит душу в свои тенета, обволакивает ее и мучает, а душа, или квант сознания, стремится вырваться на волю, из реальной частицы стать виртуальной. Оба подхода равно бездоказательны. Можно выбрать любой, по вкусу. Но тут-то и обнаруживается разница между двумя доминантами поведения и, соответственно, психологии, тут-то и выясняется, что популяционное поведение и популяционная психология биполярны. На одном полюсе стоит Дерсу Узала — образ, созданный В. К. Арсеньевым, на другом — изобретатель ДДТ, имени коего я не хочу знать. Но дело здесь не только в успехах химических наук.
Пассионарный человек, вооруженный техникой, даже палеолитической, мог бы уничтожить вокруг себя все живое, отнюдь не подозревая, что этим он погубит и свое потомство. Ведь примитивное дуалистическое отношение к природе — деление животных на «полезных» и «вредных» — теоретически обосновывало нарушение биоценозов, вне коих звери и растения жить не могут. Но простому древнему человеку сие известно не было, да и ныне неизвестно слишком многим. Казалось бы, древние люди, не знавшие основ биоценологии, именно так и должны были бы поступать. Однако пароксизмы страстных истреблений были редки и отнюдь не повсеместны. И это естественно: человек не только социальная единица, обладающая волей и правом на выбор решения в любых ситуациях, но и органический элемент земной поверхности, связанный с биосферой неразрывно через инстинкты, позволяющие ему не погибнуть.
Социальное бытие, определяющее сознание, действительно выходит за пределы биологии вида Homo sapiens. Оно, и только оно, дает каждому отдельному человеку и каждой социальной целостности возможность сделать выбор между устремлением к освобождению от тягот мира, к вакууму, и желанием уберечь живую природу от любых деформаций, ибо тут объект любви — реальность, существующая вне нас и помимо нас. Иначе говоря, сознательная деятельность людей может быть направлена в одну из двух имеющихся сторон, но деятельность, связанная с биологическими отправлениями, права на выбор лишена.
При детальном рассмотрении истории антропогенных ландшафтов напрашивается мысль, что наряду с деяниями, то есть плодами сознательных устремлений людей, идут стихийные процессы, связанные с сопричастностью человека биосфере. А это уже явления (феномены) природы, формирующие состояния вокруг людей (географическая среда) и внутри человеческих тел (физиология высшей нервной деятельности). Те и другие влияют на поведение людей в отдельности и коллективов, этносов, то через хозяйство, часто погибающее из-за наводнений и засух, то через болезни, то через космические облучения, иногда пробивающие ионосферу и достигающие поверхности Земли. Люди обычно не знают, что создает в них творческие подъемы или, наоборот, депрессии, но наука может найти их причины.
Люди ведут себя крайне непоследовательно. В отличие от Других высших животных человек не только поддерживает вмещающие его ландшафты, но иногда наносит им непоправимый ущерб, превращая их в бросовые, мертвые земли. Делает он это во вред самому себе как виду, ибо лишает потомство средств к существованию. Ответить на резонный вопрос: для чего он это делает? — трудно. Этногенезы, как природные процессы, сами по себе для биосферы безвредны, но могут быть губительны при сочетании двух условий. Во-первых, при смене фаз (перегибе), когда этнос на время теряет присущие ему эластичность и сопротивляемость внешним воздействиям, когда этнос болен. И, во-вторых, при активных межэтнических контактах (миграциях), которые сами по себе отразимы, ибо этнос в любой фазе практически неистребим. Это надо понимать в том смысле, что для истребления здорового этноса требуются столь большие затраты сил, что у соседей их, как правило, не бывает, а если сил и достаточно, то трата нецелесообразна.
Для построения нового дома, допустим, нужно сломать старый, стоящий на том же месте. Это обычная в природе и истории смена форм. При ней хорошее не всегда меняется на лучшее, но всегда на что-то реальное, отвечающее потребностям эпохи. Так развивается любая этническая система, даже в эпохи упадка, когда ненужные элементы культурной или природной среды просто не поддерживаются и приходят в ветхость.
Но когда памятник культуры (дворец, сад, картина и т. п.) или природы (лес, озеро, стадо бизонов) уничтожается и не заменяется ничем, то это уже не развитие,
а, его нарушение, не система, а антисистема. Руины и игруны не могут ни развиваться, ни сохраняться для потомства. Динамика сменяется статикой, жизнь — смертью, изменение структуры — аннигиляцией.
Можно было бы думать, что вандализм тоже является функцией пассионарности и, следовательно, предопределен природой как вариант закономерности. Нет! В природе планеты процессы аннигиляции не наблюдаются. Там идет постоянное накопление, благодаря которому существует тело биосферы — за миллиарды лет материализованный свет Солнца и звезд.
И пассионарные толчки (тоже явления природы) создают импульсы творческие, порождающие адаптационные синдромы, при которых этнос всегда сопрягается с привычным для него ландшафтом. Но если этническая группа оказывается в непригодных для нее условиях, она либо замыкается в свою скорлупу, либо разрушает неприятную для нее окружающую среду. Гибнут беззащитные звери, цветы, красивые горы и чистые реки. Но так расправляться может только чужеземец. Своему-будет жалко.
Однако миграция сама по себе еще не антисистема и не всегда повод для возникновения антисистемы. Этнические миграции — процессы стихийные, увлекающие людей, которым только кажется, что они едут в чужую страну по доброй воле. В Америку людей толкало их пассионарное напряжение, мешавшее довольствоваться скромной жизнью где-нибудь в Кенте или Мекленбурге. А ведь дома они имели пищу, кров и женщину. В долине же Миссури все это приходилось добывать с большим трудом и риском. И вряд ли жизнь в прериях или лесах Канады была легче прозябания в деревенской идиллии Европы.
Значит, тут мы встречаемся с детерминированным явлением природы, за которое человек моральной ответственности не несет, даже если при этом гибнет прекрасная девственная культура. Грустно, конечно, но что делать?
г Но если мигрант убьет индейского ребенка, чтобы получить премию за скальп, или донесет, что его соседка — ведьма и колдунья, после-чего ее сожгут односельчане, или спалит чудную деревянную часовню в лесу, или спасет заблудившегося в степи путника, — это уже его деяния, за которые он несет ответственность перед своей совестью. И разница между явлением и деянием принципиальна, ибо деяния можно совершить или не совершить. Они лежат в полосе свободы.
Казалось бы, во всех деяниях человеком руководит расчет, сознание собственной выгоды, ради которой он и приносит в жертву жизнь других людей. Так рассуждали французские материалисты XVIII века и называли свои взгляды материализмом. Но изучение истории показывает, что они заблуждались. Существует самопожертвование ради других, ради отечества — патриотизм, не объяснимый никакою выгодой и расчетом, и бессмысленное губительство предметов искусства или природных ландшафтов — вандализм. Это факты, зафиксированные историей. И свершение их возможно лишь при наличии пассионарной энергии. Но направление ее определяется чем-то другим. Вспомним, что готы, взяв Рим, ограничились контрибуцией, а вандалы, столь же пассионарные, находившиеся на том же культурном уровне, исповедовавшие, как и готы, арианство, не столько грабили, сколько бессмысленно ломали красивые здания, разбивали мраморные статуи, уничтожали мозаику, соскабливали фрески. Именно эта бессмысленность поразила современников, но и в последующие века она наблюдается то тут, то там.
И судьбы готов и вандалов оказались различными. Готы в Испании создали устойчивое королевство, слились с местным населением в единую политическую систему и впоследствии в монолитный этнос — испанцев. Вандалы свирепствовали в Африке до тех пор, пока небольшой корпус войск Велизария не ликвидировал их крепостей, в которых они укрывались от гнева аборигенов. После этого вандалов не стало. Похоже, что две соседние системы имели разные знаки, развивались в диаметрально противоположных направлениях.
Вандализм не ограничивает себя памятниками искусства. Он еще губительнее, когда его объектом является беззащитная природа, когда человек создает необратимую деструкцию ландшафта. Вандализм нельзя:, считать следствием борьбы за существование, а надо рассматривать как преступление по отношению к потом-х кам, которым придётся прозябать на оскопленной планете.
В отличие от миграции вандализм принадлежит не к явлениям, а к деяниям. Это бесспорно, но связано ли такое безобразие с пассионарностью? Конечно! Однако и характер ее особый, и генезис не природный, а ситуационный. До столкновения оба этноса — нормальные системы с разными уровнями пассионарности. При их совмещении поток пассионарности будет направлен от высшего уровня к низшему, так что общий уровень станет выравниваться. Этот энергетический перепад и создает ту форму энергии, которая питает возникающую тут антисистему, то есть системную целостность людей с негативным мироощущением.
От такого баланса страдают обе системы. Вандализм одинаково деформирует и тех, кого губят, и тех, кто губит, ибо оказывается, что губителям невозможно жить на развалинах и опустошенных землях. Две взаимоисключающие линии поведения мы в просторечье именуем добром и злом, причем никогда не путаем одного с другим. Потому что добро и зло — не зеркальные отражения друг друга, а совершенно разные стихии. И тут уместна Система отсчета, по которой вакуум противостоит субстанции, а по терминологии древних «бездна» — «тварному миру».
Однако можно ли различить «добрых» людей и «злых» и как это сделать? Ведь никто никогда не скажет о себе, что он служит мировому злу. Да, на персональном уровне различие невозможйо, но ведь есть популяционный критерий — отношение к окружающей среде, к миру. Прислушаемся к тому, что говорят представители обоих направлений, искренне уверенные в своей правоте.
Первая позиция: материальный мир ужасен и не имеет права на существование, так как все живое ожидает смерть, которая есть уничтожение. Вторая позиция: мир прекрасен, а смерть, постоянно сопутствующая жизни, просто выход из сложных, часто непереносимых ситуаций. Смерть — благо, ибо она спасает от внемиро-вогО зла, несправедливости, обиды, страдания, которые страшнее смерти. Обе позиции последовательны; можно выбрать любую по желанию.
В первой позиции — стремление заменить дискретные системы (биоценоз) на жесткие, которые, по логике развития, превратят живое вещество в косное, косное при термической реакции разложится до молекул, молекулы распадутся до атомов, из атомов выделятся реальные частицы, которые, аннигилируя, превратятся в виртуальные. Лимит такого развития — вакуум. И наоборот, при усложнении систем, где жизнь и смерть идут рука об руку, возникает разнообразие, которое немедленно передается в психологическую сферу, создает искусство, поэзию, науку. Но, конечно, за печали и радости бытия придется платить закономерной физической гибелью. Логики здесь нет, ибо правильность тезиса дана в опыте и в интуитивном обобщении. Выбор пути свободен. Такова контроверза.
И Самое любопытное, что она прослеживается от наших дней до начала новой эры, от экзистенциализма до гностиков, буддистов-махаянистов, манихеев, — апологетов первой позиции.
Этнос как система неизмеримо грандиознее человека, то есть персоны как системы. Однако закономерность тут и там одна. Этнос может либо дожить до гомеостаза и стать верхним звеном вмещающего ландшафта, либо при столкновении с иным этносом образовать химеру и тем самым вступить в «полосу свободы». Только во втором варианте возникает поведенческий синдром, сопровождаемый потребностью уничтожать природу и культуру, ибо вакуум не зеркальное отражение субстанционного мира, не антимир, а мир особых свойств. Поэтому при сопряжении материального мира с вакуумом не возникает гармонии, а идет постоянная борьба противоположностей.
Эта борьба происходит на уровне энергетических импульсов, которые древние именовали «силами». К числу импульсов принадлежит пассионарность. В критических коллизиях контактов на суперэтнических уровнях она, как безличная энергия, равно питает оба направления деятельности людей, имевших несчастье оказаться в химерной системе.
Механизм такого разделения настолько сложен, что объяснение его можно предложить только как гипотезу.
А как ицаче истолковать импульсы, идущие от сознания, не впадая в идеализм и в противоречие с законом сохранения энергии?
Великий Вернадский, разбирая второй биохимический принцип — учение об увеличении биогенной миграции атомов — направленности эволюции и становлений ноосферы, бросил мысль: «Человеческий разум не является формой энергии, а производит действия, как будто ей отвечающие (курсив мой. — Л. Г.). Отмечая это как эмпирический факт, я думаю, что дальнейшее развитие
научных данных позволит нам выйти из этих, может быть кажущихся противоречий... с законом сохранения энергии». Эта как бы Побочная мысль представляется более ценной и перспективной, нежели учение о ноосфере, которому она категорически противоречит. Решение пришло в виде образа, которым можно открыть экскурс.
Девочка бросает мяч в стену; мячик отскакивает обратно. Толкнула мяч не стена, она его отразила. Это процесс короткий, и потому причинно-следственная связь ясна, но если такой же процесс длится веками, сведения о которых отрывочны, а иногда запутанны, то связь между биосферным импульсом — рукой девочки и обратным движением — мяча от стены легко может потеряться. Исследователю будет казаться, что стена бросила мяч от себя, он увидит прямую связь вместо обратной.
Если же допустить, что человеческий разум, создающий философские концепции, романы, мифы, легенды и т. п., — путь не к ноосфере, а к экрану, отбрасывающему биохимические импульсы, как зеркало отбрасывает солнечный луч, превращая его в блик («зайчик»), то противоречие с законом сохранения энергии исчезает, а обратный путь биохимического импульса, зафиксированный человеческим сознанием, будет тем, что принято называть мироощущением, которое не следует смешивать с явлением сознания — мировоззрением.
Но коль скоро так, то мы уловили механизм связи духовной культуры, в том числе спекулятивной (умопостигаемой) философии, с биосферой, к которой принадлежим сами. Правда, вывод получился неожиданным. Вакуум выступает как ограничитель энергетических импульсов живого вещества; именно он является препятствием для совершенствования, и не кто иной, как он, вносит в биосферу Земли искажения, нанося ей удары за счет смещения направления импульсов, поступивших от нее же. Продолжая аналогию, можно сказать: первоначальное явление природы, отброшенное от экрана-ограничителя — вакуума, превращается в деяние, обусловленное свободной волей человека. А последствия деяний непредсказуемы. Они могут быть благодетельны и губительны, тогда как результаты явлений всегда Нейтральны: они лежат вне сферы добра и зла, прогресса и регресса, пользы и вреда для порождающей их биосферы. Ей любые процессы безразличны, кроме тезе, которые идут от разума.
Может показаться, что гипотеза о роли вакуума — экстравагантное предположение автора, но так как существуют мировые философские системы с миллионами поклонников, которые считают вакуум своим идеалом, то для охраны природы и культуры эти настроения небезразличны.
Поставим вопрос так: что общего между исмаилит-ством, карматством, маркионитским павликианством, манихейством, богомильством, альбигойством и другими аналогичными системами, вплоть до экзистенциализма? По генезису верований, догматике, эсхатологии и экзегетике — ничего. Но есть одна черта, роднящая эти мировоззрения — жизнеотрицание, выражающееся в том, что истина и ложь не противопоставляются, а приравниваются друг к другу. Из этого вырастает программа человекоубийства, ибо раз не существует реальной жизни, которая рассматривается либо как иллюзия (тантризм), либо как мираж в зеркальном отражении (исмаилизм), либо как творение сатаны (манихейство), то некого жалеть — ведь объекта жалости нет; и незачем жалеть — Бога не признают, значит, не перед кем держать отчет; и нельзя жалеть, потому что это значит продлевать мнимые, но болезненные страдания существа, которое на самом деле призрачно. А если так, то при отсутствии объекта ложь равна истине, и можно в своих целях использовать ту и другую.
А. Панченко. Поистине не только бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие. Тип разрушителя — это, по-видимому, вселенский и всевременной тип. Русский фольклор воплотил его в фигуре Васьки Буслаева, который не верит ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай. Он буквально «попирает заветные святыни» — топчет череп, «пусту голову», купается в Иордане, нарушая нерушимый запрет:
Во Ердане-реке крестился
Сам господь Иисус Христос.
«Старины» о Ваське Буслаеве — это предупреждение насчет того, что лихость надлежит умерять «удержом».
Но лихие люди таким предупреждениям не внимают, и разрушители снова и снова появляются на исторической сцене.
Л. Гумилев. Надо отдать должное средневековым людям: они были последовательны, и потому их речи звучали очень убедительно. Действительность подчас была столь ужасна, что люди готовы были броситься в любую иллюзию: ведь, войдя в мир фантасмагорий и заклинаний, они становились хозяевами этого мира или, что точнее, были в этом искренне убеждены. А то, что им ради этого ощущения свободы и власти над окружающими надо было плюнуть на крест, как тамплиерам, или разбить на части метеорит Каабы, как карматам, их совершенно не смущало. Правда, встав на этот путь, они отнюдь не обретали личной свободы. Наоборот, они теряли даже ту, которую они имели в весьма ограниченных пределах, находясь в той или иной позитивной системе. Там закон и обычаи гарантировали им некоторые права, соразмерные с несомыми обязанностями. А здесь у них никаких прав не было. Строгая дисциплина подчиняла их невидимому вождю, старцу, учителю, но зато он давал им возможность приносить максимальный вред ближним. А это было так приятно, так радостно, что можно было и жизнью пожертвовать.
И ведь не только бедствия и обиды приводили неофитов в негативные системы. Люди часто жили плохо, но не везде и не всегда. Бурные периоды сменялись покойными, однако обывательская затхлость мирной сельской жизни действовала диалектическим путем и создавала последствия, противоположные предпосылкам. Когда пассионарного юношу кормили досыта, но запрещали ему что-либо делать или логично размышлять, он искал применения своим затаенным силам и находил их в проповеди отрицания, не обращая внимания на то, что поставленная перед ним цель — фантазия. Сказка и миф рождались повседневно. Против них:, были бессильны строгие выводы науки и практические прогнозы действительности. В I тысячелетии они увлекали людей всех стран, кроме Руси и Сибири, где антисистемы не сложились.
Последнее легко объяснимо. Для появления устойчивой антисистемы необходимы два параметра: упадок, даже момент перехода из фазы в фазу, местного этногенеза и внедрение чужеродного этноса. Пусть даже обе системы будут перед началом процесса положительными, творческими, как в плане экологии, так и в аспекте культуры. Совмещаясь, они порождают антисистему, явление побочное, возникающее помимо воли участников. Поскольку Сибирь и Древняя Русь были ограждены от посторонних, нежелательных воздействий до XIII века, то идеи, чуждые мировоззрению их обитателей, если и попадали в северные леса Евразии, то не могли там укорениться.
Мною была предложена концепция э?носа как поля биофизических колебаний с определенной частотой или ритмом. Теперь она находит подтверждение. Когда два разных ритма накладываются друг на друга, возникает своего рода какофония, воспринимаемая людьми как нечто противоестественное, что в общем-то и правильно. И тогда люди начинают не любить вмещающую их географическую среду, искать выхода при помощи строгой логики и оправдывать свою ненависть к миру, устроенному так неудобно.
Именно такая ситуация возникла в эллинистических государствах древности во II — I веках до н. э. До походов Александра Македонского эллины не знали иудеев, а иудеи не обращали внимания на «явана» — ионян. Зато в селевкидской Сирии и птоломеевском Египте они оказались соседями. Иудеи изучили Платона и Аристотеля, эллины — Библию в переводе на греческий язык. Оба этноса были талантливы и пассионарны, но из контакта их мироощущений возник гностицизм — грандиозная увлекательная антисистема. Столкновение эл-линства с иранством породило в III веке манихейство, могучую антисистему, подвергавшуюся гонениям не только в Риме, Византии и Ираке, но даже в веротерпимом Китае и, несколько позже, во Франции. В Индии, куда вторглись кушаны и саки, великий философ На-гарджуна во II веке создал мироотрицающее учение о пустоте (шуньята), причем дошел в отрицании до того, что даже собственное существование объявил иллюзией.
Манихейство и христианство равно признают в мире сочетание двух стихий: Света и Мрака. Но манихеи считают «мраком» материю, и особенно плоть, а христиане видят в материальном мире творение Божие и благословляют чистые радости плоти, брак, веселие,
любовь к родине... Несовместимость обоих мировоззрений очевидна, а борьба между ними не кончена и поныне.
Самым простым выходом для манихеев было бы самоубийство, но они ввели в свою доктрину учение о переселении душ. Это значит, что смерть ввергает самоубийцу в новое рождение, со всеми вытекающими отсюда неприятностями. Поэтому ради спасения душ предлагалось другое: изнурение плоти либо аскезой, либо неистовым разгулом, коллективным развратом, после чего ослабевшая материя должна выпустить душу из своих когтей. Только эта цель признавалась манихеями достойной, а что касается земных дел, то мораль, естественно, упразднялась. Ведь если материя — зло, то любое истребление ее¦ — благо, будь то убийство, ложь, предательство... Все не имеет никакого значения. По отношению к предметам материального мира было все позволено.
Такая концепция испугала и разозлила средневековых французов. Их здоровая интуиция взбунтовалась против логики. Система на перегибе от фазы подъема к акмэтической фазе столкнулась с антисистемой и оставила на земле пепел казненных.
Аналогичное отношение к манихейству наблюдается всегда и везде. Поэтому манихейские общины I тысячелетия были тайными, вследствие чего ложь была их стереотипом поведения. Попав в Италию и Францию, манихейские эмиссары называли себя «ткачами», чтобы иметь возможность беспрепятственно переходить из города в город для пропаганды своего учения. На самом деле они были такими же «ткачами», как масоны — «каменщиками». Однако лживое самоназвание вводило и продолжает вводить в заблуждение людей несведущих, стремящихся всюду увидеть классовую борьбу. Именно так воспринял альбигойцев А. Блок в пьесе «Роза и Крест», но что с него взять?
Классовая борьба крестьян и горожан против господствовавших феодалов не прекращалась ни на минуту. Однако шла она по двум линиям, не связанным друг с другом. Крепостные крестьяне негодовали на произвол баронов, но их программа была сформулирована четко: «Когда Адам пахал землю, а Ева пряла, — кто тогда был джентльменом?» Вопрос резонный, но ведь он не имеет ничего общего с учением о том, что все материальное — проявление мирового зла и, как таковое, должно быть уничтожено. Напротив, классовая природа крестьян толкала их на то, чтобы, добившись свободы и прав, возделывать земли, строить дома, воспитывать детей, накапливать состояния, а не бросать все это ради иллюзий, пусть даже вполне логичных. Вторая линия — это борьба городских общин (коммун) в союзе с королевской властью против герцогов и графов. Опять-таки зарождающаяся буржуазия стремилась к богатству, роскоши, власти, а не к аскетизму и нищете. На Западе города поддерживали то папу, то императора, на Востоке — суннитского халифа, в Византии они были оплотом православия, ибо благополучие горожан зависело от укрепления порядка в мире, а не от истребления мира ради потусторонних идеалов, чуждых и невнятных.
И вряд ли проповедь спасительной бедности можно считать социальной программой. Ведь за бедность духовенства ратовали христианские монахи и мусульман ские марабуты и суфии. Роскошь епископов, непотизм и симонию клеймили с амвонов папы и Соборы, но подозрений в ереси они на себя не навлекали. Иной раз бывало, что слишком неугомонных обличителей убивали из-за угла или казнили по вымышленным обвинениям; однако в те жестокие времена и без этого легко было угодить на плаху, особенно когда увлеченный идеей человек не замечал, что он стоит на пути венценосца. Казни совершались и без идеологических нареканий. Да и, в самом деле, как может мистическое учение отражать классовые интересы? Ведь для этого оно должно сделаться общедоступным, но тогда будет потерян руководящий принцип — тайное посвящение и слепое послушание.
В отличие от борьбы за политическое преобладание внутри одной большой этносоциальной системы и даже столкновений между разными культурно-системными целостностями, имела место истребительная война. Французские манихеи были слишком похожи на французских католиков для того, чтобы они могли ужиться в одном ареале, ибо развивались те и другие в противоположных направлениях. Сталкиваясь, они вызывали аннигиляцию той самой материи, которую считали не Божиим творением, а мировым злом. И так вели они себя везде: в Византии, Иране, Центральной Азии и даже в веротерпимом Китае. Поэтому гонения на них были повсеместны, а их сопротивление, часто весьма активное, придало раннему средневековью ту окраску, которая просвечивает через видимую историю столкновений государств и становления этносов. Наличие двух несовместимых психологических структур в то время было явлением глобальным. Оттого так мало памятников искусства осталось от этой эпохи.
То, что манихеи к концу XIV века исчезли с лица Земли, не удивительно, ибо они, собственно говоря, к этому стремились. Ненавидя материальный мир и его радости, они должны были ненавидеть и саму жизнь; следовательно, утверждать они должны были даже не смерть, ибо смерть — только момент смены состояний, а антижизнь и антимир. Туда они и перебрались, очистив Землю для эпохи Возрождения. Неудача (их была только в том, что они не смогли забрать с собою всех людей, проведя их через мученичество, далеко не всегда добровольное. Правда, они старались, и не их вина, что жизнеутверждающее начало человеческой психики устояло против их натиска, благодаря чему история народов не прекратила своего течения.
А. Панченко. Однако, Лев Николаевич, зло не исчезает, оно, так сказать, прячется, чтобы проявиться в другой форме. В эпоху Возрождения наряду с созданными тогда художественными и философическими шедеврами зла было предостаточно. Об этом, об «обратной стороне титанизма», написал в своей последней книге А. Ф. Лосев.
Л. Гумилев. На этом фоне возникла Первая инквизиция, основанная испанским монахом Домиником и направленная против еретиков-катаров, или альбигойцев. Конечно, никто не захочет одобрить или тем паче защитить принцип инквизиции: осуждение без предъявления обвинения, на основе личного признания. Признание бывает вынуждено пыткой, донос может быть ложным, судьи — пристрастны и бесконтрольны, но мотив введения такого судопроизводства ясен. Инквизиторы берегли своих агентов от мести катаров, проникших в XIII веке во все слои французского и итальянского общества. Война велась при всех дворах, во всех цехах, в церковных общинах и портовых базарах. Это была беспощадная резня без линии фронта, причем жертвами ее становились все оклеветанные катарами, и агентами инквизиции беззащитные, ни в чем не повин? ные люди. Катары широко использовали право на ложь, каковое было позволено их исповеданием, рекомендовавшим предательство для борьбы с материей.
Умирающий дуализм нашел способ перевоплотиться в другую, на этот раз монистическую концепцию. Ведь для антисистемы такие мелочи, как верность принципам, — несущественны, важна цель — избавление от материи и плоти. На вооружение было принято учение Блаженного Августина, талантливого мыслителя V века, в молодости бывшего членом тайной манихейской общины, кончившего дни епископом города Гиппона (в Африке) и по смерти признанного отцом церкви. Он был автором одного из трех направлений схоластики — учения о предвечном предопределении людей либо к раю, либо к аду. Были, конечно, оговорки, но суть не в этом.
Аргументация Блаженного Августина сводилась к тому, что Адам согрешил и передал грех всем потомкам генетически, как «первородный». Поэтому все люди такие мерзавцы, что всем им место только в аду. Бог предвечно и безусловно постановил некоторых спасти, а прочие — пусть гибнут. И любые заслуги и подвиги грешников значения не имеют, равно как и злодеяния предызбранных. Для дьявола в такой системе места нет, ибо все за него творит Бог.
Надо отдать справедливость тогдашним теологам: они учения Августина не приняли. Сторонники концепции Августина подвергались осуждению. Но прошли средние века, наступила Реформация, и Жан Кальвин воскресил идеи Августина. На них же была построена теория Второй инквизиции. Примирение Бога с Сатаной устраивало всех злодеев Европы.
Вторая инквизиция XVI — XVIII веков была хуже первой. Для оправдания, а также для регламентации совершаемых преступлений инквизиторы создали теорию, по которой Бог «настолько сострадателен, что не допустил бы зла в своих творениях, если бы не был столь всемогущим и добрым, чтобы превращать зло в добро». Из этого вытекало, что «преследованиями тиранов укреплялось терпение мучеников, а чародействами ведьм — совершенствование веры праведников». Можно было бы возразить, что Бог несправедливо немилостив к тиранам и чародеям, заставляя их мучить праведников и тем самым обрекая их на адские муки, но и на это есть ответ. Грешник хуже черта, ибо «Сатана отстранился от Бога, который допустил его согрешить и не опекал с любовью». Вообще черт не виноват, так как он «ничего не может без Божьего попущения», а «Бог не может хотеть зла, но может допускать зло».
Предложенная инквизиторами теория является апологией не только их самих, но и дьяволов, с которыми они якобы вели борьбу. Во всех злодействах истории, по их мнению, повинен только Бог, и, хуже того, — злодейства надо приветствовать, ибо из зла получается добро. Эта дьявольская диалектика является, по существу, обывательским подхалимством, возведенным на уровень метафизики. И подумать только, сколько крови пролилось из-за этого шизофренического бреда!
Да и как могло быть иначе? Учение о предопределении отняло у своих адептов только одну свободу: свободу выбора между Добром и Злом, но зато подарило им право на безответственность по отношению к собственной совести. Раз конечный исход предопределен, можно было поступать как вздумается. И тут вступила в силу обратная связь.
Полная безответственность индивида противопоказана обществу, которое вводит в силу закон, основанный не на совести, а на приказе начальства. С таким законом выгоднее считаться, но обойти его отнюдь не аморально. Сумел и выиграл! Поэтому было вполне логично, и даже не бессовестно, истребление индейцев в Северной Америке, работорговля, ограбление Индии, продажа опиума в Китай. Ведь запрещение этих предприятий не было предусмотрено, да и не могло быть, ибо Бог превращает зло в добро, а черт служит перед его престолом.
Но если так, то почему бы не завести с дьяволом контакт, тем более что он готов даже оплатить служение себе вполне реальными благами. Требует он немногого: продажи бессмертной души, в существование которой еще надо верить, и участия в «черных мессах». Эти обедни служились обязательно священником, отступившим от церкви, и заключались в прославлении Сатаны. Святые дары освящались на животе голой женщины и потом осквернялись. Иногда участникам этих мистерий казалось, что являлся сам Сатана и позволял целовать себя в зад. Случалось, что ему приносили в жертву младенцев, которых крали у матерей. Мистерии совершались в полночь, тайно, но о них знали очень, многие.
Черные мессы служились в Париже еще в XIX веке. Допускались к участию в них, кроме членов секты, только приглашенные, но получить приглашение было легко. Подробности можно прочесть в книге Гюисманса «Бездна», где автор колеблется между признанием серьезности наблюдавшейся им оргии и желанием оказаться обманутым. Для скептика-позитивиста персонификация любого принципа неприемлема, она ему просто претит. Если же отказаться от персонификации, которая уже в XIII веке стала излишней, то останется теория абсолюта, нравственного закона внутри себя. Молиться такому закону невозможно, равно как, например, закону Бойля — Мариотта.
И, наконец, последнее важное следствие теории строгого монизма — отношение к биосфере в целом, как к индивидуальным существам, так и к их творениям, становится негативным. Для того, чтобы уберечь беззащитную природу от бессовестных людей, нужно объяснить им пользу от биоценологии, а это — сверхсложно. Учение о полезных и вредных животных и растениях гораздо ближе рассудку обывателя, нежели понятие о гармоничности жизни на планете Земля. Обыватель предпочитает ощущать себя царем природы, а не ее составной частью. Поэтому строгий монизм на практике смыкается с восточным дуализмом — манихейством, с той лишь разницей, что злом считается все неприятное, мешающее данному человеку, а не объективная стихия Мрака. Это значит, что руководящим принципом для различия добра и зла, света и мрака, прогресса и регресса становится произвол.
Но почему же монистические и дуалистические учения не смогли вытеснить христианства, особенно в средние века, когда папы воевали с императорами, а схоласты тратили силы на бесплодные споры друг с другом? Пожалуй, потому, что монизму и манихейству противостало неосознанное мировоззрение, которое мы попробуем сформулировать здесь. Бог сотворил Землю, но дьявол — князь мира сего; на Земле дьявол силы нее Бога, но именно поэтому благородный рыцарь и монах-подвижник должны встать на защиту слабого и бороться с сильным врагом до последней капли крови. Ведь не в силе Бог, а в правде, и творение его — Земля — прекрасно; а Зло приходит извне, от врат Ада, и самое простое и достойное — загнать его обратно. А что Бог не сотворил дьявола, ясно и без доказательств, предполагать такое — просто кощунство.
Мы, люди XX века, знаем, что черта нет. И все же, когда окинешь взглядом историю антисистем, становится жутко. Это концепции- вампиры, обладающие свойствами оборотней и целеустремленностью поистине дьявольской. Ни могучий интеллект, ни железная воля, ни чистая совесть людей не могут противостоять этим фантомам. Там, где слагается этническая химера — наложение полей разного ритма, появляются антисистемы. А так как за время существования человека на Земле все этносы давным-давно вступили между собою в контакты, то, казалось бы, антисистемы должны были вытеснить этносы, заменить их собой, уничтожить все живое в своих ареалах и превратить свои реальные импульсы в виртуальные, дабы они могли взаимно аннигилировать. А ведь ничего подобного почему-то не произошло. Значит, в мире есть какой-то могучий импульс, противодействующий распространению антисистем и, возможно, очищающий от них лик Земли. Этот импульс не должен находиться в сфере сознания людей, потому что эта сфера открыта для обмана или для заблуждения. И он не заповедан нам свыше, потому что антисистемы бывают теистичны, а стереотипы этнических культур — атеистичны. И он не складывается в процессе эволюции, ибо за нужное для сложения время он бы погиб. Знаем ли мы импульс с такими свойствами? Да, знаем! Это пассионарный толчок.
Нет, не героизм отдельных пассионарных особей, личностей, жертвующих собой, а именно толчок, мутация, порождающая признак пассионарности и сообщающая заново возникающим этносам оригинальный ритм биополя, — вот что губит химеры и гнездящиеся в них антисистемы. Пассионарные толчки не только помехи в эволюции человечества, но и очистительная сила, без которой эволюция вообще не могла бы продолжаться. Этой силой природа поддерживает баланс биосферы, в том числе и тех самых людей, которые полагают, что их мысли, сколь бы они ни были фантастичны, представляют наибольшую ценность для планеты Земля. Теперь-то мы знаем, что все философские учения и пророческие реченйя — только биосферные импульсы, отраженные какой-либо гранью великого вакуума, подстерегающего Жизнь на каждом шагу. И ради этого из Бездны в Мир пробиты черные дыры, каждая из которых называется «личное сознание». Хорошо бы поставить на них заслонки, именуемые «совесть».
А сам пассионарный толчок явно не земного происхождения. Уже то, что оси толчков располагаются по поверхности планеты, как прямые линии, концы которых ограничены кривизной, а перпендикуляры проходят через центр Земли, показывает зависимость оси толчка от магнитного поля планеты. Предположение, что эти энергетические удары по Земле идут не от Солнца, а из рассеянной Галаксии, нашло уточнение. Американский астроном Джон Эдди обнаружил, что деятельность Солнца варьирует настолько, что иногда одиннадцатилетний цикл пропадает. На основе этих выводов Джон Эдди составил график солнечной активности за 5000 лет, и оказалось, что все датированные пассионарные толчки лежат либо на низких точках солнечной активности j либо на спадах ее. Это уже закономерность, позволяющая интерпретировать явление. При снижении солнечной активности защитные свойства ионосферы снижаются и отдельные кванты или пучки энергий могут пролетать невысоко над земной поверхностью. При этом они дадут жесткое излучение на своем пути, а оно, как известно, вызывает мутации.
Мы не одиноки в мире! Близкий Космос принимает участие в охране природы, а наше дело — не портить ее. Она не только наш дом, она — мы сами.
А. Панченко. Лев Николаевич, в истории стран и народов бывают эпохи, когда страны и народы как бы срываются с цепи. Начинается вакханалия внутренних войн и террора. В средние века это объясняли Божиим промыслом — иначе говоря, просто отказывались от объяснения. В средние века просто описывали болезнь и ужасались ею. Что до новых и новейших историков, они ищут и причины болезни — социальные, психологические, религиозные, вплоть до расовых и национальных. Плодотворны ли такие поиски? Быть может, человеку не дано понять, почему массы и толпы вдруг приходят в лихорадочное движение, почему они совершают деяния, которые с позиций здравого смысла противоестественны и ужасны.
Л. Гумилев. В исторической судьбе всякого этноса неизбежно наступает фаза надлома. Она, как показывает, хронология, укладывается в 150 — 160 лет. Это самый тяжелый период в жизни этноса, это кровопролитие и развал, война всех против всех. Начнем с Рима.
С убийства Тиберия Гракха в 133 году до н. э. до гибели Антония в 30 году до и. э. Рим не знал покоя. Гражданские войны обескровили сенат и народ. Революция Гракхов, война Мария и Суллы, геноцид первого триумвирата и проскрипции второго привели Римское государство в состояние кризиса. Успокоение (относительное, конечно) принесла победа Августа и его сторонников.
Византийский этнос вступил в жесткую фазу надлома в VIII веке. Выразилось это в иконоборчестве императоров исаврийской династии, когда все протекало противоестественно и потому жутко. В самом деле: православный царь, победитель мусульман и язычни-ков-болгар, вдруг запрещает религиозное искусство под предлогом разделения спекулятивной философии и эмоциональной стихии искусства, да еще, пользуясь служебным положением, хочет учить монахов — специалистов своего дела. А кто его поддерживает? Солдафоны и вельможные холуи как светского, так и духовного звания.
Иконоборчество — явление малоазийское, иконопочитание — эллинское. Для азиата иконы были мишурным украшением храма, где надлежало возносить свой дух к престолу Истины как абстракции, не имеющей зримого образа. Для грека иконы — окно в инобытие. На них изображен лик, а не личина и даже не лицо; поэтому духовное совершенствование сопряжено с эстетическим восприятием, через которое и открывается истина.
Но ни эта разница в мироощущениях, ни анализ иконоборчества в политическом и экономическом аспектах, ни декларации императоров и патриархов не могут объяснить, почему даже мелкое, непринципиальное разногласие становилось поводом для кровопролития. Исаврийский солдат рубил мечом образ Богородицы, а греческие женщины, рискуя жизнью, били этого солдата камнями и палками. А ведь те и другие были безграмотны, в теологии и в политике не разбирались, да и не думали в такой момент о столь сложных вещах. Все это, конечно, не пошло на пользу Византии. От нее отпала Италия, где в 751 году лангобарды взяли Равенну,?» 756 году образовалось светское государство пап. А император Константин Копроним, вместо того чтобы навести порядок в отпавшей области, расправлялся с беззащитными любителями изобразительного искусства у себя дома. Понадобилось полтора столетия, чтобы при Македонской династии наступило затишье.
И всюду так. Во Франции фаза надлома обрамлена именами Жанны д’Арк и Генриха IV, в Англии — короля Генриха VIII Тюдора и генерала Монка, осуществившего реставрацию Карла II Стюарта. Внутри рамок — та же кровь и те же страдания, Варфоломеевская ночь и свирепость «круглоголовых» солдат Кромвеля. Притом бессмысленно было бы искать правых и виноватых, все были хороши в своем роде. Герцог Гиз сжег сарай, где пели псалмы гугеноты, Жанна Наваррская бросила в подземную темницу католиков, ходивших к обедне, а Генрих VIII Тюдор приказал вешать на одной виселице католика за то, что тот чтит папу, и кальвиниста за то, что он отрицает святость мессы! В этой фазе человекоубийство было повседневным занятием обитателей Западной Европы, причем имело массовые масштабы.
В фазе надлома резко снижается удельный вес пассионариев, людей, не сдерживаемых инстинктом самосохранения и готовых жертвовать собою ради высокой (часто иллюзорной) цели. Зато резко вырастает значение субпассионариев. Именно из них формируются кадры исполнителей во время гражданских войн. Это люди без веры, чести и совести, корыстолюбцы и себялюбцы, палачи и доносчики, всегда готовые к услугам предводителей, для которых важнее всего власть и первенство. Естественно, что в фазе надлома происходит растранжиривание богатств и славы, накопленных предками.
Однако взаимоистребление не может быть вечным. Наступает момент, когда за недостатком сил и средств гражданская война прекращается. Спад усиливается,) становится монотонным, и эта монотонность отворяет двери новой фазе этногенеза — инерционной, или «цивилизационной». После пережитых потрясений люди хотят не успеха, а покоя. Они уже научились понимать, что индивидуальности, желающие проявиться во всей оригинальности, представляют для соседей наибольшую
опасность. Однако избежать ее можно — если сменить общественный императив и соответственно стереотип поведения.
В Риме это — «золотая посредственность», провозглашенная Октавианом Августом и ставшая лозунгом политической стабилизации, укрепления военной мощи и обращения к прошлому за поучительными примерами. Продолжалась эта система мировоззрения до смерти Марка Аврелия, около 200 лет. В новое время, в XVII — XVIII веках, аналогичный принцип нашел воплощение в образе «джентльмена», честного и воспитанного человека, которому полагалось подражать по мере сил.
«Цивилизация» (как инерционная фаза развития) благоприятна для накопления материальной культуры, упорядочения быта, стирания локальных этнографических особенностей, унаследованных от прошлых эпох. Короче говоря,,самобытность уступает место посредственности. Однако процесс идет медленно. Для людей, не желавших отказаться от своей оригинальности, оставались сферы искусства и науки, казавшиеся безобидными. Поэтому те, кто в XVI веке хватался за шпагу, — в XVIII веке сидел дома и писал трактаты, ценные (если автор был талантлив) и бессмысленные (если он был графоманом). А так как последних всегда больше, то создались огромные библиотеки, наполненные книгами, которые некому и незачем читать. Конечно, на этом фоне появлялись гении: мыслители, ученые, поэты. Их было не больше, чем в прежние жестокие времена, зато они имели хороших учеников, а их концепции — резонанс.
Отличительной чертой «цивилизации» является полное довольство эмоционально пассивного и трудолюбивого населения. Но в фазе этнической инерции наступает пора воздействий на ландшафты собственной страны. Растет техносфера, то есть количество нужных и ненужных зданий, изделий, памятников, утвари — разумеется, за счет природных ресурсов. Там, где природные материалы оказываются заключенными в оковы строгих форм, саморазвитие прекращается, заменяясь медленным, но неуклонным разрушением!, часто необратимым. Такие руины нужны только археологам. Они исследуют следы не растущих, но гаснущих этносов, оставивших векам черепки посуды из обожженной глины, фрагменты вавилонских табличек с клинописью, пирамиды и баальбекскую платформу, руины средневековых
замков и храмов древних майя в джунглях Юкатана, Биосфера, способная прокормить людей, не в состоянии насытить их стремление покрыть поверхность планеты хламом. В этой фазе этнос, как Антей, теряет связь с почвой, с жизнью, и наступает неизбежный упадок.
Облик этого упадка обманчив. На него надета маска благополучия и процветания, которые современникам представляются вечными, потому что они лелеют себя иллюзией о неисчерпаемости природных богатств. Но это — всего лишь утешительный самообман.
А. Панченко. Согласно Вашим, Лев Николаевич, расчетам, этнос выходит из фазы надлома примерно через семь с половиной веков после «первоначального толчка». Если отнести «зачало» великороссов к эпохе Александра Невского, а не Ивана Калиты, получится, что именно сейчас мы ступили на (или за) порог «цивилизации». Получится также, что надломились мы в николаевское царствование.
Жизнь единообразна: все рождаются, производят потомство, стареют и умирают. Но жизнь и разнообразна, а пределы человеческого познания ограничены. Я не сторонник философем, которым присущи вселенские претензии, ибо всякая дельная теория объясняет только часть фактов. Но я готов принять в качестве исходного пункта, что маразм системы, ее надлом, ее гниение, надрыв и т. п. проявились именно при Николае I. Выражаясь по-старинному, тогда в русском обществе обозначилась «потерька чести».
После петровских реформ оно жило не верой, а культурой. Пошатнулась старая мораль, основанная на Десятословии и Нагорной проповеди. Не случайно «птенцы гнезда Петрова», да и сам император, при всем их блеске, талантах, энергии, — : люди далеко не безупречные — попросту говоря, воры и разбойники. Для восстановления нравственного равновесия понадобилось два-три поколения. Появление «человека чести» описано Пушкиным в «Капитанской дочке» и воплощено в Петруше Гриневе: «Береги честь смолоду». Этот персонаж — веха в истории русской души:
Потом воспоследовала более или менее органическая эпоха. Памятник ей воздвигнут Львом Толстым в «Войне и мире». Чтение этой книги — радость, потому
что Россия была прекрасна, но: также и печаль, ибо сердце сжимается от ощущения невозвратимой утраты. Ну, а потом пошло измельчание человека.
О громкий век военных споров,
Свидетель славы Россиян!
. Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные Славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам страшась дивился мир;
Державин и Петров Героям песнь бряцали Струнами громозвучных лир.
Действительно, XVIII век — не только «век разума», но и век героев. Орлову был пожалован титул графа Чесменского, Румянцеву — графа Задунайского, Потемкину — светлейшего князя Таврического, Суворову — графа Рымникского и князя Италийского... Титулы эти нас не злят и не смешат — значит, мы считаем их заслуженными, как и княжеское достоинство фельдмаршала Кутузова. Но такие же пожалования Николая (имею в виду Дибича-Забалканского и Паскевича-Эри-ванского) побуждают к иронии, вызывают в памяти Шервуда, которому за донос было велено именоваться Шервудом-Верным (злые языки сразу предложили замену — Скверный). Донос оплачивают деньгами: «Я дал ему злато и проклял его...» Когда донос объявляется «делом чести», это означает, что общество занемогло.
Дальше — больше, дальше — бесы, «имя им легион». Предреволюционная эпоха — единственная, как - кажется, в русской истории, когда среди символических имен появились провокаторы. Их и прежде хватало, но разве могли они сравниться, все эти Шервуды и Анто-нелли, с Азефом, Талоном, Малиновским? Провокация стала чуть ли не бытовым явлением, в чем каждый может убедиться из рассказа Горького «Карамора». Недуг бесовства поразил русское общество — об этом говорит Лев Толстой, свидетель надежный и почтенный, в своих предсмертных статьях.
Он вспоминает, как гордился когда-то перед европейцами, что в России по закону не было смертной казни; что «недавно еще не могли найти во всем русском народе двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не то».
Что же теперь, после 9 января 1905 года? Теперь — кровь и смерть, «не убийство, не одно убийство, а убийства, бесконечные убийства». Убивают власти, убивают революционеры, сатанеет русская душа. И те, и другие не послушали Толстого, отмахнулись от его беспокойства о том, какие последствия для национальной морали будет иметь употребление «безнравственных средств», шпионства, обмана, лжи. Теперь люди сами идут в палачи, назначают цену за голову, торгуются. Это, положим, отребье. Но поражены и души «средних людей». «Дети игрдют в повешение», «почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли на охоту».
Эти люди, повзрослевшие или постаревшие, делали погоду и в 1917 году, и много позже. В моральном смысле и террор, и раскулачивание, и гонения на церковь — все это было подготовлено и предрешено, и поистине оставалось уповать только на «светлое будущее». Но что же здоровые силы нации, что же учители, «гении», о которых зло писал И. А. Бунин в «Окаянных днях»: -«В русской литературе теперь только «гении». Изумительный урожай! Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый... Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в геНИИ?»
Помните, Лев Николаевич, Вы рассказывали мне об одном Вашем разговоре с матерью? Вы заметили ей, что раньше, в «золотом веке» русской литературы, писали о каких-то предметах, о кавказском пленнике, медном всаднике, боярине Орше, мертвых душах, отцах и детях, Обломове, войне и мире, коробейниках, униженных и оскорбленных; а в «серебряном веке» его творцы пишут только о себе. Это верная мысль, особенно если вспомнить вызывающие брюсовские строки:
Я действительности нашей не вижу,
Я не знаю нашего века,
Родину я ненавижу
И люблю идеал человека.
Это, конечно, глупые стихи, но это и симптом — то ли всепоглощающего эгоизма, то ли страха перед жизнью и собственной страной. Бунин объяснял «установку на себя» тем, что «русская литература: развращена за последние десятилетия необыкновенно», — но разве это объяснение? Это констатация, и то сомнительной достоверности. Бунина раздражало, что писатели заискивают перед толпой. Доля истины здесь есть. Но с не меньшим основанием можно говорить об удалении от толпы, избранничестве, уходе в герметизм (у Хлебникова) и даже в «молчание» (у Александра Добролюбова и Леонида Семенова).
В любом случае проявилось что-то неорганичное, русской традиции не свойственное. Разладились отношения между «старшим братом» — и «младшим, страдающим братом». И старший вовсе не отвернулся от младшего, вовсе не презрел заветы служения народу и стране. В предсмертной пушкинской речи «О назначении поэта» Блок твердо и достойно возразил тем, кто мог поддаться соблазну отождествить народ с чернью: «...никогда не заслужат от поэта дурного имени те, кто представляют из себя простой осколок стихии, те, кому нельзя и не дано понимать. Не называются чернью люди, похожие на землю, которую они пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, за которым охотятся. Напротив, те, которые не желают понять, хотя им должно многое понять, ибо и они служат культуре, — те клеймятся позорной кличкой: чернь; от этой клички не спасает и смерть; кличка остается и после смерти, как осталась она за графом Бенкендорфом, за Тимковским, за Булгариным — за всеми, кто мешал поэту выполнядъ его миссию». Это сказано в 1921 году — после трех лет крови, «глада и мора».
В русской истории не было времен более благоприятных для личности, нежели «серебряный век». Конец петербургского периода действительно отмечен массовым производством гениев (без бунинских кавычек) — и в искусстве, и в науке. Но личность чувствовала себя неуютно. «Везде неблагополучно... катастрофа близка... ужас при дверях»; «история тех лет, которые русские художники провели между двумя революциями, есть, в сущности, история одиноких восторженных состояний-, это и есть лучшее, что было и что принесло настоящие плоды» (Блок). Одиночество — вот ключевое слово.
Одиночество переживалось тяжело. Отсюда поиски пристанища — в ницшеанском самоутверждении (крайнее его выражение — приведенное четверостишие Брюсова), в эзотерическом кругу «посвященных» (вепомним о бесчисленных товариществах и салонах), в друщх культурах, далеких от «своей» территориально, хронологически, эстетически («серебряный век» — век стилизаций), в богоискательстве и богостроительстве (это реакция на мировоззренческий релятивизм, «относительность всего»), в игре, наконец, Игровая стихия прямо-таки захлестнула искусство. Маскарад стал символом эпохи, а «играющий человек» — самым ярким эпохальным типом. Это необходимо учитывать при оценке «артефактов» начала столетия. При ином подходе можно, например, заподозрить в сатанизме устроителей и участников конкурса на тему «Дьявол», объявленного журналом «Золотое руно» в середине 1906 года. Игра — это паллиатив, это страх перед жизнью. История показала, что страх был вполне обоснованным.
В XIX веке русская литература приняла на себя функцию народного заступничества — и блистательно ее выполняла, покуда Россия была объята «вековой тишиной». Стоило в 1905 году народу, так сказать, зашевелиться, как эта функция стала проблемой. Бунин, описывая похороны Толстого, передает разговоры мужиков, несших полотнище с надписью: «Лев Николаевич, память о том добре, которое ты делал нам, никогда не умрет в нас, осиротевших крестьянах Ясной Поляны». Вот эти разговоры: «Ну вот, мы несли эту самую вывеску. Что ж, будет нам за это какое-нибудь награждение от начальства или от графини? Ведь мы как старались! Целый день на ногах! Опять же на венок потратились». Русская литература (и вся культура в целом) вдруг ощутила, что народу она пока не нужна.
В рассказе «Попрыгунья-стрекоза» А. И. Куприн вспоминает о елке в глухом уезде Рязанской губернии, в Никифоровском двуклассном училище, на Рождество 1906 года. Дети разыгрывают крыловскую басню, Стрекоза отвечает Муравью: «Я все пела». «Й тут учитель Капитоныч взмахнул одновременно скрипкой и смычком... и таинственным полушепотом весь хор начал петь:
Ты все пела, это — дело,
Так поди же попляши,
Так поди же, так поди же,
Так поди же попляши.
Мне вовсе не трудно сознаться в том, что в это время у меня волосы стали дыбом, как стеклянные трубки, и мне казалось, что глаза этой детворы и глаза всех набившихся битком в школу мужиков и баб устремлены только на меня, и даже больше, — что глаза полутораста миллионов глядят на меня, точно повторяя эту проклятую фразу: «Ты все пела, это — дело, так поди же попляши. Так поди же попляши...» В те минуты тяжелая, печальная и страшная мысль точно разверзлась в моем уме. «Вот, — думал я, — стоим мы, малая кучка интеллигентов, лицом к лицу с неисчислимым, самым загадочным, великим и угнетенным народом на свете. Что связывает нас с ним? Ничто. Ни язык, ни вера, ни труд, ни искусство. Наша поэзия — смешна ему, нелепа и непонятна. Наша утонченная живопись — для него бесполезная и неразборчивая пачкотня. Наше богоискательство и богостроительство — сплошная блажь для него, верующего одинаково свято и в Параскеву-Пятницу и в лешего с баешником, который водится в бане. Наша музыка кажется ему скучным шумом. Наша наука недостаточна ему. Наш сложный труд смешон и жалок ему, так мудро, терпеливо и просто оплодотворяющему жестокое лоно природы. Да. В страшный день ответа что мы скажем этому ребенку и зверю, мудрецу и животному, этому многомиллионному великану? Ничего. Скажем с тоской: «Я все пела». И он ответит нам с коварной мужицкой улыбкой: «Так поди же попляши...» Ну что же, если нужно будет, попляшем!»
Воздадим должное спокойному мужеству Куприна. Это написано в 1910 году, когда еще никто не мог знать ни о мировой войне, ни о революции.
Вычисленные Вами, Лев Николаевич, «фазы надлома» имеют общую черту — они заполнены религиозными войнами. Петербургский период завершился войной белых и красных. Можно воспользоваться и другим цветом (хотя бы для того, чтобы избежать терминологического подобия — Белой и Алой роз), можно обозначить это противоборство как схватку «белой кости» и «черной кости». О том, что страна разделена на «общество» и «народ» и что это добром не кончится, говорили у нас многие и многие. Это и кончилось злом.
Когда крестьяне, привыкшие ценить труд и вещи, жгли барские усадьбы, не строения они жгли, а усадебную культуру с ее библиотеками, картинными галере-
ями, музицированием. Это был поистине религиозный акт. Крестьяне ведь не предвидели, что в войне «белой» и «черной» кости победителей не будет, будут только побежденные.
Но в наше время есть только культура «общества» — и без нее, хороша она или худа, не обойтись. Возвращение к ней было неизбежно, вопрос стоял лишь о сроках, и сроки пришли. Будем уповать на то, что возвращение это означает конец надлома и надрыва. |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) —
творческая студия БК-МТГК.
|