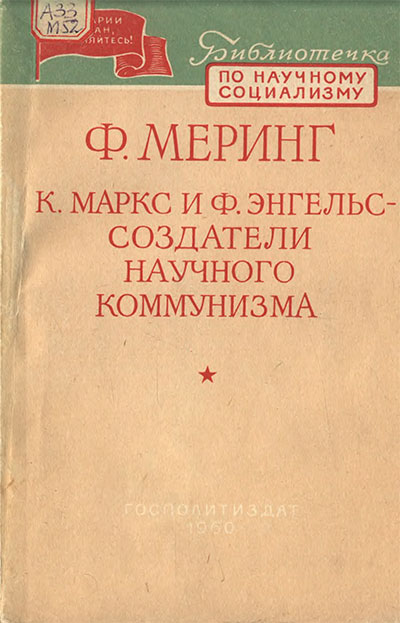СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 5
Глава I. КАРЛ МАРКС И ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС 13
Глава II. «РЕЙНСКАЯ ГАЗЕТА» 28
Глава III. «НЕМЕЦКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ЕЖЕГОДНИК» 47
1. Основание и гибель журнала 48
2. Статьи Маркса 56
3. Статьи Энгельса 71
4. «Святое семейство» 89
Глава IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ
1. Энгельс о положении английских рабочих 103
2. Маркс о Фейербахе 117
3. Маркс против Прудона 123
Глава V. СОЮЗ КОММУНИСТОВ 143
1. «Немецкая брюссельская газета» 149
2. «Наемный труд и капитал», «Речь о свободе торговли» 155
3. Кризис в Союзе справедливых 167
4. «Коммунистический манифест» 173
Глава VI. УСПЕХИ НАУЧНОГО КОММУНИЗМА 195
1. Маркс о товаре и деньгах 197
2. Главное произведение научного коммунизма 206
Примечания 224
Франц Меринг (1846 — 1919) известен как выдающийся деятель рабочего движения Германии, один из теоретиков левого крыла германской социал-демократии, крупный историк, блестящий публицист и литературовед.
В начале 90-х годов Меринг вступил в социал-демократическую партию Германии и стал одним из редакторов ее теоретического органа — журнала «Нейе цейт». На страницах этого журнала он активно выступал против буржуазной философии. Его талантливо написанные статьи с критикой различных философских реакционных школ и сейчас представляют значительный интерес.
Большой политический резонанс имела борьба Ме-ринга с ревизионизмом, стремившимся «приспособить» марксизм к новым условиям с целью превратить теорию научного социализма исключительно в моральную концепцию, а основные вопросы пролетарского учения (классовая борьба, социалистическая революция, диктатура пролетариата) отбросить как не отвечающие «изменившимся условиям времени».
Вместе с К. Лпбкнехтом и Р. Люксембург Меринг напечатал большое количество статей (особенно в газете «Лейпцпгер фольксцейтунг», которую Меринг редактировал с середины 90-х годов) против ревизионистско-реформистских критиков марксизма. Он правильно считал, что стремление ревизионистов заменить революционную диалектику марксизма идеалистическими взглядами И. Канта, пытавшегося примирить материализм с идеализмом, означает прямой разрыв с учением рабочего класса.
В 1913 г. Мерпнг вышел из редакции «Нейе цейт» и по существу прекратил сотрудничать в журнале, порвав тем самым с центристом Каутским, не желавшим вести борьбу со все более усиливающимся оппортунизмом в социал-демократической партии.
Первую мировую войну Меринг правильно считал войной империалистической; он смело осудил предательскую позицию социал-демократического руководства (во главе с Каутским), выступившего с заявлением, что гражданский мир является жизненным вопросом национального существования. В статье «Наши основоположники п политика руководства» (апрель 1915 г.) он квалифицировал политику правящей верхушки СДПГ как измену делу пролетариата, как измену учению Маркса и Энгельса.
В борьбе с социал-шовинизмом правых лидеров немецкой социал-демократии левые создали революционную организацию — «Союз Спартака». В его основании принимали участие Р. Люксембург, К. Либкнехт, К. Цеткин, Ю. Мархлевский, В. Пик и другие. Меринг являлся одним из организаторов этого «Союза». Выступая против милитаризма, руководя революционным движением народа и разоблачая правых социал-демократических руководителей, спартаковцы стали в тех условиях истинными выразителями интересов немецкого рабочего класса. Они сыграли решающую роль в подготовке и создании Коммунистической партии Германии (конец 1918 г).
Деятельность и работы Меринга не были свободны и от ошибок. Эти ошибки заключались главным образом в недооценке им роли партии рабочего класса как политического руководителя и воспитателя масс, в непонимании необходимости теоретического и организационного разрыва с оппортунистами. «...Даже такие людп, как Меринг и Цеткина, — писал В. И. Ленин, — отгораживаются от Каутского более «морально» (если позволительно так выразиться), чем теоретически...
Октябрьская революция помогла Мерипгу преодолеть многие ошибки. Это нашло наглядное выражение в его высокой оценке деятельности большевистской партии во главе с В. И. Лениным. «Большевики являются единственной русской партией, которая дает полную гарантию демократического мира... партией, которая в состоянии
полностью отразить все наскоки любых империалистов, как английских, так и немецких», — писал он в 1918 г. На это сразу обратил внимание В. И. Ленин, который в том же году говорил, что Меринг «в ряде статей доказывает немецким рабочим, что правильно поняли социализм только большевики...». Меринг, по выражению В. И. Ленина, был «головой и сердцем» с большевиками.
Классики марксизма высоко оценили Меринга как историка. В. И. Ленин охарактеризовал Меринга как «человека, не только желающего, но и умеющего быть марксистом». Он неоднократно ссылался на его книгу «История германской социал-демократии» как на одну из основных работ по истории немецкого рабочего движения. Эта и другие работы Меринга дают основание считать его одним из лучших историков рабочего движения Германии.
В настоящий выпуск «Библиотечки по научному социализму» включены некоторые разделы четырехтомного труда Меринга «История германской социал-демократии» (1897 г.), посвященные анализу формирования взглядов Маркса и Энгельса.
Обстоятельно прослеживая основные этапы становления теории научного социализма, Меринг показывает, какую титаническую работу проделали основоположники марксизма по переработке немецкой классической философии, английской политической экономии и французского утопического социализма.
Хотя в книге Меринга нет специальных разделов, посвященных характеристике движения английского пролетариата (чартизм), выступлений французского рабочего класса (лионские восстания 1831 и 1834 гг.) и германских рабочих (восстание силезских ткачей 1844 г.), в ходе изложения автор показывает, как развивающееся пролетарское движение воздействовало на формирование взглядов основоположников марксизма, как учение Маркса и Энгельса сделалось знаменем борьбы рабочего класса за свое освобождение.
В первых главах книги Меринга рассказывается о жизни и деятельности Маркса и Энгельса в тот период, когда они принадлежали к левогегельянскому движению, представители которого (Д. Штраус, А. Руге, братья Бауэры) делали из философии Гегеля радикальные и атеистические выводы. От всех левогегельянцев Маркса и Энгельса отличало то, что они были революционными демократами, отстаивавшими интересы трудового народа, активно участвовали в практической борьбе, которая шаг за шагом толкала их по пути познания законов развития общества. Это особенно ярко Меринг показывает на анализе работ Маркса, помещенных в «Рейнской газете» в 1842 — 1843 гг. и направленных против социального и политического гнета в Германии.
Разбирая его критические статьи по поводу дебатов рейнского ландтага, касающихся свободы печати и закона о краже леса, а также статью «Оправдание мозельского корреспондента» (о положении мозельских крестьян), Меринг подчеркивает, что только «в суровом столкновении с экономическими фактами» Маркс «познал недостаточность идеалистических воззрений на общество и государство».
В опубликованных в «Рейнской газете» статьях Маркс подходит к пониманию классовой структуры немецкого общества и открыто выступает защитником политически обездоленной массы; уже в этот период он начинает переходить на позиции материализма и коммунизма. Эта же тенденция намечается в письмах Энгельса из Англии, написанных им специально для редактировавшейся Марксом «Рейнской газеты».
Но окончательный переход Маркса и Энгельса на позиции коммунизма и материализма знаменуют их работы, помещенные в «Немецко-французском ежегоднике». В этих работах Маркс и Энгельс уже с точки зрения рабочего класса подвергают суровой критике капиталистическое общество и обращаются к пролетариату как к той общественной силе, которая способна ниспровергнуть социальные порядки, основанные на частной собственности. Подробно охарактеризовав статьи Маркса («К критике гегелевской философии права. Введение» и «К еврейскому вопросу») и Энгельса («Положение Англии» и «Наброски к критике политической экономии») и подчеркнув их роль в становлении марксистского учения, Меринг самым важным выводом основоположников научного коммунизма в этот период считает положение о том, что залогом освобождения общества от эксплуатации является формирование пролетариата — класса, над которым тяготеет полное бесправие и который не может освободить себя, не освободив всего общества.
Исследовав переход Маркса п Энгельса к материалистическому и коммунистическому мировоззрению, Меринг дает затем характеристику работ, написанных ими с позиций материализма и коммунизма. С 1844 г. Маркс и Энгельс начинают всесторонне разрабатывать принципы диалектико-материалистического воззрения, применяя при этом материализм и к объяснению исторических процессов. Такая разработка явилась необходимым этапом становления пролетарского учения, так как без общетеоретических и методологических предпосылок нельзя было приступить к анализу экономических условий буржуазного общества, без чего, в свою очередь, невозможно доказать естественно-историческую необходимость коммунизма.
Со свойственной ему глубиной и основательностью Меринг анализирует каждую работу классиков, составившую веху в создании теории научного коммунизма. Не останавливаясь на изложении основных идей разбираемых книг — Меринг рассматривает их с достаточной полнотой, — следует сказать о некоторых неточностях и пробелах, имеющих место в публикуемой работе.
Нельзя, например, согласиться с утверждением Меринга о том, что произведение Маркса и Энгельса «Святое семейство» по своему содержанию не выходит из круга идей, очерченных ими в статьях, помещенных в «Немецко-французском ежегоднике». Хотя эта книга и носит полемический характер, однако положения, сформулированные в «Немецко-французском ежегоднике», получили в ней конкретное обоснование и дальнейшее развитие. Как указывал В. И. Ленин, в «Святом семействе» заложены основы «революционно-материалистического социализма...»
Критикуя субъективно-идеалистические взгляды лево-гегельянцев на роль идей и личности в истории, Маркс и Энгельс показали, что не идеи сами по себе творят историю, а люди, овладевшие этими идеями и применяющие практическую силу для претворения их в действительность; что только народ способен своей борьбой упразднить объективные бесчеловечные условия своего существования. В. И. Ленин особенно подчеркивал важность выдвинутого в «Святом семействе» положения, что, чем шире и глубже происходящий в обществе переворот, тем многочисленнее массы, принимающие в нем участие. Гениальная идея о всемирно-исторической задаче пролетариата формулируется в книге более конкретно, связывается с экономическим положением рабочего класса в капиталистическом обществе: «Пролетариат приводит в исполнение приговор, который частная собственность, порождая пролетариат, выносит себе самой... С победой пролетариата исчезает как сам пролетариат, так и обусловливающая его противоположность — частная собственность».
В «Святом семействе» дана также разработка некоторых основополагающих идей диалектического материализма. Можно поэтому без всяких оговорок сказать, что в этой книге Маркс и Энгельс сделали значительный шаг вперед в развитии теории научного коммунизма по сравнению со статьями, опубликованными в «Немецко-французском ежегоднике».
Перед написанием «Святого семейства» Маркс проделал огромную работу по подготовке философско-экономического труда, в котором подверг критике буржуазную политическую экономию, выяснил ценность и значение гегелевской диалектики и вскрыл недостатки грубо уравнительного коммунизма. Этот труд — «Экономическо-философские рукописи 1844 года». Меринг не упоминает о нем. А между тем уже здесь Маркс уяснил себе многие положения, развитые им позже совместно с Энгельсом в «Святом семействе». Особенно конкретно в «Рукописях» сформулирована идея о роли пролетариата в буржуазном обществе. «...Вся кабала человечества, — пишет Маркс, — заключается в отношении рабочего к производству и все кабальные отношения суть лишь видоизменения и следствия этого отношения»; именно поэтому эмансипация рабочих «заключает в себе общечеловеческую эмансипацию».
Серьезным пробелом работы Меринга является то, что в ней отсутствует развернутая характеристика книги Маркса и Энгельса «Немецкая идеология» (1846 г.). Это объясняется тем, что важнейшие разделы «Немецкой идеологии» остались неизвестны Мерингу (ее рукопись целиком была опубликована впервые лишь в 1932 г. в СССР).
В период, к которому относится написание книги, Маркс и Энгельс свою обязанность видели в том, чтобы научно обосновать свои взгляды и убедить в их правильности передовых представителей европейского, и прежде всего германского, пролетариата. Поэтому в «Немецкой идеологии» они стремились дать всестороннее обоснова-
ние новому, коммунистическому мировоззрению, уделяя при этом особенно большое внимание вопросам исторического материализма.
Основу всей истории, пишут Маркс и Энгельс, составляет способ производства и соответствующие ему производственные отношения, и поэтому коммунистическая революция, открывающая колоссальные возможности для развития общества, является неизбежным результатом существующих экономических условий. Вместе с тем необходимость коммунистической революции они видят в том, что «свергающий класс только в революции может сбросить с себя всю старую мерзость и стать способным создать новую основу общества».
В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс более конкретно ставят вопрос о роли пролетариата в революционной борьбе. В положении о том, что каждый стремящийся к господству класс «должен прежде всего завоевать себе политическую власть», нельзя не видеть начала их учения о диктатуре пролетариата.
Глубокая разработка вопросов об общественном бытии п общественном сознании, о различных формах собственности, об отношении государства и права к собственности и многих других делают «Немецкую идеологию» одной из самых значительных работ периода формирования марксизма. Написанные после нее «Нищета философии» и «Манифест Коммунистической партии» В. И. Ленип считает уже зрелыми произведениями марксизма.
В заключительных главах книги Меринг рассказывает о создании Марксом п Энгельсом первой международной пролетарской организации — Союза коммунистов, но центральное место отводит раскрытию идей двух гениальных произведений марксизма: «Манифеста Коммунистической партии» и «Капитала». И это понятно. Ведь «Манифест Коммунистической партпп» — первый программный документ марксизма — содержит классическое изложение тех результатов, к которым пришли Маркс и Энгельс на основании своих теоретических исследований и практической борьбы, а «Капитал» — это «величайшее политико-экономическое произведение» нового времени — является главным трудом научного коммунизма, доказывающим уже на основе раскрытия законов движения буржуазного способа производства и его противоречий неизбежную гибель капитализма.
Работа Меринга написана на большом и интересном историческом материале. Она поможет изучающему научный социализм уяснить, как жпли и работали великие учители пролетариата, в какой обстановке они создавали свою революционную теорию и каковы основные ее принципы. Книга представляет собой яркое и глубокое изложение основных этапов формирования всепобеждающего коммунистического учения.
А. Поляков
КАРЛ МАРКС И ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
Карл Маркс родился 5 мая 1818 г. в Трире. Его отец — адвокат, а позднее юстицрат1, Генрих Маркс — перешел в 1824 г. вместе со своей семьей из иудейского вероисповедания в христианское. Подрастающий мальчик рано пробудил в родителях самые большие надежды, которым не суждено было, впрочем, сбыться в их понимании. Мать, происходившая из голландских евреев и объяснявшаяся всю жизнь на ломаном немецком языке, была любящей и заботливой женщиной, но в духовном отношении ничем, по-видимому, не выделялась. Отец, прекрасно образованный человек, хорошо знавший Локка, Лейбница и Лессинга, но отнюдь не революционер, а скорее немецкий и даже прусский патриот, был мягкой и нежной натурой и с беспокойством следил за первыми проявлениями «демона» в любимце-сыне. Он умер, когда Карлу Марксу минуло 20 лет, более счастливый, чем мать, скончавшаяся только в 1863 г. и пережившая как раз самые тяжелые десятилетия могучей борьбы гения с не признававшим его миром. Своим родителям Карл Маркс был обязан счастливым детством и беззаботной юностью. Он обязан им также той полной независимостью от еврейства, которую он обнаруживал с самого начала, — независимостью, которой мы в такой мере не встречаем ни у одного немецкого еврея, сыгравшего какую-либо роль в истории. Такой независимости не достигли даже такие близкие ему по гениальности натуры, как Гейне и Лассаль2, или такие умные люди, как Берне3 и Иогапн Якобп4, из которых последний заступался за евреев при помощи фальшивых
доводов религиозной терпимости, когда Маркс давно уже понял социальное значение еврейского вопроса.
Еврейство стояло в Восточной и Западной Европе на существенно различных ступенях культуры. В Португалии, в Испании, на юге Франции, в Англии и не в малой степени также в Голландии оно жило преданиями великой в своем роде истории, плавало в потоке буржуазной культуры, и даже преследования, которым оно подвергалось еще временами, закаляли его в упорной борьбе. Иначе обстояло дело в Восточной Европе, в прпдунайских странах, в Богемии и Польше, в Германии, вплоть до Эльзаса и Северной Франции. Живя среди ведущих распутную жизнь деспотов и порабощенных масс, необходимое обоим, но обоими презираемое и презирающее обоих, еврейство было здесь еще насквозь пропитано паразитарным барышничеством и ростовщичеством. Эта социальная противоположность шла глубже общности крови и веры. Так, в Гамбурге существовали рядом высокообразованная португальско-испанская и совершенно необразованная немецко-польская еврейские общины, не поддерживавшие друг с другом никаких отношений. Законодательство французской революции проводило в начале различие между «евреями юга» и «евреями севера»; сначала оно эмансипировало политически первых, а вторых уравняло в правах с христианами лишь впоследствии. Кодекс Наполеона5 сохранил это равноправие, но в позднейшей Рейнской Пруссии уже в 1808 г. вышел императорский декрет, подвергший ростовщиков-евреев суровым ограничениям. Прирейнские области были и в этом отношении в известной степени связующим звеном между буржуазной Западной и феодальной Восточной Европой. В то время как в рейнских городах жило то образованное еврейство, еврейский характер которого одновременно консервировался и впитывался общей буржуазной культурой, в деревне, и как раз в окрестностях Трира, свирепствовал еврей-ростовщик и душил мелкое крестьянство при помощи тех утонченных приемов, которые развились у него в процессе разложения феодализма в Восточной Европе.
Именно с теми чиновничьими кругами, отчеты которых рисовали в ярких красках обнищание мелкого землевладения в результате ограбления евреем-ростовщиком, поддерживал отношения — деловые и общественные — адвокат Маркс. Особенно одно из этих знакомств имело решающее значение в жизни Карла Маркса: это была со-седская дружба, связывавшая его семью с семьей реги-рунгсрата 6 Вестфалена.
В семье этого свободомыслящего чиновника молодой Карл Маркс нашел свой второй дом. У старого Вестфалена он научился читать Гомера и Шекспира, на всю жизнь оставшихся его любимыми поэтами. Дети Вестфалена стали его товарищами по играм, а Женнн фон Вест-фален, родившаяся в 1814 г. в Зальцведеле и бывшая на несколько лет старше его, сделалась подругой его жизни — благородной и мужественной подругой, какая вряд ли была когда-либо у другого революционного борца. Уже в 1836 г. они были помолвлены, а в 1843 г., после закрытия «Рейнской газеты» 7, состоялась в Крейцнахе пх свадьба. С тех пор Женнн Маркс не только делила труды, борьбу и судьбу своего супруга, но и принимала в них участие с величайшим пониманием и самой пылкой страстью.
Жизненный путь Карла Маркса начался под счастливой звездой. Богатые дарования, обнаруженные им уже в раннем возрасте, ему не пришлось растрачивать в борьбе с внешними препятствиями, они развивались, напротив, гармонически, поощряемые всей социальной обстановкой, в которой Маркс вырос. Ничто в его детстве и юности не могло сделать его карикатурой, похожей на ту, которую все еще хотят сделать из него смертельные враги пролетариата, — -тем холодным, как лед, озлобленным, недовольным собой и миром демагогом, у которого в жилах текла вместо крови азотная кислота. В этой легенде есть крупица истины: факт, что Маркс стал революционером не под влиянием возмущенной страсти, а в силу глубокого понимания внутренней связи вещей, свидетельствует о счастливой гармоничности его развития. Молодой Маркс был свежим, здоровым, полным сил человеком, который всем своим существом жаждал полноты настоящей жизни. Первыми его литературными произведениями были стихи. Он вряд ли напечатал когда-либо хотя одно стихотворение по той основательной причине, что связанная формой речь была чужда ему, но несравненная выпуклость изображения, которую мы видим у него даже при освещении самых сухих тем, свидетельствует о том, что в Марксе были некоторые черты истинного поэта. На революционных стихотворениях Гейне, Фрейлиграта8, Веерта9
заметны глубокие следы его влияния; всякий раз, когда он произносит эстетические суждения, они отличаются столько же тонкостью, сколько глубиной чувства.
В 16 лет Карл Маркс поступил в Боннский университет, чтобы согласно желанию отца изучать юриспруденцию, но первый год студенчества не дал, по-видпмому, особых результатов. Тем с большим жаром набросился на работу жаждущий знания юноша, когда он осенью 1836 г., тотчас после помолвки, переехал в Берлин. Аккуратным студентом он, правда, не был и здесь; в течение 9 семестров он записался только на 12 курсов, а сколько он из них прослушал — и это было бы также еще под вопросом, если бы вообще имело какое-либо значение. Насколько можно судить по сочинениям Маркса, из университетских преподавателей на него оказал влияние только Ганс10, который постоянно воевал тогда с исторической школой права11 и ее главой Савиньи. Гораздо большее значение для студента Маркса имело то обстоятельство, что, устав от первой безнадежной попытки одолеть массу научного материала, он попал из своей уединенной кельи в круг берлинских младогегельянцев, которые как раз к это время были заняты ликвидацией духовного наследия .своего учителя, но в более критическом духе, чем это уже сделал Штраус12 в своей «Жизни Иисуса». В этом кругу Карл Маркс подружился с Бруно Бауэром 13 и Фридрихом Кёппеном 14; будучи лет на десять старше его, они уже приобрели себе видное положение в республике духа, но тем не менее обращались с юным студентом по-товарищески, как с равным, руководимые верным чувством, что в его лице выступает на арену борьбы могучая и несравненная сила. Бруно Бауэр не желал себе лучшего товарища в работе н борьбе, и точно так же Фридрих Кёппен посвятил другу из Трира свой задорнейший боевой памфлет.
Лишь после упорного сопротивления Маркс сдался гегелевской философии, но зато нпкто из ее бесчисленных приверженцев не изучил ее так осповательно и не понял ее так глубоко, как он. Нельзя сказать, чтобы справедлива была другая ходячая фраза о Марксе, будто его острый раввпнекий илп казуистический ум пе мог достаточно насытиться расчленением и рассеченпем понятий. Что властно привлекало его к гегелевской фплософии, так это ее диалектический метод, революционное острие которого
как раз и было завуалировано призрачной игрой туманных понятий. Маркс, напротив, разделался с этими понятиями, окунувшись в массу исторического материала. Он рано обнаружил черту, отличающую царей науки от ев чернорабочих, — ненасытную жажду знания и неутомимую самокритику. Уже в молодости друзья его сетовали на то, что он проводит ночи напролет в занятиях, подорвавших его железное здоровье. Но Маркс не тратил своего неутомимого прилежания на то, чтобы копаться в мелочах. Бесспорно, что в свои молодые годы он находил иной раз невинное удовольствие уже в одном звоне своего острого и тяжелого оружия, как оно и подобает энергичному и пылкому юноше; однако видеть в этом отталкивающее манерничанье или погоню за парадоксами может только бессильная зависть.
Более метко судил о Марксе Руге 15 в первых стадиях их ссоры, когда глаз его был изощрен ненавистью, но еще не ослеплен ею. Руге писал тогда Фейербаху: «Маркс очень много читает; он работает с необычайной интенсивностью и обладает критическим талантом, превращающимся подчас в высокомерие вырождающейся диалектики, но он ничего не доводит до конца, он все обрывает и каждый раз кидается снова в беспредельное море книг. По своим научным склонностям он всецело принадлежит немецкому миру, но по. своему революционному образу мыслей он исключен из него». Этот портрет молодого Маркса не прикрашен лестью, но и не искажен. Маркс соединил в себе все фаустовские стремления пемецкой учености, чтобы навсегда преодолеть их. Он впес жизнь в науку, как и науку в жизнь. Это был тот прогресс, который немецкое образование только и могло еще сделать, который оно при всех условиях должно было сделать, если не хотело из двигателя исторического развития превратиться в тележку для тупоумных филистеров. Ученый мир, исключивший из своей среды Маркса за его революционный образ мыслей, исключил себя также из своего прошлого и будущего, сделал сам себя послушным холопом мпнутных интересов правящих классов.
В 1841 г. Маркс окончил университетский курс и получил докторскую степень за диссертацию о различии между натурфилософией Демокрита и Эпикура. Этот ученый труд должен был составить только начало обширного сочинения, общего изложения эпикурейской, стоической и скептической философий — тех греческих философий самосознания, которые некогда последовали за философией понятий Платона и Аристотеля, как теперь философское самосознание Бруно Бауэра и его кружка последовало за абсолютной идеей Гегеля. До этого обширного труда дело не дошло, не дошло даже до опубликования докторской диссертации, которой Маркс думал приобрести право чтения лекций в Бонне в качестве доцента философии. После того как Бруно Бауэр подвергся со стороны Эйххорна16 дисциплинарному взысканию, будучи доцентом богословия в Бонне, Марксу нечего было больше искать в прусских университетах. Дальновидная по обыкновению реакция толкнула этого прирожденного борца в борьбу, и по первым литературным опытам Маркса можно со все возрастающей ясностью проследить, как эта борьба шаг за шагом толкала его дальше по пути познания, как она разрывала перед его глазами одну идеологическую оболочку вещей за другой, как она все глубже кидала его в бушующие волны действительной жизни.
Проведенный Марксом в Париже 1844 год был, несомненно, самым плодотворным годом его юности. Великая революция со своими потрясшими мир последствиями; значительные исторические произведения, позволявшие проникнуть взором до самых сокровенных глубин ее и проследить классовую борьбу третьего сословия вплоть до средних веков; богатая литература, развивавшая социалистическую идею до самых тонких ее оттенков и как раз в это время начавшая проникать в рабочий класс через утопию Кабе 17, через социально-политическую агитацию Луи Блана18 и манифест Прудона 19, — все это доставляло обилие сменяющихся впечатлений, которые могли сбить с толку даже способные головы, но гениальную силу должны были тем более побудить собрать в один фокус все рассеянные в них лучи нового света. Руге совершенно растерялся в Париже, между тем как Маркс ухватил здесь первые нити исторического материализма.
Неправда, будто он в часы журналистского легкомыслия выдумал, что экономическая структура общества обусловливает его идеологическую надстройку, как уверяет идеология, принимающая тем более глубокомысленный вид, чем более она поверхностпа. Первоначально область материальных интересов была ему так же далека, как всякому истинному гегельянцу, но его толкнула туда не-
умолимая необходимость борьбы, которую он так же мало мог вызвать к жизни, как и всякий другой, но которую он понял глубже, чем кто-либо. Он не закрывал себе упорно глаза на тот факт, что идеалистические точки зрения классической философии не могут быть для него надежными проводниками в исторической области; он искал и нашел действительную почву, на которой движется человеческое общество. В этом была только ’его вина, ибо заслугой Штрауса, Руге и Бауэра было то, что они на своих заоблачных путях не спотыкались ни о какой экономический камень преткновения, что именно потому они никогда не умели разбираться в практическом мире и умерли, наконец, как жертвы жалких немецких условий.
Мастерство, с которым Маркс применял диалектический метод немецкой философии, позволило ему быстро и верно ориентироваться в области материальных интересов. Мы замечаем огромный прогресс между весной 1842 г., когда Маркс, идеолог с головы до ног, вступил в практическую борьбу, и осенью 1844 г., когда он ясным пониманием общественных отношений превзошел не только буржуазную политическую экономию, но и западноевропейский социализм в лице самых передовых его представителей. Правда, переход Маркса от идеализма к материализму не вполне еще закончен, и экономические категории представляются ему в философском одеянии. Мы видим это, например, когда он свой удивительно острый прогноз, подтвержденный вот уже 60-летней историей, — что в политической жизни Германии класс буржуазии не свершит ничего, а пролетариат достигнет тем большего значения — облекает в слова о возможности в Германии только человеческой, а не политической эмансипации 20. Мы пмеем здесь перед собой философски вышколенный глаз, которым Маркс видел насквозь буржуазное общество. Маркс видел, что последнее должно умереть, родив более высокоразвитое общество, элементы которого уже смутно намечались в его недрах, но свои доказательства он брал из философского, а не из экономического арсенала.
В этом направлении Фридрих Энгельс дополнял его столь же значительным, сколько и решающим образом. Энгельс был, подобно Марксу, прирожденным диалектиком, выковавшим и укрепившим свои дарования в классической философии. Он не обладал строго философским
образованием Маркса, но своим светлым и ясным умом он твердо схватил то, что было бессмертно в творениях Гегеля. С раннего возраста он находился в водовороте практической жизни, и это преимущество с избытком уравновешивало пробелы его систематического образования.
Фридрих Энгельс родился 28 ноября 1820 г. в Бармене в семье фабриканта. Фирма «Эрмен и Энгельс» приобрела себе почетное имя в истории рейнской промышленности благодаря той решительности, с которой она выступила против существующих издавна злоупотреблений в вопросе о мере и весе фабричных изделий. Семья Энгельсов принадлежала к числу первых в Бармене; Фридриха Энгельса, как и Маркса, толкнула на революционный путь не нужда, а возвышенный ум. Вследствие этого он совершенно порвал с духом своей высококонсервативной и правоверной семьи; еще будучи мальчиком, он охотно отказался от чиновничьей карьеры, к которой предназначался. Пройдя курс в маленьком реальном училище Бармена, где наглядйое преподавание физики и химии дало ему прекрасный фундамент для последующего естественнонаучного образования, Энгельс поступил в эльберфельдскую гимназию и за год до выпускного экзамена окончательно решил сделаться купцом. Он прошел свое ученичество сначала в одном барменском, затем в бременском торговом доме, с октября же 1841 г. до октября 1842 г. служил в качестве вольноопределяющегося в гвардейской артиллерии в Берлине. Ни один уроженец Рейнской провинции не смотрел тогда на «королевский мундир» как на почетное платье, и рейнская буржуазия организовала широко разветвленную систему подкупа, чтобы избавить своих сыновей от ненавистной службы. Тем больше свидетельствует о практических наклонностях Энгельса в его отношении к действительной жизни — даже к менее привлекательным ее сторонам — тот факт, что он в старой казарме на Купферграбене глубоко заинтересовался военными науками и сохранил потом этот интерес навсегда.
Он не запускал, однако, из-за этого своих философских занятий. «Сущность христианства» Фейербаха произвела па него глубокое впечатление, с Бауэрами он находился в дружеских отношениях и время от времени писал в «Рейнской газете». В редакции этой газеты он впервые встретился с Марксом, когда проезжал в конце ноября
1842 г. через Кёльн в Манчестер, чтобы стать там приказчиком на фабрике, совладельцем которой был его отец. Первая личная встреча Маркса и Энгельса была, однако, довольно холодной. Маркс как раз тогда выступил против берлинских «свободных» 21, единомышленником которых слыл Энгельс, а Энгельс в свою очередь был восстановлен против Маркса Бауэрами, с которыми состоял в переписке.
В Манчестере Энгельс прожил 21 месяц — с декабря 1842 г. до сентября 1844 г. Здесь он прошел свою высшую школу — среди крупной промышленности, разлагающей буржуазное общество, чтобы заложить основы общества социалистического. Он изучал и то и другое, бесчеловечную и человеческую стороны этого всемирно-исторического процесса, и его философское образование дало ему возможность познать ту внутреннюю связь между ними обеими, которой не в состоянии еще были понять английский социализм и английский пролетариат. Энгельс сотрудничал как в «Северной звезде», органе чартистов22, так н в газете Роберта Оуэна «Новый нравственный мир». В лице Бауэра, Молля и Шаппера, руководивших тогда Союзом справедливых23, он познакомился с первыми революционными пролетариями и никогда не забывал потом импонирующего впечатления, которое эти уже сложившиеся люди произвели на него, еще только складывавшегося человека. В то время как Маркс из изучения французской революции почерпнул вывод, что не буржуазное общество покоится на государстве, а, наоборот, государство покоится на буржуазном обществе, Энгельс узнал из английской промышленности, что экономические факты, не игравшие до сих пор в историографии никакой роли или встречавшие презрительное отношение со стороны историков, представляют собой, по крайней мере в современном мире, решающую историческую силу; что они образовали основу для возникновения нынешних классовых противоположностей; что в странах, где эти противоположности достигли полного развития благодаря крупной промышленности, следовательно особенно в Англии, они в свою очередь являются основой для образования политических партий, для борьбы партий и, таким образом, для всей политической истории.
Различными путями оба пришли к одинаковой цели. У Маркса преобладал еще философский, у Энгельса — уже экономический подход. Маркс дал добытому результату исследования более общую формулировку, а Эпгельс выдвинул ту сторону, которая имела решающее значение для настоящего и будущего человечества. Маркс назвал однажды «Наброски к критике политической экономии», опубликованные Энгельсом в «Немецко-французском ежегоднике» 24, гениальным эскизом, и это суждение является предельно метким. Энгельс не подверг здесь буржуазную политическую экономию систематической критике; его суд над нею несколько суммарный, да и вообще он знал тогда ее самого значительного представителя Рикардо только из вторых рук. Тем не менее эта молодая, горячая голова правильно определила слабые стороны, органически присущие буржуазной политической экономии; он победоносно изобличил ее внутреннее неразумие и верно указал раны, от которых она должна истечь кровью. Энгельс первым наметил план экономических основ научного социализма; эта заслуга не умаляется его собственным замечанием, что найденное им Маркс нашел бы п самостоятельно, ибо для исторического суждения важно то, что было, а не то, что могло быть.
Не столь глубокой по существу, как критика политической экономии, но почти еще более характерной для личности Энгельса была его критика Карлейля25. В Энгельсе, как и в Марксе, сочеталось с острым критическим умом истинно поэтическое чутье, о чем красноречиво свидетельствуют его отличные переводы английских рабочих и народных песен. Карлейль импонировал Энгельсу, но он не дал себя пленить обворожительным чарам мистического пророка. Энгельс сумел понять этот одинокий ум во всей его оригинальной глубине, но он видел также границы, за которые Карлейль не в состоянии был выйти.
Когда Маркс и Энгельс осенью 1844 г. вторично встретились в Париже, то обнаружилось их полное согласие по всем теоретическим вопросам. На этом покоилось сначала их братство по оружию, которое затем было скреплено, конечно, еще и тем обстоятельством, что по своим человеческим качествам онп стояли на такой же высоте, как мыслители и борцы. Их сочувствие страждущим и угнетенным не уменьшалось от того, что онп вели борьбу против угнетателей только при помощи самого острого оружия, что они сознавали невозможность достигнуть в суровой классовой борьбе каких-либо результатов при помощи того жиденького и бесплодного настроения, которое филистер называет своим человеческим состраданием и своим нравственным возмущением. В них не было и следа сентиментальности, не было ничего от того ханжеского и мечтательного, дряблого и прекраснодушного существа, каким жалкая 300-летняя история сделала немецкого филистера. Но они не были и мрачными фанатиками, не напускали на себя сугубой важности; их мужественное и потому скромное самосознание презирало все те позы, которые так любят принимать «благороднейшие и лучшие», официальные вожди буржуазных классов. Служа своему делу, они могли быть безжалостными, потому что необходимо было быть такими, но в прочих отношениях им не было чуждо ничто человеческое. Они были добрыми людьми, готовыми прийти, на помощь, и снисходительными; энергичные натуры, полные неистощимой жизнерадостности, они умели смеяться от всей души и любили ясный детский смех; ничто не нравилось им так в библейском Христе, как его любовь к детям.
Впервые духовно сойдясь друг с другом, они на время расстались. Энгельс отправился в Бармен, чтобы докончить там свою книгу о положении рабочего класса в Англии. Маркс остался в Париже. Двери отечества уже тогда были закрыты для него; на основании сочинений Маркса обер-президиум в Кобленце предписал всем пограничным полицейским властям арестовать его в случав появления на границе. Скоро, однако, наступил конец и его пребыванию в Париже. С достойным признания усердием прусское правительство позаботилось о том, чтобы меч его опаснейшего врага не заржавел: оно выгнало Маркса из Франции, как выгнало раньше пз Германии. Внешним предлогом к этому послужила случайная статья Маркса для одной газетки, при помощи которой немецкие эмигранты в Париже пытались продолжать свою войну против отечественных деспотов.
Газетка эта была «Вперед!» 26. Она издавалась в Париже с начала 1844 г. Газета была основана актером Генрихом Бернштейном на деньги композитора Мейербера и служила па первых порах весьма многосторонним и подчас несколько сомнительным делам своего основателя. Как торговец литературным товаром, притри как весьма изобретательный торговец, Бернштейн после прекращения издания «Немецко-французского ежегодника» сообразил, что он мог бы, пожалуй, сделать хорошее дельце, если бы дал в своей газетке последний приют немецким эмигрантам, тем более, что полная безобидность «Вперед!» не спасла ее от запрещения немецкими правительствами. Бернштейн вошел по этому вопросу в соглашение с Бер-пайсом, которому предоставил место в редакции. Приблизительно с середины 1844 г. «Вперед!» вступила в политическую борьбу, и само собой понятно, что газета не стеснялась клеймить многочисленные гнусности немецких правительств, в особенности прусского деспотизма. Бер-иайс нимало не церемонился с германской реакцией. Отныне для газеты стали писать время от времени, ввиду отсутствия какого-либо другого органа, Гейне, Гервег27, Бакунин28, Гесс29, Руге, независимо от редакции и каждый под свою ответственность.
Маркс был до известной степени вынужден к сотрудничеству в этой газете. Руге поместил в ней ряд статей, содержавших отчасти плохие остроты по адресу прусской королевской четы, отчасти философско-оракульские изречения насчет прусского короля и социальной реформы. Руге писал, что король прусский и немецкое общество не имеют еще даже предчувствия о своей реформе. В такой неполитической стране, как Германия, невозможно довести частичную нужду фабричных округов до общего сознания, как дело, касающееся всех: на нее смотрят как на пожарное бедствие или наводнение, имеющее местный характер. Король видит в ней нераспорядительность администрации или недостаток благотворительной деятельности и, в конце концов, ждет всего от доброго умонастроения христианских сердец, которое преодолеет все затруднения. Немецкие бедняки в свою очередь не разумнее бедных немцев: они не видят ничего дальше своего домашнего очага, своей фабрики, своего округа. Всего этого вопроса в целом до сих пор еще не коснулась всепроникающая политическая душа, а между тем социальная революция без политической души невозможна. Руге подписал эту, как и другие свои статьи, псевдонимом «Пруссак», что дало основание заподозрить в авторстве Маркса, который действительно был прусским подданным, тогда как Руге со времени своего переезда в Дрезден перестал быть им. Перед французскими властями он объявил себя саксонцем и стал под покровительство саксонского посольства в Париже.
Эта литературная недобросовестность Руге побудила Маркса напечатать в газете «Вперед!» «Критические заметки», понятно, не к остротам Руге по адресу прусской королевской четы, а к его философским галлюцинациям относительно прусской социальной реформы. Маркс указал на то, что понять социальную нужду как «дело, касающееся всех», не способна не только неполитическая Пруссия, но и политическая Англия, где сверх того пауперизм имеет универсальный характер. Английское законодательство о бедных показывает, что причину пауперизма находили там, во-первых, в законе природы, во-вторых, в неудовлетворительности администрации и, в-третьих, в злой воле рабочих, так что в конце концов в Англии придумали работные дома — средство_, в котором благотворительность хитроумно переплетается с местью несчастным, обращающимся к благотворительности буржуазии. Следовательно, и Англия не дошла еще до «предчувствия о своей реформе», как не дошел до него в свое время конвент, представлявший собой «максимум политической энергии, политического могущества и политического рассудка» *. Подобно тому как Англия искала причину пауперизма в злой воле бедных, а король Пруссии искал ее в нехристианских чувствах богатых, так и конвент искал ее в контрреволюционном образе мыслей собственников. Чтобы уничтожить пауперизм, он рубил головы собственникам, как для достижения той же цели Англия наказывает бедных, а король прусский увещевает богатых.
Далее Маркс проводит мысль, уже развитую им в «Немецко-французском ежегоднике»; что государство, какова бы ни была его форма, не может уничтожить противоречия между общими и частными интересами, потому что оно зиждется именно на этом противоречии. «Ибо эта раздробленность, эта мерзость, это рабство гражданского общества есть та естественная основа, на которой зиждется современное государство, подобно тому как рабовладельческое гражданское общество было той естественной основой, на которой зиждилось античное государство. Существование государства и существование рабства неразрывно связаны друг с другом. Античное государство и античное рабство — эти неприкрытые классические противоположности — были прикованы друг к другу не в
большей степени, чем современное государство и современный торгашеский мир,- эти лицемерно-прикрашенные христианские противоположности. Чтобы устранить бессилие своей администрации, современное государство должно было бы устранить нынешнюю частную жизнь. А чтобы устранить частную жизнь, государство должно было бы устранить само себя...» * Чем могущественнее государство, следовательно, чем более политической является страна, тем менее оно склонно искать причину социальных зол в самом принципе государства, т. е. в нынешнем устройстве общества, деятельным, сознательным и официальным выражением которого является государство, тем менее оно склонно понимать общий принцип общества. Политический рассудок потому и есть политический рассудок, что он мыслит внутри рамок политики. Чем он острее и живее, тем менее он способен понимать социальные недуги. Классическим периодом политического рассудка является французская революция. Герои французской революции, весьма далекие от того, чтобы усматривать источник социальных недостатков в принципе государства, видели, напротив, в социальных недостатках источник политических неустройств.
Против презрительного отзыва Руге о немецких рабочих Маркс возражает, что «социальная» революция с политической душой, которой Руге требует от них, либо представляет собой бессмысленный набор слов, если под «социальной» революцией понимать таковую в противоположность политической и наделять ее тем не менее политической душой, либо же она не более как парафраз того, что принято называть «политической революцией», или «просто революцией». Каждая революция разрушает старое общество, и постольку она социальна. Каждая революция низвергает старую власть, и постольку она имеет политический характер. «Но если социальная революция с политической душой — парафраз или бессмыслица, то политическая революция с социальной душой имеет разумный смысл. Революция вообще — ниспровержение существующей власти и разрушение старых отношений — есть политический акт. Но социализм не может быть осуществлен без революции. Он нуждается в этом политическом акте, поскольку оп нуждается в уничтоже-
пии и разрушении старого. Но там, где начинается его организующая деятельность, где выступает вперед его самоцель, его душа, — там социализм отбрасывает политическую оболочку» *. В заключение Маркс советовал «Пруссаку» отказаться на время от всякого писательства по политическим и социальным вопросам так же, как от декламаций по поводу состояния Германии, и начать с того, чтобы добросовестно выяснить самому себе свое собственное состояние.
Понятно, Руте был наделен слишком большим самомнением, чтобы последовать доброму совету. Не способный возразить на острую диалектику, с которой Маркс критически разобрал его туманные рассуждения, он обозвал своего противника разлагающей софистической натурой, в образовании которой скрыт червь, а по адресу «Вперед!» исчерпал все регистры померанской грубости.
Между тем расчет Бернштейна оказался верным. Благодаря сотрудникам, пользовавшимся газетой «Вперед!» как единственным еще доступным для них оружием против гонителей свободного слова, газета сильно пошла в ход и, несмотря на все запрещения, все больше распространялась в Германии. Тогда «законный» король в Берлине обратился к «незаконному» королю-буржуа в Париже с слезной мольбой о дружески-соседской полицейской услуге. Гизо30, который при всем своем реакционном образе мыслей был литературно образованным человеком, по-видимому, не сразу внял этому исторгнутому болью крику. Кроме того, дело и вообще представляло известные затруднения: добиться от французских присяжных обвинительного вердикта за мнимые или действительные оскорбления прусского короля было невозможно, а несколько месяцев тюрьмы, к которым суд исправительной полиции приговорил редактора Бернайса за формальные нарушения французских законов о печати, далеко еще не означали насильственного прекращения существования «Вперед!». Только путем некрасивого вмешательства Александра фон Гумбольдта удалось уломать Гизо; так что в середине января 1845 г. он предписал сотрудникам «Вперед!», приблизительно десятку немецких писателей, покинуть в 24 часа Париж и возможно скорее выехать из пределов Франции.
Однако ангел, поразивший сначала Гизо глухотою, имел, по-видимому, верное предчувствие. Французская цивилизация возмутилась против прусского варварства; она ценила нацпональное гостеприимство выше, чем опасения нечистой совести, поднявшие шум в Берлине. Независимая печать выступила с негодующим протестом против роли палача, которую взяло на себя министерство Гизо. С другой стороны, Бернштейн был глубоко убежден, что глиняный горшок должен уступить, когда он сталкивается с железным. Но мир не без добрых людей: Бернштейн добровольно отказался от дальнейшего издания «Вперед!», а правительство за это взяло обратно свой приказ о его высылке. Сотрудников своих Бернштейн принес в жертву, но и из них некоторые спаслись: после долгого обивания порогов и долгих ходатайств Руге получил разрешение остаться в Париже под условием, что он будет впредь хорошо вести себя.
Маркс, в которого прежде всего метило прусское правительство, пе мог, конечно, пойти на что-нибудь подобное. Он переехал в Брюссель, где прожил три года, большей частью работая совместно с Энгельсом. Можно сказать, что в это время их годы учения и годы странствий вступили в свою вторую половину.
Глава II
«РЕЙНСКАЯ ГАЗЕТА»
Из серьезных ежедневных газет только три оказали более или менее сильное влияние на прусское население. Одна из них выходила за пределами Пруссии — лейпцигская «Всеобщая газета», которую тайно питали недовольные элементы прусской бюрократии, но которую прусское правительство тотчас же запретило, как только она опубликовала письмо Гервега. В самом прусском государстве честным и мужественным языком говорили «Кенигсбергская газета» и «Рейнская газета» — «Кенигсбергская распутница и ее сестра-потаскуха с Рейна», как его романтическому величеству угодно было называть их на своем жаргоне гвардейского поручпка. «Кенигсбергская газета» стояла на позициях буржуазной идеологии Иоганна Якоби и редактировалась старшим учителем Виттом, которому приходилось из-за этого испытывать мелочные преследования министра Эйххорна; в этой газете заслужил себе в числе прочих свои литературные шпоры молодой Валес-роде31. Она отставала, однако, — особенно в смысле широты кругозора — от «Рейнской газеты по вопросам политики, торговли и промышленности)», которая стала выходить в Кёльне с 1 января 1842 г.
Согласно заявлению, помещенному в первом номере «Рейнской газеты», она была основана группой независимых жителей Рейнской провинции, поклонников прогресса, стремившихся к подъему Рейнской провинции, к развитию ее учреждений, к увязыванию ее и общенемецких интересов, вообще — к внутреннему процветанию человеческого общества. Как видит читатель, объявление не отличалось большой ясностью; точно так же то, что газета провозгласила потом своей политической программой — введение общего избирательного закона, охватывающего все классы и интересы, публичность правительственных действий, свободу печати и т. д., не было так аккуратно разделено по главам и параграфам, как это соответствует обычаям уже оформившейся партии. «Рейнская газета» объединяла различные элементы, которым ясно было, что их связывает, но еще не было ясно, что их разделяет; за старшими вождями рейнской буржуазии, за Давидом Ганземаном и Людольфом Кампгаузеном32, президентом кёльнской торговой палаты, за этими трезвыми, расчетливыми дельцами стояло молодое поколение, выросшее под духовным влиянием гегелевской философии. Гораздо яснее, чем в вопросах политики, «Рейнская газета» отдавала себе отчет в вопросах торговли и промышленности: она требовала точной и подробной отчетности о государственном хозяйстве, уменьшения государственных расходов, развития железных дорог, уменьшения судебных пошлин и почтовых тарифов, общего флага и общих консулов для государств, входящих в состав Таможенного союза 33.
Эти обстоятельства обусловливали ее большое превосходство над оппозиционной прессой остэльбской Пруссии. Но смелости и ясности мысли она по крайней мере но уступала «Немецкому ежегоднику» 34, а в понимании промышленного развития, толкавшего вперед немецкую жизнь, она далеко превосходила их. Она так же энергично выступала за Таможенный союз, как Шён35 восставал против него. На Таможенном союзе, говорила газета, осповаио право прусского государства главенствовать в Германии; газета готова была вести борьбу под знаменем этого государства, если оно вслед за хозяйственным прогрессом откроет путь прогрессу духовному и политическому. Со свойственной ненависти проницательностью меттерниховские перья в аугсбургской «Всеобщей газете» изобличали прусские тенденции «Рейнской газеты», в то время как прусские государственные деятели шептали ДРУГ другу на ухо, что газета живет на деньги французского правительства. Берлинское правительство было слишком ограниченно, чтобы понять, какое сильное оружие «Рейнская газета» хотела вложить в его руки. Оно тем больше упорствовало в своей абсолютистско-феодаль-ной отсталости, чем энергичнее «Рейнская газета» хотела поднять его на высоту современного буржуазного общества. Так конфликт обострялся с каждым днем, и соответственно с этим в «Рейнской газете» чем дальше, тем больше руководящее место занимали радикальные элементы.
Это была внушительная плеяда. Из берлинских младогегельянцев в газете сотрудничали Бруно Бауэр, Кёппен, Науверк, Штирнер 36; первый редактор немецкого отдела Рутенберг был также родом из Берлина. Из коренных жителей Рейнской провинции в «Рейнской газете» работали Генрих Бюргере37, Георг Юнг38, Мозес Гесс, Герман Пютман 39, Карл Маркс. Газета не помещала регулярных передовых статей, она не была еще сдавлена в тисках шаблонного предприятия, создаваемого системой конкуренции.
Но тем богаче был материал приложеппй с техническими и научными статьями, тём интереснее материал раздела фельетонов, содержащий исследования по вопрог-сам эстетики, литературы и философии, а также превосходные стпхп. Гервег и Пруц 40 были здесь постоянными гостями. Очень скоро, однако, самый молодой сотрудник «Рейнской газеты» выдвинулся как ее лучшая сила; даже теперь, когда раскрываешь запыленные комплекты газеты, то среди обилия хорошего легко выделяешь работы Карла Маркса, как лучшее, отличающееся широтой и глубиной идейного замысла, силой и блеском стиля, резкими противоположениями диалектической аргументации, остротой мысли, которая, анализируя, всегда проникает в запутанный хаос немецкой жизни, пока не доберется до сути
дела. Осенью 1842 г. Маркс взял на себя редактирование газеты и вел его в течение всей зимы; он оставил его лишь незадолго до гибели газеты.
Первые работы Маркса были посвящены вопросу о свободе печати. В «Anekdota» 41 Руге он поместил свои замечания по поводу новейшей прусской цензурной инструкции, где требовал полного упразднения цензуры. Сам институт плох, говорил он, а институты могущественнее людей. Маркс издевается над манерой мнимого либерализма, умеющего утешаться по поводу негодных институтов сменой заправляющих ими лиц. Он по пунктам разбирает новую инструкцию, чтобы обнаружить логическую бессмыслицу, которую она скрывала под романтически-туманной оболочкой. Как и старый цензурный эдикт, инструкция содержала предписание, что исследование истины в печати должно отличаться серьезностью и скромностью; на это Маркс возражает: «Вы восторгаетесь восхитительным разнообразием, неисчерпаемым богатством природы. Ведь не требуете же вы, чтобы роза благоухала фиалкой, — почему же вы требуете, чтобы величайшее богатство — дух — существовало в одном только виде? Я юморист, но закон велит писать серьезно. Я задорен, по закон предписывает, чтобы стиль мой был скромен. Бесцветность — вот единственный дозволенный цвет этой свободы. Каждая капля росы, озаряемая солнцем, отливает неисчерпаемой игрой цветов, но духовное солнце, в скольких бы индивидуальностях, в каких бы предметах лучи его ни преломлялись, смеет порождать только один, только официальный цвет! Существенная форма духа — это радостность, свет, вы же делаете единственно законным проявлением духа — тень; он должен облачаться только в черное, а ведь в природе нет ни одного черного цветка» *.
Новая инструкция отличалась, однако, от старого эдикта в том отношении, что предписывала цензорам внимательно следить за тем, благонамеренна ли тенденция печати или нет. Со жгучей насмешкой Маркс пишет по этому поводу: «Писатель, таким образом, становится
жертвой самого ужасного терроризма, подвергается юрисдикции подозрения. Законы против тенденции, законы, не дающие объективных норм, являются террористпческими законами, вроде тех, какие изобрела крайняя государственная необходимость при Робеспьере и испорченность государства при римских императорах. Законы, которые делают главным критерием не действия как таковые, а образ мыслей действующего лица, — это не что иное, как позитивные санкции беззакония... закон, преследующий за тенденцию, карает не только то, что я делаю, но и то, что я думаю, независимо от моих действий. Он является, следовательно, оскорблением для чести гражданина, хитроумной ловушкой, угрожающей моему существованию.
Я могу вертеться и изворачиваться как угодно, от этого положение вещей нисколько не изменится. Моо существование взято под подозрение, моя сокровеннейшая сущность, моя индивидуальность рассматривается как нечто дурное, и за это мнение обо мне я и несу наказание. Закон карает меня не за то зло, которое я делаю, а за то именно зло, которого я не делаю. В сущности я несу наказание за то, что мое действие не является противоза-конным, ибо только этим я заставляю милосердного, благожелательного судью ограничить свое рассмотрение моим дурным образом мыслей, который настолько благоразумен, что не обнаруживает себя в действиях.
Закон, карающий за образ мыслей, не есть закон, изданный государством для его граждан, это — закон одной партии против другой» *.
Законы о тенденции, говорит далее Маркс, изобретаются теми правительствами, которые принципиально противопоставляют себя пароду и потому считают свой антигосударственный образ мыслей всеобщим, нормальным образом мыслей. Нечистая совесть правящей клики измышляет законы о тенденции, как законы мести, карающие за тот образ мыслей, которого придерживаются одни только члены правительства. «Законы, преследующие за принципы, имеют своей основой беспринципность... Они — невольный крик нечистой совести. И как проводится в жизнь подобный закон? С помощью средства, которое еще более возмутительно, чем самый закон: при посредстве шпионов или же посредством предварительного соглашения считать подозрительными целые литературные направления... Подобно тому как в законе, преследующем за
тенденцию, законодательная форма противоречит содержанию; подобно тому как правительство, издающее этот закон, яростно выступает против того, что оно представляет в своем собственном лице, т. е. против антигосударственного образа мыслей, — точно так же правительство и в каждом частном случае является по отношению к своим законам как бы миром, вывороченным наизнанку, ибо оно применяет двоякую меру. Что для одной стороны — право, то для другой — правонарушение. Уже самые законы, издаваемые правительством, представляют собою прямую противоположность тому, что они возводят в закон...
Так, инструкция хочет охранять религию, сама же нарушает самый общий основной принцип всех религий — святость и неприкосновенность субъективного образа мыслей. Судьею сердца, вместо бога, она провозглашает цензора. Так, она запрещает оскорбительные выражения к порочащие честь суждения об отдельных лицах, но подвергает вас каждый день оскорбительному и порочащему вашу честь суждению цензора. Так, она хочет уничтожить сплетни, исходящие от злонамеренных и дурно осведомленных лиц, и вместе с тем принуждает цензора полагаться на подобные сплетни, доверяет шпионству злонамеренных п дурно осведомленных лиц...» *.
«Новая цензурная инструкция также запутывается в этой диалектике. Она впадает в противоречие, когда вменяет цензорам в обязанность делать все то, за что она осуждает печать как за противогосударственные действия» **. В этой статье лев впервые поднял лапу против бесправия и произвола, и ее сокрушающий удар так же метко поражает теперешние насильственные акты против рабочего класса, как он 50 лет тому назад поражал цензурную инструкцию.
Выступления в самой «Рейнской газете» Маркс начал подробной критикой дебатов рейнского провинциального ландтага в 1841 г. В ландтаг поступила покрытая более чем тысячью подписей петиция из Кёльна с просьбой довести ее непосредственно до сведения короля. Она требовала свободного доступа публики в заседания ландтага, ежедневного печатания дебатов в несокращенном виде, права свободно, в приличном тоне, обсуждать в газетах
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 15 — 16, 17.
** Там же, стр. 16.
эти дебаты, как и все внутренние дела страны, наконец, закона о печати вместо цензуры. Ландтаг присоединился к этим пожеланиям с очень большими оговорками: он просил у короля разрешения называть в протоколах ландтага имена ораторов и затем — не закона о печати, не уничтожения цензуры, а только цензурного закона, который бы не допускал произвольных действий цензоров. То и другое было отклонено короной.
По этому поводу Маркс в шести больших статьях резко выступает против ландтага. На заявление одного оратора, что сословия могли бы публиковать свои речи, смотря по обстоятельствам или по своему усмотрению, он возражает с холодным презрением: «Мы можем уверить его (оратора. — Ред.), что провинция отнюдь не интересуется «словами» представителей сословий как отдельных личностей, а ведь только «такие» слова они справедливо могут пазвать «своими». Провинция, напротив, требует, чтобы слова представителей сословий превратились в публичный, повсюду слышный, голос страны». Маркс уже теперь бичует то, что впоследствии заклеймил названием парламентского кретинизма. «Здесь речь идет о том, должна ли провинция знать свое представительство или нет! Должно ли к таинству правительства присоединиться еще и повое таинство — представительства? Но так народ представлеп и в правительстве. Новое представительство народа в лице сословного собрания было бы, следовательно, лишено всякого смысла, если бы специфический характер этого представительства не заключался именно в том, что здесь не другие действуют за провинцию, а, напротив, действует она сама; не другие представительствуют вместо нее, а она сама себя представляет. Представительство, существующее оторванно от сознания представляемых, но есть представительство. О чем не знаешь, о том и не тужишь. Бессмысленное противоречие состоит здесь в том, что функция государства, преимущественно выражающая собой самодеятельность отдельных провинций, оказывается совершенно изъятой из сферы даже их формального содействия — пх осведомленности; это бессмысленное противоречие состоит в том, что моя самодеятельность заключается в неизвестной мне деятельности другого» *.
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 47 — 48.
Столь же беспощадно Маркс расправляется с дебатами ландтага о свободе печати. Голосам из княжеского и дворянского сословия, опасавшимся деморализующего влияния свободной печати, он возражает, что деморализующим образом действует, напротив, подцензурная печать. От нее неотделим величайший порок — лицемерие, а из этого коренного ее порока вытекают все остальные ее недостатки, в которых нет и зародыша добродетели, вытекает самый отвратительный — даже с эстетической точки зрения — норок пассивности. «Правительство слышит только свой собственный голос, оно знает, что слышит только свой собственный голос, и тем не менее оно поддерживает в себе самообман, будто слышит голос парода, и требует также и от народа, чтобы он поддерживал этот самообман. Народ же, со своей стороны, либо впадает отчасти в политическое суеверие, отчасти в политическое неверие, либо, совершенно отвернувшись от государственной жизни, превращается в толпу людей, живущих только частной жизнью» *. Но Маркса не удовлетворяет и то, что было сказано о свободе печати из рядов городского сословия. По поводу требования, чтобы печать не была исключепа из всеобщей промысловой свободы, Маркс саркастически замечает: «Здесь перед нами оппозиция буржуа, а не гражданина». Он не желает, конечно, отрицать относительной справедливости этого воззрения. «Какой бы своеобразной пи казалась на первый взгляд точка зрения оратора, мы все же безусловно должны отдать ей предпочтение перед бессодержательными, туманными и расплывчатыми рассуждениями тех немецких либералов, которые думают, что, перенося свободу с твердой почвы действительности в звездное небо воображения, они тем самым воздают ей честь. Этим резонерам воображения, этим сентиментальным энтузиастам, которые видят профанацию в каждом соприкосновении их идеала с будничной действительностью, мы, немцы, отчасти обязаны тем, что свобода до сих пор осталась для нас фантазией и сентиментальным пожеланием» **. Немцы вообще склонны к сантиментам и экзальтации, они питают пристрастие к музыке небесной лазури. Они уже от природы отличаются всеподданнейшей и благоговейнейшей преданностью, они не
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 69.
** Там же, стр. 73.
осуществляют идей от чрезмерного уважения к ним. Но как бы относительно правилен ни был указанный взгляд на свободу печати, он все-таки ложен. «Писатель, конечно, должен зарабатывать, чтобы иметь возможность существовать и писать, но он ни в коем случае не должен существовать и писать для того, чтобы зарабатывать... Главнейшая свобода печати состоит в том, чтобы не быть промыслом» * — тезис, жестокую правду которого буржуазная печать подтвердила с тех пор 60-летней... несвободой.
За исключением нескольких голосов, особенно из крестьянского сословия, другие ораторы, участвовавшие в дебатах рейнского провинциального ландтага относительно свободы печати и публикования отчетов о заседаниях ландтага, производят на Маркса безотрадное и неприятное впечатление представителей, колеблющихся постоянно между намеренной закоснелостью привилегии и естественным бессилием половинчатого либерализма. «Эти господа хотят возвеличить свободу не как естественный дар всеобщего, ясного света разума, а как сверхъестественный дар особо благоприятного сочетания звезд. Так как они рассматривают свободу только как индивидуальное свойство отдельных лиц и сословий, то они неизбежно приходят к выводу, что всеобщий разум и всеобщая свобода относятся к разряду вредных идей и фантасмагорий «логически построенных систем». Желая спасти частные свободы привилегии, они осуждают всеобщую свободу человеческой природы» **. Маркс отвергает ту «свободу», которая хочет существовать только во множественном числе; вместе с Вольтером он называет «свободы» изъятиями из общего рабства. Особые виды свободы являются необходимыми следствиями из ее общего принципа: в промысловой свободе природа промысла принимает форму, отвечающую внутреннему принципу его жизни; в судебной свободе суды следуют собственным, им присущим законам права. «Подобно тому, как в мировой системе каждая отдельная планета, вращаясь вокруг себя, движется в то же время вокруг солнца, — так и в системе свободы каждый из ее миров, вращаясь вокруг себя, вращается вокруг центрального солнца свободы» ***.
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 76, 77.
** Там же, стр. 51.
*** Там же, стр. 75.
В этих статьях Маркс стоит еще целиком на точке зрения гегельянца, правда, радикального гегельянца, жадно взирающего из заоблачного мира на мир земной, но все же гегельянца, который выводит свои заключения из чисто идеологических предпосылок. В этом отношении характерны также следующие заключительные слова в уничтожающей полемике Маркса против «Кёльнской газеты», редактор которой, Гермес, был подкуплен правительством и выставлял перед полицией и цензурой младогегельянцев невежественными болтунами, а их публицистическую деятельность — отвратительным плодом мальчишеского самомнения. «Прежние философы государственного права исходили в своей конструкции государства из инстинктов, — например, честолюбия, общительности, — или даже из разума, но не общественного, а индивидуального разума. Новейшая философия, придерживаясь более идеальных и глубоких взглядов, исходит в своей конструкции государства из идеи целого. Она рассматривает государство как великий организм, в котором должны осуществиться правовая, нравственная и политическая свобода, причем отдельный гражданин, повинуясь законам государства, повинуется только естественным законам своего собственного разума, человеческого разума» *. С этой точки зрения Маркс подвергает историческую школу права столь же блестящей, сколь острой критике: выдержками из учебника естественного права Гуго он показывает, что ее метод стремится доказать не разумность существующего, а его неразумие. Она ложно толкует своего учителя Канта, полагая, что так как мы не можем познать истину, то логически мы должны неистинное, раз оно существует, признать за нечто достоверное. Отовсюду с самодовольныхм усердием тащит доводы, которые должны сделать очевидным, что разумная необходимость не одухотворяет позитивные институты — собственность, государственный строй, брак, что они даже противоречат разуму и в лучшем случае допускают пустое разглагольствование за и против себя. Идеологическая точка зрения Маркса выступает достаточно ярко и в том, что он говорит относительно законов о печати, в противоположность законам о цензуре. «В закопе о печати карающей является свобода. В законе о цензуре свобода подвергается каре.
Закон о цензуре есть закон, который берет свободу под подозрение. Закон о печати есть вотум доверия, который свобода выдает сама себе. Закон о печати карает злоупотребление свободой. Закон о цензуре карает свободу как некое злоупотребление... Закон о цензуре имеет только форму закона...
Закон о печати есть действительный закон, потому что он выражает положительное бытие свободы... Отсутствие законодательства о печати следует рассматривать как изъятие свободы печати из сферы юридической свободы, так как юридически признанная свобода существует в государстве в форме закона» *. Какая разница между законодательством о печати в сухой действительности кодексов и тем философским гороскопом, который был составлен ему молодым Марксом!
Вскоре, однако, он, по собственному выражению, спустился на «твердую землю» и в суровом столкновении с экономическими фактами познал недостаточность идеалистических воззрений на общество и государство. В другой серии из#пяти больших статей он критиковал дебаты рейнского провинциального ландтага по поводу закона о краже леса. Он и здесь требует, чтобы каждая отдельная материальная задача была разрешена политически, т. е. в связи со всем государственным разумом и с государственной нравственностью; он называет «низменным материализмом», «грехом против священного духа народов и человечества», «безнравственной, неразумной и бездушной абстракцией» думать при законе о лесных порубках только о дровах и лесе, рабски подчинять материи сознание. Но подобно тому как в дебатах о свободе печати ему открылось различие между буржуа и гражданином, так открылось ему в дебатах о краже леса различие между буржуа и пролетарием. И для такого проницательного ума это было вполне понятно. Наступающая эра крупной буржуазии усиленно стремилась вырвать последние корни общинного землевладения и начала жестокую войну против народных масс с целью их экспроприации. Из 207 478 расследований по уголовным делам, которые велись в 1836 г. в Пруссии, около 150 тыс., т. е. почти 3Д, касались краж леса и проступков против законодательства о лесах, охоте и пастбищах.
Один из методов экспроприации заключался в том, что собирание валежника объявлялось кражей леса. Маркс говорит по этому поводу, что даже карательное уголовное уложение XVI в. не отваживалось на что-либо подобное, «...если закон называет кражей леса такое действие, которое едва ли можно назвать даже нарушением лесных правил, то закон лжет, и бедняк приносится в жертву узаконенной лжи» *. Маркс ссылается на изречения Монтескьё, что есть два вида испорченности: один, когда
народ не соблюдает законов, и другой, когда законы портят народ; последнее зло неизлечимо, ибо оно заключается в самом лекарстве. «Но мы, непрактичные люди, выдвигаем в интересах бедной, политически и социально обездоленной массы то, что так называемые историки в своем ученом и ученически послушном лакействе придумали, в качестве настоящего философского камня, чтобы превращать всякое грязное притязание в чистое золото права. Мы требуем для бедноты обычного права, и притом не такого обычного права, которое ограничено данной местностью, а такого, которое присуще бедноте во всех странах» **. Маркс идет еще дальше и выдвигает положение, что обычное право по своей природе является только правом низшей, неимущей массы.
Его доказательство просто. Привилегированные сословия уже нашли в законе признание своего разумного права и даже своих неразумных притязаний. На права, которыми они пользуются вопреки закону, они притязают как на свою собственность для удовлетворения своих прихотей. «Но если эти обычные права благородных являются обычаями, противоречащими понятию разумного права, то обычные права бедноты — это права, противоречащие обычаям позитивного права. Содержание обычного права бедноты восстает не против формы закона, — оно, скорее, восстает против своей собственной неоформленности. Форма закона не противоречит этому содержанию, но только оно не приобрело еще этой формы» ***. Маркс видит основу всякого обычного права бедных в неопределенном характере некоторых видов собственности, в силу которого ее нельзя признать ни безусловно частной собственностью, нн
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 122.
** Там же, стр. 125.
*** Там же, стр. 127.
безусловно собственностью общей, в смешении частного и публичного права, выступающем перед нами во всех средневековых установлениях. Рассудок уничтожил эти двойственные, неустойчивые формы собственности, применив к ним заимствованные из римского права категории абстрактного частного права. «В этих обычаях бедного класса живет, таким образом, инстинктивное чувство права, корни этих обычаев положительны и законны, а форма обычного права здесь тем более естественна, что само существование бедного класса остается до сих пор не более как обычаем гражданского общества, не нашедшим еще надлежащего места в кругу сознательно расчлененного государства» *.
Маркс подробнее разъясняет свою точку зрения па одном примере из дебатов рейнского провинциального ландтага. Один представитель от городов выступил против постановления, по которому -сбор брусники и лесных ягод должен был наказываться, как кража. Оп указывал на то, что эти ягоды собирают дети бедняков, чтобы заработать таким образом кое-что для своих бедных родителей; это с незапамятных времен разрешалось владельцами лесов, и таким образом возникло обычное нраво для малышей. Другой депутат возразил, что в его округе эти ягоды стали уже предметом торговли и их бочками отправляют в Голландию. Эту аргументацию Маркс разбивает следующими едкими замечаниями: «Действительно, в одной
местности уже дошли до того, что обычное право бедных превратили в монополию богатых. Вот вам и исчерпывающее доказательство того, что можно монополизировать общественную собственность, а отсюда уже само собой следует, что она подлежит-де монополизированию. Природа предмета *ребует монополии, потому что интересы частной собственности придумали эу монополию. Идея, осенившая нескольких современных жадных торгашей, не вызывает никаких возражений, если только она может заставить валежник приносить выгоду исконно-тевтонскому землевладению» **. Маркс заключает признанием, что он с отвращением следил за этими скучными и пошльши дебатами, но счел своим долгом показать на этом примере, чего можно ожидать от сословного предста-
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 130.
** Там же, стр. 131.
вительства частных интересов, если оно когда-нибудь будет всерьез призвано к законодательству.
Статьи о краже леса привели Маркса к вопросу о значении пролетариата в буржуазном обществе. Однако серьезное внимание, которое «Рейнская газета» уделяла экономическим вопросам, встречало препятствие в идеологическом самодовольстве ее сотрудников из младогегельянцев. Если государство должно быть всеобщностью, то нужно, чтобы оно было единым, чтобы оно не было разделено. Обо что же разбивались попытки построить государство ь его «всеобщности»? Ответ был ясен, и он действительно был дан: свобода разбивается о нищету, которая отнимает у весьма значительной еще части общества возможность свободно развивать свои силы.
Среди швейцарских корреспондентов газеты находились друзья Вейтлинга 42 — Август Беккер и Себастьян Зейлер 43. «Рейнская газета» в конце сентября 1842 г. сама ссылалась на статью из «Молодого поколения» Вейтлинга, где по поводу правительственных форм в коммунистическом обществе говорилось, что в правительство следует выбирать не лиц, а способности, — идея, которой «Рейнская газета» не хотела отказать в гениальности и оригинальности. На следующий день она перепечатала из «Молодого поколения» письмо случайного корреспондента о берлинских «семейных домах», как статью, «не лишенную интереса для истории этого важного современного вопроса». Корреспонденция изображала дома для рабочих у Гамбургских ворот как «полдюжины фабрикоподобных мышиных нор, сплетенных из глины и дерева, вышиною в 40 футов и длиною около 90 футов, выкрашенных в синюю и белую краски», как гнездо отчаянной нищеты, чем они и были в действительности.
Почти одновременно в «Рейнской газете» прозвучало слабое эхо французского социализма. Газета послала на ученый конгресс в Страсбург собственного корреспондента, кажется Мозеса Гесса. На конгресс явилось много немецких и французских ученых; рядом с немецкими либералами, вроде Велькера 44, приветствовавшего французскую революцию, как родоначальницу естественного права45, присутствовали французские социалисты, например Консидеран и Леру 46, а в политико-экономической секции конгресса обсуждались системы французского социализма. Корреспондент «Рейнской газеты» сделал по этому поводу замечание, что среднее сословие занимает теперь положение, аналогичное положению дворянства в 4789 г.: третье сословие претендовало тогда на привилегии дворянства и получило их, а теперь неимущее сословие требует себе доли в богатстве правящих ныне средних классов. Теперешнее среднее сословие предусмотрительнее, однако, чем дворянство 1789 г., и задача будет, вероятно, разрешена мирным путем.
Это замечание и перепечатка статьи о берлинских семейных домах дали аугсбургской «Всеобщей газете» желанный повод напасть на «Рейнскую газету» за коммунистическую пропаганду. Маркс, к которому только что перешло редактирование газеты, ответил на это 16 октября 1842 г. энергичной отповедью. Одному.из парижских корреспондентов аугсбургской «Всеобщей газеты», «который трактует историю, как кондитер ботанику», пришла в голову фантазия, что монархия должна стремиться усвоить себе на свой лад социалистически-коммунистические идеи. Маркс насмехается над «аугсбургской кумушкой» и спрашивает: «Или же она упрекает нас в том, что мы не прописали тотчас же какого-нибудь испытанного рецепта и не подсунули изумленному читателю ясного, как день, проекта ни к чему не обязывающего решения проблемы? Мы не обладаем искусством одной фразой разделываться с проблемами, над разрешением которых работают два народа» *. Но, отражая несправедливые нападки, Маркс в то же время с нескрываемой резкостью высказывается против паспех состряпанных решений этих вопросов, какими бы благими намерениями они ни были внушены. С характерной для него честностью он признает, что не составил себе еще самостоятельного суждения о французском социализме, а развивает свою программу следующим образом: ««Rheinische Zeitung», которая не признает даже теоретической реальности за коммунистическими идеями в их теперешней форме, а следовательно, еще менее может желать их практического осуществления или же хотя бы считать его возможным, — «Rheinische Zeitung» подвергнет эти идеи основательной критике. Но что такие произведения, как труды Леру, Консидерана и, в особенности, остроумную книгу Прудона нельзя критиковать на основании поверхностной минутной фантазии, а только после
упорного и углубленного изучения, — это признала бы и аугсбургская кумушка, если бы она хотела чего-либо большего и была способна на большее, чем салонные фразы... Мы твердо убеждены, что по-настоящему опасны не практические опыты, а теоретическое обоснование коммунистических идей; ведь на практические опыты, если они будут массовыми, могут ответить пушками, как только они станут опасными; идеи же, которые овладевают нашей мыслью, подчиняют себе наши убеждения и к которым разум приковывает нашу совесть, — это узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца, это демоны, которых человек может победить, лишь подчинившись им» *.
Марксу не суждено было выполнить своего плана в «Рейнской газете». После его вступления в редакцию газета приняла резко оппозиционное направление и в то же время задавала цензуре столько хлопот своей ловкой тактикой, что регирунгс-президент фон Герлах уже в середине ноября выразил издателю «самое решительное неудовольствие правительства по поводу направления газеты». Только в надежде, что газета «повернет по более удовлетворительному пути», власти не прибегли к запрещению, а ограничились тем, что выгнали Рутенберга из Кёльна. Чтобы облегчить газете путь к исправлению, сместили ее цензора, полицейского советника Доллешаля, действительно представлявшего собой великолейный экземпляр цензорской ограниченности: он вычеркнул раз из «Кёльнской газеты» объявление о сделанном Филалетом, будущим королем Саксонии, переводе «Божественной комедии» Данте на том основании, что божественное никому не дозволено превращать в комедию. На его место был назначен асессор Витхауз, который должен был производить удушение мысли более искусно; однако и он не умел или не хотел исполнять обязанности палача так, чтобы удовлетворить власть имущих в Берлине.
Очень скоро дело дошло до новых конфликтов. «Рейнская газета» получила из Бернкастеля и других мест у Мозеля компетентные отчеты о жалком положении при-мозельских крестьян. Примозельский край, лежащий между Триром и Кобленцем, между Эйфельскими горами и Хунсрюком, был очень беден. У примозельского крестьянина не было клочка земли для земледелия или табаководства, как у крестьянина в рейнском Пфальце; все его владение ограничивалось виноградником, и каждый неурожай ставил его в безвыходное положение. Между тем с середины 20-х до середины 30-х годов следовал друг за другом ряд неурожаев, а затем явился Таможенный союз, низкие тарифы которого, благоприятствуя ввозу французских вин, затрудняли сбыт мозельских и понижали их цены. Другие жалобы мозельских крестьян были направлены против капиталистического хозяйничанья бюрократических общинных управлений, урезывающих их права пользования общинными угодьями, лесными и пастбищными, против обременительности и неравномерной раскладки налога на виноградное сусло, против нещадно эксплуатировавшего их ростовщичества; их маленькие участки продавались массами с аукциона, так как они не в силах были платить дольше налоги и проценты. Нужда этого до крайности бедного населения была настолько очевидна, что даже у прусского абсолютизма не хватало духа отрицать ее, хотя он и признавал ее только с теми «если» и «но», на которые так щедра обыкновенно всякая суемудрая и неспособная бюрократия, когда ей приходится сталкиваться с практическими задачами. Последним средством абсолютизма осталась, как всегда, палка, ударами которой ор награждал неудобных для него людей, ждавших от него большего, чем он мог дать.
Мозельские письма в «Рейнской газете» представляли собой совершенно спокойные и со знанием дела написанные отчеты. Одна из этих корреспонденций осуждала тот факт, что в одной общине в несколько тысяч душ не было еще приступлено к раздаче дров, несмотря на наличие прекрасного леса; другая радостно приветствовала большую свободу печати, так как отныне примозельские крестьяне смогут публично бичевать язвы, от которых они страдают, не навлекая на себя упрека в «наглом визге». Эти две корреспонденции вызвали со стороны обер-прези-дента фон Шапера два замечания. В одном он требовал указать название той общины, где имела будто бы место история с дровами, в другой он оспаривал то, чтобы какие-либо власти совершили когда-либо такой «недостойный поступок», как объявление наглым визгом жалобы виноделов на их «положение, которое всеми признается тяжелым». Он нросил, чтобы ему точно указали случаи, когда власти, хотя бы и до появления более мягкой цензурной инструкции, помешали откровенному публичному обсуждению тяжелого положения примозельских крестьян, и обещал свою благодарность корреспонденту, если тот открыто расскажет, от каких язв страдают виноградари, в особенности если он сумеет предложить пригодные средства против них. Разбрызгав таким образом весь свой вежливый яд, бюрократическая душа перешла в грубый тон и объявила утверждение корреспондента злостной клеветой, покуда обратное не будет доказано.
«Рейнская газета» подняла перчатку. Она собрала через своего корреспондента обильный материал о положении примозельских крестьян и предоставила ему свои столбцы для основательного ответа на нападки фон Ша-пера, дополнив еще сама ответ из других источников. 15 января 1843 г. открылся ряд этих статей, причем материал был аккуратно распределен на пять рубрик. К рассмотрению предлагались: 1) вопрос о распределении лесного материала, 2) отношение примозельского края к большей свободе для печати, 3) язвы примозельского края, 4) вампиры примозельского края, о) предложения, касающиеся мер к облегчению положения. Первый пункт был исчерпан тем, что корреспондент уполномочил редакцию назвать обер-президенту общины, где раздача дров не происходила. По второму пункту газета обилием официального и документального материала доказала, что правительство, несомненно, насильственно подавляло жалобы примозельских крестьян; что оно не сделало никакой серьезной попытки к облегчению Цоложения, а всегда отделывалось пустыми фразами; что бюрократия, высшие инстанции которой полагаются на низшие, а низшие — на высшие, вообще не способна сделать ничего для устранения социальных зол. Этих снарядов было достаточно для правительства; оно поспешно отступило под прикрытие красного цензорского карандаша. 20 января статьи оборвались, не дойдя до половины; обсуждения трех последних пунктов бюрократия, столь же трусливая, сколько насильническая, даже не допустила.
Зато 28 января на самом видном месте «Рейнской газеты» появилась заметка, что королевские министерства, которым подведомственна цензура, постановили прекратить издание «Рейнской газеты» с 1 апреля с. г. Вместе с тем регирунгс-президенту фон Герлаху было дапо полномочие ежедневно требовать к себе всю газету после того, как она прошла через цензуру, не разрешать никогда ее печатания и выпуска в свет раньше, чем она будет просмотрена им самим, и совершенно задержать ее, если, несмотря на цензуру, он найдет еще в ней недозволенные места. В запрещении от 25 января говорилось, что газета с момента своего возникновения следовала предосудительному направлению, что в ней явно господствует намерение подорвать государственное устройство в его основе, поколебать монархический принцип, набросить подозрение на правительство в общественном мнении, натравить одни сословия на другие, пробудить недовольство существующим законным порядком. Деятельность газеты основана на пустых теориях и направлена к предосудительным целям, которые не могут быть терпимы ни в одном государстве. Способ выражения и язык разнузданы. Распоряжение признавало бессилие цензуры; назначение последней, говорилось в нем, не состоит в беспрерывной борьбе с бесчинством, покоющимся на столь упорных, злокачественных тенденциях. Затем христианско-германский принцип — который при всем нравственном отвращении к мирским тенденциям питает нежное чувство к звонкой монете — сказался еще в замечании, что газета была бы давно запрещена, если бы правительство не посчиталось с денежными интересами акционеров, — соображение, и теперь побуждающее его не запрещать газету немедленно, а лишь по истечении первого квартала.
Цензор Витхауз сложил с себя свою должность, когда в лице регирунгс-президента над ним был поставлен обер-цензор; кёльнское общество любителей пения устроило за это «нецензору» торжественную серенаду. На его место был прислан из Берлина секретарь министерства Сен-Поль, который проявил наконец требуемую правительством смесь грубости я ловкости, так что обер-цензура была снова отменена 18 февраля. Возможно, что этому способствовали и слезные мольбы акционеров, испугавшихся за свои кошельки и устроивших 12 февраля общее собрание. Не борьба с цензором — хотя следы его свирепости чувствуются еще и теперь на столбцах «Рейнской газеты» — заставила Маркса отказаться 17 марта от редактирования газеты, а убеждение акционеров, что им удастся, смягчив тон газеты, отменить произнесенный над нею смертный приговор. Марксу сразу представился случай на практике
проверить свое мпение, что свобода печати состоит прежде всего в том, чтобы не быть промыслом.
Иллюзия акционеров оказалась, естественно, тем, чем она была. Депутация, посланная ими в Берлин, не была даже допущена к королю. На петиции из Кёльна, Трира и других рейнских городов был получен ответ, что запрещение должно остаться в силе, а участвовавшие в них чиновники получили еще в придачу нагоняй с замечанием, что им следовало бы иметь более зрелые взгляды на общественные отношения. «Рейнская газета» прекратила свое существование 31 марта 1843 г.
Но даже на это падающее гордое знамя бросил свою тень немецкий дух лакейства, и на поминках газеты ее убийца-цензор сидел за столом вместе с акционерами, а к его стулу был прикреплен цепью экземпляр газеты. Прежде чем Сен-Поль покинул Кёльн после доблестно выполненного подвига во имя культуры, он навлек еще на себя обвинительный приговор суда исправительной полиции за то, что подрался у дома терпимости с ночными сторожами. Его товарищем в этом геройском бою был другой цензор, тот самый граф Фриц Эйленбург, который лет 30 спустя предстал перед социал-демократией как старый ханжа с рубящей саблей и стреляющим ружьем. К сожалению, прусские историки не сообщают, с какими благочестивыми чувствами король-романтик смотрел на то, что его храбрые рыцари религии и нравственности дрались у земных домов терпимости со стражами порядка в то самое время, когда он на милом и образном языке своей фантазии молол вздор относительно «сестры-потаскухи на Рейне».
Глава III
«НЕМЕЦКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ЕЖЕГОДНИК»
Тотчас после того, как Маркс оставил редактирование «Рейнской газеты», он писал Руге: «Пышный плащ либерализма упал с плеч, и отвратительнейший деспотизм предстал во всей своей наготе перед лицом всего мира» Но корень этого деспотизма вскрывал Руге, когда писал своему брату: «Печать во всей Германии душат не один или два чиновника, не король: ее душат с согласия и от
имени парода, писателей, ученых, бюргеров, солдат, крестьян». Если публицистическая оппозиция хотела пустить новые корни, то приходилось делать это за границей. Из этой необходимости и возник «Немецко-французский ежегодник».
1. ОСНОВАНИЕ И ГИБЕЛЬ ЖУРНАЛА
Деловые и литературные приготовления к новому предприятию заняли почти целый год. Тотчас после закрытия «Немецкого ежегодника» Руге задумал план возобновить его вместе с Марксом за границей. Он вошел компаньоном в «Литературную контору» Фрёбеля и внес 6 тыс. талеров, но новый журнал не должен был выходить в Швейцарии, как «Anekdota». Цюрих слушается приказаний из ]Берлина, говорил Маркс. Гервег уже в феврале пал жертвой страха пред монархической реакцией и был выслан из Цюриха. Он принужден был отказаться от проектировавшегося им журнала и собрал его обломки — статьи, предназначавшиеся для первых номеров, — в «21 лист из Швейцарии», использовав цензурную свободу, обещанную книгам объемом более 20 печатных листов.
Но Маркс и Руге направили свои стопы в Париж не только потому, что хотели быть совершенно независимыми от немецкой цензуры. Обоих практическая борьба заставила перейти из области религии в область политики; Маркс энергично поддерживал в «Рейнской газете» полемику Гервега и Руге с Бауэрами и беспощадно осуждал фривольность «свободных», берлинскую манеру в их внешнем поведении, их политическую романтику, гениальни-чанье и погоню за известностью, хотя и допускал, что в отдельности это по большей части превосходные люди. Но политическая борьба оказалась невозможной в Германии, тогда как во Франции волны ее высоко поднимались. Кроме того, Маркс нигде не мог так хорошо изучить французский социализм, как у его источника. С своей стороны, Руге задумывал интеллектуальный союз между немцами н французами. Он считал, что быть против Франции и против политики — это то же самое, что быть против политики и против свободы. Франция есть политический принцип, чистый принцип человеческой свободы в Европе, и только она одна является нм. Приданое немцев в новом союзе должна была составить логическая проницательность гегелевской философии, как надежный компас в
метафизических и фантастических областях, в которых французы — даже Ламенне 47 и Прудон, не говоря ужо о сен-симонистах и фурьеристах, — .неслись без руля, по воле ветра и волн. Руге хотел привлечь в качестве сотрудников Ламартина 48, Ламенне, Луи Блана, Леру, Прудона.
В конце лета 1843 г. он отправился на несколько месяцев в Париж, чтобы позондировать почву. Результат показался ему благоприятным, и к концу 1843 г. он и Маркс окончательно переехали в Париж. Однако уже три месяца спустя Руге писал своей матери, что два первых выпуска «Немецко-французского ежегодника» вышли в свет, но что вместе с тем все предприятие пришло к концу.
Причины этой неудачи лишь отчасти заключались в том, что распространение журнала в Германии натолкнулось на большие препятствия и что финансовые средства «Литературной конторы» скоро иссякли. Это, быть может, удалось бы преодолеть. Еще легче, пожалуй, оказалось бы возможным победить холодную сдержанность французских писателей. Никто из них не выступил в «Немецко-фран-цузскОхМ ежегоднике»: одни обещали, но ничего не делали, другие отказали, подчас в неприятной форме. Ламенне прочитал издателям двухчасовую лекцию о своих религиозных фантазиях и объявил затем, что подождет их дел, прежде чем принять участие в журнале. Ламартин выступил с публичным опровержением газетного сообщения, будто он обещал работать сообща с «еретиком» (!) Ламенне в журнале господ Маркса и Руге, на что последние возразили в «Мирной демократии», что Ламартин все же дал им основание надеяться на его сотрудничество. Особенно нелюбезно повел себя Луи Блан. Он поздравлял, правда, Германию с тем, что ее молодежь начинает обращать свое внимание на практику жизни, однако считал, что она должна научиться умерять свой пыл, так как атеизм в философии имеет своим необходимым последствием анархию в политике. Он высказывал порицание не-мецкихМ юношам, которые своим признанием французского материализма, Дидро, Гольбаха и Энциклопедии49 отодвинулись больше чем на столетие назад, и напыщенно заклинал их: «Помните о том, что Руссо — представитель демократии, основанной на единстве и братской любви! Помните о том, что та самая рука, которая дала нам «Общественный договор», написала «Исповедь савойского викария»!» 50 Этот трусливый мелкий буржуа не мог отказаться от сладкой привычки окружать борьбу практической жизни небесным ореолом какой-нибудь религии и таким образом заграждать себе путь к глубокому пониманию ее. Но дерево не должно было непременно упасть после первого удара, и издатели «Немецко-французского ежегодника» могли бы на первых порах тем легче обойтись без французских сотрудников, что в лице Гейне, Гервега, Иоганна Якоби, Фридриха Энгельса и др. они собрали вокруг себя штаб немецких сотрудников, с которыми можно было смело показаться в свет.
Что привело их к безнадежному крушению — это разрыв между ними самими. О внешнем поводе к этому разрыву мы имеем только рассказ Руге, который дышит смертельной ненавистью к Марксу и не может быть принят на веру. По словам Руге, Маркс прекратил дружеские отношения потому, что Руге отказывался признать за «прохвостом» Гервегом какую-либо будущность из-за разных глупостей, которые Гервег наделал, по-видимому опьяненный наслаждениями парижской жизни. Возможно, что в этом есть доля правды. Маркс питал к истинно поэтическим натурам родственную симпатию; если бы он находился продолжительное время, как Руге, вместе с Гервегом в Берлине, то не смотрел бы на аудиенцию поэта у короля с тайным чувством удовлетворения, какое испытывал Руге, а по мере своих сил не допустил бы ее, но теперь, когда Гервег так тяжело страдал от последствий этой юношеской глупости, Маркс судил, быть может, справедливее и потому мягче о его действительных или мнимых ошибках. Возможно также, что неискоренимая филистерская мораль Руге вывела как-нибудь Маркса из себя. Ведь це оставлял же Руге своей вечной проповеди морали даже по отношению к такому поэту, как Гейне, хотя он теперь и оценивал его правильнее, чем некогда в Галле: еще спустя много лет он хвалился, что вместе с Марксом внушил Гейне его бессмертные сатиры, например «Зимнюю сказку». По каким причинам Маркс и Руге разошлись лично, не так, впрочем, важно; историческое значение имеет лишь их политический разрыв, а он коренился гораздо глубже, чем в случайном споре из-за Гейне или Гервега.
Нужна была вся близорукость романтической реакции, чтобы отнести к крайней оппозиции такого человека, как Руге. Если бы ему оставили прежнюю свободу философствования, которую терпел ведь даже старый и глупый король, то он скромно удовлетворился бы геройской ролью городского гласного в Галле или Дрездене. Как хорошо он чувствовал себя в этих мелочных делах, показывает самодовольство, с которым он 20 лет спустя рассказал о них в своих мемуарах. Следует ли построить новый вокзал на левом берегу Эльбы в интересах ломовиков и легковых извозчиков или на правом — в интересах пассажиров, вправе ли берлинские евреи приезжать на дрезденскую ежегодную ярмарку с фальшивыми бриллиантами, можно ли помешать невоспитанному англичанину положить ноги на стол в читальне — таковы вопросы, которыми с удовольствием занимался Руге. Какой огромный контраст с ними представляют экономические конфликты, с которыми сталкивался в «Рейнской газете» идеалист и младогегельянец Маркс: война между буржуазным и феодальным обществом, антагонизм между буржуазией и пролетариатом или даже спор о свободе торговли и покровительственных пошлинах, поднятый в особенности южногерманскими фабрикантами, предводительствуемыми Листом 51, против низких тарифов Таможенного союза. Когда Маркс и Руте окунулись во французскую жизнь, то Маркс поплыл по волнам, как сильный корабль, который в конце концов попадает в открытое море, тогда как ореховая скорлупка — Руге — боязливо стремилась назад к прибрежным песчаным отмелям. Чтобы познакомиться с внутренней жизнью коммунистических рабочих кружков, Маркс охотно поддерживал сношения с Эвербеком52 из Данцига, который руководил тогда парижскими общинами Союза справедливых; между тем когда Эвербек попросил у Руге пару франков на напечатание сочинений Вейтлинга, прибавив безобидное замечание, что «на то и деньги у Руге», то отставной дрезденский городской гласный произнес перед ним «гневную» речь, которую вдобавок нашел стоящей сохранения для потомства; он просит не вмешиваться в его частные дела, сказал Руге, он не для того уехал от немецкого полицейского надзора и цензуры, чтобы позволить Эвербеку контролировать свое хозяйство, и так далее в том же стиле. При практическом соприкосновении с социализмом буржуа сбросил свою философскую оболочку; Руге начал смотреть на «прусских палачей» более снисходительными глазами, чем на «гнусные еврейские Души» коммунистов.
При отраженном свете последующей 50-летней истории типичная разница между Руге и Марксом, разница между шумливым мещанином и революционным мыслителем, выступает уже очень ясно в переписке Маркса с Руге, Бакуниным и Фейербахом, которой открывается «Немец-ко-французский ежегодник». Руге выдавал себя потом за автора этих писем, но ни с психологической точки зрения, ни по стилю нет никаких оснований считать, что они принадлежат ему; во всяком случае, по существу своего содержания письма, несомненно, принадлежали тем лицам, чьи инициалы значатся в подписях. Переписка открывается кратким, внушительным аккордом Маркса: романтическая реакция ведет к революции, государство — слишком серьезная вещь, чтобы можно было превратить его в какую-то арлекинаду; можно, пожалуй, на некоторое время предоставить ветру полный глупцов корабль, тем не менее он плывет навстречу своей неминуемой судьбе, и именно потому, что глупцы этого и не подозревают. Руге отвечал длинной иеремиадой насчет неизменного овечьего терпения немецких филистеров, которых он охотно уничтожил бы. Он знает, однако, что принадлежит сам к ним, и не хочет уклониться от общего позора. «Скажите мне откровенно какую угодно горькую истину, я приготовился к этому. У нашего народа нет будущего; что толку в нашей славе?»
На это Маркс отвечает: «Ваше письмо... хорошая элегия... но политического в нем решительно ничего нет... мир принадлежит филистеру... мы должны внимательно к нему (филистеру. — Ред.) присмотреться. Стоит изучить этого господина мира» *. Маркс анализирует первые шаги Фридриха-Вильгельма IV как попытку неглупого монарха упразднить филистерское государство на его собственном базисе. Эта попытка потерпела неудачу и должна была потерпеть ее. Филистер — это материал монархии, а монарх — всего лишь король филистеров; он не может сделать ни себя, ни своих подданных свободными, настоящими людьми, пока обе стороны остаются тем, что они собой представляют сейчас. Король хотел править не при помощи мертвого закона, а своим живым сердцем; он хотел привести все сердца в движение в пользу своих сердечных желаний, но остальные сердца бились по-иному,
чем сердце короля; те, над кем он господствовал, не могли открыть рта без того, чтобы не заговорить тотчас же об уничтожении старого господства; идеалисты, возымевшие дерзкое желание сделать человека человеком, заговорили, и, в то время как король фантазировал на старонемецкий лад, они считали себя вправе философствовать на новонемецкий лад. Благодаря этому расхождению слуги, так легко руководившие прежде ходом вещей, и вместе с ними русский царь смогли легко убедить вспыльчивого короля, что нельзя управлять людьми, поднимающими свой голос. Последовало возвращение к старому, окостенелому государству слуг и рабов; молчание сделалось единственным способом выражения взглядов. Таким образом всему миру было дано паглядное доказательство того, что деспотизму необходимо присуще скотство и что он несовместим с человечностью.
После этого, полагает Маркс, Руге не станет, конечно, делать ему упрека, что он слишком высокого мнения о настоящем; если он не отчаивается все-таки относительно настоящего, то потому только, что именно современное отчаянное положение вселяет в него надежду. Он не говорит о неспособности господ и о равнодушии слуг и подданных, полагающихся во всем на волю божью, хотя обоих этих моментов, взятых вместе, было бы уже достаточно, чтобы привести к катастрофе. Он обращает внимание лишь на то, что враги филистерства, словом все мыслящие и страдающие люди, достигли взаимопонимания и что даже пассивная система размножения подданных старого склада вербует каждый день рекрутов для служения новому человечеству. «А система промышленности и торговли, система собственности и эксплуатации людей ведет еще гораздо скорее, чем размножение населения, к расколу внутри теперешнего общества, — к расколу, от которого старая система не в состоянии исцелить, потому что она вообще не исцеляет и не творит, а только существует и наслаждается» *. Их же задача — разоблачать старый мир и вместе с тем совершать положительную работу для образования нового мира.
Далее следуют письма Бакунина и Фейербаха, также восстающих против отчаянного настроения Руге. Бакунин пишет в высокомерно-благожелательном тоне о немецких
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 377 — 378.
делах: «...Я, скиф, развяжу у вас ваши путы, у вас, германцев, желающих быть греками».
Фейербаху гибель «Немецкого ежегодника» напоми-пает гибель Польши: «Усилия немногих людей были тщетны в общем болоте загнившей народной жизни... Нам нужны были новые люди. Но на этот раз они не придут из болот и лесов, как во времена переселения народов; из нашего ребра мы должны создать их». Он рекомендует основать новый орган, чтобы прочистить головы. Руге признает себя побежденным «новым Анахарсисом и новым философом», а затем Маркс, как бы в великолепном заключительном аккорде, делает вывод из всего спора.
Ясно, говорит Маркс, что нужно создать новый сборный пункт для истинно мыслящих и независимых голов. Но если относительно «Откуда?» и не существует никаких сомне-пий, то тем большая путаница господствует по вопросу «Куда?». «Не говоря уже о всеобщей анархии в воззрениях различных реформаторов, каждый из них вынужден признаться себе самому, что он не имеет точного представления о том, каково должно ’быть будущее. Между тем, преимущество нового направления как раз в том и заключается, что мы не стремимся догматически предвосхитить будущее, а желаем только посредством критики старого мира найти новый мир. До сих пор философы имели в своем письменном столе разрешение всех загадок, и глупому непосвященному миру оставалось только раскрыть рот, чтобы ловить жареных рябчиков абсолютной науки. Теперь философия стала мирской; это неопровержимо доказывается тем, что само философское сознание не только внешним, по и внутренним образом втянуто в водоворот борьбы. Но если конструирование будущего и провозглашение раз навсегда готовых решений для всех грядущих времен но есть наше дело, то тем определеннее мы знаем, что нам нужно совершить в настоящем, — я говорю о беспощадной критике всего существующего, беспощадной в двух смыслах: эта критика не страшится собственных выводов и не отступает перед столкновением с властями предержащими» *. Маркс не желает водружать никакого догматического знамени, и коммунизм Кабе, Дезами53 и Вейт-линга для него также только догматическая абстракция.
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 379.
Преимущественный интерес в теперешней Германии вызывают, во-первых, религия, а во-вторых, политика; им нужно не противопоставлять какую-либо готовую систему, вроде «Путешествия в Икарию», а брать их за исходную точку, каковы бы они пи были.
Маркс отвергает мнение «завзятых социалистов», что политические вопросы не стоят никакого внимания. Из конфликта политического государства с самим собой, из противоречия между его идеальным назначением и его реальными предпосылками повсюду можно развить социальную истину. Он ссылается на различие между сословной и представительной системами, в свое время разобранное им в «Рейнской газете»: этот вопрос лишь выражает политическим языком различие между господством человека и господством частной собственности. «Ничто не мешает нам, следовательно, связать нашу критику с критикой политики, с определенной партийной позицией в политике, а стало быть, связать и отождествить нашу критику с действительной борьбой. В таком случае, мы выступим перед миром не как доктринеры с готовым новым принципом: тут истина, на колени перед ней! — Мы развиваем миру новые принципы из его же собственных принципов. Мы не говорим миру: «перестань бороться; вся твоя борьба — пустяки», мы даем ему истинный лозунг борьбы. Мы только показываем миру, за что собственно он борется, а сознание — такая вещь, которую мир должен приобрести себе, хочет он этого или нет» *. Маркс заключает переписку программой: работа современности над уяснением самой себе смысла собственной борьбы и собственных желаний.
Вершину этой программы составляют статьи, помещенные в «Немецко-французском ежегоднике» Марксом и Энгельсом. Все, что принадлежит другим сотрудникам, — песни Гейне и Гервега, документальные сообщения Иоганна Якоби из его процесса о государственной измене, статьи Бернайса и письма Гесса — все это имеет более или менее значительную эстетическую или историческую ценность, но не представляет значения для истории социа-лиэма.
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 381.
55
Маркс и Энгельс написали для «Немецко-французского ежегодника» по две статьи. Работы Маркса «К критике гегелевской философии права. Введение» и «К еврейскому вопросу» находятся друг с другом в известной внутренней связи, то же самое относится и к работам Энгельса «Наброски к критике политической экономии» и «Положение Англии». Но независимо от этого все четыре статьи связаны как бы одной красной нитью, а именно Фейербахом, из которого они исходят и дальше которого они подвигаются вперед ощупью.
В письме из Крейцнаха от 20 октября 1843 г. Маркс обратился к Фейербаху с просьбой дать для первого же выпуска журнала критику Шеллинга. Он называет Фейербаха «прямой противоположностью Шеллингу»: для Фейербаха искренняя юношеская мысль Шеллинга стала истиной, действительностью, серьезным, мужественным делом, тогда как у Шеллинга она осталась фантастической юношеской мечтой. «Я считаю Вас поэтому необходимым, естественным, призванным их величествами природой и историей, противником Шеллинга» *. Немногие строки, бойкие и любезные, набросанные как бы в порыве вдохновения, настолько взволновали Фейербаха, что он тотчас же взялся за лекции Шеллинга с намерением исполнить «долг необходимости», на который ему указывал Маркс. Но в конце концов он все-таки отказался, мотивируя свой отказ тем, что самое необходимое он уже изложил вкратце, а вновь пережевывать уже сказанное ad captum vulgi, для общего понимания, он не желал бы. Маркс всегда отзывался о Фейербахе с высоким уважением, как и Фейербах о Марксе, но то, что отделяло их друг от друга — - период промышленного и политического развития в полжизни одного поколения, — ясно выступило при первом же их соприкосновении: 40-летний муж желал бы все-таки явиться чувственному миру только в важной тоге философа, а 25-летний юноша хотел завоевать этот мир разящим мечом.
В «Критике гегелевской философии права. Введение» Маркс исходит из основы иррелигиозной критики в том ее виде, как она была заложена Фейербахом: человек создает религию, религия же не создает человека. Но он
Я. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, етр. 258.
тотчас же делает шаг дальше: «...человек — не абстрактное, где-то вне мира ютящееся существо. Человек это — мир человека, государство, общество» *. Задача истории, задача философии, находящейся па службе истории, состоит в том, чтобы установить. правду посюстороннего мира, после того как исчезла правда потустороннего мира. «Критика неба превращается, таким образом, в критику земли, критика религии — в критику права, критика теологии — в критику политики» **.
Чтобы разрешить эту задачу, Маркс обращается не к оригиналу, а к копии — к немецкой философии государства и права — по той простой причине, что его критика приурочивается к Германии. Если бы захотели приурочить такую критику к самим существующим немецким порядкам, это привело бы к анахронизму. «Отвергая немецкие порядки 1843 г., я, по французскому летосчислению, нахожусь едва ли даже в 1789 г. и уж никак не в фокусе современности» ***. Далее следует яркое изображение немецких порядков, изображение «взаимного тягостного давления всех общественных сфер друг па друга, всеобщего бездеятельного недовольства, ограниченности, в одинаковой мере выражающейся как в самовозвеличении, так и в самоуничижении, — всего того, что заключено в рамки такой правительственной системы, которая живет тем, что охраняет всякие мерзости, и сама есть не что иное как мерзость, воплощенная в правительстве» ****. Если критика хочет понять современную социальную действительность, если она хочет возвыситься до истинно человеческих проблем, то ей нужно стать вне немецких порядков, «иначе она рассматривала бы свой предмет на таком уровне, который ниже действительного уровня этого предмета» ****.
Маркс приводит пример. «Отношение промышленности, вообще мира богатства, к политическому миру есть одна из главных проблем нового времени. В какой форме начинает эта проблема занимать немцев? В форме покровительственных пошлин, запретительной системы, национальной экономии. Тевтономания перекочевала из чело-
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 414.
** Там же, стр. 415.
*** Там же, стр. 416.
*** Там же, стр. 417.
***** Там же, стр. 418.
века в материю, и таким образом в одно прекрасное утро наши рыцари хлопка и герои железа проснулись патриотами» *.
Маркс уже тогда разорвал патриотический покров, в который облекал свою капиталистическо-меркантилистскую агитацию Лист, чествуемый и теперь еще как национальный герой. «В то время как во Франции и Англии проблема гласит: политическая экономия, или господство общества над богатством, в Германии она гласит: национальная экономия, или господство частной собственности над нацией... Там идет речь о разрешении вопроса, здесь — лишь о коллизии. Это — достаточно показательный пример немецкой формы современных проблем, пример того, как наша история, подобно неумелому рекруту, повторяющему старые упражнения, считала до сих пор своей задачей лишь повторять избитые истории» **.
Но немецкая история имеет свое идеальное продолжение в немецкой философии, немцы — философские современники настоящего, не будучи его историческими современниками. Немецкая философия государства и права — единственная история, стоящая на уровне официальной современной действительности. Ее критика вводит в самую гущу тех вопросов, о практическом разрешении которых идет речь. Практическая политическая партия в Германии под ней Маркс разумеет, очевидно, либеральную буржуазию — справедливо требует отрицания философии; ее ошибка заключается лишь в том, что она серьезно не выполняет, да и выполнить не может этого требования. Философию не отрицают тем, что поворачиваются к ней спиной и, отвернувши голову, бормочут по ее адресу несколько сердитых и банальных фраз. Эта партия хочет исходить из действительных зародышей жизни, но она забывает, что действительный зародыш жизни немецкого народа до сих пор произрастал только под его черепом. Она не может упразднить философию, не осуществив ее в действительности. Ту же ошибку, но в противоположном направлении делает теоретическая, ведущая свое происхождение от философии политическая партия — здесь Маркс имеет в виду, очевидно, берлинских «свободных». Она не критикует философии, а исходит из ее предпосы-
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 418 — 419.
** Там же, стр. 419.
лок и не идет дальше вытекающих из них результатов или же выдает требования и результаты, полученные из другого источника, за непосредственные требования и результаты философии. Коренной порок этой партии заключается в мнении, что можно превратить философию в действительность, не упразднив самой философии. Вопрос заключается, напротив, в следующем: «...может ли Германия достигнуть практики, a la hauteur des principes *, т. е. революции, способной поднять Германию не только до официального уровня современных народов, но и на человеческую высоту, которая явится ближайшим будущим этих народов?» **.
Маркс отвечает на это: «Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой; но и теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Теория способна овладеть массами, когда она доказывает ad hominem ***, а доказывает она ad hominem, когда становится радикальной. Быть радикальным — значит понять вещь в ее корне. Но корнем является для человека сам человек» ****. «Между тем радикальной немецкой революции препятствует, по-видимому, одна огромная трудность... революции нуждаются в пассивном элементе, в материальной основе. Теория осуществляется в каждом народе всегда лишь постольку, поскольку она является осуществлением его потребностей... Каким же образом она (Германия. — Ред.) может перескочить одним сальто-мортале не только через свои собственные преграды, но вместе с тем и через те преграды, которые стоят перед современными народами, через преграды, которые она в действительности должна воспринимать как освобождение от своих действительных преград и которые должны быть целью ее стремлений?» ***** Разрешая этот вопрос, Маркс говорит, что немецкие правительства вынуждены сочетать цивилизованные недостатки современного государственного мира, преимуществами которого немецкий народ не пользуется, с варварскими недостатками
На высоте принципов. Ред
** К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 422.
*** Argumentum ad hominem — доказательство применительно к данпому лицу. Ред.
**** К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 422.
***** Там же, стр. 423 — 424.
государственного старого порядка, которыми немцы наслаждаются в полной мере; что Германия разделяла все страдания современного исторического развития, не разделяя его радостей; что Германия в одно прекрасное утро окажется на уровне европейского упадка, ни разу не побывав на уровне европейской эмансипации. «Утопической мечтой для Гермапии является не радикальная революция, не об-щечеловеческая эмансипация, а, скорее, частичная, только политическая революция, — революция, оставляющая нетронутыми самые устои здания» *.
Политическая революция основана на том, «что часть гражданского общества эмансипирует себя и достигает всеобщего господства, на том, что определенный класс, исходя из своего особого положения, предпринимает эмансипацию всего общества. Этот класс освобождает все общество, но лишь в том случае, если предположить, что все общество находится в положении этого класса, т. е. обладает, например, деньгами и образованием или может по желанию приобрести их.
Ни один класс гражданского общества не может сыграть эту роль, не возбудив на мгновение энтузиазма в себе и в массах. Это — тот момент, когда данный класс братается и сливается со всем обществом, когда его смешивают с обществом, воспринимают и признают в качестве его всеобщего представителя; тот момент, когда собственные притязания и права этого класса являются поистине правами и притязаниями самого общества, когда он действительно представляет собой социальный разум и социальное сердце» **. Наоборот, чтобы революция народа и эмансипация отдельного класса совпали друг с другом, все недостатки общества должны быть- сосредоточены в каком-нибудь другом классе, одно определенное сословие должно быть олицетворением общих для всех препятствий, одна особая социальная сфера должна считаться общепризнанным преступлением в отношении всего общества, так что освобождение от этой сферы выступает в виде всеобщего самоосвобождения. Отрицательно-всеобщее значение французского дворянства и духовенства обусловило положительно-всеобщее значение французской буржуазии.
** Там же.
Далее Маркс указывает, что в Германии ни у одного особого класса нет не только последовательности, резкости, смелости, беспощадности, которые наложили бы на него клеймо отрицательного представителя общества. В такой же степени ни у одного сословия нет также той душевной широты, которая отождествляет себя, хотя бы только на мгновение, с душой народа, того вдохновения, которое материальную силу воодушевляет на политическое насилие, той революционной отваги, которая бросает в лицо противнику дерзкий вызов: я — ничто, но я должен быть всем. Различные сферы немецкого общества относятся друг к другу не драматически, а эпически; каждая располагается со своими особыми притязаниями; рядом с другими даже моральное чувство собственного достоинства немецкой буржуазии основано лишь на сознании того, что она — общий представитель филистерской посредственности всех других классов. Каждый класс уже оказывается вовлеченным в борьбу с классом, стоящим ниже его, как только он начинает борьбу с классом, стоящим выше его. Буржуазия еще едва только отваживается сформулировать со своей точки зрения мысль об эмансипации, как уже развитие социальных условий, а также и прогресс политической теории объявляют эту самую точку зрения устаревшей или, по крайней мере, проблематичной.
«В чем же, следовательно, заключается положительная возможность немецкой эмансипации?
Ответ: в образовании класса, скованного радикальными цепями, такого класса гражданского общества, который пе есть класс гражданского общества; такого сословия, которое являет собой разложение всех сословий; такой сферы, которая имеет универсальный характер вследствие се универсальных страданий и не притязает ни на какое особое право, ибо над ней тяготеет не особое бесправие, а бесправие вообще, которая уже не может ссылаться на историческое право, а только лишь на человеческое право, которая находится не в одностороннем противоречии с последствиями, вытекающими из немецкого государственного строя, а во всестороннем противоречии с его предпосылками; такой сферы, наконец, которая не может себя эмансипировать, не эмансинируя себя от всех других сфер общества и не эмансипируя, вместе с этим, все другие сферы общества, — одним словом, такой сферы, которая
представляет собой полную утрату человека и, следовательно, может возродить себя лишь путем полного возрождения человека. Этот результат разложения общества, как особое сословие, есть пролетариат» *.
Пролетариат еще только зарождается в Германии в результате начинающего прокладывать себе путь промышленного развития, ибо не стихийно возникшая, а *искусст-венно созданная бедность, не механически, тяжестью общества придавленная книзу человеческая масса, а масса, возникшая из стремительного процесса его разложения, преимущественно из разложения среднего сословия, — вот что образует пролетариат, хотя постепенно, как это само собой понятно, ряды пролетариата пополняются и стихийно возникающей беднотой, и христианско-германским крепостным сословием. Если пролетариат возвещает разложение существующего миропорядка, то он высказывает лишь тайну своего собственного бытия, ибо он и есть фактическое разложение этого миропорядка. Если он требует отрицания частной собственности, то он возводит лишь в принцип общества то, что общество возвело в его принцип, что уже воплощено в нем, в пролетариате, помимо его содействия, как отрицательный результат общества. «Подобно тому как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, так и пролетариат находит в философии свое духовное оружие, и как только молпия мысли основательно ударит в эту нетронутую народную почву, свершится эмансипация немца в человека **. «Голова этой эмансипации — философия, ее сердце — пролетариат. Философия не может быть воплощена в действительность без упразднения пролетариата, пролетариат не может упразднить себя, не воплотив философию в действительность.
Когда созреют все внутренние условия, день немецкого воскресения из мертвых будет возвещен криком галльского петуха» ***.
В статье «К еврейскому вопросу», критикуя работы Бруно Бауэра в этой области, Маркс доказывает, что в Германии возможна не политическая, а человеческая эмансипация, и одновременно исследует различие между ними.
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 427 — 428.
** Там же, стр. 428.
*** Там же, стр. 429.
Еврейский вопрос был, так сказать, тем концом, с которого немецкий идеализм подошел к проблемам экономического развития. Христианско-германское государство травило, угнетало, преследовало евреев, но в то же время оно их терпело, покровительствовало им и даже ласкало йх. В XVIII в. «старый Фриц» 54 превратил евреев в совершенно бесправных людей, но в то же время предоставил им широкое покровительство, «главным образом в видах содействия успехам коммерции, мануфактур и фабрик». «Король-философ» предоставил «вольности христианских банкиров» денежным евреям, помогавшим ему в его подделках монеты и прочих финансовых операциях сомнительного свойства, тогда как философа Моисея Мендельсона он лишь терпел в своих владениях — и то не как философа, а как человека, состоявшего в должности бухгалтера у одного из еврейских богачей. В 40-х годах XIX в. Фридрих-Вильгельм IV донимал евреев всевозможными придирками, что не мешало, однако, еврейскому капиталу усиливаться в ходе экономического развития. Капитал этот начал подчинять себе правящие классы и занес свой бич над классами управляемыми: в форме промышленного капитала над пролетариатом и в еще гораздо большей степени — в форме ростовщического капитала — над мелким крестьянством и мещанством.
Против этого странного противоречия, против этого «ложного положения» возмутился Бруно Бауэр. В этом пункте он заметил капиталистическую фазу общественного развития, но только как средневековый эмбрион, как нарост на теле христианско-германского государства. Он не мог поэтому вырваться из рамок религиозной противоположности между христианством и еврейством. При всей резкости, с которой оп критиковал теологию, он все еще продолжал смотреть на вещи сквозь теологические очки. Он нападал на христианско-германское государство, которое по своей религиозной сущности не могло эмансипировать евреев, но в то же время он нападал на евреев, которые по своей религиозной сущности не могли быть эмансипированы. Религиозная точка зрения имела для него решающее значение. Христиане и евреи должны перестать быть христианами и евреями, если они хотят быть свободными. Но, поскольку христианство как религия опередило еврейство как религию, перед евреем лежит более далекий и трудный путь к свободе, нежели перед христианином. По Бруно Бауэру, евреи, чтобы получить возможность быть эмансипированными, должны некоторым образом пройти сперва школу христианства и гегелевской философии. Разрешение еврейского вопроса, эмансипация евреев извращаются у него в идеалистический выверт.
Против этого Маркс выдвигает практические результаты, к которым привело его изучение фрапцузской революции. Он говорит, что отнюдь не достаточно исследовать вопросы: кто должен эмансипировать? кто должен быть эмансипирован? Перед критикой стоит еще третья задача, она должна поставить вопрос: о какого рода эмансипации идет речь? Нужно исследовать отношение политической эмансипации к человеческой эмансипации. Бауэр спрашивает евреев: имеете ли вы право, с вашей точки зрения, требовать политической эмансипации? Между тем скорее следует задать вопрос: имеет ли точка зрения политической эмансипации право требовать от евреев отказа от иудейства, требовать от человека вообще отказа от религии?
Маркс отвечает на этот вопрос отрицательно, доказывая, что христианско-германское государство, государство привилегий, представляет собой лишь несовершенное, еще теологическое государство, еще не развившееся в чисто политическое государство. Политически завершенное, современное государство, не знающее больше религиозных привилегий, — вот что такое завершенное христианское государство. Оно не только может эмансипировать евреев, но оно уже их эмансипировало и по самой своей сущности должно их эмансипировать. Там, где политическое государство существует в высшей форме своего развития, там, где государственная конституция прямо объявляет осуществление политических прав независимым от религиозного культа, как, например, в некоторых североамериканских штатах, — там человека, не имеющего религии, все же не считают порядочным человеком. Существование религии не противоречит, таким образом, завершенности государства. Политическая эмансипация еврея, христианина, вообще религиозного человека, есть эмансипация государства от еврейства, от христианства, вообще от религии. Государство может освободить себя от некоторого ограничения, а человек в то же время фактически не будет от него свободен, и и этом сказывается ограниченность политической эмансипации.
Государство, как государство, аннулирует, например, частную собственность. Человек объявляет частную собственность упраздненной в политическом отношении, как только он упраздняет имущественный ценз для активного и пассивного избирательного права, как это и произошло во многих североамериканских штатах. Государство упраздняет по-своему различия в происхождении, сословии, образовании, профессии, когда оно объявляет происхождение, сословие, образование, профессию неполитическими различиями, когда оно, не обращая внимания на эти различия, провозглашает каждого человека равноправным участником народного суверенитета. Тем не менее государство позволяет частной собственности, образованию, профессии действовать свойственным им способом и проявлять их особую сущность в качестве частной собственности, образования, профессии. Весьма далекое от того, чтобы упразднить все эти фактические различия, государство, напротив, существует лишь при условии, что эти различия существуют, оно чувствует себя политическим государством и осуществляет свою всеобщность лишь в противоположность к этим своим элементам. Завершенное политическое государство является по своей сущности родовой жизнью человека, в противоположность к его материальной жизни. Все предпосылки этой эгоистической жизни продолжают существовать в гражданском обществе вне государственной сферы, но именно как свойства гражданского общества. Отношение политического государства к своим предпосылкам — будь то материальные элементы, как частная собствепность и т. п., или духовные элементы, как религия и т. п., — это конфликт между общим и частным интересом. Конфликт, в котором человек как приверженец особой религии находится со своим государственным гражданством, с другими людьми как членами общества, сводится к расколу между политическим государством и гражданским обществом.
Но если человек, хотя и оставаясь евреем, может быть политически эмансипирован, получить права гражданина государства, то может ли он при этом притязать на так называемые права человека и получить их? Бауэр решает вопрос отрицательно. На это Маркс отвечает, что несовместимость религии с правами человека отнюдь не вытекает из понятия о правах человека, наоборот, право быть религиозным, и притом на какой угодно лад, прямо ука-
зано среди этих прав. Привилегия веры есть всеобщее право человека. Droits de ГЬотте — права человека как таковые — отличаются от droits du citoyen — прав гражданина государства. Кто же этот homme (человек), отличаемый от citoyen (гражданина)? Не кто иной, как член гражданского общества. Маркс подробно доказывает это на определении прав человека (равенства, свободы, безопасности, собственности) в самой радикальной конституции, во французской конституции 1793 г. Политическая революция была революцией гражданского общества. При феодальном строе общество носило, с одной стороны, непосредственно политический характер, т. е. элементы гражданской жизни, например собственность, семья, род и способ труда, были возведены на высоту элементов государственной жизни в форме сеньориальной власти, сословий и корпораций. Но, с другой стороны, оно именно потому распадалось на несколько отдельных составных частей и исключало индивида из государственного целого. Необходимым последствием такой организации было превращение всеобщей государственной власти в особую функцию обособленного от народа повелителя и его слуг. Политическая революция, низвергнувшая эту деспотическую власть и поднявшая государственные дела на высоту дел народных, конституировавшая политическое государство как всеобщее дело, т. е. как действительное государство, разбила все сословия, корпорации, цехи, привилегии и уничтожила тем самым политический характер гражданского общества. «Политическая эмансипация есть сведение человека, с одной стороны, к члену гражданского общества, к эгоистическому, независимому индивиду, с другой — к гражданину государства, к юридическому лицу.
Лишь тогда, когда действительный индивидуальный человек воспримет в себя абстрактного гражданина государства и, в качестве индивидуального человека, в своей эмпирической жизни, в своем индивидуальном труде, в своих индивидуальных отношениях станет родовъич существом; лишь тогда, когда человек познает и организует свои «собственные силы» как общественные силы и потому не станет больше отделять от себя общественную силу в виде политической силы, — лишь тогда свершится человеческая эмансипация» *.
Наконец, Маркс исследует воззрение Бауэра, будто христианин более способен к эмансипации, чем еврей. Он и здесь разбивает теологическую формулировку вопроса, 8а рамки которой Бауэр, при всем своем критическом отношении к теологии, не выходит. Маркс хочет рассмотреть пе еврея субботы, а еврея будней. Бесспорно, еврейский вопрос есть также вопрос религиозный, но он имеет под собой реальную мирскую основу. Не действительный еврей должен быть объясняем из еврейской религии, а, напротив, объяснения еврейской религии следует искать в действительном еврее. Таким образом, вопрос о способности еврея к эмансипации превращается для Маркса в вопрос: какой особый общественный элемент надо преодолеть, чтобы упразднить еврейство? Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги. «Но в таком случае эмансипация от торгашества и денег — следовательно, от практического, реального еврейства — была бы самоэмансипацией нашего времени.
Организация общества, которая упразднила бы предпосылки торгашества, а следовательно и возможность торгашества, — такая организация общества сделала бы еврея невозможным. Его религиозное сознание рассеялось бы в действительном, животворном воздухе общества, как унылый туман. С другой стороны, когда еврей признает эту свою практическую сущность ничтожной, трудится над ее упразднением, — тогда он высвобождается из рамок прежнего своего развития, трудится прямо для дела человеческой эмансипации и борется против крайнего практического выражения человеческого самоотчуждения» *. Маркс обнаруживает в еврействе проявление общего современного антисоциального элемента, доведенного до нынешней своей ступени историческим развитием, в котором евреи приняли, в этом дурном направлении, ревностное участие; этот элемент достиг той высокой ступени развития, на которой он необходимо должен распасться.
Еврейство эмансипировалось на еврейский лад тем, что присвоило себе денежную власть, оно эмансипировалось благодаря тому, что деньги стали мировой властью, а практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. «Евреи настолько эмансипировали себя, насколько христиане стали евреями» *. Если Бауэр называет ложным такое положение вещей, при котором за евреем в теории не признается политических прав, тогда как на практике он располагает огромной властью, то указанное противоречие есть противоречие между политикой и денежной властью вообще. В то время как в идее политическая власть возвышается над денежной властью, она на самом деле стала рабыней последней. Еврейство сохранилось не вопреки истории, а благодаря ей; гражданское общество постоянно порождает еврея из собственных своих недр. Деньги — это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого нет места никакому другому богу. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. Деньги — это всеобщая, установившаяся как нечто самостоятельное, стоимость всех вещей; они лишили поэтому весь мир — как человеческий мир, так и природу — их собственной стоимости. Деньги представляют собой отчужденную от человека сущность его труда и его бытия; и эта чуждая сущность властвует над человеком, и человек поклоняется ей. Химерическая национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного человека. И так как реальная сущность еврея получила свое всеобщее действительное осуществление в гражданском обществе, то гражданское общество не могло убедить еврея в недействительности его религиозной сущности. Общественная эмансипация еврея есть эмансипация общества от еврейства.
Другими словами, Маркс говорит: повседневные религиозные вопросы имеют ныне общественное значение, о религиозных вопросах как таковых нет больше речи. На историческое развитие еврейства он смотрит не глазами теолога, а глазами мирянина. Он прослеживает это развитие не в религиозной теории, а в промышленной и торговой практике, получающей свое фантастическое отражение в еврейской религии. Практическое еврейство получило свое завершение лишь в завершенном христианском мире; мало того, оно в сущности есть завершенная практика самого христианского мира. Так как гражданское общество носит насквозь коммерческий, еврейский характер и, следовательно, еврей наперед уже является необходимым членом его, то он имеет тем большее право на
политическую эмансипацию, на пользование общечеловеческими правами.
Признание прав человека есть не что иное, как признание эгоистического гражданского индивида и необузданного движения духовных и материальных элементов, образующих содержание жизненного положения этого индивида, содержание современной гражданской жизни. Права человека не освобождают человека от религии, а только предоставляют ему свободу религии, они не освобождают его от собственности, а предоставляют ему свободу собственности, они не освобождают его от грязной погони за наживой, а только предоставляют ему свободу промысла. Признание прав человека современным государством имеет совершенно такой же смысл, как признание рабства античным государством. Подобно тому как античное государство имело своей естественной основой рабство, точно так же современное государство имеет своей естественной основой гражданское общество. Путем собственного своего развития гражданское общество разорвало старые политические оковы и создало современное государство, а это государство, в свою очередь, путем провозглашения прав человека признало свое собственное материнское лоно и свою собственную основу. Развитая современная государственность имеет своей необходимой основой развитое гражданское общество, другими словами, всеобщую борьбу человека против человека, индивида против индивида, взаимную войну всех индивидов, отделенных друг от друга уже только своей индивидуальностью, всеобщее необузданное движение стихийных жизненных сил, освобожденных от оков привилегий, фактическое рабство индивида при кажущейся свободе и независимости индивида, который принимает это необузданное движение своих отчужденных жизненных элементов, как, например, собственности, промышленности, религий и т. д., за свою собственную свободу, между тем как оно, наоборот, представляет собой завершенное его рабство и полную бесчеловечность.
Анархия есть закон гражданского общества, эмансипировавшегося от расчленявших его привилегий, и анархия гражданского общества есть основа современного публично-правового состояния, так же как это публично-правовое состояние является в свою очередь гарантией этой анархии. Насколько сильно они противоположны друг другу, настолько же сильно они взаимно обусловливают ДРУГ друга.
Этой критикой еврейского вопроса Маркс делает значительный шаг вперед в критике гегелевской философии права. Если Гегель поставил государство над обществом, то Маркс находит, что фактически общество стоит над государством. Маркс доказывает это положение на развитом буржуазном обществе и развитом современном государстве. Он указывает на то, что в античную и феодальную эпохи общество было так же, как и в современную эпоху, необходимой основой государства, а не наоборот. Однако лишь современная эпоха настолько упростила и в то же время настолько усилила противоположность между обществом и государством, что эта противоположность необходимо должна разрешиться в сознательную организацию общественных сил, которая в высшем синтезе уничтожит противоречие, между общественной анархией и государственным принуждением, которая эмансипирует человека, сделав его господином над источниками своей жизни. Статьи Маркса в «Немецко-французском ежегоднике» содержат плодотворные зародыши материалистического понимания истории.
К самому еврейскому вопросу Маркс никогда больше не возвращался. То, что можно было сказать по этому вопросу, он сказал исчерпывающим образом. Необозримая литература, возникшая с тех пор по еврейскому вопросу, ни в одной своей мысли не идет дальше Маркса, а, напротив, сплошь и рядом отстает от его статьи в идейном отношении. Маркс не имеет ничего общего с антисемитизмом: он не только утверждает, что еврей имеет неоспоримое право на политическую эмансипацию, на пользование общечеловеческими правами, но и доказывает, почему еврей имеет такое право. Мало того, он говорит: политическая эмансипация представляет собой, конечно, большой прогресс, и если не вообще, то во всяком случае в пределах существующего до сих пор миропорядка она является последней формой человеческой эмансипации. Но, с другой стороны, Маркс не имеет также ничего общего с филосемитизмом, который хотел бы всякую критику, направленную против денежного еврейства, сразить несколькими красивыми стихами из «Натана Мудрого» Лессинга. Напротив, он рассматривает еврейство как продукт общественного развития, который в своей определенной исторической форме возник из определенных исторических условий и исчезнет вместе с их исчезновением. Историческое развитие сделало еврейство, без вины, но не без участия с его стороны, носителем денежной власти и тем самым антисоциальным элементом, который неизбежно должен разложиться. Но разложится он в социалистическом обществе, которое будет вращаться уже не вокруг бога денег, а вокруг солнца труда.
Если бы мы резюмировали на языке наших дней то, что Маркс в то время сказал по еврейскому вопросу, то результат его исследования гласил бы: подобно человеческой эмансипации рабочего, подобно человеческой эмансипации женщины, также и человеческая эмансипация еврея возможна лишь в социалистическом обществе.
3. СТАТЬИ ЭНГЕЛЬСА
Как Маркс во французской революции, так Энгельс в английской промышленности искал и нашел разрешение своим сомнениям относительно борьбы и стремлений своего времени. Он видел, как ничем не сдерживаемое движение собственности, отчужденной от человека, повергает его (человека) в нищету, унижение, рабство, варварство; но он видел также, что собственность, действуя разлагающим образом на все частные интересы, прокладывает путь к великому перевороту нашего столетия — к примирению человека с природой и с самим собой.
В своих «Набросках к критике политической экономии» Энгельс называет буржуазную политическую экономию, начиная от Адама Смита, систему свободы торговли, том же лицемерием и безнравственностью, которые во всех областях цротивостоят теперь свободной человечности. Буржуазная политическая экономия, разработавшая законы частной собственности, является шагом вперед по сравнению с меркантилистской 55 системой; она пугается, однако, последнего шага и не задается вопросом, какое оправдание имеет частная собственность. Поэтому она не может успешно преодолеть меркантилистскую систему: непоследовательность либеральной политической экономии должна неизбежно сказаться в ее составных* частях. За лицемерной гуманностью новых экономистов скрывается варварство, о котором не имели представления старые экономисты; путаница понятий у старых экономистов представляется образцом простоты и последовательности в сравнении с фальшивой логикой новых; защитники свободы торговли — еще худшие монополисты, чем сами старые меркантилисты. Если они не в состоянии понять реставрации меркантилистской системы Листом, то связь все-таки очень проста. «Подобно тому как теология должна или вернуться к слепой вере, или идти вперед к свободной философии, так и свобода торговли должна привести на одной стороне к реставрации монополии, на другой — к уничтожению частной собственности» *. Во всех чисто экономических спорах защитники свободы торговли правы, поскольку они критикуют меркантилистов; иначе обстоит дело, когда они спорят с противниками частной собственности, умеющими экономические вопросы разрешать также и с экономической точки зрения более правильно, как это давно доказали в теории и на практике английские социалисты.
С этой общей точки зрения Энгельс исследует отдельные экономические категории: торговлю, стоимость, цену, земельную ренту, капитал, труд, конкуренцию. Вскрывая их непримиримые противоречия, он не выдвигает их, однако, как Прудон, в качестве предпосылок, исходя из которых можно спорить с политико-экономами; напротив, он доказывает, что они являются логическими проявлениями частной собственности. Подобно тому как Бруно Бауэр при самой резкой критике теологии не выходил все-таки никогда из области богословских предпосылок, так и Прудон, критикуя самым резким образом частную собственность, был опутан экономическими понятиями, вытекающими из частной собственности. Как там Маркс разбил богословские рамки вопроса, так Энгельс разбил здесь политико-экономические его рамки и привел его назад ко всеобщей, чисто человеческой основе.
При меркантилистской системе торговля открыто выставляла напоказ свою низменную алчность. Либеральная политическая экономия сделала ее более гуманной. Почему? Потому, что в интересах торговца быть в хороших отношениях как с тем, у кого он дешево покупает, так и с тем, кому он дорого продает. Чем дружественнее отношения, тем дело выгоднее. «Разве мы не пизвергли варварство монополий, кричат лицемеры... разве мы не создали братство народов и не уменьшили число войн?
Да, все это вы сделали, но как вы это сделали! Вы уничтожили мелкие монополии, чтобы тем свободнее и безграничнее развивалась одна большая основная монополия — собственность; вы принесли цивилизацию во все концы света, чтобы приобрести новую территорию для развития вашей низменной алчпости; вы побратали народы, но братством воров, и уменьшили число войн, чтобы тем больше наживаться в мирное время, чтобы обострить до крайности вражду отдельных лиц, бесчестную войну конкуренции!» * Но этого мало! После того, как либеральная политическая экономия употребила все свои усилия, чтобы путем уничтожения национальностей сделать вражду всеобщей, превратить человечество в стадо хищных зверей (ибо что же другое представляют собой конкуренты?), пожирающих друг друга именно потому, что каждый имеет одинаковый интерес со всеми другими, — после этой подготовительной работы ей остался только один шаг для достижения цели — разложение семьи. Это она выполнила при помощи собственного прекрасного изобретения — фабричной системы. При посредстве этой системы она разложила последний остаток общих интересов — общность имущества в семье. Энгельс указывает на обыденное уже тогда явление, по крайней мере в Англии, что дети, едва достигнув девятилетнего возраста, следовательно работоспособности, тратят свой заработок на себя, рассматривая родительский дом просто как платное пристанище и платя родителям известную сумму за стол и квартиру.
Энгельс находит, впрочем, что и землевладелец не лучше купца. «Он грабит, монополизируя землю. Он грабит, обращая в свою пользу рост населения, который повышает конкуренцию, а с ней и стоимость его земельного участка, обращая в источник своей личной выгоды то, что явилось результатом не его личных усилий, то, что совершенно случайно достается ему... Сделать предметом торгашества землю, которая составляет для нас все, которая является первым условием нашего существования, было носледпим шагом к торгашеству собой; это было и до нынешнего дня остается такой безнравственностью, которую превосходит лишь безнравственность торговли собой» **.
Эпгельс говорит, что аксиомы, квалифицирующие способ наживы землевладельца как грабеж, устанавливающие, что каждый имеет право на продукт своего труда и что никто не должен собирать жатву там, где он не сеял, не являются его утверждением. Первая аксиома исключает обязанность кормить детей, вторая отнимает у каждого поколения право на существование, ибо каждое поколение наследует то, что оставлено предшествующим поколением. Эти аксиомы являются, напротив, следствиями частной собственности; нужно либо осуществить все вытекающие из нее следствия, либо отказаться от нее как от предпосылки.
Частная собственность разъединяет землю, мертвую и бесплодную без оплодотворяющей работы человека, и человеческую деятельность, первым условием которой является именно земля. Она разлагает человеческую деятельность опять-таки на труд и капитал и ставит их во враждебные отношения друг к другу. Но этой борьбы между землей, капиталом и трудом еще недостаточно: частная собственность разбивает и дробит еще каждый из этих элементов. Один земельный участок противостоит другому участку, один капитал — другому капиталу, одна рабочая сила — другой рабочей силе. Иными словами, так как частная собственность изолирует каждого в его собственной грубой обособленности и так как каждый имеет все-таки тот же иптерес, что и его сосед, то землевладелец враждебно противостоит землевладельцу, капиталист — капиталисту и рабочий — рабочему. В этой враждебности одинаковых интересов, именно, вследствие их одинаковости, завершается безнравственность теперешнего состояния человечества; это завершение есть конкуренция. «Она — главная категория экономиста, его любимейшая дочь, которую он не перестает ласкать и голубить, — но посмотрите, что за лицо медузы открывается здесь» *.
Энгельс доказывает прежде всего, что конкуренция заключает в себе такое же противоречие, как частная собственность, а именно резкое противоречие между* общим и частным интересом. В интересах каждого отдельного человека — владеть всем, по общество заинтересовано в том, чтобы каждый владел наравне с др(угими. Таким образом, каждый должен желать для себя монополии,
между тем как общество как таковое должно терять от монополии и потому должно ее устранить. Конкуренция уже предполагает монополию, а именно монополию собственности, и, покуда существует монополия собственности, до тех пор собственность на монополию имеет одинаковое с ней оправдание, ибо, раз уж дана монополия, она есть собственность. Какая жалкая поэтому половинчатость нападать на мелкие монополии и сохранять основную монополию, частную собственность!
Закон конкуренции состоит в том, что спрос и предложение всегда стремятся совпасть друг с другом и именно потому никогда не достигают вполне этой цели. Если спрос больше предложения, то цены повышаются и возбуждается предложение. Как только это увеличившееся предложение выявляется на рынке, цены падают, и при большом перевесе предложения над спросом падение цен бывает настолько значительным, что этим снова возбуждается спрос. «Так происходит все время; никогда не бывает здорового состояния, а всегда имеет место смена возбуждения и расслабления, исключающая всякий прогресс, вечное колебание, никогда не приходящее к концу. Этот закон, с его постоянным выравниванием, при котором потерянное в одном месте наверстывается в другом, экономист находит превосходным. Это его главная гордость, он не может досыта наглядеться на него и рассматривает его при всех возможных и невозможных условиях. И все же ясно, что закон этот — чисто естественный закон, а не закон духа. Это — закон, порождающий революцию. Экономист является со своей прекрасной теорией спроса и предложения, доказывает вам, что «никогда не может быть произведено слишком много», а практика отвечает торговыми кризисами, которые появляются снова так же регулярно, как кометы, и бывают у нас теперь в среднем через каждые пять — семь лет. За последние восемьдесят лет эти торговые кризисы наступали так же регулярно, как прежде большие эпидемии, и приносили с собой больше бедствий, больше безнравственности, чем эпидемии... Разумеется, эти торговые революции подтверждают закон, подтверждают его в полнейшей мере, но не тем способом, как нам это изображает экономист. Что должны мы думать о таком законе, который может проложить себе путь только посредством периодических революций? Это и есть естественный закон, покоящийся на том, что участники здесь действуют бессознательно. Если бы производители как таковые знали, сколько нужно потребителям, если бы они организовали производство, распределили его между собой, то колебания конкуренции и ее тяготение к кризису были бы невозможны. Начните производить сознательно, как люди, а не как рассеянные атомы, не имеющие сознания своей родовой общности, и вы избавитесь от всех этих искусственных и несостоятельных противоположностей. Но до тех пор, пока вы продолжаете производство нынешним несознательным, бессмысленным, предоставленным господству случая способом, до тех пор останутся и торговые кризисы; и каждый последующий кризис должен быть универсальнее, следовательно — тяжелее предыдущего, должен разорять большее число мелких капиталистов и увеличивать в возрастающей прогрессии численность класса, живущего только трудом; должен, следовательно, заметно увеличивать массу людей, нуждающихся в получении работы, что является главной проблемой наших экономистов, и, наконец, все это должно вызвать такую социальную революцию, какая и не снится школьной мудрости экономистов» *.
Конкуренция, борьба капитала с капиталом, труда с трудом, земельной собственности с земельной собственностью приводит производство в лихорадочное состояние, при котором ставятся на голову все его естественные и разумные отношения: никто из тех, кто вовлечен в конкурентную борьбу, не может выдержать ее без высшего напряжения своих сил, без отказа от всех истинно человеческих целей. «Следствием такого чрезмерного напряжения на одной стороне неизбежно является расслабление на другой. Когда колебание конкуренции незначительно, когда спрос и предложение, потребление и производство почти равны друг другу, в развитии производства должна наступить такая стадия, на которой окажется так много избыточной производительной силы, что огромной массе парода нечем будет жить, что люди станут умирать с голоду и именно от избытка. В этом абсурдном положении, в этом состоянии воплощенной бессмыслицы уже продолжительное время находится Англия. Если же производство колеблется более сильно, что является необходимым следствием описанного положения вещей, то наступает чередование расцвета и кризиса, перепроизводства и застоя. Экономист никогда не мог уяснить себе этого безумного состояния; чтобы объяснить его, он придумал теорию народонаселения, которая столь же бессмыслеппа и даже более бессмысленна, чем это противоречие одновременного существования богатства и нищеты» *. Прежде чем перейти, однако, к критическому разбору теории народонаселения, получившей распространение в том типическом виде, в каком ее сформулировал Мальтус 56, и составляющей догмат либеральной политической экономии, Энгельс предлагает собственное объяснение «удивительного факта», который «удивительнее всех чудес всех религий вместе взятых», — что нация должна умирать с голоду как раз от богатства и избытка.
Он говорит, что производительная сила, находящаяся в распоряжении человечества, беспредельна. Урожайность земли можно повысить до бесконечности приложением капитала, труда и науки. По расчетам самых солидных экономистов и статистиков, «перенаселенная» Великобритания может быть приведена в течение 10 лет в такое состояние, что сможет производить хлеб в количестве, достаточном для населения, в 6 раз большего, чем нынешнее. Капитал растет с каждым днем, рабочая сила растер вместе с ростом населения, а наука все больше и больше подчиняет человеку силы природы. «Эта беспредельная производительная способность, будучи использована сознательно и в интересах всех, вскоре сократила бы до минимума выпадающий на долю человечества труд; предоставленная конкуренции, она выполняет то же самое, но в рамках противоположности. Одна часть земли подвергается наилучшей обработке, тогда как другая — в Великобритании и Ирландии 30 миллионов акров хорошей земли — остается невозделанной. Одна часть капитала обращается с невероятной быстротой, другая же лежит мертвой в сундуках. Одна часть рабочих работает по четырнадцать — шестнадцать часов в сутки, тогда как другая остается без дела, без работы и умирает с голоду. Или же эти противоположности выступают не одновременно: сегодня торговля идет хорошо, спрос очень значителен, всюду идет работа, капитал оборачивается с удивительной быстротой, земледелие процветает, рабочие работают
до изнеможения, — завтра наступает застой, земледелие не окупает затраченных на него усилий, большие площади вемли остаются невозделанными, капитал в самом разгаре движения вдруг застывает, рабочие остаются без занятий, и вся страна страдает от избыточного богатства и избыточного населения» *. Как ни просто объяснение этого явления, но его никогда не осмелится признать либеральная политическая экономия, которой пришлось бы в таком случае отречься от всего великолепия системы конкуренции.
Вместо этого либеральная политическая экономия пыталась выйти из затруднения при помощи теории народонаселения. Мальтус утверждал, что население всегда давит на средства существования, что человеческому роду свойственна неизменная тенденция размножаться свыше имеющихся в его распоряжении .средств существования; по его гипотезе, население растет в геометрической прогрессии (1 : 2 : 4 : 8 : 16 : 32 и т. д.), а производительная сила земли — только в арифметической (1:2:3:4:5:6 и т. д.). В постоянной перенаселенности либеральная политическая экономия усмотрела причину всей нищеты и всех пороков. Из нее она сделала следующие милые выводы: раздача милостыни есть преступление, так как она поддерживает прирост избыточного населения; напротив, очень полезно объявить бедность преступлением и превратить работные дома в тюрьмы и т. п. Правда, эта теория плохо согласовалась с библейским учением о совершенстве бога и его творения, но набожная английская буржуазия считала, что «плохо то опровержение, которое фактам противопоставляет библию!».
На эту «гнусную, низкую доктрину, это отвратительное кощупство против природы и человечества» с негодованием обрушивается Энгельс. Он задает вопрос: где же это доказано, что производительная способность земли растет в арифметической прогрессии? В противоположность этому голословному утверждению, Энгельс обращает внимание на успехи, которыми земледелие XIX в. обязано одной только химии, даже только двум лицам — сэру Гемфри Дэви и Юстусу Либиху. Смешно говорить о перенаселении, пока обработанной может считаться вообще только одна треть земли, и сама продукция этой трети земли может быть увеличена в 6 и более раз путем применения уже теперь известных улучшенных способов обработки. Мальтус делает две ошибки. Он упускает из ВИДУ» что избыточное население всегда связано с избыточным богатством, избыточным капиталом и избыточной земельной собственностью, факт, рассмотрение которого должно привести к правильному пониманию дела. Затем Мальтус смешивает средства существования со средствами занятости. Что Мальтус действительно доказал и доказательство чего составляет его заслугу — это нечто иное: он доказал, что народонаселение всегда давит на средства занятости, что производство рабочей силы регулировалось до сих пор законом конкуренции и потому было также подвержено периодическим кризисам и колебаниям.
При всей несостоятельности либеральной теории народонаселения Энгельс признает исторический прогресс, который она представляет собой. Она обратила внимание на производительную силу земли и человечества, она даст сильнейшие экономические аргументы в пользу социального преобразования. «При посредстве этой теории мы стали понимать глубочайшее унижение человечества, его зависимость от условий конкуренции; она показала нам, как в конце концов частная собственность превратила человека в товар, производство и уничтожение которого тоже зависит лишь от спроса; как вследствие этого система конкуренции убивала и ежедневно убивает миллионы людей; все это мы увидели, и все это побуждает нас покончить с этим унижением человечества путем уничтожения частной собственности, конкуренции и противоположности интересов» *.
К тому же результату Энгельс приходит, когда рассматривает вопрос, каким образом конкуренция влияет на соотношение сил труда, капитала и земельной собственности. «Прежде всего, земельная собственность и капитал — и то и другое в отдельности — сильнее труда, потому что рабочий, чтобы прожить, должен работать, тогда как земельный собственник может жить на свою ренту, а капиталист — на своп проценты, в крайнем случае, на свой капитал или за счет капитализированной земельной собственности. Вследствие этого рабочему достается лишь самое необходимое, одни только средства существования, тогда как большая часть продуктов делится между капиталом и земельной собственностью. Кроме того, более сильный рабочий вытесняет с рынка более слабого, больший капитал — меньший, крупная земельная собственность — мелкую. Практика подтверждает это заключение. Преимущества крупного фабриканта и купца перед мелким, крупного землевладельца перед владельцем одного-единственного моргена земли — известны. Следствием этого является то, что уже при обычных условиях крупный капитал и крупная земельная собственность поглощают по праву сильного мелкий капитал и мелкую земельную собственность, т. е. происходит централизация собственности. Во время торговых и сельскохозяйственных кризисов эта централизация происходит еще гораздо быстрее. — Вообще крупная собственность растет значительно быстрее мелкой потому, что на издержки по владению здесь вычитается из дохода значительно меньшая доля. Эта централизация владения есть закон, столь же имманентный частной собственности, как и все другие законы; средние классы должны все более и более исчезать, пока мир не окажется разделенным на миллионеров и пауперов, па крупных землевладельцев и бедных поденщиков. Никакие законы, никакое деление земельной собственности, никакие случайные дробления капитала ничуть не помогут...» * Свободная конкуренция порождает монополию так же, как монополия порождает конкуренцию; из этой дилеммы есть только один выход — устранение принципа, создающего ту и другую, т. е. устранение частной собственности.
Конкуренция пронизала все жизненные отношения людей; она господствует не только над численным ростом человечества, но и над его нравственным развитием. «Кто несколько знаком со статистикой преступности, тому должна бросаться в глаза своеобразная регулярность, с какой ежегодно возрастает преступность и с какой определенные причины порождают определенные преступления... Эта регулярность доказывает, что и преступность управляется конкуренцией; что общество порождает спрос на преступность, который удовлетворяется соответствующим предложением» **. Насколько справедливо при таких
обстоятельствах, не говоря уже о всех прочих, наказывать преступников, об этом Энгельс предоставляет судить своим читателям. Указав на то, что конкуренция распространилась и на область морали, он хочет только показать, до какой глубокой деградации частная собственность довела человека.
Энгельс указывает, наконец, что при теперешних условиях земельная собственность и капитал имеют в своей борьбе против труда еще одного могущественного союзника — науку. «Например, почти все механические изобретения, в особенности бумагопрядильные машины Хар-гривса, Кромптона и Аркрайта, были вызваны недостатком в рабочей силе. Усиленный спрос на труд всегда влек за собой изобретения, которые значительно увеличивали силу труда и потому уменьшали спрос на человеческий труд. История Англии с 1770 г. до наших дней — непрерывное тому доказательство. Последнее крупное изобретение в бумагопрядении — сельфактор — было вызвано исключительно спросом на труд и ростом заработной платы; оно удвоило работу машин и тем наполовину сократило ручной труд, лишило половину рабочих работы и в результате этого понизило заработную плату другой половины; она уничтожило сговор рабочих против фабрикантов и разрушило тот последний остаток силы, который еще позволял труду выдерживать неравную борьбу против капитала» *. Энгельс восстает против утверждения экономистов, что в конечном результате машины выгодны, дескать, для рабочих, ибо, удешевляя производство, они создают новый, более широкий рынок для своих продуктов и таким образом дают вновь занятие оставшимся без работы рабочим. В доказательство он ссылается на установленный экономистами же закон, по которому рабочая сила всегда давит на средства занятости. Следовательно, если бы указанные выгоды п должны были наступить, они оказались бы призрачными по той причине, что избыток конкурентов, ищущих работы, опять стоит наготове, между тем как невыгода — внезапное лишение средств существования для одной половины рабочих и падение заработной платы для другой половины — отнюдь не призрачна.
В тесной связи с этими высказываниями, содержащими критику буржуазной политической экономии, находится другая статья Энгельса, опубликованпая в «Немецко-французском ежегоднике», — критическое извлечение из памфлета Карлейля «Прошлое и настоящее». Энгельс начинает с того, что резкими штрихами рисует картину духовного обнищания английской аристократии и буржуазии; он называет образованного англичанина, по которому на континенте судят об английском национальном характере, самым презренным рабом в мире — рабом, задыхающимся в предрассудках, особенно в предрассудках религиозных. «Лишь неизвестная континенту часть английской нации, лишь рабочие, парии Англии, бедняки действительно достойны уважения, несмотря на всю их грубость и на всю их деморализацию. От них-то и придет спасение Англии; они представляют собой еще пригодный для творчества материал; у них нет образования, но нет и предрассудков, у них есть еще силы для великого национального дела, у них есть еще будущее» *. Энгельс рассказывает, что когда «Жизнь Христа» Штрауса пришла на ту сторону Ламанша, то ни один благопристойный человек не осмелился перевести книгу, ни один видный издатель напечатать ее. «Наконец, какой-то социалистический lecturer (для этого специального агитаторского термина не существует немецкого слова), т. е. человек самого нефешенебельного общественного положения, перевел ее, мелкий типограф, социалист, напечатал ее отдельными выпусками, каждый ценой в пенни, и рабочие Манчестера, Бирмингема и Лондона оказались в Англии единственной читательской публикой для Штрауса» **. Из двух партий, на которые делится образованная Англия, Энгельс находит сравнительно более беспристрастный взгляд на вещи у тори: они видят в промышленности, в лучшем случае, необходимое зло, так как она сломила их могущество и единовластие; между тем виги находят, что в промышленности, дающей им власть и богатство, все безупречно, и в ее расширении усматривают единственную цель всякого законодательства. Тори-филантропы, как лорд Эшли, Фер-ранд, Уолтер, Остлер и др., взяли на себя обязанность защищать фабричных рабочих от фабрикантов. Томас Карлейль также принадлежал сначала к тори и все еще стоит ближе к этой партии, чем к вигам. Виг никогда не мог бы
написать книгу, хотя бы наполовину такую человечную, как «Прошлое и пастоящее», — единственную достойную чтения книгу в английской литературе 1843 г., единственную затрагивающую человеческие струпы, говорящую о человеческих отношениях и носящую на себе отпечаток человеческого образа мыслей.
Книга Карлейля — это параллель между Англией XII в. и Англией XIX в. Она самым мрачным образом смотрит на настоящее и рисует его красками, горящими от жгучего стыда; она гневно грозит ему пророческим языком потрясающей силы. Тунеядствующая землевладельческая аристократия, «не научившаяся даже сидеть смирно и по крайней мере не творить зла»; деловая аристократия, погрязшая в служении маммоне и представляющая собой банду промышленных разбойников и пиратов, вместо того чтобы быть собранием руководителей труда, «военачальниками промышленности»; парламент, избранный посредством подкупа; житейская философия простого созерцания и бездействия; подточенная, разлагающая религия; полный распад всех общечеловеческих интересов; всеобщее разочарование в истине и в человечестве; хаотическое, дикое смешение всех жизненных отношений; война всех против всех; несоразмерно многочисленный рабочий класс, находящийся в невыносимом угнетении и нищете, охваченный яростным недовольством и возмущением против старого социального порядка, и вследствие этого грозная, непреодолимо продвигающаяся вперед демократия; повсеместный хаос, беспорядок, анархия, распад старых связей общества, всюду духовная пустота, безыдейность и упадок сил — таково было, по Карлейлю, положение Англии в 40-х годах. Он сознается, что не располагает универсальным средством для исцеления социального зла, не имеет «моррисоновых пилюль», как он выражается на своем оригинальном языке.
До этого пункта Энгельс соглашается с Карлейлем, хотя не без оговорок. Он пишет: «Всякая социальная философия, пока она еще провозглашает какие-нибудь два-три положения своим конечным выводом, пока она прописывает моррисоновы пилюли, еще очень далека от совершенства; не голые выводы, а, наоборот, изучение — вот что нам больше всего нужно: выводы — ничто без того развития, которое к ним привело, — это мы знаем уже со времен Гегеля, — и выводы более чем бесполезны, если
они превращаются в нечто самодовлеющее, если они не становятся снова посылками для дальнейшего развития. Но выводы должны принять на время определенную форму, они в развитии своем должны освободиться от расплывчатой неопределенности и сложиться в ясные мысли, и тогда они, — во всяком случае, у такой чисто эмпирической нации, как апгличане, — пеизбежпо должны принять форму «моррисоновых пилюль»» *. Энгельс дает затем объяснение английского скептицизма. Результат всей английской философской мысли — это признанное бессилие разрешить противоречия, на которые она наталкивается в конечном счете; отсюда, с одной стороны, возвращение к вере, с другой — приверженность к чистой практике, равнодушие к метафизике и пр. Английские социалисты, о которых Карлейль не упоминает ни словом во всех своих рапсодиях, — чистые практики, и потому они предлагают и такие мероприятия, несколько напоминающие «морри-соновы пилюли», как основание колоний внутри страны и т. д. Их философия — чисто английская, скептическая, т. е. они потеряли веру в теорию и на практике придерживаются материализма, на котором покоится вся их социальная система. Они односторонни, но односторонен также и Карлейль. И социалисты и Карлейль преодолели противоречие лишь в пределах противоречия: социалисты — в пределах практики, Карлейль — в пределах теории; чего не хватает обоим — это знания немецкой философии. Энгельс надеется, что английские социалисты сами придут к пей; незачем спешить навязывать им немецкую философию, которая на первых порах и не может принести им особенно большой пользы. Но Энгельс думает также, что Карлейлю остается сделать только один шаг, хотя, как показал весь опыт Германии, тяжелый шаг, чтобы преодолеть то противоречие, в котором он запутался.
Карлейль заявляет, что все бесполезно и бесплодно, пока человечество упорствует в атеизме, пока оно не обрело снова своей «души». Под атеизмом он понимает не неверие в личного бога, а неверие во внутреннюю сущность вселенной, в ее бесконечность, неверие в разум; его борьба направлена не против неверия в откровения библии, а против «самого страшного неверия, неверия в библию всемирной истории». Он пантеист в духе Спинозы, Гёте, молодого Шеллинга. Его религия будущего имеет своего пророка в лице Гёте и свой культ — в труде. Пантеизм Карлейля — последняя форма религии, но это все еще религия: он все еще не может вырваться из дуализма, все еще признает нечто более высокое, чем человек как таковой. Соответственно с этим Карлейль верит только во временную, но не в прочную победу демократии. В своей жажде жизни, говорит он, миллионы трудящихся отбросят ложное руководство и будут в течение некоторого времени надеяться, что они обойдутся без руководителей. Но это будет продолжаться только один момент. Великая задача останется еще неразрешенной — задача руководства человечеством через посредство его истинных вождей, через посредство «военачальников промышленности», героев, лучших людей, лидерство которых сумело бы совместить неизбежную демократию с необходимым суверенитетом.
Против этого воззрения Карлейля Энгельс выдвигает результаты, добытые Бруно Бауэром и Фейербахом. Жалобы Карлейля, говорит он, справедливы, но одними жалобами ничего не сделаешь; чтобы избавиться от зла, нужно вскрыть его причины. Если бы Карлейль сделал это, он нашел бы, что атеизм и бездушие, против которых он выступает с обвинительным актом, имеют свою основу в самой религии. Религия по существу своему есть выхолащивание из человека и природы всего их содержания, перенесение этого содержания на фантом потустороннего, неземного бога, который затем из милости возвращает людям и природе частицу щедрот своих. «Мы тоже нападаем на лицемерие современного христианского миропорядка; борьба с ним, наше освобождение от этого лицемерия и освобождение мира от него, в конце концов, являются нашим единственным насущным делом; но так как мы пришли к познанию этого лицемерия благодаря развитию философии и так как мы ведем борьбу на научной основе, то сущность этого лицемерия не является для нас столь загадочной и непонятной, какой она, несомненно, еще представляется Карлейлю. Это лицемерие мы также относим за счет религии, первое слово которой есть ложь, — разве религия не начинает с того, что, показав нам нечто человеческое, выдает его за нечто сверхчеловеческое, божественное? Но так как мы знаем, что вся эта ложь и безнравственность проистекает из религии, что религиозное лицемерие, теология, является прототипом всякой другой лжи и лицемерия, то мы вправе распространить название теологии на всю неправду и лицемерие нашего времени, как это впервые сделали Фейербах и Б. Бауэр. Пусть Карлейль прочтет их сочинения, если он желает знать, откуда проистекает безнравственность, отравляющая все наши отношения» *. Энгельс прибавляет, что все возможности религии исчерпаны; невозможно основать новую религию, вроде пантеистического культа героев или культа труда, и возлагать на нее свои надежды. После христианства ни одна религия не представляется больше возможной; невозможен и пантеизм, который сам еще представляет собой вывод из христианства, неотделимый от своей предпосылки, как это опять-таки доказал Фейербах.
Энгельс также хочет покончить с таким атеизмом, каким его изображает Карлейль, по иным путем: он возвращает человеку содержание, которое тот потерял из-за религии, но возвращает уже как человеческое, а не божественное содержание, и все возвращение сводится просто к пробуждению самосознания. Претензия человеческого и естественного быть сверхчеловеческим, сверхъестественным есть корень всей неправды и лжи. «Поэтому-то мы раз и навсегда объявили войну также религии и религиозным представлениям и мало беспокоимся о том, назовут ли нас атеистами или как-нибудь иначе. Между тем, если бы карлейлевское пантеистическое определение атеизма было правильным, настоящими атеистами оказались бы не мы, а наши христианские противники. Нам в голову пе приходит нападать на «вечные внутренние факты вселенной»; напротив, только мы и обосновали их настоящим образом, доказав их вечность и защитив их от всемогущего произвола противоречивого в себе самом бога... Нам в голову не приходит подвергать сомнению или презирать «откровение истории»; история — это для нас все, и она ценится нами выше, чем каким-либо другим, более ранним философским учением, выше даже, чем Гегелем, которому она, в конце концов, должна была служить лишь для проверки его логической конструкции.
В презрении к истории, в невнимании к развитию человечества повинна целиком другая сторона; в этом повинны опять-таки христиане, которые, построив особую «историю царствия божия», отказывают действительной истории во всякой внутренней значимости и признают эту значимость только за своей потусторонней, абстрактной и к тому же еще вымышленной историей; утверждая, что человеческий род достигает завершения в их Христе, они приписывают истории мпимую конечную цель, якобы достигнутую Христом; они обрывают историю посреди ее течения и уже поэтому, последовательности ради, должны выдавать дальнейшие восемнадцать веков за дикую бессмыслицу и полную бессодержательность. Мы требуем, чтобы истории было возвращено ее содержание, но в истории мы видим откровение не «бога», а человека, и только человека. Нам нет надобности призывать сначала абстракцию какого-то «бога» и приписывать ей все прекрасное, великое, возвышенное и истинно человеческое для того, чтобы увидеть величие человеческого существа, понять развитие чрода в истории, его неудержимый прогресс, его всегда обеспеченную победу над неразумием отдельного ипдивида, преодоление человеческим родом всего, что кажется сверхчеловеческим, его суровую, но успешную борьбу с природой вплоть до достижения, в конце концов, свободного, человеческого самосознания, до ясного понимания единства человека и природы и вплоть до свободного, самостоятельного творчества нового мира, покоящегося па чисто человеческих, нравственных жизненных отношениях... Безбожие нашего времени, на которое так сетует Карлейль, есть именно его богопреисполненность... До сих пор вопрос всегда гласил: что есть бог? — и немецкая философия разрешила его так: бог — это человек. Человек должен лишь познать себя самого, сделать себя самого мерилом всех жизненных отношений, дать им оценку сообразно своей сущности, устроить мир истинно по-человечески, согласно требованиям своей природы, — и тогда загадка нашего времени будет им разрешена...
Все это имеется и у Гёте, «пророка», и у кого глаза открыты, тот может это у него обнаружить. Гёте неохотно имел дело с «богом»; от этого слова ему становилось не по себе; только человеческое было его стихией, и эта человечность, это освобождение искусства от оков религии как раз и составляет величие Гёте. В этом отношении с ним не
могут сравниться ни древние, пи Шекспир. Но эту совершенную человечность, это преодоление религиозного дуализма может постигнуть во всем его историческом значении лишь тот, кому не чужда другая сторона немецкого национального развития — философия. То, что Гёте мог высказать лишь непосредственно, т. е. в известном смысле, конечно, «пророчески», получило развитие и обоснование в новейшей немецкой философии» *.
Уже из этой критики внутренней, религиозной стороны точки зрения Карлейля ясно, что думает Энгельс о внешней, политико-социальной ее стороне, о его культе героев и всем прочем, сюда же относящемся. «...Словно эти герои, — замечает Энгельс, — в лучшем случае могли бы быть больше, чем людьми. Если бы он (Карлейль. — Ред.) постиг человека как человека, во всей его бесконечности, то не пришел бы к мысли снова делить человече-’ ство на два скопища — овец и козлищ, правящих и управляемых, аристократов и чернь, господ и простаков; тогда он нашел бы истинное социальное призвание таланта не в том, чтобы насильственно управлять, а в том, чтобы побуждать других и идти впереди них. Талант должен убедить массу в истинности своих идей, и тогда ему больше не придется беспокоиться об их осуществлении, которое совершенно само собой последует за их усвоением» **. Карлейль прав, конечно, называя демократию переходной ступенью, только вопреки его мнению это переходная ступень не к новой, улучшенной аристократии, а к истинной, человеческой свободе, точно так, как иррели-гиозность нашего времени приведет в конце концов к пол-пому освобождению от всего религиозного, сверхчеловеческого и сверхъестественного, а не к его восстановлению.
Энгельс заканчивает каждую из двух своих статей обещанием заняться вскоре подробнее фабричной системой, положением Англии и ее ядра — рабочего класса. Скорая гибель «Немецко-французского ежегодника» не позволила ему исполнить свое обещание в той форме, которую он первоначально имел в виду, но он сделал это впоследствии иным путем.
Прежде чем продолжать, однако, начатую в «Немецко-фрапцузском ежегоднике» выработку собственного положительного мировоззрения, Маркс и Энгельс объединились для выполнения своей первой совместной работы, для критического анализа немецкого идеализма, поскольку он находил еще достойных внимания представителей в лице Бруно Бауэра и берлинских «свободных». Благодаря своим статьям в ежегоднике Маркс и Энгельс вступили в оживленную переписку, и в сентябре 1844 г. Энгельс приехал на несколько дней в Париж, чтобы посетить Маркса. Тем же месяцем датировано предисловие к книге, вышедшей в 1845 г. во Франкфурте-на-Майне под заглавием: «Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании». Соч. Фридриха Энгельса и Карла Маркса. Книга не находится ни в какой внешней связи с «Немецко-французским ежегодником», но по своему внутреннему содержанию она всецело относится к тому кругу идей, который Маркс и Энгельс уже очертили в названном журнале. До известной степени она является первым практическим испытанием прочности и надежности новой точки зрения, к которой они пришли, испытанием, которое в случае его удачи должно было, конечно, обеспечить этой точке зрения новые опорные пункты.
В предисловии авторы говорят, что цель «Святого семейства» — разъяснить широкой публике иллюзии, порождаемые спекулятивной философией. «У реального гуманизма,, — пишут они, — нет в Германии более опасного врага, чем спиритуализм, или спекулятивный идеализм, который на место действительного индивидуа~гьного человека ставит «самосознание»у или «дух», и вместе с евангелистом учит: «Дух животворящ, плоть же немощна». Само собой разумеется, что этот бесплотный дух только в своем воображении обладает духовными, умственными силами. То в бауэровской критике, против чего мы ведем борьбу, есть именно карикатурно воспроизводящая себя спекуляция. Мы видим в ней самое законченное выражение христианско-германского принципа, делающего спою последнюю попытку — утвердить себя посредством превращения самой «критики» в некую трансцендентную силу» *.
Изложение Маркса и Энгельса посвящено первым восьми выпускам «Всеобщей литературной газеты» 57, ежемесячника, который Бруно Бауэр издавал со своим братом Эдгаром, а также Фаухером, Юнгницем, Шелигой и др. в Шарлоттенбурге с декабря 1843 г.
В этом журнале берлинские «свободные» сделали попытку обосновать свое мировоззрение, исследовать историческое значение всех важных явлений, оказывавших влияние на современную жизнь, — религии и философии, христианства и еврейства, пауперизма и социализма, английской промышленности и французской революции, — свершить над всеми ними суд пред судилищем абсолютного самосознания и критической критики. Программа журнала заключалась до известной степени в положении Бруно Бауэра: «Все великие дела прежней истории потому именно были с самого начала неудачны и лишепы действительного успеха, что масса была в них заинтересована, что они вызывали энтузиазм массы. Другими словами, дела эти должны были иметь жалкий конец потому, что идея, лежавшая в основе этих дел, была такого рода, что она должна была довольствоваться поверхностным пониманием себя, а следовательно и рассчитывать на одобрение массы». Противоположность между «духом» и «массой» проходит красной нитью через всю «Всеобщую литературную газету», которая заявляет, что «дух знает теперь, где ему искать своего единственного противника, — в самообманах и дряблости массы».
В известном отношении эта точка зрения была схожа с той точкой зрения, из которой исходили великие утописты. Массовые движения, подобные французской революции, которые, казалось бы, перевернули мир вверх дном, потерпели неудачу и завершились установлением весьма пошлого деспотизма торгашей. Всякий прогресс духа оказывался до сих пор прогрессом в ущерб массе человечества, которая попадала во все более и более бесчеловечное положение. Фурье и Оуэн также выступали в известном смысле как представители активного духа по отношению к пассивной массе. Разница была лишь в том, что перед ними было развитое буржуазное общество, тогда как Бауэры и их приверженцы жили в феодальноотсталом и зараженном мещанством обществе, в том,, что первые были практическими, деловыми людьми, а вторые — немецкими философами, в том, что первые опира-
лись на французский материализм, а вторые — на немецкий идеализм, в том, что первые исследовали основы действительного общества, отношения человека к промышленности и природе, тогда как вторые делали воображаемый дух руководителем воображаемой истории.
«Всеобщая литературная газета» судила столь же отрицательно, сколь нелепо обо всех «массовых» движениях своей эпохи. Она относилась к английской промышленности так же немилостиво, как к французской революции; жизнь и деятельность западноевропейских культурных народов были для нее в большей или меньшей степени предметом отвращения. Но даже для немецких условий она представляла собой значительный регресс. Она не только поступилась тем, что было завоевано Фейербахом, но сделала также и из гегелевской философии печальную карикатуру. Заставляя абсолютный дух в качестве творческого мирового духа всегда лишь задним числом приходить к сознанию в философе, Гегель, в сущности, имел в виду лишь то, что абсолютный дух проделывает историю в спекулятивном воображении для видимости. При этом Гегель весьма настойчиво протестовал против неправильного толкования, будто философский индивид и есть сам абсолютный дух. Напротив, Бауэр и его приверженцы рассматривали себя как личпые воплощения критики, абсолютного духа, который через них сознательно играет роль мирового духа в противоположность к остальному человечеству. Если гегелевская философия была спекулятивным выражением христианско-германской догмы о господстве бога над миром, духа над материей, то «Всеобщая литературная газета» была критической карикатурой, в которой гегелевская философия сама доводила себя до абсурда. Ее точка зрения настолько была лишена опоры и повисла в воздухе, что даже в философской атмосфере Германии она очень скоро улетучилась. «Всеобщая литературная газета» не пошла дальше двенадцати месячных выпусков, и в заключительном слове к «Святому семейству» Маркс и Энгельс еще имели возможность сами сообщить об ее кончине.
В связи с этим находится упрек, который был сделан «Святому семейству» тотчас после его выхода в свет: оно-де ломится в открытые двери. Руге писал одному другу его авторов: «Жаль, что «Литературная газета» не была Гибралтаром». Затем он говорил еще о «кипящем потоке злобных и низких нападок», которым-де авторы «ошпарили» своего прежнего интимнейшего друга. В действительности же книга не была ни злобной, ни низкой, ни изменой дружбе, связывавшей прежде Энгельса и Маркса с Бруно Бауэром. Ничего лично оскорбительного для Бауэров она не содержит; она констатирует лишь на примере их публичпой писательской деятельности окончательное банкротство идеалистической философии. Авторы ее имели на это тем большее право, что «Всеобщая литературная газета» вела постоянную полемику против поворота к практической жизни, сделанного Марксом в «Рейнской газете» и «Немецко-французском ежегоднике», и что она в своем чрезмерном, диком самомнении всячески помогала домартовской реакции и даже выказывала дружеское расположение к цензуре и цеховому строю.
Для Маркса и Энгельса полемика против Бауэров была подготовительной работой по расчистке почвы; они предпослали эту полемику самостоятельным сочинениям, в которых хотели — каждый за себя — изложить свои положительные воззрения и, следовательно, свое положительное отношение к новейшим философским и социальным доктринам. Теперешнему читателю эта полемика часто может казаться слишком мелочной, особенно в тех ее частях, где речь идет об Юнгнице, Шелйге и других забытых ныне величинах критической критики, у читателя иной раз создается впечатление утомительного многословия. То мастерство эпиграмматической критики, которое так часто обнаруживали потом Маркс и Энгельс, не везде еще заметно в их первой совместной работе. Возможно, однако, что необходимость разогнать книгу до двадцати печатных листов, чтобы избавить ее от немецкой цензуры, побудила авторов войти во многие подробности, которыми онп при иных условиях охотно пренебрегли бы. В книге кое-где звучит, пожалуй, нотка юношеской самонадеянности, но нигде нет и звука низкой злобности или чего-либо подобного. Когда более чем поколение спустя Бруно Бауэр умер, одинокий и забытый, Энгельс был единственным человеком, который в прекрасном некрологе по достоинству оценил действительные заслуги покойного.
Неверно и то мнение, будто «Святое семейство» «ломилось в открытые двери». Доказательство того состояния деградации, до которого опустилась идеалистическая философия, даже в том, что касалось языка и стиля, было еще самой малой заслугой книги. Главное состоит в том, что в книге уже блестяще выступает другая отличительная особенность полемики Маркса и Энгельса — тот плодотворный дух, который бьет идеологические измышления положительными фактами, который, разрушая, в то нее время творит и, ломая, созидает. Так, нескольким критическим фразам Бруно Бауэра Маркс противопоставил «земную массовидную историю» французского материализма, изложив ее в сжато и сильно написанном очерке. В полемике против Юлиуса Фаухера Энгельс осветил с надлежащей исторической точки зрения классовую борьбу, бушевавшую в Англии между крупным землевладением, капиталом и трудом; при этом он так мало «ломился в открытые двери», что ему даже не удалось разбудить уснувшие чувства немецкой интеллигенции. То же относится к освещению событий французской революции, с которым Маркс выступил против высокомерных фраз Бруно Бауэра об «эксперименте XVIII века».
В этих разделах «Святого семейства» так же, как в других разделах, содержащих полемику против Бруно Бауэра по еврейскому вопросу, Маркс расширил и углубил мысли, уже изложенные им в «Немецко-французском ежегоднике». Против приведенного выше главного положения Бауэра, согласно которому все великие дела прежней истории потому именно были с самого начала неудачны и лишены действительного успеха, что масса была в них заинтересована, что они вызывали энтузиазм массы, или потому, что идея, лежавшая в основе этих дел, должна была рассчитывать на одобрение массы, — против этого положения Маркс возражает: ««Идея» неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от «интереса». С другой стороны, нетрудно попять, что всякий массовый, добивающийся исторического признания «интерес», когда он впервые появляется на мировой сцене, далеко выходит в «идее», пли «представлении», за свои действительные грапицы и легко смешивает себя с человеческим интересом вообще. Эта иллюзия образует то, что Фурье называет тоном каждой исторической эпохи. Интерес буржуазии в революции 1789 г., далекий от того, чтобы быть «неудачным», все «выиграл» и имел «действительный успех», как бы впоследствии ни рассеялся дым «пафоса» п как бы ни увяли «энтузиастические» цветы, которыми он украсил свою колыбель. Этот интерес был так могущественен, что победоносно преодолел перо Марата, гильотину террористов, шпагу Наполеона, равно как и католицизм и чистокровность Бурбонов. «Неудачной» революция была только для той массы, для которой политическая «идея» не была идеей ее действительного «интереса», истинный жизненный принцип которой не совпадал поэтому с жизненным принципом революции, — для той массы, реальные условия освобождения которой существенно отличны от тех условий, в рамках которых буржуазия могла освободить себя и общество» *. Революция была неудачна потому, что та масса, жизненными условиями которой, по существу, ограничилась революция, была массой ограниченной и исключительной, не охватывавшей всей совокупности населения, потому, что для самой многочисленной, отличной от буржуазии, части массы принцип революции не был ее действительным интересом, а был только «идеей».
Иллюзия террористов заключалась в том, что современное государство, основанное на буржуазном обществе, они хотели создать по образцу античного государства, основанного на рабстве. «Какое колоссальное заблуждение — быть вынужденным признать и санкционировать в правах человека современное буржуазное общество, общество промышленности, всеобщей конкуренции, свободно преследующих свои цели частных интересов, анархии, самоотчужденной природной и духовной индивидуальности, — быть вынужденным признать и санкционировать все это и вместе с тем желать аннулировать вслед за тем в лпце отдельных индивидуумов жизненные проявления этого общества и в то же время желать построить по античному образцу политическую верхушку этого общества!» **. Иллюзия Наполеона заключалась в том, что он рассматривал государство как самоцель, а гражданскую жизнь — только как своего казначея и подчиненного, который не вправе иметь свою собственную волю. И террористы и Наполеон потерпели крушение из-за своих иллюзий. Затем против буржуазии снова выступила контрреволюция. «Наконец, в 1830 г. она осуществила свои желания 1789 г. с той только разницей, чго ее политическое просвещение теперь было завершено, что она не видела больше в конституционном представительном государстве идеала государства, не думала больше, что, добиваясь конституционного представительного государства, она стремится к спасению мира и к достижению общечеловеческих целей, а, напротив, рассматривала это государство как официальное выражение своей исключительной власти п как политическое признание своих особых интересов» *. Но «жизненная история французской революции, ведущей свое летосчисление с 1789 г., не закончилась еще 1830 годом» — этим энергичным указанием Маркс заканчивает раздел о французской революции.
В обобщенной форме вывод Маркса из этих и других исторических экскурсов в «Святом семействе» гласит: «...Естественная необходимость, свойства человеческого существа, в каком бы отчужденном виде они ни выступали, интерес, — вот что сцепляет друг с другом членов гражданского общества. Реальной связью между ними является не политическая, а гражданская жизнь. Не государство, стало быть, сцепляет между собой атомы гражданского общества (как утверждал Бруно Бауэр. — Прим. Меринга), а именно то обстоятельство, что они атомы только в представлении, на небе своего воображения, а в действительности — существа, сильнейшим образом отличающиеся от атомов, что они не божественные эгоисты, а эгоистические люди. Только политическое суеверие способно еще воображать в наше время, что государство должно скреплять гражданскую жизнь, между тем как в действительности, наоборот, гражданская жизнь скрепляет государство» **. На презрительные высказывания Бруно Бауэра о природе и промышленности Маркс отвечает:
«Или критическая критика полагает, что она дошла хотя бы только до начала познания исторической действительности, исключив из исторического движения теоретическое и практическое отношение человека к природе, естествознание п промышленность? Или она думает, что действительно познала какой бы то ни было исторический период, не познав, например, промышлен-
ности этого периода, непосредственного способа производства самой жпзни? Правда, спиритуалистическая, теологическая критическая критика знакома (знакома, по крайней мере, в своем воображении) лишь с политическими, литературными и теологическими громкими деяниями истории. Подобно тому как она отделяет мышление от чувств, душу от тела, себя самое от мира, точно так же она отрывает историю от естествознания и промышленности, усматривая материнское лоно истории не в грубо -материальном производстве на земле, а в туманных облачных образованиях на небе» *. В этих положениях перед нами уже поднимаются молодые ростки материалистического понимания истории.
Маркс и Энгельс еще стоят в духовной зависимости, с одной стороны, от Фейербаха, с другой — от английского и французского социализма, но эту зависимость менее всего можно назвать рабской. Они, безусловно, признают гениальные работы Фейербаха, признают заслугу, которую он приобрел, дав великую и мастерскую разработку основ для критики всякой метафизики и поставив человека на место старого хлама, в том числе и бесконечного самосознания. Но через гуманизм Фейербаха они идут дальше к социализму, через абстрактного человека — к историческому. С достойной восхищения проницательностью они разбираются в еще хаотически перемешивающемся мире западноевропейского социализма. Они разоблачают тайну заигрываний с социализмом, которыми доставляла себе удовольствие сытая буржуазия. Они указывают, что самые человеческая нищета и бесконечная отверженность, вынуждающие принимать милостыпю, служат забавой для аристократии денег и образования, существуют для удовлетворения ее себялюбия, для щекотания ее тщеславия: таков единственный смысл многочисленных благотворительных союзов в Германии, многочисленных благотворительных обществ во Франции, многочисленных благотворительных донкихотских предприятий в Англии, концертов, балов, спектаклей, обедов в пользу бедных, даже сбора пожертвований для потерпевших от несчастных случаев.
Из великих утопистов наибольший вклад в идейное содержание «Святого семейства» внес Фурье. Энгельс
проводит, однако, различие между Фурье и фурьеризмом; он говорит, что тот разбавленный водой фурьеризм, который проповедуется газетой «Мирная демократия», есть не что иное, как социальное учение части филантропической буржуазии. Маркс указывает, что «организация труда» представляет собой не лозунг социалистов, а ло-зупг политическн-радикальной партии, которая пытается осуществить во Франции компромисс между политикой п социализмом. Оба автора не перестают подчеркивать тот факт, который пикогда не понимали великие утописты, — историческое развитие, самостоятельное движение рабочего класса. На заумное замечание Эдгара Бауэра, что «рабочий не делает ничего, поэтому он ничего и не имеет; не делает же он ничего потому, что его работа всегда остается чем-то единичным, рассчитана на удовлетворение его собственнейшей потребности и является будничной работой», Энгельс возражает: «Критическая критика не создает ничего, рабочий создает все, до такой степени все, что он также и своими духовными творениями посрамляет всю критику. Английские и французские рабочие являются лучшим свидетельством этого» *. Несостоятельность измышленной Бруно Бауэром противоположности между «духом» и «массой», якобы исключающими друг друга, Маркс иллюстрирует, между прочим, замечанием, что коммунистической критике утопистов с самого же начала соответствовало на практике движение широкой массы. «Нужно быть знакомым, — говорит Маркс, — с тягой к науке, с жаждой знания, с нравственной энергией и неутомимым стремлением к саморазвитию у французских и английских рабочих, чтобы составить себе представление о человеческом благородство этого движения» **.
Французский пролетариат нашел самого выдающегося своего представителя в лице Прудона, книга которого о собственности явилась в известном смысле самым передовым постом западноевропейского социализма ***. Соответственно с этим Прудону особенно сильно досталось во «Всеобщей литературной газете», где он не был не только правильно оценен, но даже правильно переведен. Вот
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 21.
** Там же, стр. 92.
*** См. прим. 19 к настоящему изданию. Ред.
почему этот пролетарий среди французских социалистов оказался в фокусе особенно подробного критического внимания в «Святом семействе»; посвященные ему разделы принадлежат, как и значительно большая часть всей книги, перу Маркса. Он жпво вступается за Прудона, против «разносящей» критики его со стороны Эдгара Бауэра, и отсюда возникла академическая версия, будто Маркс был раньше приверженцем и почитателем Прудона, на которого впоследствии так резко нападал.
На самом деле Маркс в «Святом семействе» не только ие отождествляет себя с Прудоном, но сравнивает его, напротив, с Бруно Бауэром. Эдгар Бауэр поднял Прудона на смех за то, что он находит в принципе равенства последнее разумное основание всех доказательств в пользу собственности, а между тем хочет вывести из того же принципа невозможность собственности. На это Маркс возражает, что то же самое делает Бруно Бауэр, когда он кладет в основу всех своих рассуждений «бесконечное самосознание» и рассматривает этот принцип как творческий принцип даже евангелий, которые своей бесконечной бессознательностью, казалось бы, прямо противоречат бесконечному самосознанию. Затем Маркс остроумно показывает, что для практического француза принцип равенства выражает то же самое, что для теоретического немца выражает принцип самосознания: подобно тому как в Германии разрушительная критика, прежде чем дойти в лице Фейербаха до рассмотрения действительного человека, старалась разделаться со всем определенным и существующим при помощи принципа самосознания, подобно этому во Франции разрушительная критика старалась достигнуть того же самого при помощи принципа равенства.
KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ
|