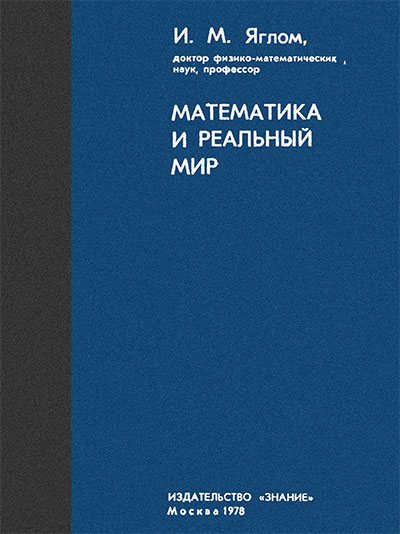СОДЕРЖАНИЕ
§ 1. ЧТО ТАКОЕ МАТЕМАТИКА? 3
§ 2. КОГДА ВОЗНИКЛА МАТЕМАТИКА? 12
§ 3. КАК УСТРОЕНА МАТЕМАТИКА 33
§ 4. РЕАЛЬНЫЙ МИР И ФОРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 53
§ 1. ЧТО ТАКОЕ МАТЕМАТИКА?
Сложен процесс познания человеком реального мира. В этом процессе участвует вся система наук, все три ее подсистемы естественные, гуманитарные и математические науки, различающиеся по своим методам и по объектам исследования. Фундаментальную роль в процессе познания играет философия, изучающая мировозренческие вопросы, общие для всех наук, задающая общую систему взглядов на окружающий мир: на природу, общество, человека.
Математику можно считать находящейся на стыке между естествознанием и философией. Абстрактная по форме, эта наука по существу изучает (широко понимаемые) количественные отношения и пространственные формы реального мира. Она дает в распоряжение ученых методику качественных оценок и конкретного количественного анализа наблюдаемых результатов, средства и способы исследования. И арсенал этих средств в наши дни необычайно богат.
Методами математического анализа и моделирования исследуют и зарождение галактик, и геологические процессы в недрах земли, решают вопросы экономического и социального планирования в стране, районе, производственном коллективе.
Что же такое математика в современном мире и какова ее роль? Почему так быстро растет ее значение во всех областях деятельности? Попробуем разобраться в этом вопросе.
Давно сложилось разделение наук на естественные и гуманитарные. Естественные науки — физика, химия, геология и др. — изучают окружающий нас материальный мир; гуманитарные — история, филология, социология и др. — человеческое общество.
Математика образует сравнительно самостоятельную группу. Это объясняется тем, что, хотя математика и уходит двоими историческими корнями в практику, в ходе развития она отрывается от своей эмпирической базы и развивается сугубо теоретически, имея дело с абстрактными конструкциями, создаваемыми в нашей голове. И с этой точки зрения различие между математикой и «нематемати-кой» оказывается несравненно более глубоким, чем различие между естественными и гуманитарными дисциплинами. Более того, за последние десятилетия граница между последними постепенно стирается, так что про ту или иную область знания в настоящее время зачастую оказывается уже вовсе не просто сказать, относится ли она к кругу естественных или гуманитарных наук. Что представляет собой сегодня, скажем, экономика? По происхождению и стоящим перед ней целям она бесспорно должна быть причислена к наукам гуманитарного цикла; однако характерная для наших дней методика экономических исследований да и сама постановка основных вопросов здесь таковы, что в ряде отношений представляется гораздо более естественным отнести экономику к той же группе наук, что и физика или геология, а не объединять ее, скажем, с историей или искусствоведением. Далее, для гуманитарных наук всегда характерен был несколько умозрительный характер используемых в них рассуждений, отсутствие экспериментов: ведь как не соблазнительно было бы, скажем, опытным путем осуществить еще одну битву при Ватерлоо, где на этот раз французский маршал Груши пришел бы на поле боя раньше австрийца Блюхера, и посмотреть, как выглядела бы история Европы в этом варианте, — но возможности-то такой у нас все равно нет. А вот, безусловно, изучающая человеческое общество социология сразу зародилась (в XX в.) как чисто экспериментальная наука; ныне же она широко использует и математические методы и дедукцию, пройдя за короткий срок путь, во многом подобный тому, какой прошла некогда физика.
Сращивание естественных наук с гуманитарными стимулируется бурным проникновением в гуманитарные науки математических методов (ранее традиционно применявшихся только в физике и в астрономии !), характерной для наших дней широкой «математической экспансией», завоеванием Математикой новых, до того совершенно ею не контролируемых территорий. В самом деле, ранее гуманитарные науки математическим аппаратом и дедуктивными рассуждениями, как правило, не пользовались, что в первую очередь и создавало резкое отличие этих наук от физики, например, или химии. Это отличие заходило настолько далеко,- что во французском или в английском языках сам термин «наука» (science) до сих пор, как правило, не прилагают к таким дисциплинам, как литературоведение или история. Однако в настоящее время ситуация здесь изменилась весьма радикально — и «математическая лингвистика» (и даже «математическое искусствоведение» или «математическое литературоведение»), «математическое правоведение» и иные подобные области знания (не говоря уже о «математической экономике»!) заняли весьма большое место в научном багаже ученых-гуманитариев. В силу этого на филологических, юридических или экономических факультетах университетов ныне зачастую читаются весьма обширные курсы математики, заметно превосходящие по объему традиционный курс «высшей математики», испокон веков читавшийся будущим инженерам.
Заметим, впрочем, что изменились за последние десятилетия не только гуманитарные науки, но и математика. В самом деле, ранее «доказательная» математика всегда принебрегала индуктивными и чисто описательными соображениями, в силу чего столь неожиданно прозвучало само название известной книги Дж. Пона «Математика и правдоподобные рассуждения» в которой автор раскрывал те «секреты» математического творчества, о которых не принято было говорить вслух. Однако ныне сближение математики и гуманитарных наук привело к определенной «гуманизации» математики, к проникновению в нее подходов и точек зрения, характерных именно для гуманитариев. Выразительным примером этого положения может служить, скажем, учение Л. Заде о «размытых множествах»
2.
Естественные и гуманитарные науки изучают объективно существующую реальность и единственным критерием истины, скажем, для физика является совпадение получаемых им результатов с наблюдаемыми, с прямым экспериментом. Физическое доказательство является правильным, если полученный с его помощью результат совпадает с реально наблюдаемыми фактами, и неправильным, если этот результат противоречит экспериментам; никакого другого огфеделения «истинности» физика не знает. Напротив,
1 См: Дж. П о й а, Математика и правдоподобные рассуждения, М. «Наука», 1975.
2 См.: Л. Заде. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М., «Мир», 1976.
математика не имеет дела ни с какой «лабораторией», отличной от человеческой головы. Критерием истинности математического рассуждения является лишь логическая его безукоризненность, выполнение на всех этапах рассуждения устанавливаемых самим математиком правил вывода, относящихся к вполне определенной ветви математической науки,- — к математической логике. При этом на сегодняшний день мы имеем уже вовсе не один единственный набор правил вывода, а много разных a priori возможных таких наборов, достаточно глубоко расходящихся между собой. Правда, реально сказываются эти различия пока лишь в научном творчестве специалистов по математической логике и основаниям математики, однако, вполне возможно допустить, что впоследствии мы столкнемся с ними и в вопросах, относящихся к области прикладной математики: ведь недаром некоторые из новейших школ в области оснований математики, вроде так называемого ультраинтуиционизма, декларируют свое происхождение из попыток осмысления возможностей электронных вычислительных машин. При этом ныне вполне может случиться, что математическое рассуждение, которое признает правильным один ученый, другой таковым считать откажется,, причем эти две диаметрально противоположные позиции вовсе не будут означать, что один из упомянутых ученых (скажем, сторонник гильбертова формализма) прав, а второй (например, математик-конструктивист) ошибается: нет, правы они будут оба, только исходят они из разных «правил (математической) игры», что и приводит их к двум разным «математикам» (в нашем случае — неконструктивной и конструктивной).
В старых школьных учебниках геометрии бытовая фраза: «Справедливость аксиом подтверждается многовековым опытом человечества». С позиций прикладной математики 3 этот тезис, конечно, правилен (исторически он идет от Аристотеля, о воззрениях которого мы еще будем говорить ниже), однако он апеллирует к нематематическим соображениям (к эксперименту) и потому будет, вероятно, отведен «чистым» математиком. В самом деле, как может какой бы то ни было «опыт» подтвердить (или опровергнуть) тот факт, что ладья на шахматной доске может передвигаться лишь по горизонтали или по вертикали? — ведь
8 См.: И. И. Б л е х м а н, А. Д. М ы ш к и с, Я. Г. Панов. Прикладная математика: предмет, логика, особенности подходов, Киев. «Наукова думка», 1976.
этот факт представляет собой условное соглашение, входящее в определение ладьи как шахматной фигуры, и никакой проверке его истинность не подлежит. Как может многовековой опыт человечества подтвердить или опровергнуть, что
т. е. что для каждых двух (различных) точек А и В плоскости («квантор общности» у указывает, что речь здесь идет о двух совершенно производных точках) существует (и притом единственна, как о том свидетельствует «квантор существования и единственности» 3!) прямая плоскости 5, проходящая как через А (это записывается так: ЭЛ), так и одновременно (символ Д конъюнкции как раз и заменяет это «и») проходящая через Б? Ведь с точки зрения современной математики (об этом мы еще подробнее скажем ниже) под «плоскостью» SP понимается просто множество элементов, обозначаемых большими латинскими буквами, и множество элементов, обозначаемых малыми латинскими буквами; первые из этих элементов мы называем «точками», а вторые — «прямыми», но свободно могли бы выбрать для них и какие угодно другие наименования. Вспомните знаменитое изречение Давида Гильберта (1862 — 1943) о том, что содержание евклидовой геометрии не претерпело бы никаких изменений, при замене слов «точка», «прямая» и «плоскость», скажем, терминами «стул», «стол» и «пивная кружка» (из самой формы этого утверждения видно, что родилось оно в гёттингенской пивной, где Гильберт любил обсуждать со своими учениками и сотрудниками проблемы математики и логики). Впрочем, здесь Гильберта частично обогнал Жан Лерон Д а л а м б е р (1717 — 1783), указавший в статье «Определение» своей прославленной «Энциклопедии»: «элементы геометрии можно сделать точными, но смешными, назвав треугольником то, что обычно называется кругом». Далее, про вводимые таким образом (без всякого определения!) «точки» и «прямые» известно, что они связаны между собой рядом отношений, первым и главнейшим из которых является отношение (последняя запись читается так: «точка А принадлежит прямой I» или « проходит через Л», однако более правомерной была чисто условная формулировка: «элементы I и А плоскости Э связаны между собой отношением Э» (в силу чего это отношение лучше было бы записывать с помощью «более нейтрального» символа, скажем, как Л, тем более, что без этого понимание смысла формулы (1) затрудняется наличием в ней близких по форме и далеких по смыслу записей А ? 3 и Э А). При этом от связывающих точки и прямые отношений требуется лишь выполнение ряда «правил» или «условий», одним из которых как раз и является условие или формула (1). Здесь уместно еще раз подчеркнуть, что вопрос об истинности или ложности, о доказательстве этих условий (и даже о какой бы то ни было их мотивации !) никак не ставится — он сдоль же бессодержателен, как вопрос о том, «почему» ладья на шахматной доске ходит именно по вертикалям и горизонталям: вряд ли вызвало бы у вас особое уважение лицо, взявшееся доказывать, что ладья должна ходить именно таким образом, или даже лишь убеждать вас в том, что это соглашение надо считать «совершенно естественным». Конечно, преувеличивать значение аналогии между математикой и шахматами ни в коем случае не следует, ибо место математики в жизни человека определяется как раз теми обстоятельствами, которые ее от шахмат отличают и — широкой применимостью математических конструкций вне самой математики, в естественных и гуманитарных науках и в технике. Однако формально математика строится в отрыве от этих ее приложений (которые, однако, всегда, пусть незримо, но присутствуют, отбраковывая одни математические схемы как мало продуктивные или даже ненужные и подчеркивая важность и интерес других), что и позволяет говорить о математике как о некоторой «игре».
Здесь, видимо, уместно сказать еще несколько слов о месте математики в жизни, т. е. о том вопросе, которому будет специально посвящен наш § 4. Американец Джошуа Уиллард Гиббс (1839 — 1903), стоящий у истока многих основных концепций современной физики (статистическая механика) и математики (векторное исчисление), был молчаливым человеком; на заседаниях совета Йельского университета, где он проработал много десятилетий, Гиббс выступал очень редко. Тем более запомнилась его реплика во время обсуждения вопроса о том, надо ли в университетском обучении уделять больше внимания математике или древним языкам: «Ведь математика — это тоже язык», вмешался в спор Гиббс. Да, по отношению к другим наукам математика играет роль языка, причем, как говорил еще Галилей, это именно тот язык, на котором записываются законы природы. И отношение математики, например, к фи-
зике можно сравнить с взаимоотношением филологии и литературоведения: разумеется, сама по себе наука о языке с литературоведением никак не связана, однако литература-то пишется на языке — и потому без знания языка .вовсе невозможна. Точно так же невозможна и физика без математики, а пожалуй, несмотря на полную независимость математических понятий и отношений от породивших их фактов реального мира,» — и математика без физики: ведь вряд ли имеет смысл создавать язык, которым мы не имеем в виду пользоваться. И хотя, скажем, изучать математику вполне можно и в отрыве от каких бы то ни было ее приложений, но поступать так, разумеется, не следует, поскольку при всей важности для математики составляющих ее абстрактных конструкций, ограничение лишь ими не только обедняет математику, но и создает о ней превратное представление.
Однако вернемся снова к математике как к формальной системе, ибо и этот взгляд на математику игнорировать никак нельзя, так как он тесно связан с самой сущностью математики как науки. Выше мы сказали, что в геометрии понятия «точки» и «прямой» вводятся без всякого определения — и даже подчеркнули эту мысль как чрезвычайно важную восклицательным знаком в конце соответствующего утверждения. Однако теперь мы, пожалуй, возьмемся оспаривать наш собственный тезис. Имеет или не имеет определение понятие «шахматная ладья»? Ответ на этот вопрос, по существу, был дан выше. Разумеется, для лица, не умеющего играть в шахматы, понятие это совершенно бессмысленно — нисколько не лучше, чем для современного школьника понятия симедианы или антибиссектрисы (существовали когда-то в элементарной геометрии и такие ныне совершенно заслуженно забытые термины!). Но для шахматиста понятие «шахматная ладья» имеет абсолютно четкий смысл: под ладьями он понимает фигуры, в начальном положении занимающие на доске позиции а1 и hi («белые ладьи») и а8 и h8 («черные ладьн»), причем в процессе игры эти фигуры могут перемещаться (а также исчезать с доски или возникать на ней) в соответствии со вполне определенными правилами, полный набор которых и может рассматриваться как (косвенное или «дескриптивное» — см. ниже) определение соответствующего понятия. Другими словами, само по себе понятие «шахматная ладья» следует считать бессодержательным, неопределенным; однако сочетание слов «игра в шахматы» имеет четко очерченный, хоть и достаточно сложный смысл — и вот в рамках этого-то понятия находит место также и более частное понятие шахматной ладьи. В самом деле, ведь описание (можно также сказать — определение) шахматной игры задается указанием «поля игры», состоящего из так называемой «шахматной доски», т. е. просто списка из 64 «позиций» (которые можно нумеровать числами от 1 до 64, или, как это принято, «двойными символами» от а1 до Ь8), а также перечнем набора «основных элементов» или «фигур», к числу которых принадлежат и ладьи; помимо этого в описание игры входит (достаточно громоздкий) список всех без исключения правил, которым должны подчиняться вышеуказанные фигуры (этот список включает технические термины «мат», «пат», «повторение ходов», «сдаюсь», «согласились на ничью» и др., завершающие игру).
Но точно так же обстоит дело и с понятиями (математическими) «точки» или «прямой»! Для незнакомого с математикой лица эти понятия, разумеется, совершенно бессодержательны. Однако уже школьник знает, что планиметрия в целом может быть описана как совокупность элементов двух родов: точек А, В, С, и прямых , т, г, в объединении составляющих то, что принято именовать «плоскость»; при этом точки и прямые подчиняются определенным «правилам», вроде формулы (1), в своей совокупности дающих дескриптивное определение как всей планиметрии, так и образующих планиметрию элементов — точек и прямых, и связывающих эти элементы основных отношений, вроде отношения Э (ср. ниже § 3). Таким образом, понятие (математической) точки «само по себе» вне рамок планиметрии никакому определению не подлежит; в рамках же планиметрии точка вполне определима: это определение дается списком геометрических аксиом, т. е. является одним общим определением сразу большого числа важных понятий («точка», «прямая», «принадлежит» и др. — ср. ниже § 3). Заметим здесь только, что соответствующее определение, разумеется, вовсе непросто, ибо по своей замысловатости и содержательности «игра планиметрия» многократно превосходит даже такую сложную игру, как шахматы.
Обратимся еще к сказанному выше о дескриптивном характере определения понятия «шахматная ладья», соответственно, «точка» набором правил шахматной игры или аксиом планиметрии. Дело в том, что все (общежитейские или научные) понятия могут быть определены «прямо»
или конструктивно . — точным описанием строения соответствующего объекта: скажем, «арифметической прогрессией называется последовательность чисел а, а + d, а -+ + 2d, а + 3d, где а и d — произвольно фиксированные числа»; «максимумом функции у = — х1 является ее значение 0, отвечающее значению х = О», «ключом от нашего замка называется кусок металла строго определенный, 1 — например, изображенной на рисунке или чертеже формы»; «паровым двигателем называется описываемый таким-то образом прибор» — описание парового двигателя обычно начинают с указания на полый цилиндр, в котором свободно ходит поршень. Однако гораздо чаще в жизни и в науке встречаются «косвенные» {описательные или дескриптивные) определения, задающие тот или иной объект перечислением требуемых его свойств {«арифметическая прогрессия« — это последовательность а19 а2, о3, ... чисел, для которой разность ai+1 — at двух соседних чисел при всех i = 1, 2, 3, сохраняет одно и то же значение»; «максимум функции у — — х2это то ее значение, которое больше всех других значений той же функции»; «ключом от замка на двери называется предмет, позволяющий открыть дверь при любом положении замка»; «паровым двигателем называется прибор для преобразования тепловой энергии в механическую»). При этом все основные стоящие перед людьми задачи обычно Сводятся к преобразованию тех или иных дескриптивных определений в конструктивные — - таковы, скажем, задача нахождения максимума функции или конструирования парового двигателя. Нахождение конструктивного определения того или иного объекта попутно доставляет нам и доказательство ето существования, поскольку дескриптивные определения могут также описывать бессмысленные или несуществующие объекты (примеры: «сходящимися прямыми называются две такие прямые а и b евклидовой плоскости, что при неограниченном движении точки М в определенном направлении вдоль а расстояния от М до Ь неограниченно убывает»; «вечным двигателем называется механизм, способный производить работу без затраты энергии»). Это полностью понимал еще Аристотель, а за ним — и Евклид (который не случайно вслед за дескриптивным определением даже таких простых объектов, как, скажем, равносторонний треугольник, сразу же указывает и построение, устанавливающее существование этого объекта).
§ 2. КОГДА ВОЗНИКЛА МАТЕМАТИКА?
На первый взгляд может показаться, что поставленный в заголовке этого параграфа вопрос однозначного ответа не имеет, что процесс создания математической науки растянулся на многие столетия и тысячелетия. В самом деле, в определенном смысле процесс этот можно начинать с возникновения у первобытных людей (или, даже, еще у «не людей») различия между понятиями «один» и «два» (или «один» и «не один»); не менее сложно указать, когда этот процесс закончился ¦ — допустимо даже считать, что он продолжается и по сей день. Однако такая точка зрения представляется нам все же неправомерной — . более обоснованным является ограничение периода возникновения математики куда более узкими хронологическими рамками.
Несомненно, что формирования первоначальных представлений о числах и фигурах можно отнести еще к периоду палеолита (или раннего неолита) имеющие, видимо, ритуальный характер петроглифы (наскальные рисунки), найденные в пещерах Южной Франции и Испании и созданные около 15 тыс. лет тому назад, обнаруживают замечательное чувство формы.
К пятому и последующим тысячелетиям до нашей эры относится формирование в долинах знаменитых рек — Нила, Тигра и Евфрата, Инда, Ганга, Хуанхэ, Янцзы- — древних восточных цивилизаций. К сожалению, знания наши об этих великих культурах очень ограничены; еще менее знаем мы о древних цивилизациях, существовавших некогда в Африке и Америке, в Японии и на островах Океании.
В Древнем Египте, расцвет которого относится к огромному по длительности периоду от примерно 3000 г. до н. э. и вплоть до середины последнего тысячелетия до нашей эры, почти все записи делались на папирусе. Обычай вкладывать в могильники по той или иной причине дорогие захороненному лицу свитки сохранил для нас ряд математических текстов учебного характера. В первую очередь здесь идет речь о так называемых «лондонском» и «московском» папирусах размером соответственно 5,25 м X 0,33 м и 5,44 м х 0,08 м, ныне принадлежащих Британскому музею в Лондоне и Музею изрбразительных искусств в Москве; первый из них содержит решения 84 задач, а второй 25 задач. «Лондонский» папирус был переписан писцом Ахмесом где-то около 1800 г. до н. э., но содержит материал, относящийся к более древнему времени (ориентировочно к 1900 — 2000 г. до н. э.); к этой же примерно эпохе относится и содержание «московского» папируса, переписанного каким-то безымянным учащимся школы писцов между 1600 и 1800 г. до н. э.
Обожженные глиняные таблички, на которых с помощью палочек писали в Древнем Вавилоне, существовавшем начиная примерно с XIX в. до н. э. (конечно, таблицы обжигались уже после того, как на них были сделаны надписи). В настоящее время в различных музеях мира зарегистрировано не менее полумиллиона таких таблиц, большая часть которых пока не прочитана. Расшифровка и публикация математических клинописных текстов начались в 30-х годах нашего столетия; особенно велики здесь заслуги немецкого математика Отто Нейгебауера, ученика Д. Гильберта. См., в частности, книгу О. Нейгебауэра, «Точные науки в древности» , а также книги Б. Л. В а н дер Варден, «Пробуждающаяся наука» 5; История математики (под ред. А. П. Юшкевича) ; Н.Бурбаки, «Очерки по истории математики»7, — все они содержат много материала, близкого к содержанию настоящего параграфа. До настоящего времени расшифровано около 150 «математических» вавилонских таблиц главным образом учебного характера, в большинстве своем относящихся к «древней» эпохе (к периоду от 1800 до 1600 г. до н. э.); небольшое число таблиц (в которых, кстати говоря, не наблюдается почти никакого прогресса по сравнению с «древними» таблицами) относится к эллинистической эпохе Селевкидов (последние три столетия до нашей эры). Наряду с этим разобрано еще свыше 200. вспомогательных математических таблиц, содержащих справочные материалы (числовые таблицы).
Общий объем математических знаний, которыми обладали вавилоняне и египтяне, был весьма большим; надо полагать, что примерно таким же был уровень (и характер) математики и в других восточных государствах, от которых до нас не дошли никакие (или почти никакие) письменные
4 См.: О. Н е й г е б а у э р. Точные науки в древности, М.,
«Наука», 1968.
6 См.: Б. Л. Ван дер Варден, Пробуждающаяся наука. М., «Наука», 1959.
в См.: История математики (под ред. А. П, Юшкевича), т. 1. М., «Наука», 1970.
7 См.: Н, Б у р б а к и, Очерки по истории математики, М., ИЛ, 1963,
памятники. Так, например, вавилоняне свободно оперировали с квадратными и даже с некоторыми кубическими уравнениями (для решения которых использовались таблицы квадратных и кубических корней), и хорошо знали теорему Пифагора, которая, в частности, использовалась для составления задач на квадратные уравнения. Египтяне знали, скажем, арифметическую и геометрическую прогрессии и формулу суммы членов геометрической прогрессии (а вавилоняне — и формулу для суммы квадратов первых п последовательных натуральных чисел); длину s окружности и площадь S круга египтяне находили по верным формулам s = 2пг и S = яг2, где для я использовалось хорошее приближение: я = 4-д-1 (= 3, 160...). Наконец,
как египтяне, так и вавилоняне знали известные формулы S = -j-ah и S = -j-(a + b)h для площадей треугольника и траК
пеции; они также владели (в применении к усеченной правильной четырёхугольной пирамиде) самой сложной формулой современного школьного курса математики — формулой для объема усеченной пирамиды.
Но несмотря на такое обилие известных вавилонянам и египтянам впечатляющих математических фактов, мы склонны считать, что ни в Древнем Египте, ни в Вавилоне математики еще не было. Ведь математику мы характеризовали выше ее абстрактной (аксиоматической) структурой — а вот эта-то идея была полностью чужда всем древним культурам Востока. Вавилоняне обладали высокоразвитой арифметикой, базой для которой служила тщательно разработанная система записи чисел и алгоритмы для производства действий над ними — - в. основе того и другого лежала широко известная Вавилонская шестидесятиричная система счисления, включающая учение о шестидесятиричных дробях. Новедь арифметика — это просто искусство счета, возникшее в связи с самыми примитивными практическими потребностями людей; от «абстрактной» математики, понимаемой так, как это объяснялось в предыдущем параграфе, она достаточно далека.
Разумеется, среди культивируемых в вавилонских и дренеегипетских училищах задач были такие, «прикладное» значение которых имело чисто педагогический характер, вроде пресловутой «задачи о кошках» из лондонского папируса, которая затем в течение тысячелетий (!) кочевала из одного сборника математических развлечений в дру-
гой, с завидной легкостью преодолевая все временные и государственные границы: в каждом из 7 домов имеется по 7 кошек; каждая кошка съела по 7 мышей; каждая мышь могла уничтожить по 7 колосьев; из каждого колоса можно получить по 7 мер хлеба — чему же будет равно общее число домов, кошек, мышей, колосьев и мер хлеба? Однако ведь эта, казалось бы, «чисто теоретическая» задача требует вовсе не отточенной математической дедукции, а лишь известной беглости в обращении с числами, да запоминания догматически сообщаемой формулы. Также и вавилонскую, а особенно египетскую геометрию вполне можно охарактеризовать как «прикладную арифметику»: логических доказательств в том виде, в каком они дошли до нас от древних греков, египтяне и вавилоняне, видимо, вовсе не знали (да и сама идея доказательства была им, вероятно, чужда!); в геометрических задачах речь шла о вычислениях по известным (кем-то когда-то отгаданным) формулам, позволяющим находить важные для практики величины площадей и объемов. Уровень математики был таков, что он обеспечивал и в самом деле замечательные достижения древних землемеров, строителей (вавилонские дворцы и храмы или египетские пирамиды!), астрономов (особо сильное впечатление производят вавилонские астрономические таблицы), — - но ни о каком самостоятельном значении математики в то время не помышляли. Возвращаясь к сказанному в § 1 о классификации наук, можно считать, что математика на Древнем Востоке была еще одной естественнонаучной дисциплиной (где под треугольником понимался просто участок земли треугольной формы, а под кубом, конусом или пирамидой — материальные тела соответствующего вида); что же до группы математических наук, то можно считать, что она еще не существовала.
Зарождение «теоретической» математики естественно связать с Древней Грецией- — и это обстоятельство весьма весомо входит в тот поистине необъяснимый феномен, который называют «чудом греческой цивилизации». Мы пока слишком плохо разбираемся в том, что можно назвать «исторической психологией рас и народов», и не можем вразумительно объяснить взрывоподобный подъем культуры в Италии эпохи Возрождения, не сравнимый ни с какими предшествующими или последующими достижениями итальянских художников, писателей, ученых; столь же загадочным представляется и поразительное явление древ-
них Афин, сконцентрировавших уникальные культурные силы. Горячий патриот Аристотель, преклонявшийся перед греческой культурой и греческой государственностью, склонен был объяснять расцвет наук и искусств в греческих полисах специфическими условиями греческой демократии, предоставляющей своим гражданам (о рабах он при этом, естественно, просто забывал) максимально благоприятные условия для творческой работы; вслед за Аристотелем эту мысль зачастую повторяют и современные авторы 8. Связь возникновения «доказательной» математики с традиционной для греческого полиса системой широкого публичного обсуждения всех интересующих горожан вопросов, при котором каждый выступающий вынужден был тщательно аргументировать свое мнение, является довольно очевидной; однако она мало что объясняет, ибо оставляет открытым вопрос о причинах, породивших именно эту политическую структуру. Поэтому здесь нам, кажется, уместнее просто говорить о «греческом чуде», которое, конечно, можно комментировать со ссылками на географические, политические, экономические и другие факторы, но объяснить которое мы не в силах.
Зарождение греческой науки обычно связывают с мыслителями, проживавшими в так называемой Ионии — на западном побережье Малоазиатского полуострова и на островах Эгейского моря. Основоположником ионийской школы принято считать первого из «семи мудрецов» — Фалеса Милетского (ок. 625 — 547 до н. э.) (Милет — порт в Малой Азии на побережье Эгейского моря, крупнейший из городов Ионии) — философа и ученого, торговца и государственного деятеля. Купец Фалес поддерживал традиционные для торговцев Ионии связи с Востоком: он бывал в Египте, а также, видимо, и в Вавилонии и хорошо знал достижения египетской и вавилонской науки. Явно от вавилонской традиции идет произведшее огромное впечатление на современников Фалеса предсказание им солнечного затмения 585 г. до н. э.» — в греческой астрономии здесь предшественников у Фалеса не было. Философ Фалес стремился построить единую систему мира; именно в связи с религиозно-философскими, а не с практическими запросами занялся он геометрией. Поразительна простота приписываемых Фалесу геометрических теорем: диаметр делит круг на две равные части или углы при основании равнобедренного треугольника равны (и это в то время, когда вавилоняне совершенно свободно пользовались теоремой Пифагора и знали формулу для объема усеченной пирамиды!). Ясно, что «ни один (владеющий математикой) дурак» не усомнился бы в этот период в справедливости названных фактов, — но великий ученый Фалес усомнился, и тем самым и заслужил звание «великого ученого». Несомненно, что сами эти факты были известны много раньше Фалеса; то, что принадлежало Фалесу (или другим ученым ионийской школы) это доказательства соответствующих теорем. Именно простота приписываемых Фалесу предложений со всей определенностью указывает, что новым здесь был именно факт логического их доказательства: известный нам, по Аристотелю, тезис о том, что доказательство не только устанавливает справедливость тех или иных фактов, но и проясняет сущность этих фактов и устанавливает логические связи между ними, был явно близок уже мыслителям ионийской школы. Воспитанный на всех тонкостях Евклида и его последователей математик V в. н. э. П р о к л Диадох (410 — 485) прямо указывал, что данное Фалесом доказательство одной из приписываемых ему теорем« — теоремы о равенстве вертикальных углов, — было логически неполноценным, подчеркивая тем самым, что доказательство остальных предложений следует считать безукоризненными. Элементарный характер всех теорем Фалеса показывает также, что в ионической школе впервые была предпринята попытка пересмотреть логическую структуру всех известных геометрических фактов: ясно, что построение систематического курса геометрии приходится начинать с самых элементарных предложений. При этом анализ содержания всех приписываемых Фалесу теорем позволяет высказать обоснованные гипотезы о путях их доказательства: все эти предложения тесно связаньь с перемещениями фигур и с симметрией. Возможно, что с этим связана и прокловская критика доказательств Фалеса, поскольку в школе Аристотеля — Евклида принято было игнорировать движения и симметрию; этим объясняется и неодобрительное замечание Прокла о том, что Фалес в своих геометрических рассмотрениях «иногда более опирался на наглядность» (чем на дедукцию).
Поразительны темпы развития греческой науки! Расцвет деятельности ионийской школы Фалеса надо отнести к первой половине VI в. до н. э., — а к середине того же века относится деятельность иной философской и научной школы, видимо, обладавшей неизмеримо большим научным багажом знаменитой школы Пифагора Самосского (ок. 570 ок. 500 до н. э.) Самос остров в Эгейском море у побережья Малой Азии; расцвет деятельности Пифагора Ван дер Варден относит к 550 г. до н. э. . Таким образом, Фалес и Пифагор вполне могли быть лично знакомы; впрочем, это знакомство вряд ли доставило бы им радость, ибо основные установки этих выдающихся ученых и политических деятелей были во всем различны: рационализму Фалеса и ионийской школы противостоит мистицизм пифагорейцев; демократические принципы ионийцев, сыгравшие заметную роль в становлении великой афинской демократии, в корне противоречили аристократизму замкнутой военно-политической организации пифагорейцев, одно время захватившей власть в ряде городов так называемой «Великой Греции», т. е. греческих колоний в южной Италии. Центром пифагорейского союза являлся южноитальянский город Кротон; впрочем, в конце жизни Пифагора пифагорейцы были изгнаны из Италии; согласно одной из легенд престарелый Пифагор окончил жизнь в уличной схватке в одном из малоазиатских городов, который пифагорейцы попытались захватить. Политическое поражение пифагорейцев сыграло положительную роль в пропаганде их достижений, а тем самым — ив развитии греческой науки. Ранее Пифагор стремился держать в тайне все полученные в его школе научные результаты; однако после потери контролируемой Союзом территории и вынужденного расселения пифагорейцев по многим греческим городам им было позволено зарабатывать на жизнь преподаванием — и руководимые пифагорейцами школы сыграли очень большую роль в дальнейшем распространении математических знаний.
Школе Пифагора свойственно было четко формулируемое стремление к раскрытию «гармонии мира»; именно этой цели способствовали культивируемые пифагорейцами арифметика, геометрия и теория музыки (впрочем, начало всех этих дисциплин пришло к пифагорейцам с Востока). Мистицизм пифагорейцев, также родственный многим религиозно-философским учениям Востока, привел к расцвету в их учении числовой мистики; при этом очень большое внимание уделялось делению всех чисел на четные и нечетные (еще Аристотель, следуя пифагорейцам, несколько неожиданно определял арифметику как «науку
о четных и нечетных числах», а в «Началах» Евклида общей теории делимости предшествует явно пифагорейская «теория делимости на 2»).
На базе учения о четных и нечетных числах доказывали пифагорейцы и одну из самых глубоких известных им теорем (являющуюся одновременно и одним из самых поразительных достижений всей греческой математики) — теорему о существовании иррациональных чисел (теорему об иррациональности числа YY или о несоизмеримости диагонали квадрата с его стороной); соответствующее рассуждение, известное нам в передаче Аристотеля (оно начинается с утверждения: если VT = — и дробь JIL несократима, то т четно, а п нечетно), сегодня воспроизводится во всех школьных учебниках.
Существенным достижением пифагорейской арифметики было выделение простых чисел (их пифагорейцы называли «линейными», подчеркивая, что если число р простое, то р точек можно расположить лишь в отрезке, но не в прямоугольнике); большую роль в их арифметической системе играли и так называемые треугольные, квадратные, пятиугольные и т. д. числа (см. рис. 1). От них же идет дошедший до наших дней термин «кубические числа» (число точек, которые можно расположить в пространстве в виде куба); им, безусловно, были известны формулы для суммы п первых.нечетных чисел (в результате получается п-е квадратное число) и для суммы п первых кубических чис?л (получается квадрат м-го треугольного числа). Большое значение придавали пифагорейцы так называемым совершенным числам (равным сумме своих собственных делителей) и дружеским числам (каждое из которых равно сумме делителей другого).
Арифметика играла столь значительную роль в развиваемой пифагорейцами системе мира в силу их стремления свести все сущее к системе числовых отношений («все есть число»); впрочем, здесь пифагорейцам был нанесен удар доказательством того, что уже длину диагонали квадрата со стороной 1 нельзя выразить никаким числом (к чести пифагорейцев, они немедленно оценили значение этого открытия). Такая их установка объясняла большое место, уделяемое пифагорейцами учению о музыкальной гармонии; ими, в частности, была открыта связь между благозвучием музыкальных интервалов и простыми отношениями длин издающих звуки струн. В пифагорейской школе, видимо, сложилось убеждение о шарообразности Земли и о множественности миров. Но наиболее интересны нам достижения пифагорейцев в геометрии.
Уже упоминавшийся выше неоплатоник Прокл, ссылающийся на заслуживающего, видимо, полного доверия ари-стотельянца Е в д е м а Родосского (конец IV в. до н. э.), писал: «Следовавший за ними (за Фалесом и другими) Нифагор... изучал эту науку (геометрию), исходя от первых ее оснований, и старался получать теоремы при помощи чисто логического мышления, вне конкретных представлений». Таким образом, Евдем приписывает Пифагору научную платформу, под которой не отказался бы подписаться и Д. Гильберт, не говоря уже об Аристотеле и Евклиде. Конечно, можно опасаться, что на эту оценку деятельности
Пифагора оказало воздействие созревшее в школе Платона — Аристотеля представление о геометрии; однако, несмотря на полное отсутствие принадлежавших Пифагору и первым пифагорейцам материалов, у нас есть все основания полагать, что информация Прокла соответствует действительности. К V в. до и. э. относится первый дошедший до нас отрывок из составленного греческими учеными учебника геометрии — ¦ отрывок из «Начал» Г и п п о -крата Хиосского (2-я пол. V в. до н. э.), которого не следует путать с гораздо более знаменитым врачом Гиппократом из Косса (впрочем, заслуживает быть отмеченным, что оба ионийца ¦ — - ибо Хиос и Косс это острова в Эгейском море у побережья Малой Азии — примерно в одно время руководили в Афинах математической и медицинской школами). Гиппократ не был пифагорейцем — он принадлежал к философской школе софистов, критический дух которой оказал заметное воздействие на рост математической строгости. Однако никакой заметной научной школы, отличной от пифагорейской, до Гиппократа не было; поэтому естественно считать, что все, что он полагал хорошо известным, было закреплено в (не дошедших до нас) пифагорейских руководствах. Замечательно, что общий стиль Гиппократовых «Начал», поскольку об этом можно судить по дошедшему до нас отрывку, полностью соответствовал евклидовой линии изложения геометрии, столь выразительно охарактеризованной в прокловской оценке вклада Пифагора в геометрию; при этом к моменту составления этого руководства явно было уже хорошо известно все учение о .треугольниках, включая и теорию подобия, требующую развитой теории отношения отрезков. Вершиной пифагорейской геометрии было доказательство знаменитой теоремы, и поныне носящей имя основателя школы; сравнение этой теоремы с совсем простыми предложениями Фалеса показывает, какой громадный путь прошла за считанные десятилетия греческая геометрия. При этом сам факт, как мы знаем, был хорошо известен уже древним вавилонянам (а быть может — также и египтянам); присвоение теореме имени Пифагора еще раз показывает, какое значение придавали древние греки самому доказательству.
Примечательна также та задача, которой посвящен сохранившийся отрывок из «Начал» Гиппократа (а также высокая оценка этого отрывка современниками Гиппократа и последующими геометрами, которой мы и обязаны сохранностью этого отрывка): она связана с так называемым квадрированием луночек. По-видимому, еще пифагорейцами (возможно — не самим Пифагором, а ближайшими его преемниками) были поставлены знаменитые задачи о возможности осуществления циркулем и линейкой удвоения куба, трисекции угла и квадратуры круга неразрешимость соответствующих задач, которую, видимо, подозревали уже пифагорейцы, была доказана только в XIX в. При этом сама постановка вопроса об осуществимости или неосуществимости тех или иных построений с помощью заданного набора «абстрактно-математических» инструментов свидетельствует о поразительной научной зрелости школы, занимавшейся такими задачами. Гиппократ указал первые криволинейные фигуры,, для которых циркулем и линейкой можно построить равновеликий им квадрат: этими фигурами являлись луночки, ограниченные двумя дугами окружностей (простейшая из этих луночек изображена на рис. 2; используя теорему Пифагора, нетрудно показать, что заштрихованные на рис. 2 луночка и прямоугольный треугольник равновелики). С использованием всего аппарата современной алгебры вопрос о «луночках Гиппократа» был исследован в 30-х и 40-х годах нашего века выдающимся казанским алгебраистом Николаем Гри-горьевичем Чеботаревым (1894 — 1947): оказалось, что если требовать соизмеримости квадратов радиусов ограничивающих луночки окружностей, то кроме трех указанных Гиппократом луночек существуют еще всего два других квадрируемых их типа.
Таким образом, с достаточно высокой степенью определенности можно говорить о создании математики в Греции в VI в. до н. э.: если формально-логический уровень греческой математики VII в. до н. э. был столь же низок, как и уровень египетской или вавилонской математики (а, вернее всего, — даже и еще ниже того), то к V в. до н. э. здесь сложилась уже достаточно утонченная, в чем-то даже изысканная (доказательства иррациональности некоторых выражений или обсуждение неразрешимости тех или иных
задач!) математическая наука. Дальнейший прогресс заключался в колоссальном увеличении объема и глубины математических знаний и,~ что интересует нас здесь больше всего,» — в более отчетливом понимании своеобразия математики, ее отличия от всех других наук.
В этом отношении основные заслуги принято приписывать знаменитому Платону (429 — -348 до н. э.), что, впрочем, справедливо лишь частично. Бесспорно, Платон в течение длительного срока стоял в центре всей интеллектуальной жизни Афин, а созданная им (вблизи афинской горы Акад) научная школа4 или «Академия» — прообраз будущих университетов — еще долго после Платона оказывала воздействие на греческую науку и культуру. Платоновская Академия в Афинах была закрыта как языческая декретом византийского императора Юстиниана в 529 г. н. э.; упоминавшийся выше Прокл возглавлял ее в V в. н. э. . Но сам Платон математиком не был, хотя он, бесспорно, был в курсе всех достижений современной ему науки: этому способствовал горячий интерес Платона к математике и дружба его со столь выдающимися учеными, как влиятельный пифагореец А р х и т Тарентский (ок., 428 — -365 до н. э.) и крупнейшие математики афинского периода Евдокс Книдский (ок. 408 « — ок. 355 н. э.) и Т е э т е т Афинский (ок. 410» — 369 до н. э.), настолько же превосходящие Платона в области точного знания, насколько он был выше их в философии (Евдоко и Теэтет, видимо, преподавали математику в Академии Платона). Архиту, занимавшему выдающееся положение в городе Таренте в Южной Италии, даже и тогда, когда пифагорейцы в целом были изгнаны из «Великой Греции», Платон был обязансвободой, а быть может, и жизнью: благодаря своему влиянию Архит сумел добиться освобождения Платона, заключенного в тюрьму в Сиракузах во время своего (неудачного) путешествия в Южную Италию.
Происходящему из г. Книда на юго-западе Малой Азии Евдоксу принадлежит глубокий метод исчерпывания, представляющий собой чуть ли не высочайшее достижение всей античной математики, а также, видимо, общее учение о геометрических величинах; Теэтету (ему посвящен одноименный диалог Платона) принадлежит теория отношений отрезков, а также, скажем, разработка общей теории правильных многогранников, совершенно неосновательно называемых «Платоновыми телами».
Выдающиеся философские и литературные (а также и организаторские) таланты Платона обусловили продержавшийся столетия колоссальный его авторитет: так, например, европейское Возрождение ознаменовалось всеобщим увлечением Платоном, организацией в Европе так называемых «Платоновых академий», явившихся основными очагами итальянского гуманизма. В некоторых отношениях это влияние явилось даже весьма вредным: скажем, ему мы обязаны уничтожением большинства рукописей основного оппонента Платона и выдающегося уче-ного-материалиста Демокрита Абдерского (Абде-ра город во Фракии, на северном побережье Эгейского моря). Не удивительно поэтому, что поклонники Платона охотно приписывали своему кумиру всевозможные научные достижения, в том числе и не принадлежащие ему: так, например «Платоновы тела» (правильные многогранники были классифицированы и изучены не Платоном, аТеэтетом. Но глубокое уважение, которое питал Платон к математике, рассматривавшейся им как бесценное средство тренировки ума (вспомним надпись: «Путь сюда закрыт тем, кто не знает геометрии», по преданию украшавшую вход в Академию Платона), сыграло громадную роль в дальнейшем прогрессе математической науки, а общие принципы «дедуктивных рассуждений» были развиты Платоном с исчерпывающей полнотой.
В основе всей деятельности Платона — литературной и научной, педагогической и организаторской — лежало стремление к «научному обоснованию» всей жизни людей, всех их усилий в области науки и искусства, философии и частной жизни, общественной деятельности и практики. При этом под «научными основами» жизни Платон понимал логическое обоснование всех поступков, базирующееся на определенных общих принципах, из которых уже все остальное вытекает по свойственным нашей умственной деятельности правилам; подобное «логическое обсуждение» самого широкого круга явлений и составляет содержание знаменитых диалогов Платона, не случайно построенных в форме беседы, в форме всестороннего рассмотрения того или иного круга вопросов. При этом с «руководящими принципами» Платона можно соглашаться или не соглашаться; однако убедительность делаемых из них выводов всегда безусловна. Блестящий полемист и замечательный писатель Платон всем своим творчеством демонстрирует «кухню» дедуктивных выводов, по-разному варьируя аргументы в пользу тех или иных положений, оспаривая их и опровергая затем им же выдвинутые возражения. Платой ценил геометрию как в высшей степени «способствующую развитию мышления»; но и геометрия должна быть благодарна Платону, мышление которого, бесспорно, «способствовало развитию геометрии». И несмотря на отсутствие у Платона четких указаний как на общие правила логического вывода, так и на те основы, которые следует положить в фундамент математической науки, роль его в выявлении строя математики как своеобразной «логической игры» никак не может быть преуменьшена.
Заслугой Платона является не только тщательная разработка общих принципов дедуктивных рассуждении, — нет, в своей попытке разработать полную систему мира Платон не прошел и мимо математики, обнаружив глубокое понимание специфичности ее структуры, ее «особенности», коренящейся в принципиально отличном от всех естественнонаучных дисциплин «строительном материале» математики, конструирующей свой мир не из реальных объектов, а из абстрактных понятий или «идей» (любимое слово Платона, являющегося отцом философского идеализма!). Более того, даже представление о невозможности корректного определения исходного материала математики, из которого она потом, руководствуясь внутренними своими законами, строит все другие интересующие ее образы, было, по существу, ясно Платону. Так в замечательных с точки зрения проникновения в суть математики пунктах «Мир умопостигаемый и мир видимый» и «Беспредпо-сылочное начало. Разделы умопостигаемого и видимого» одного из самых больших по объему и самых знаменитых диалогов Платона — «Государство» — говорится:
« — Ты знаешь, что те, кто занимается геометрией, счетом и тому подобным, предполагают в любом своем исследовании, будто им известно, что такое чет и печет, фигуры, три вида углов и прочее в том же роде. Это они принимают за исходные положения и не считают нужным отдавать в них отчет ни себе, ни другим, словно это всякому и без того ясно. Исходя из этих положений, они разбирают все остальное и последовательно доводят до конца то, что было предметом их разбирательства.
— Это-то я очень хорошо знаю.
— Но ведь когда они вдобавок пользуются чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена не на чертеж, а на те фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают только для четырехугольника самого по себе и его диагонали, а не для той диагонали, которую они начертили»9.
И все же главное, что дал Платон математике — это Аристотель (384 — 322 г. до н. э.). Хорошо известны расхождения Аристотеля со своим великим учителем (фразу «Платон мне друг, но еще больший друг — истина» знают даже те, которые понятия не имеют об обстоятельствах, при которых она была произнесена); известно, что Аристотель вынужден был бежать из Афин, опасаясь мести поклонников Платона; известно также, что в противовес платоновской Академии он организовал в Афинах собственную школу — Ликей. Но при этом сплошь и рядом сбрасываются со счета 20 лет, которые провел Аристотель в напряженной интеллектуальной атмосфере платоновской Академии, т. е. те годы, которые сформировали его как человека и ученого. Конечно, Аристотель, — бесспорно, один из самых глубоких мыслителей в истории человечества, — не мог некритически воспринимать все, излагаемое Платоном; гораздо более трезвый ум его не принимал мистических элементов в учении Платона; самое дорогое детище Платона — его теорию идей, Аристотель безжалостно критиковал, а там, где он соглашался со своим учителем, он сплошь и рядом дополнял Платона до такой степени, что тот мог бы и не узнать свои мысли. И все же объединяющего Платона и Аристотеля больше, чем разделяющего их; в частности, платоновские «принципы научности» Аристотель продолжил и развил построив на их базе глубоко содержательную теорию.
Аристотель хорошо понимал, что деятельность нашего ума не ограничивается одной лишь дедукцией; соответственно этому все науки он делил на индуктивные, базирующиеся на частных наблюданиях, и выводные (дедуктивные) у которые строятся на общих принципах в соответствии с установками Платона. Однако при этом Аристотель явно недооценивал значение индуктивных наук, даже за настоящие-то «науки» их не считая; именно с этим (а также со свойственной Аристотелю метафизикой, о чем мы еще скажем ниже) была связана резкая критика аристотельянства, например Роджером Бэконом (около 1214 — 1294) или Петрусом Рамусом (Пьер де ля Раме; 1515 — 1572):
9 См.: Платон. Собрание сочинений, т, 3, ч. 1, М., «Мысль», 1970, с. 319 — 320,
ведь ясно, что в ооласти естественных наук «дедуктивному» периоду должен предшествовать достаточно продолжительный чисто «индуктивный» период первоначального накопления знаний (так сказать, Ньютону должны предшествовать Тихо-Браге и Кеплер или Дарвину — Линней). Впрочем, и в области математики «доказательным рассуждениям» предшествовал период конкретных наблюдений над числами и фигурами — причем здесь «индуктивный» период растянулся на ряд тысячелетий, захватывая все научные достижения вавилонян или египтян.
Все внимание в «Органоне» Аристотеля (так назвал Андронник Родосский, выпустивший в середине I в. до н. э. первое Собрание сочинений Аристотеля, свод его трактатов, посвященных логике и строению наук; это название и этот свод, объединяющий довольно разнородные сочинения, сохранились до наших дней) посвящено именно выводным наукам, образцом которых признается математика (в первую очередь — геометрия) более того, само слово pavrjpa для Аристотеля зачастую является синонимом любого точного знания. При этом строение «выводных наук» Аристотель описывает с редкой тщательностью и полнотой.
Всякую «выводную» науку образуют, по Аристотелю, определения фигурирующих в этой науке понятий и предложения, устанавливающие свойства этих понятий; при этом основное содержание науки составляют цепочки следующих друг за другом предложений. Вопрос об о п р е -делениях беспокоил Аристотеля мало: утвердившийся на века аристотелевский принцип определения новых понятий рекомендует выделять их указанием «ближайшего рода и видового отличия» (например, «ромб — это параллелограмм с равными сторонами», а «квадрат — ромб с одинаковыми углами»: здесь «параллелограмм» соответственно «ромб» — это ближайший «род», а равенство сторон или углов образует то «видовое отличие», которое и задает рассматриваемый новый вид). При этом Аристотель, разумеется, понимал, что подобный процесс сведения одних понятий к другим не может продолжаться бесконечно: ну, хорошо, пусть, далее, «параллелограмм — это четырехугольник с двумя парами параллельных сторон», «четырехугольник — это многоугольник, имеющий четыре стороны», а «многоугольник — замкнутая несамопересекающаяся линия, образованная последовательностью отрезков, каждые два соседние (а также — первый и последний) из которых имеют общую вершину», но где-то ведь все равно придется остановиться, ибо бесконечный ряд понятий анализировать невозможно.
Учение о «категориях», к которым, по Аристотелю, в конце концов сводятся все без исключения понятия, не особенно вразумительно и является самым слабым местом аристотелевской системы; ничего особенно дельного не добавили к нему и бесчисленные последующие комментаторы Аристотеля, даже столь великие как Гегель или Кант. Но достаточно конкретно мыслящий Аристотель сам понимает некоторую неясность в своей трактовке категорий; поэтому он, скрепя сердце, позволяет в каждой науке устанавливать «свои категории», т. е. свой список исходных понятий: «так в геометрии, — пишет он, — мы должны принять существование небольшого количества вещей, а именно точек и (прямых?) линий». При этом основные понятия, по Аристотелю, должны быть непосредственно понятны (интуитивно ясны?), что и позволяет (или делает необходимым) обойтись беЗ их определения; они должны быть также достаточны для обоснования по описанной выше схеме всех остальных понятий данной науки.
Гораздо более, чем определения, заботят Аристотеля предложения, совокупность которых и составляет основной костяк «выводной» науки. Классификация предложений Аристотеля ясна: все предложения он делит на «выводные», справедливость которых устанавливается сведением их к уже известным предложениям (аристотелевские
двсоргцыата) и (процесс сведения теорем к более простым тоже ведь должен иметь конец!) основные или исходные, принимаемые без доказательства (аЕгрората). От аксиом при этом Аристотель требует, чтобы они были непосредственно очевидны, что позволяет (или делает необходимым) не давать им доказательства; наряду с этим предполагается, что аксиомы достаточны для дальнейшего логического построения всей науки и (характерное для глубины аристотелевской мысли требование!) «аподиктичны», т. е. совершенно необходимы для построения данной науки и потому никак не могут быть отброшены (из последних двух требований родились современные условия полноты и независимости аксиоматики).
Однако если деление всех предложений на теоремы и аксиомы представляется Аристотелю достаточно ясным, то сам процесс вывода новых предложений из известных ра-
нее по своей сложности не идет ни в какое сравнение с системой образования определений — и этому-то процессу логического вывода и посвящено основное содержание «Органона». Не отличавшийся особой скромностью Аристотель писал даже, что по общей теории доказательств он «не нашел решительно ничего, что было бы сказано ранее, а разработал ее самостоятельно путем продолжительных и трудных изысканий» (он действительно потратил на разработку соответствующей теории десятилетия). Впрочем, это заявление не совсем соответствует истине: вопросы логики занимали греческих ученых и до Аристотеля, и нельзя сказать, что он возводил грандиозное здание своей «силлогистики» на совсем уж пустом месте. В первую очередь здесь должна быть указана славившаяся своей логической требовательностью философская школа элейцев (ее название происходит от города Элея на берегу Адриатического моря в Южной Италии, где проживали основатель школы Парменид и его любимый ученик Зенон). Парменид (V в до н. э.), впечатляющий портрет которого дан в диалоге Платона, стремился к строгому логическому обоснованию всех высказываемых положений; от него, как будто, идут наши логические законы противоречия (ничто не может быть одновременно истинно и ложно) и исключенного третьего (всякое утверждение либо истинно, либо ложно). Проживавший в VI в. н. э. в Афинах (а позже — в Иране) христианин-киликиец Симпликий сообщает даже (со ссылкой на уже упоминавшегося выше Евдема),что Парменид впервые начал строить философию на логической основе, тогда как «прежние же (мыслители) высказывали свое мнение без логических доказательств». Зенон в своих знаменитых софизмах демонстрировал метод приведения к абсурду; этот метод высоко ценил Платон, неоднократно ссылавшийся как на «эталонный» образец чистой дедукции на доказательство иррациональности уТГ («предположим, что У2“ рационально — и далее показывается, что это предположение приводит к абсурдным выводам). Заметим, здесь, же, что именно критика элейцев, облаченная в форму парадоксов Зенона, породила типичную для древнегреческих ученых метафизику, отказ от рассмотрения каких бы то ни было текущих процессов, якобы недоступных для научного анализа, и ограничение одними лишь застывшими «состояниями» (вспомните знаменитый вопрос Зенона: «можете Вы указать, где находится кончик летящей стрелы?»).
Но, разумеется, подобные более или менее частные моменты не идут ни в какое сравнение с обстоятельнейшей «силлогистикой» Аристотеля, поставившего перед собой задачу подробного описания не только процесса составления новых определений, но и (несравненно более сложного!) процесса доказательства новых теорем: недаром все ученые, обращавшиеся вслед за Аристотелем к теории доказательства (и в том числе — Кант и Регель) подчеркивали, что до них после Аристотеля в этой области не было достигнуто решительно ничего. Следует, впрочем, указать, что, по существу, вся теория Аристотеля (если исключить принадлежащую ему классификацию высказываний, сегодня относимую к учению о кванторах) связана с обсуждением свойств логического отношения следствия, связывающего (или не связывающего) два высказывания, и путей доказательства того, что два высказывания связаны этим отношением; «исчисления высказываний», как такового, у Аристотеля не было. Можно предполагать, что это исчисление, — не без влияния Аристотеля, разумеется, — было создано в так называемых мегарской и стоической школах древнегреческой философии, от которых до нас, однако, не дошли никакие письменные источники.
Таким образом, к IV в. до н. э. (и даже гораздо раньше) можно было со всей определенностью сказать, что математика сложилась; задача состояла в том, чтобы эту четко очерченную дисциплину развивать и дополнять. В этом отношении успехи наследников Аристотеля были весьма значительны, — но саму эту задачу все же никак нельзя сопоставить по масштабу с грандиозной задачей создания математической науки. Из следующих за Аристотелем ученых надо в первую очередь назвать Евклида Александрийского (365 — около 300 г. до н. э.) и (несколько более позднего по времени) представителя бывшей «Великой Греции» знаменитого Архимеда Сиракузского (287 — 212 до н. э.): первый из них составил «ортодоксально аристотельянский» свод математических знаний, включавший основные достижения предшествующих ему математиков, в первую очередь — пифагорейцев, Евдокса и Те-этета, а второму мы обязаны самыми впечатляющими из триумфов греческой науки. Третьим великим представителем александрийского периода греческой математики был создатель развернутой теории конических сечений (эллипс, парабола, гипербола) Аполлоний Пергский (около 260 — 170 до н. э.; Перга — город в Малой Азии).
Название «александрийская» для представляемой всеми этими математиками научной школы объясняется тем, что все они были тесно связаны с александрийским Музеем — основным научным заведением эллинистической эпохи: Евклид преподавал в Музее, Аполлоний там учился, Архимед, видимо, часто бывал в Александрии и систематически переписывался с александрийскими учеными (в частности, с Эратосфеном).
При всем том для нашей темы все эти знаменитые ученые особого интереса не представляют: можно сказать, что, в противоположность Аристотелю или Платону, «метаматематикой» (наукой, изучающей те принципы, на которых базируется математика) они почти не интересовались (единственным исключением здесь можно считать Евклида, «Начала» которого составлены с подчеркнутым вниманием к общим вопросам строения математической теории). Но, безусловно, заслуживает быть отмеченным характерный для всех древнегреческих ученых высочайший уровень математической абстракции и безукоризненность дедукции: так, идущая, видимо, от Евдокса общая теория «величин», отголоски которой явственно слышны в несколько даже озадачивающих первых аксиомах (не постулатах, а именно аксиомах!) Евклида, родственна самым современным подходам к этому понятию (ср., например, со статьей А. Н. Колмогорова «Величина» в последнем издании Большой советской экциклопедии). Замечателен также и ев-доксов метод исчерпывания, сущность которого сводилась к исключению из решения интеграционных задач каких бы то ни было бесконечных процессов и предельных переходов: эти процессы использовались как эвристическое средство для нахождения ответа, но окончательное обоснование полученного с их помощью результата было уже чисто «финитным», не включавшим никаких сомнительных (с точки зрения Зенона — Аристотеля) процедур. При этом главную роль в предложенных Евдоксом построениях играла специально им для этого введенная аксиома, ныне называемая аксиомой Архимеда: Архимед широко пользовался методом исчерпывания, а значит и этой аксиомой, нисколько, впрочем, при этом не скрывая, что он заимствовал эту аксиому у Евдокса. Наконец, разработанная Евдоксом и Теэтетом теория отношений отрезков была настолько близка к относящимся ко второй половине XIX в. теориям вещественного числа, что хорошо знакомый с античной наукой немецкий математик Р. Липшиц (1832 — 1903) даже спрашивал в одном письме Рихарда Дедек и н да (1839 — 1916) о том, что, собственно, нового содержит дедекиндова теория «сечений» (теория иррациональных чисел) по сравнению с построениями греческих геометров.
Таким образом, можно с полной определенностью указать как довольно узкие временные рамки создания математической науки (от VI до IV в. до н. э., причем на IV в. падает уже только чисто словесное оформление созревших ранее концепций), так и место, где произошло это событие (Древняя Греция; конкретнее — Иония, «Великая Греция», Афины). При этом уровень строгости и глубина понимания характерных особенностей математической науки были здесь таковы, что вновь достигнуты они были, пожалуй, лишь в европейской науке XIX столетия (об этом мы еще скажем ниже). В самом деле, разумеется, отчетливость, с которой, скажем, Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 — -1716) осознавал общую идею аксиоматики и «абстрактного» построения математической теории ни в чем не уступала ясности мысли классиков античной науки; однако лейбни-цевская же практика, его манипулирование с несколько сомнительными «бесконечно малыми величинами», правила действий над которыми базировались лишь на интуиции, а вовсе не на законах арифметики или логики, резко противоречили «канонам строгости» свойственным Евклиду или Архимеду. Лейбниц писал, что «универсальная математика — это, так сказать, логика воображения», что предметом ее изучения является «все, что в области воображения поддается точному определению» — но он только мечтал об «универсальной математике» как онауке будущего. Лейбницу принадлежит постановка задачи о закреплении аристотелевой схемы «выводной науки» в формализованных построениях «исчисления математических предложений». Однако хоть на этом пути он и добился определенных частных успехов (не оказавших, впрочем, никакого воздействия на дальнейшее развитие науки, ибо построенные Лейбницем фрагменты логического исчисления его не удовлетворили и потому не были им опубликованы), — решить эту задачу и довести тем самым общую схему Аристотеля -г- Евклида до уровня математической теории (метаматематики) суждено было лишь ученым XIX — XX вв.
KOHEЦ ГЛАВЫ И ФPAГMEHTA КНИГИ
|