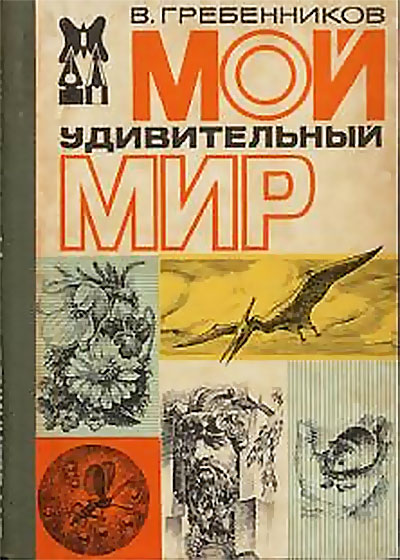Полный текст книги
Виктор Степанович Гребенников известен как основатель первых в нашей стране микрозаповедников и заказников полезной энтояофауны. Главная идея его новой книги, как и предыдущих, — охрана Природы. Не прожектерствовать, не пустословить, а конкретными повседневными делами исключать насилие над Природой — к этому призывает ученый. Вся книга проникнута беспокойством за судьбу Природы и замечательных ее творений.
Иллюстрации автора
ОГЛАВЛЕНИЕ
Немного о себе
Голоса поднебесья
Дилептусы.
Гостья из космоса
Нетерпеливая ветка
Весну олицетворяющие
Сибирские первоцветы
Кое-что о Солнце
Комок земли
Трое в царстве птиц
Поющий перьями
Зеленое привидение
На заливных лугах
Золотоглазые эльфы
Странные пассажиры
В микрозаповеднике
Вокруг тени
Охотники за древностями
Они охраняли мой город
Легкокрылые кочевницы
Кукушкины слюнки
Семья в букете
Паутина и Луна
Минутка
Еще о Солнце
Властелины неба
Встреча
Гроза тлей
Цветут в октябре луга
Глаза
Цепочки на снегу
Хомячок Мишка
Фрося
Чудесные кристаллы
Феерии зимних небес
Ночное «знамение»
Наблюдение полярного сияния 25 — 26 марта 1946 г.
Странные голоса болидов
Кипарисы на окне
Мои зеленые друзья
Находке — сорок миллионов лет
Ночь на поляне
Сперва я узнал В. С. Гребенникова как художника. И был зачарован его рисунками. С кусочков ватмана на меня глядели, летели и мчались необыкновенно яркие живые создания, в острых ракурсах, с очень своеобразными и динамичными позами, выразительными и по-особенному осмысленными физиономиями. Казалось, чтобы увидеть и понять их, художник сам превратился в крошечное существо, побывал в джунглях трав среди маленьких насекомых в их необыкновенно разнообразном и многоликом мире, разыскал там героев книг, которые ему предстояло иллюстрировать, подружился с ними и вдохновенно, с родственным вниманием и теплотой зарисовал их прямо с натуры.
И что удивительно — ни в одной из этих почти фантастических зарисовок ни разу ни в чем не была нарушена строгая научная достоверность. Мы же, энтомологи, очень придирчивы к самым мелким деталям, по которым удается отличать друг от друга множество видов насекомых.
Гребенниковские рисунки просты и вместе с тем сложны. Выполненные в разной технике, с разных моделей, они, вместе с тем, настолько своеобразны, что узнать их можно легко и сразу.
Он не ограничивался только одними иллюстрациями к книгам. Художник делал почти невероятное. Он ставил на мольберт полутораметровые холсты и писал на них портреты своих любимцев прямо с натуры. Яркость и гармония красок, сказочный блеск нарядов его натурщиков, живость их поз, иллюзорно-убедительная объемность поражали посетителей его выставок в Москве, Ленинграде, в Доме ученых Академгородка, в краеведческом музее Новосибирска. Так насекомых еще не изображал никто, и никто так не открывал для широкого круга зрителей почти неведомый мир малых существ, таящий в себе столь много загадочного.
Потом я узнал В. С. Гребенникова как новатора-ученого. Будучи директором детской художественной школы в маленьком
сибирском городке Исилъкуле, он впервые в стране организовал заказник для насекомых-опылителей, потратив на это новое дело немало труда, энергии и сил своего, не особенно крепкого, здоровья. Пример Гребенникова оказался заразительным. О его микрозаповеднике вскоре узнала вся страна, и повсюду стали возникать такие же заповеднички для разнообразной мелкой живности, главным образом ради замечательных трудолюбцев, неоценимых опылителей растений — шмелей и одиночных пчел.
И наконец я узнал в В. С. Гребенникове писателя-натура-листа. Его книги «В стране насекомых» и «Миллион загадок»
были такими же, как и рисунки. Образность, динамизм, увлекательность повествования умело сочетались в них с глубоким знанием природы и научной достоверностью. Подкупала еще и простота, а главное, искренность и откровение, без которых творчество неизбежно увядает и чахнет. Было еще в них сочетание знания природы с точностью изображения ее.
И вот теперь новая его книга. Она удивительна. В ней автор ведет с читателем задушевный разговор о широком и многокрасочном мире своих увлечений, рассказывает не только о живой природе, но и об искусстве, астрономии, оптике и многом другом, но это только свое, самим пережитое и прочувствованное.
Талантливый художник, натуралист, умелый рассказчик, человек большой души и щедрого сердца, неиссякаемой энергии и любознательности написал маленькую энциклопедию, соорудил красочный калейдоскоп, очень верно назвав его «Мой удивительный мир». Мир, в котором он открыл удивительное в том, мимо чего мы проходим равнодушно, не замечая богатства окружающей нас природы, той самой, которую мы обязаны беречь и познавать.
НЕМНОГО О СЕБЕ
Из-за этой главы, вернее предисловия, долго задержалась работа над книгой: очень не люблю писать о себе. Сознаюсь, что делал это против охоты, почти против воли. Но иначе, увы, ничего не получалось. Упорно «не лезли» в один переплет слишком уж разношерстные наблюдения, мысли, воспоминания, мечты, идеи художника, и биолога, и педагога. И даже... астрономические наблюдения.
Но постараюсь не злоупотреблять временем и терпением читателя.
Сейчас я работаю в Сибирском научно-исследовательском институте земледелия энтомологом — изучаю насекомых. Основное мое дело — эксперименты по охране, разведению и хозяйственному использованию шмелей и диких одиночных пчел — ценных опылителей множества нужных человеку растений. На этом увлекательнейшем поприще много лет был «любителем-одиночкой», теперь руковожу группой молодых энтомологов.
В ходе экспериментов по «спасению» шмелей и диких пчел родилось у нас еще одно дело, новая форма охраны природы — «микрозаповедники» для мелкой полезной живности. Первый такой участок для ее охраны удалось организовать в 1969 году в совхозе «Лесной» Омской области, второй — в Воронежской, третий — под Новосибирском. Это — мои детища, мои заветные уголки. С некоторыми обитателями микрозаповедников вы познакомитесь на страницах этой книги.
Коротко о второй своей профессии. С детства любил рисовать мелкую живность — насекомых. Много лет работал в клубах оформителем, руководителем изостудии; организовал в городе Исилькуле Омской области в 1961 году детскую художественную школу (кстати, первую в Западной Сибири — ближайшие к нам такие школы были тогда лишь в Красноярске и Свердловске), в которой более десятка лет был
преподавателем и директором. Кисть не бросаю и по сей день — то иллюстрируя популярные и научные книги, то готовя экспонаты для выставок, связанных с охраной природы, а вЛ основном для музея агроэкологии и защиты растений, который по моей же идее организован под Новосибирском, в научном городке Сибирского отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина — СО ВАСХНИЛ.
Сибиряком я — с начала войны. Довелось пожить и на Урале, и в Средней Азии, и в Горьком, и под Воронежом, и на Украине. Но как-то так складывалась жизнь, что все дороги приводили снова в Сибирь, скорее всего потому, что именно тут прошла моя юность — счастливая и горькая, романтическая, голодная и тревожная юность грозных военных лет. И считаю, что если сумел сделать что-то полезное, то это тут, в Сибири.
А детство мое прошло в довоенном Крыму. Там моя родина, которую я люблю нежно и трепетно и которую часто-часто вижу во сне. Последние годы вообще не могу без нее: с нетерпением жду отпуска, и самолетом — чтобы не терять ни часа — туда, в страну моего детства, которое, как мне теперь стало казаться, почему-то все продолжается...
Мне, как, наверное, и всякому человеку, в чем-то повезло, а в чем-то и нет. В раннем детстве я был хилым и болезненным, может потому, что был «поздним» ребенком, а может и потому, что меня, единственного в семье, слишком опекали, берегли «от улицы», то есть от воздуха, солнца, товарищей, пичкали лекарствами и сугубо «детской» пищей.
Зато наш огромный дом был набит всяким чтивом: старыми и совсем старинными книгами и журналами, модными в те поры толстенными «бесплатными приложениями» к ним; одних многотомных энциклопедий было четыре! И массой интересных, тоже старинных, вещей — от музыкальных шкатулок и ружей с шитыми бисером ремнями до огромных шкафов и буфетов с вычурной резьбой, бездонные недра которых были полны тайн. Даже на чердаке нашего дома, в чуланах, в сараях — всюду были книги и журналы.
Особенно любил читать о природе, приключениях, путешествиях. Сочинения Брема, Фабра, Геккеля, Фламмариона и других натуралистов прошлого, к великому счастью, тоже были в нашей домашней библиотеке.
Это в полном смысле культурное (хотя и несколько однобокое в смысле «уклона» в уже ушедшую к тому времени дореволюционную старину) наследие я получил от своей матери. Что же касается отца, то он как бы параллельно открывал мне совз
сем иной мир. Талантливый механик, конструктор-самоучка, автор множества изобретений с необыкновенно широким диапазоном применения (арбалеты, пишущие машины, станки для насечки напильников, аппараты для добычи золота и многое другое) — всеми этими качествами он не мог не повлиять на меня. Мастерская отца занимала отдельный большой флигель во дворе — с дизельным движком, трансмиссионным валом у потолка и ремнями от этого вала, вращающими всевозможные большие и малые станки. Все они, даже очень сложные, были сделаны собственными руками отца — начиная от огромных станин и кончая винтиками с тщательно отполированными головками.
И я столь же рано научился держать в руках молоток, отвертку, напильник, как, вероятно, научился читать. А чуть позже неплохо орудовал паяльником, зубилом, рукоятками суппорта токарного станка. С тех пор мастерю все, что могу и что нужно для дела и для дома, сам. И вообще считаю: для нормального развития человек должен быть как можно ранее приобщен к ручному творческому труду. Иначе он потеряет многое-многое, и потом это уже не наверстать.
Отец мой окончил всего три или четыре класса сельскопри-ходской школы, но был очень грамотным человеком: помню изрядную пачку вырезанных из журналов его стихов, в том числе многочисленных сонетов, книжечку, изданную Таврическим издательством, — «Фата-моргана. Разсказъ» — и большие альбомы «С. И. Гребенниковъ. Метрическия ноты. Система автора», весь тираж которых почему-то лежал у нас дома, видимо не найдя потребителей или будучи изданным «не ко времени» — в Крым пришла революция.
Между прочим, плюс ко всему отец настойчиво изобретал вечный двигатель самых разных конструкций; увы, ни одна из них не работала...
Еще мне очень повезло в том, что вырос я в окружении всякой живности. Рядом с нашим двором была кузня, где некий дядя Максим подковывал лошадей. На лошади же развозил воду в большущей бочке старик турок в красной феске, оглашая улицу громким «Воды, вода», и, пока взрослые наполняли бачки и ведра, можно было подойти к серенькой лошадке водовоза, погладить ее, потрогать шелковистые теплые губы.
Каждый вечер мимо нашего дома проходило стадо. Это сейчас тот район города, где я рос, теперь почти центр Симферополя (рядом с вышкой телевидения), а тогда это была далекая окраина, и ее жители говорили: пойти в город... Так вот, по улице нашей, освещенной багряным светом закатного солнца, заглушая шуршанием множества копыт протяжные голоса муэдзинов с видневшихся отсюда минаретов и даже звон трамваев, доносившийся с недальней остановки со странным названием «Кантарка», неторопливо шествовали величавые коровы: серые, пестрые, красные, черные; козы тоже всех мастей, лобастые барашки. А спереди вышагивал мудрый бородатый козел с фантастически изогнутыми рогами — вожак этого разношерстного табуна. Стадо растекалось по переулкам и тупичкам...
У нас был большущий зеленый двор — целый мир, населенный собаками, курами, цесарками и еще бог знает кем. Лучшими друзьями моими из них были, разумеется, собаки. Сейчас мне остро не хватает четвероногих домочадцев. И не потому, что живность нужна мне как биологу. Твердо убежден: без общения с домашними животными, опять же главным образом в детстве, любой человек теряет что-то очень и очень ему необходимое, быть может сам того не зная.
Совсем близко от нас, через балку, виднелось мелкохолмистое плато, которое мы, ребятишки, называли «зеленая горка»: с многочисленных его бугров, поросших скользкой травой, можно было съезжать на фанерках как на салазках, а в ложбинах между холмами играть в разбойников; тут я собирал и насекомых. Но уже тогда знал, что холмистое плато было ничем иным, как покрытыми толстым слоем земли руинами знаменитого Неаполя Скифского — пышной столицы государства скифов, которая процветала не менее шести веков подряд как раз настыке двух эр — «до нашей» и «нашей».
Да и не только Неаполь Скифский, у стен которого мне довелось родиться и вырасти, — все здесь и в пору далекого детства, и даже сейчас дышит историей. В нескольких десятках шагов от моего Фабричного спуска — табличка: «Переулок Скифский», а по другую сторону, столь же близко, небольшое здание, где в гражданскую войну была ставка командюжфронтом, и на мемориальной доске выбито: «В этом доме в ноябре 1920 года жили Михаил Васильевич Фрунзе, Климент Ефремович Вороши-
лов и Семен Михайлович Буденный». Несколько десятков шагов к западу — красивое старинное здание бывшего «физмата» того самого университета, который окончил основоположник советской ядерной физики академик И. В. Курчатов... Эго только ближние к моей коротенькой улице исторические памятники; сколько же их чуть дальше! И все это, как я теперь понимаю, тоже не могло не повлиять на мое воспитание.
А вот художников в нашем роду не было. Отец, правда, отлично чертил — без этого конструктору нельзя. Все произвел дения искусства казались мне почти волшебством, совершенно недоступным, но они и помогли мне стать художником — репродукции в журналах и энциклопедиях, выставки картин, на которые водил меня отец и которые всякий раз буквально потрясали мое воображение. И еще очень помогла мне в этом, как я теперь понял, архитектура — в Симферополе было немало старинных
зданий, очень непохожих друг на друга, то строго величавых, то богато украшенных скульптурой. И я счастлив, что, несмотря на массовую застройку-перестройку, весь город до сих пор не теряет свой особый, неповторимый, милый моему сердцу «симферопольский» облик.
Вот вкратце о том, что именно и когда толкнуло меня на «художественно-биологическую» стезю. Почему же в биологии я предпочел насекомых, подробно написано в моих книгах «Миллион загадок» (дважды выходила в Новосибирске — в 1968 году и, в дополненном виде, в 1980-м) и «В стра-
не насекомых», вышедшей в Москве в издательстве «Колос» в 1979 году.
К сожалению, ни в искусстве, ни в биологии мне не удалось получить официального образования, и за моими плечами только десятилетка — семь классов в Крыму и еще три — в Омской области. Страстно хотел учиться дальше, но не получилось. Тем более что отец обладал еще одной причудой, увы, не столь безобидной, как конструирование перпетуум-мобиле, — он был убежденным противником высшего образования...
И все-таки я счастлив, что с раннего детства был приобщен одновременно и к природе, и к технике, и к искусству, и к литературе. И хотя многое с того времени изменилось вокруг меня и во мне самом, все равно даже сейчас меня окружает удивительный, почти фантастический (просто он нам примелькался!) мир — с его голубыми небесами, зелеными цветущими полянами, величественно-пурпурными закатами, с его тысячезвездными ночами. И с поразительными творениями человеческого гения — произведениями искусства, достижениями науки и техники.
И планета эта, кроме нас, людей, населена интереснейшими существами. Они — парящие, жужжащие, плавающие, порхающие — так и просятся то на полотно, то на страницу рассказа. Но хочется поделиться с читателем не только впечатлением от увиденного, но и своей тревогой о том, что на глазах моих — в течение каких-нибудь пяти десятилетий — этот дивный мир изрядно пострадал от пока еще не очень разумного, мягко говоря, хозяйствования людей на планете.
И продолжает страдать еще более.
И потому нужно сделать все возможное, чтобы сохранить этот мир. И животных (вплоть до самых мелких), и растения, и «неживую» природу. И все то, что сработано красивого и полезного людьми.
Были в моей жизни и годы, когда я, как мне тогда казалось, навсегда оставил биологию. Началось с оптики: любил собственноручно делать штативные лупы, микроскопы, проекторы. Однажды смастерил зрительную трубу с увеличением за сто раз. Получился неказистый, но вполне годный телескоп. Проверить точность установки его объектива требовалось по точечному источнику света — звезде. Вечером навел свою трубу на яркую зеленовато-белую звездочку. Гляжу, объектив сбит: звезда видится длинным эллипсом. Покрутил трубу, чтобы отметить, куда наклонить объектив, — но светлый эллипс звезды оставался в прежнем положении, не хотел поворачиваться вместе с инструментом.
Что за оказия?
Тогда я укрепил телескоп, чтобы ему не передавалось дрожание рук, и точнее отфокусировал окуляр. Оказалось, светлый эллипс имеет еще и две дырочки по бокам. И обожгла догадка: Сатурн! Светлый диск планеты окружен знаменитым кольцом, внутри которого, по бокам от Сатурна, просвечивает темное небо — удивившие меня «дырочки».
И пошло-поехало... Оттесняя учебники десятого класса и пособия по энтомологии, на моем столе быстро росла горка книг по любительской и научной астрономии, звездных атласов и карт, а в старом сарае, служившем мне обсерваторией, один за другим появлялись самодельные приборы: рефрактор с увеличением в 120 раз, инструменты для наблюдений Солнца, фотографирования его пятен, для фотосъемок Луны, три самодельных кометоискателя (короткофокусные светосильные трубы с широким полем зрения), приспособления для наблюдений метеоров и многое, иное. На рисунке — звездная карта, на которую мною нанесены метеоры, падавшие в ночь на 9 марта 1946 года; без труда прослеживаются два радианта — точки небосвода, откуда вылетали частицы, принадлежавшие к двум метеорным потокам. Недавно я был приятно удивлен: эти мои юношеские наблюдения и сейчас служат, как мне сообщили из Горького, «классическими образцами для начинающих любителей».
Небо «затягивало» меня стремительно, страстно, не давая передышки. Что я только не наблюдал! Нет на небесах наших широт ни одного квадратного градуса, куда бы не был направлен объектив моих нехитрых приборов. Спутники Юпитера, лунные кратеры, солнечные пятна, факелы, двойные и переменные звезды, туманности и кометы, зодиакальный свет и метеоры, болиды и телеметеоры (слабые, видные только в телескоп) , полярные сияния и затмения Солнца — вот далеко не полный) список новых для меня тогда объектов наблюдений.
Добытое, в течение долгих ночей я отсылал в астрономические обсерватории, откуда, в свою очередь, получал ценные советы. Из Горького, Душанбе, Казани, Москвы, Ашхабада приходили мне в Исилькуль письма крупных астрофизиков, книги, журналы, инструкции. Скажу без обиняков: добросовестности и точности наблюдений, столь нужной теперь мне в биологии, меня научили такие видные астрономы, как И. С. Астапович, А. М. Бахарев, В. А. Бронштэн, К. К. Дубровский, В В. Федынский. Правда, ни одного из них мне не довелось видеть — средством общения была переписка. Но благодарен им я буду до конца дней своих — эти люди помогли мне открыть Небо, полюбить Науку, увидеть Мир.
Первая моя научная публикация называлась «Радиант метеорного потока Лирид» — плод многих бессонных ночей с непрерывным, до утра, глядением в окуляр. Статья эта была напечатана в № 56 «Астрономического циркуляра» Академии наук СССР за 1946 год.
Первая же выставка, где экспонировались мои рисунки, была тоже не биологическая, не художественная, а астрономическая в Московском планетарии, в 1947 году. Посвящалась она 25-летию коллектива наблюдателей Московского отделения ВДГО — Всесоюзного астрономо-геодезического общества. Рядом с материалами по истории этого коллектива энтузиастов, наблюдениями, книгами, инструментами там выставили шесть рисунков участков Луны, сделанных мною в Исилькуле с натуры в самодельный телескоп черным карандашом.
Конечно, меня интересовали не только «миры иные», но и наша земная атмосфера (ведь только сквозь нее астрономы тех времен могли наблюдать Небо), и устройство моих же собственных глаз... Все это надо было успеть кроме школы, а после ее окончания, кроме работы в должности помощника энтомолога Исилькульской малярийной станции, которую, наверное, никто уж не помнит — малярия в Сибири давно побеждена. И ведь вот как-то успевал, хотя спал в течение суток всего ничего, отсыпаясь в ненастную погоду, когда Небо было недоступным для наблюдений. Да и сейчас, несмотря на большую занятость «основными делами», нет-нет да и выкрою время для астрофизики — науки моей юности.
О болидах, зодикальном свете и других небесных объектах и явлениях я расскажу ниже.
И в мире животных и растений, и в мире звезд и комет, и в изобразительном искусстве очень многое для меня,разумеется, осталось неизведанным, непознанным — а значит, таинственным. И это, наверное, даже хорошо. «Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, — ощущение таинственности» — эти слова принадлежат великому Эйнштейну.
В заметках и очерках, из которых составлена эта книжка, не удалось соблюсти «порядок и хронологию» и свести все к одной теме. Но иначе не получалось: либо несколько «узких» по теме книжечек, в которых про себя ничего и не вставишь, либо некое подобие мемуаров, по-моему весьма нудных и запутанных. И решил: пусть будет вроде того, как на художественной выставке: большие и малые картины, этюды, наброски, сделанные автором в разные годы, разными материалами и с разных моделей, развешаны в одном зале не по порядку, а по цвету, тону, «по пятну», как говорят художники.
Прошу же за мной, читатель!
ГОЛОСА ПОДНЕБЕСЬЯ
В далеком уже 1959 году, где-то в марте (еще повсюду лежал глубокий снег — дело было под Исилькулем Омской области) я вышел за город с этюдником. Работал тогда в клубе оформителем, но много писал красками и для себя — «для души». Забрел я довольно далеко. Погода была неровной: дул влажный ветер, на солнышко то наползали высокие полупрозрачные слоистые облака, то бегущие внизу рыхлые низкие тучи закрывали солнце совсем. Свет менялся каждую минуту, и я начал подумывать, а не вернуться ли назад.
Как вдруг услышал неведомо откуда летящие странные звуки. Они напоминали не то гудки, не то крики людей, не то голоса музыкальных инструментов. Непонятно было, откуда лились эти звуки, то отрывистые, то сливающиеся в мягкие переливчатые аккорды низкого тона, торжественные, странно волнующие, пока негромкие, но наполняющие весь небосвод. Ощущалось лишь, что летят они откуда-то очень издалека.
Я внимательно всматривался в небо с небольшими, постоянно меняющими форму голубыми прорывами между облаками, в леса, синеющие у горизонта, в ближние рощицы-колки, темные, но уже чуть подернутые едва заметным предвесенним багрянцем. Увы, источника странных звуков, становившихся то совсем исчезающе-тихими, то более явственными, я не находил.
Но вот стало ясно: звуки приближаются. И летят определенно сверху.
Я снова поднял голову и, жалея, что со мною нет бинокля, до боли в глазах стал внимательно разглядывать то место в небе, откуда — это уже совершенно точно было слышно — излучалась странная музыка.
И вот из-за облака, летящего, оказывается, совсем низко, показалось несколько величественных белых птиц с длинными шеями.
Лебеди!
Завороженный, я смотрел туда, где из-за облака, идя неровной шеренгой, выплывают все новьЛе и новые птицы, тяжело взмахивая широкими крыльями. Их было не менее двух десятков. Мгновение — и луч солнца, пробившись, между облачных слоев, скользнул по стае,, на несколько десятков секунд ярко высветив ее. И огромные птицы засияли удивительно, белым светом на фоне открывшегося в тот же миг куска синего-синего неба, напоминая что-то давным-давно виденное, знакомое, волнующее.
Стая спускалась ниже, делая крутой полукруг. Может быть, потому повернули птицы, что вдруг внизу, под облаком, заметили одинокого человека — кто мол его знает, не с ружьем ли? А скорее всего, лебеди, сбившиеся с курса в низких облаках, увидели наконец землю, и штурман-вожак, не обращая ни малейшего вниманий на чудака, маячащего внизу, наверное, дал команду: разворот направо и затем летим прямо, к северу.
А я вспомнил! Почти точно такую же картину видел и раньше: это — репродукция полотна художника Рылова «В голубом просторе», с юности всегда волновавшая мое воображение:
белые, освещенные солнцем лебеди, вытянув шеи, пробиваются сквозь упругий, холодный синий воздух над тоже синим морем к виднеющимся вдали островам. Моря, правда, сейчас здесь нет, вместо него — бескрайняя Снежная степь с темнорозовыми островами-колками, но впечатление то же самое, что и от картины Рылова — .волнующее, радостное, свежее, зовущее к какой-то неведомой людям свободе, которой одарены лишь птицы, — тысячекилометровой свободе бескрайних синих просторов...
Увы, мало ли что может подуматься на природе засидевшемуся в жилище горожанину под впечатлением неожиданного небесного зрелища! Дальний перелет могучих, но уже явно уставших птиц, еще не завершен — им надо добраться на родину, на далекий Север, где надлежит начать и завершить труднейшую, полную опасностей работу: устроить гнезда, отложить яйца, вырастить потомство. А к осени подготовить его к обратному перелету, скорее всего, не менее трудному.
Долго стоял я, провожая взглядом лебедей. Исправив курс, птицы перестроились, и из беспорядочной стаи получилась четкая вереница с вожаком-штурманом впереди. Над лебедями неслись мокрые весенние облака, то открывая синие прогалины, то закрывая их, а белые птицы, с трудом преодолевая сильный встречный ветер, улетали все дальше и дальше. И совсем уже растаяла вдали лебединая стая, но еще долго слышались трубные волнующие крики. А посреди безлюдных снежных равнин все еще стоял, задрав голову, одинокий человек...
Шли годы. Перейдя сначала в художественную школу, а затем на научную работу, я гораздо чаще стал бывать в поле, получив возможность подолгу и пристально разглядывать небеса. Правда, основные объекты моих наблюдений, насекомые, живут больше на земле и растениях, но весною и осенью я то и дело шарю по небу и невооруженными глазами и в бинокль, в надежде увидеть перелетных птиц. Иногда везет: то пролетит стайка уток или чаек, то чибисы мелькнут своими бело-черными крыльями, то с тонким свистом пронесется в голубой выси десяток-другой острокрылых стрижей.
А вот крупных птиц на глазах моих — всего за несколько десятков лет — стало на перелетах меньше: гусей, лебедей, орлов. Журавлиные клинья, которых в сороковых годах в этих краях было великое множество — иной раз они шли буквально «волна за волной», — стали с годами встречаться все реже и реже, и размеры стай быстро убавлялись, а затем и пропали совсем.
Может, журавли сменили маршрут? Как бы то ни было, небеса окрестностей Исилькуля лишены ныне еще одного непередаваемо романтичного явления, бывшего столь обыкновенным лишь немного десятков лет тому назад.
Ну а что лебеди? Увы, после той встречи лебедей мне довелось видеть всего дважды: один раз на дальнем озере заметил две пары белых птиц, да еще раз, тоже весной, низко-низко пролетел надо мною один лебедь.
С тех пор — как отрезало, будто на свете не было таких птиц, а то, что я видел в пятьдесят девятом году, будто было в полузабытом фантастическом сне.
И я теперь с тревогой думаю: неужто моим детям и внукам, и вообще людям новых поколений, живущих в этих краях, не суждено увидеть необыкновенное, волнующе зрелище — снежные голубые просторы, а над ними стаю белых ширококрылых птиц?
Или теперь летящих в синем небе лебедей можно будет «видеть» только на репродукциях картины Рылова?
Где вы, лебеди?
ДИЛЕПТУСЫ
Они удивительно похожи на только что описанных сейчас птиц — своей длинной, изящно изгибающейся шеей, каким-то благородством и неторопливостью в движениях. Когда животное плывет, кажется, будто оно совершает медленный, тщательно отрепетированный, необычайно пластичный танец. Очень похож на лебедя красавец дилептус (таково его научное название), но когда понаблюдать его подольше, увидишь, что он может плавать и «хвостом вперед», и вращать своим телом во время движения, переворачиваясь и «вниз головой» и как угодно. И еще одна разница, пожалуй, самая существенная: дилеп-туса можно наблюдать... только в микроскоп. Дилептус — всего лишь инфузория.
Холодная, прозрачная вода на лесных опушках, полянках, в лесу уже впитала цвет прошлогодней опавшей листвы и оттого стала чуть золотистой. Под водой, на дне лужиц, зеленеют целехонькие листья земляники, тысячелистника, других лесных трав — они, оказывается, благополучно перезимовали под толстым слоем снега. Погрузив пальцы в студеную воду, выдергиваю несколько ярко-зеленых, совсем живых стебельков с листьями. Получился маленький букетик — то-то удивятся дома!
Из представителей животного мира мне сегодня встретилась в лесу лишь одна бабочка-крапивница, да еще несколько мух, едва пробудившихся от спячки: они грелись на солнышке на стволе березы. Но у меня в сумке банка с пластмассовой крышкой. Я зачерпываю из лужицы воду, поддев со дна немного земли со стебельками трав и прошлогодними побуревшими листьями. Потому что знаю: здесь, в весенних лужах, кипит невидимая жизнь.
Дома, у самодельного микроскопа, целая очередь: «Дай и мне посмотреть!» А посмотреть есть на что. Еще бы, в крохотной капельке — целый мир. Крохотные существа — круглые, продолговатые, хвостатые, рогатые пересекают поле зрения во всех направлениях, кружатся, прыгают, носятся в разные стороны... Широкие, как лапти, инфузории-стилонихии, так непохожие на изящную «туфельку», описываемую во всех учебниках, бегают взад-вперед на коротеньких ножках-ресничках. Шарообразные сувойки прикрепились длинными стебельками к частицам земли и энергичными движениями волосков-ресничек тянут к себе воду, в которой во множестве плавает пища инфузорий — крохотные бактерии. Легкий щелчок ногтем по микроскопу — нитевидный стебелек сувойки мгновенно свернулся в тугую
спиральку, отбросив инфузорию далеко назад. Проходит секун да, другая... Все спокойно, и пружинка начинает медленно распускаться. Еще немного, и снова у шариков-сувоек закипают водоворотики: маленькому организму нужно бесперебойное питание!
Какая-то громадина, медленно крутясь, неуклюже проплывает мимо. Это бурсария, одна из самых крупных инфузорий наших мест. Бурсария — хищница: туфельки-парамеции, да и прочая водяная мелкота, — ее излюбленная пища. Этого гиганта мира простейших можно видеть и невооруженным глазом: бурсария достигает в длину иногда добрых полмиллиметра.
Но каковы дилептусы! Длинным отростком на конце тела — ни дать ни взять лебединая шея — дилептус медленно размахивает вокруг и плывет себе, этакий горделивый и медлительный... Зачем мизерному микроорганизму, который разглядывают лишь немногие ученые-протистоло-ги , такая красота? Но вот грациозная «шея» инфузории коснулась плывущей куда-то по своим делам кругленькой одноклеточной водоросли. И та прилипла к «хоботу». Мгновение, и «хобот» прижимает незадачливую путешественницу к туловищу дилептуса, где сбоку уже широко открылось отверстие — рот инфузории. Еще немного, и жертва уже просвечивает сквозь тело дилептуса: инфузория поглотила свою добычу.
...Еще не зазеленела листва на деревьях, а в весенних лужах — только приглядеться — уже кипит жизнь, микроскопическая, но удивительно многообразная.
ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА
Космический век... По ночному небу, если всмотреться в него внимательней, во всех направлениях плавно движутся звездочки — искусственные спутники Земли. Снимки невообра-
Про тистолог — зоолог, изучающий простейших: инфузорий, амеб, радиолярий, эвглен и близких им животных. Это не оговорка, и пусть читатель не удивится, что дилептус назван животным в начале этой главы. Инфузории, бабочки, рыбы, львы — все это животные. Но часто приходится читать в газетах и даже журналах неверное: «о животных и птицах» (вместо «о зверях и птицах») или «насекомые и животные»... Заблуждающимся советую полистать тома «Жизни животных».
зимо далеких небесных тел, сделанных «в упор» с автоматических межпланетных станций, уже примелькались нам на страницах журналов и газет. Казалось бы, никого теперь не удивишь какими бы то ни было космическими явлениями и объектами. Тем не менее по-прежнему таинственный и безбрежный космос нет-нет да и одарит нас величественной и захватывающей картиной.
...9 апреля 1970 года в три часа ночи меня разбудил трезвон будильника: нужно было произвести очередное наблюдение крохотных насекомых — мелиттобий. Дело в том, что они вели себя столь странно по отношению не то к магнитным полям, не то к каким-то неведомым космическим явлениям, что мне пришлось взять их под круглосуточный контроль, осматривая посудинку с ними каждые три часа. Подробно история эта описана в моем очерке «Загадка мелиттобий», который опубликован в альманахе «На суше и на море» за 1979 год; кратко ее суть такова: насекомые активно сползались к торцам магнитной подковки, поставленной на сосуд с мелиттобиями, в разное время суток. Но магнетизм был ни при чем. Одна из причин оказалась «вполне космической» — мелиттобий любят тепло, а утрами магнит просто нагревался лучами Солнца; в другое время суток, как оказалось, феномену «помогал» я сам, беря ненароком магнит в руки и тем самым его нагревая...
Не включая свет, я подошел к окну. Глянул в него и, тут же забыв про насекомых, замер, пораженный.
На черном апрельском небе, между крупнозвездным зигзагом Кассиопеи и величественным крестом Лебедя, сияла огромная яркая комета. Словно луч феерического неведомого прожектора-гиганта рассек наискосок как раз ту сторону ночной Вселенной, куда выходило наше окно.
Я был вне себя от волнения. Еще бы: занимаясь в юности астрономией, я целых три года с трудом выискивал с помощью звездного атласа редкие слабые, невидимые невооруженным глазом кометки, о которых сообщали «Астрономический календарь» и «Астрономический циркуляр». Их и не хотелось называть кометами — как бы чуть туманные звездочки, еле-еле заметные хоть и в собственного изготовления, но довольно сильный телескоп. И я любо-
вался в те поры лишь изображениями больших комет в старых книгах.
Вы видите здесь один из таких рисунков кометы 1680 года, так поразившей безвестного летописца, что он занял изображением целый лист рукописи: лучистая звезда с длинным веерообразным хвостом, многочисленные «пряди» которого вычерчены автором по линейке, вероятно для того, чтобы показать и яркость, и равномерность его сияния. Слева и справа от хвоста — лишь два слова высокой прямой вязью: КОМЕТА ВЕЛИКАН. Рисунок выведен старательно, в отличие от беглой скорописи на обороте листа с описанием этого необычного объекта: летописец явно старался его не упустить и описать побыстрее; возможно, что рисунок делал другой мастер.
А вот и еще записи о той же комете.
«В лето 7189 декабря против 15 числа с первого часа нощи явилася великая комета на западе в подобие светлого столпа, исподний край по-видимому широтою в аршин копиеобразен или подобие пирамиды, а высотою видимою от земли, аки до неба, и шел ровно со звездами на север».
Этот бескорыстный летописец старался быть точным, не поддаваясь эмоциям и панике, как другие его современники, например, тоже безвестный автор рукописи «Царствование и жительство царя и великого князя Феодора Алексеевича». Тот дал явлению, так сказать, политическую окраску, «свалив» на небесное тело не только смерть царя, но и восстание стрельцов:
«Царю Феодору провозвестиша смерть звезда комета и кровопролитие в людях еще последе бысть... Елавы посекатися от восставших вой регементов стрелецких».
Конечно, потому потрясали кометы воображение людей, что были очень редкими — не всякому смертному удается увидеть такое. И я смирился с мыслью о том, что оказался одним из именно таких невезучих.
И вот она передо мною во всей своей красе — комета Беннета (названная так в честь ее первооткрывателя — так уж повелось у астрономов; вышеупомянутая комета 1680 года «безымянная», тогда еще не было такой традиции). Такие кометы, временами возвращающиеся к Солнцу, называются периодическими. Это был как раз очередной «визит» небесной гостьи в окрестности нашего светила.
Комета была поистине гигантской. Роскошнейший газовый хвост ее, вполне «классических» форм, простерся на многие миллионы километров — его только-только закрывала ладонь вытянутой руки. Хвосты комет — освещенные пылинки и газы, выделившиеся от разогревания Солнцем кометного ядра и отталкиваемые «солнечным ветром» (световым давлением) в сторону, противоположную Солнцу.
Я тут же, в цредутренней полутьме, сделал набросок небесного чуда. А в ночь на 14 апреля выполнил вот этот «портрет» кометы Беннета, конечно, не с помощью специального астрографа, а просто карандашом и красками. Голова кометы находилась тогда в созвездии Андромеды, конец хвоста — в Лебеде.
В те дни комете были посвящены, к сожалению, очень уж кратенькие «незаметные заметки» — да и то в немногих газетах. Одно из таких сообщений в столичной газете почему-то называлось «Комета над Ташкентом» — получалось, что только ташкентцам посчастливилось видеть небесное диво, в то время как комета была отлично видна во всем северном полушарии и уж, разумеется, по всей нашей стране. Вот что значит плохое «мирознание» журналиста — человека, обязанного сначала узнать предмет как следует, а уж потом рассказать о нем миллионам людей. И, наблюдая комету, я был в большой обиде за своих земляков-омичей, за всех остальных — большинство их, не зная о чуде, крепко спало в эти ночные часы, так и не увидев феерического зрелища, которое невозможно забыть никогда.
Прошло много ночей перед тем, как небесная гостья,
покрасовавшись в окрестностях Солнца и попозировав немногочисленным земным астрономам, снова ушла от нас в таинственные дали Вселенной.
И только теперь, спустя много лет, решаюсь поведать читателю о том, что апрельскими ночами я был одним из счастливейших людей Земли — созерцателем великолепной гигантской кометы...
НЕТЕРПЕЛИВАЯ ВЕТКА
Весна удалась дружной, и лишь в самых укромных уголках леса прячутся от тепла ноздреватые серые сугробы. Тихий, безветренный день. Влажный воздух насквозь пронизан солнцем.
Деревья совсем еще голые, но чувствуется, что внутри каждого ствола, каждой ветки, переполненных тугой энергией, идет напряженная, упоительная работа. Это животворные соки мате-ри-земли, втягиваемые в холодной глубине корнями, бегут-текут к почкам, уже заметно разбухшим.
И вроде бы это трудное движение сока внутри деревьев и кустов посылает вокруг почти осязаемые волны, сливающиеся в некое силовое поле. Оно растеклось по колкам и рощицам, густо и радостно вибрирует на полянах и опушках, по которым я иду неторопливо, и передает мне какое-то особое не то чувство, не то предчувствие.
Нет, в самом деле, что такое со мною? Странное волнение нарастает, и я ловлю себя на том, что незаметно прибавил шаг, даже бежать хочется. Неужто и в самом деле я подвергаюсь каким-то неведомым излучениям? Что за мистика?
И вдруг все проясняется само собой: зайдя за большой ивовый куст, я одновременно и увидел, и обонял неожиданное лесное чудо.
Одна из веточек ивы-краснотала проснулась намного раньше всех. Мохнатые сережки ее уже вовсю развернулись и ярко сияют золотисто-зеленым светом с румяным переливом — словно гроздь сказочных фонарей горит на деревце!
И от ветки той действительно идут волны, но не каких-то неведомых флюидов, а обыкновенного цветочного аромата: удивительно свежего, терпко-сладкого запаха ивовых сережек, особенно волнительного после долгой сибирской зимы.
Так вот что я учуял за много десятков шагов до этой веточки — ее дивный, бодрящий дух! Но там, вдали, он был таким слабым, что я воспринял его лишь подсознательно, ощутив при этом только какое-то «странное» волнение.
И все-таки это было удивительным: голые, темные, мокрые стволы и ветки вокруг (для непосвященного — мертвый лес), и среди них всего только одна ветвь цветет-сигналит своим призывным светом и запахом, тянет к себе, как в сказке.
Но не меня зовет к себе та веточка, я здесь случайный прохожий. И золотое свечение, и дивный аромат, и сладкий нектар, капельки которого застыли у основания множества трепетных светлых тычинок, из которых составлена сережка, — все это предназначено для ранневесенних насекомьгх-опьглите-лей: шмелей, одиночных диких пчел, бабочек.
Увы, пока никто из них не учуял призывного запаха, не увидел золотых соцветий. Насекомые еще спят в своих зимних убежищах. Это не менее чем через неделю все ивовые кусты здешних мест заполыхают сотнями тысяч фонариков-сережек, загудят от великого множества насекомых. А сейчас никого из них еще нет...
Очень уж рано расцвела нетерпеливая веточка!
ВЕСНУ ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЕ
А вот и бабочки пробудились после сибирской долгой зимы. Первыми — крапивницы: еще не растаяли снежные сугробы, а крапивницы уже грелись на стволах деревьев, складывая и раскрывая свои яркие многоцветные крылья. Вслед за ними появились другие. Идешь по весеннему лесу, все еще вокруг серое, невзрачное, и вдруг среди голых ветвей замелькает неожиданно ослепительный солнечный зайчик. Это лимонница, одна из наиболее ранних и наиболее красивых бабочек средней полосы: широкие остроконечные крылья ее окрашены в чистейший светло-желтый цвет удивительно чистого оттенка.
Кто-то решил отведать весенного лакомства — березового сока, но сделал это неумело, грубо, без жалости к дереву. Из глубокой желтой раны струится по стволу прозрачная березовая кровь. Но не пропадать же лесному добру! — и у лакомства собралась большая компания. Тут и мухи, и какие-то мотыльки, и разные другие насекомые. Вдруг скользнула по белому стволу тень, и на кору садится бабочка, неожиданно крупная и необыкновенно красивая. Почти черные матово-бархатные крылья ее оторочены белой каемкой и рядами голубых пятнышек. Это — траурница. Она очень осторожна, пуглива: подходить к ней нужно медленно-медленно, не делать резких движений... Бабочка развернула свой свернутый спиралью хоботок, и он превратился в тонкую прямую ниточку. Приставила хоботок к влажной от сока коре, сосет, а сама от удовольствия поводит своими роскошными крыльями.
Далеко не безразличен для человека удивительный мир бабочек. Кто не слышал про козни капустных белянок и совок, яблонной плодожорки, сибирского и непарного шелкопрядов, могущих уничтожить многие гектары леса? Не так давно открыли бабочку, которая питается... кровью. Она прокалывает хоботком кожу! Зато что вы скажете по поводу единственного поставщика натурального шелка — тутового шелкопряда?
В то же время ученые бьют тревогу по поводу быстрого снижения численности — особенно в районах интенсивного земледе-
лия и в пригородных зонах — таких красивейших и безвредных бабочек, как парусники махаон, аполлон, подалирий, как многие перламутровки, павлиний глаз, некоторые виды голубянок.
...Маленькие яркокрылые жители нашей планеты уже порхают в пробуждающихся лесах, рощах и колках, олицетворяя приход весны. Между прочим, все три лесных красавицы, о которых речь шла вначале, совсем безвредны для, человека: их личинки питаются лесными растениями и сорняками. Эти трое — лишь первые вестники. Скоро их будет много-много: так называемых дневных бабочек лишь в одной Западной Сибири двести двадцать видов.
СИБИРСКИЕ ПЕРВОЦВЕТЫ
В различных местностях подснежниками зовут совсем разные цветы. Притом далеко не везде называют подснежниками первоцветы, те самые, что цветут первыми-первыми, пока еще снег не сошел. На юге Западной Сибири, к примеру, подснежниками именуют горицвет и сон-траву. Хотя зацветают они, когда снега, как говорится, «след простыл», все вокруг уже зе-леным-зелено, а многие травы уже отцвели и рассеяли свои семена.
А ведь первым в этих краях зацветает другое чудесное растение. На пустырях, глинистых и песчаных склонах в лесу, на старых покинутых муравейниках, даже у карьеров и на отвалах строек растет эта неприхотливая травка, незаметная летом, — листья ее, сидящие на длинных слабых черенках, распластались по земле и потому закрыты другими травами.
По нескольку дней в году, ранней-ранней весной, с заурядным растением, у которого прошлогодние листья давно отгнили и засохли, а новые еще и не думали нарождаться, происходит чудо. Еще лежат в кустах сугробы, а порой налетают снежные тучи, из которых сыплет как в феврале, еще не набухала на деревьях ни одна почка, и корни их еще не оттаяли в земле, насквозь промерзшей за долгую зиму, — как на темных, лишь с поверхности чуть оттаявших склонах, казалось бы еще безжизненных (ведь рядом лежит снег), вдруг загораются неведомо откуда взявшиеся ослепительно-желтые солнышки цветков — десятки, сотни. Они поднялись на крепких толстых стеблях, стоящих совершенно вертикально и окрашенных в изысканный цвет — светло-зеленый с темно-розовым.
Расцвела мать-и-мачеха...
Наверху каждой мясистой розовой колонки — цветок. При первом взгляде он напоминает цветок одуванчика (оба растения — в одном семействе сложноцветных), но он вдвое меньше размером, и все в нем как-то тоньше, изящней, чем у его ядреного летнего родственника. Лепестки мать-и-мачехи узенькие, словно лучики, нарисованные у сказочного солнышка тонкой кистью, а сам цветок светлее одуванчика, но не просто желт. Для одуванчика художнику подойдут, в основном, краски под названием «кадмий желтый средний», для весенней же красавицы скорее всего подошли бы «кадмий желтый лимонный» или, еще лучше, «стронциановая желтая».
Но в моих этюдах даже эти краски не передавали истинный образ цветка. В его желтом сиянии скрывалась какая-то загадка. Увы, проходили весны, отцветала мать-и-мачеха, и цветовая тайна сказочных солнышек оставалась для меня неразгаданной.
Между прочим, почти такую же тайну скрывало от меня еще одно существо, появляющееся каждую весну в эту самую пору. Это — бабочка-лимонница с ее сияюще-желтыми крыльями, в которых было что-то очень похожее на цветение мать-и-мачехи, будто примесь какой-то неведомой краски, непохожей на обычную желтизну.
Оказалось: и в том и в другом случае в основной желтый тон цветка или крыла, видимый нами, «подмешана» изрядная доза ультрафиолетового цвета, не ощутимого человеком. Лишь очень немногие люди способны уловить «кусочек» широкой ультрафиолетовой полосы спектра — тот, который прилегает к видимому нами фиолетовому концу радуги; люди эти описывают его как некий желто-лиловый, похожий на сияние электросварки или ртутной электролампы.
А вот насекомые этот цвет видят отлично. Это доказано, например, на многочисленных опытах с медоносными пчелами. Бабочкам-лимонницам он нужен, несомненно, для привлечения друг друга. Цветки же мать-и-мачехи «сигналят» ультрафиолетом ранневесенним насекомым-опылителям, которых в эту пору в природе еще очень немного. Но сила этих лучей такова, что иная куртинка мать-и-мачехи буквально жужжит от крылатой живности, слетевшейся издалека к цветкам.
Кого тут только нет! Серые земляные пчелки-галикты и коллеты, грузные яркие шмелихи... Особенно шикарны андрены, крупные земляные пчелы: представьте себе пчелу с блестящечерным, отливающим синевой брюшком, темными непрозрачными крыльями, а на спинке — красновато-оранжевый теплый ворс. Копается неторопливо такое изысканно одетое существо в сказочно-желтом цветке, и не поднимается рука с сачком на это живое чудо.
Равно как и не поднимается моя рука сорвать этот дивный цветок, даром что местами их очень много и что заготовляют мать-и-мачеху килограммами в лекарственных целях.
Удачней всего получались у меня этюды с мать-и-мачехи, когда в лимонную акварель добавлял я немного флуоресцирующей желтой гуаши. Но, к сожалению, флуоресцирующие краски не выходят при последующем цветном перефотографировании такого этюда на слайды — для воспроизведения в книжных иллюстрациях.
Волшебные солнышки мать-и-мачехи как бы открывают парад сибирских первоцветов. Еще несколько дней, и расцветают нежно-кремовые таинственные колокольцы сон-травы, миниатюрные фиалки, лучистые темно-желтые горицветы-адонисы, крохотные бокальчики медунки, мерцающие красными, лиловыми, синими искрами в уже зеленеющих травах и то и дело склоняющиеся под тяжестью тружеников-шмелей.
Не говоря уж, конечно, о буйстве ив.
Великое множество тальников, верб, ракит, ветел, лозняков, красноталов, черноталов (все это — ивы!) уже оделось в праздничный наряд пушистых медовых сережек.
И слетаются к ним тысячи пчел за первым весенним взятком. До чего же хорош ивовый мед — душистый, светлый, текучий. Не зря ждали этой поры пчеловоды: именно на ивах заготавливают крылатые труженицы и свежую пергу — консервированную пчелами ивовую пыльцу, высококалорийный белковый корм для своих личинок.
А сколько других насекомых уже слетелось к душистым солнечным ивам — бабочек, наездников, ос, диких пчел, цветоч« ных мух, шмелей!
Ивы в цвету... Если бы мне предложили придумать новый календарь, то я, не задумываясь, положил бы начало года на апрель — пору цветения первых ив. Потому что всегда именно с этого момента начинается настоящая весна — новый рабочий год и природы, и человека.
КОЕ-ЧТО О СОЛНЦЕ
Стоит ли здесь лишний раз повторять, что вся жизнь на планете, все дела земные, да и сама Земля — от Солнца? И в научных трудах об этом писано-переписано, и в рассказах о природе, и в стихах, и в песнях. И все равно я не могу не сказать несколько своих собственных слов о нашем добром старом светиле. Причем хочется сделать это именно здесь, в «весенних» главах книги, потому что мы особенно радуемся солнцу именно весной.
Когда человек впервые в жизни видит Солнце? Ответить трудно: слишком мал тогда человек. Но некоторые из своих самых первых впечатлений, связанных с самим Солнцем, я все же помню.
Днем, как надо тому и быть, никакого Солнца я не замечал, хотя на родине моей оно ярче яркого — не зря, наверное, говорят и пишут «солнечный Крым»... А вот к вечеру «незаметный» днем солнечный шар становился вполне видимым: пары нагретых за день морей, окружающих наш небольшой полуостров, делали воздух густым и на просвет полупрозрачно-красным. Светило, склоняясь к горизонту, становилось темно-багровым, почти «приемлемым» для зрения. И я, помнится, с крыльца нашего дома подолгу глядел на него — высоких зданий тогда здесь не было, а вместо улицы, такой узенькой сейчас, была обширная пустынная площадь с одноэтажными домиками по одной стороне. Лишь с начала 30-х" годов застраивающаяся площадь преобразовалась в улицу — Фабричный спуск. Это рядом с симферопольской телевышкой — мне повезло, я родился и вырос в самой высокой части города, откуда видны были и закаты и многое другое.
Закаты были всегда разными — из-за облаков, всякий раз расцвечивающих вечернее небо то огненными, янтарными и лиловыми драпировками, то тончайшими золотыми кружевами, то как бы струями расплавленного металла, а иногда солнечный шар... менял свою идеально круглую форму, и с ним творилось что-то странное. Чем он ближе подплывал к горизонту, тем явственней чувствовались на нем неровности и вмятины. И похоже было, что светило терпит какую-то страшную беду: вмятины делались ужасающе-глубокими, бедное Солнце, стискиваемое неведомыми силами, становилось через несколько минут уже и не шаром. Это было нечто бесформенное, растекающееся на доли, с трудом удерживающие друг друга. Но вот злые силы брали верх, и от кривого помятого Солнца, колыхаясь, отрывался большой кусок, повисая в небе отдельно от светила...
Так было, однако, не всегда: нередко Солнце заходило за дальние холмы идеально или почти круглым. Но стоило появиться в небе дальнему морскому мареву, которое еще заранее угадывалось по густо-красной предзакатной мгле, повисшей вдали, как снова происходили таинственные метаморфозы. Солнце коверкалось, сжималось, разделялось на куски, перетекающие друг в друга, которые то снова сливались, то опять разрывались.
А наутро светило, «отдохнувшее и излечившееся», круглое и веселое, как ни в чем не бывало заливало своими щедрыми яркими лучами наш солнечный город...
Никто не мог мне толком объяснить, почему происходит с Солнцем такое. Мол, это «кажется»... (увы, такой ответ меня не удовлетворял). И вообще, смотреть на Солнце нехорошо, вредно. Вот в этом была несомненная правда: после созерцания солнечных вечерних метаморфоз в глазах долго плавали и прыгали целые стаи точно таких же солнц, только не красных, а ярко-зеленых, мешающих потом смотреть куда бы то ни было.
После я узнал, что называются эти пятна в глазах «остаточными образами», вызываются утомлением сетчатой оболочки глаза, где сфокусировано изображение яркого предмета, а если стоят они в глазах не секундами, а минутами, то произошла явная «передержка экспозиции», чего, разумеется, следует во что бы то ни стало избегать, чтобы не повредить зрение.
Для наблюдений Солнца нет ничего проще, как заготовить пару-другую самодельных светофильтров — засвеченных фотопленок.
Кстати, с помощью таких нехитрых приборов можно наблюдать не только солнечные затмения, когда Солнце закрывается Луной, но и крупные солнечные пятна.
Но вернусь к «исковерканным» закатным солнцам. Что же это было?
А ничего страшного и ничего исключительного. Само светило, разумеется, идеально круглое. Но земная атмосфера, слой которой наиболее толст для солнечных лучей при закате (показано на схеме) , не всегда равномерно убывает к вы-
соте — более плотные участки атмосферы, насыщенные водяными парами, сильнее искривляют солнечные лучи. Получается примерно так, как если бы смотреть на предмет через очень неровное стекло, повернутое сильно наискосок, или через толстостенную неровную бутыль: форма предмета сильно искажается.
Плотные слои воздуха, чередуясь с более редкими, смещаются; «движется» вниз и само Солнце (то есть Земля вращается в противоположную сторону). Оттого край светила то кажется ступенчатым, то вообще от Солнца как бы отрываются куски.
Жители тех мест, где часто происходит подобное явление, - говорят: «Солнце играет». К сожалению, обитатели нынешних больших городов большей частью лишены возможности не только наблюдать «игру» Солнца, но и любоваться обычными закатами. Солнце здесь садится за дома или же, если видно подальше, меркнет в густом «вареве», или, точнее, «гареве» (хотел написать «мареве» — да вот подвернулись два похожих, но, кажется, более точных слова...). И состоит то «варево-гарево» из заводских и автомобильных дымов, уличной и дворовой пыли, чада и многого иного: поскольку в русском языке все же подходящего общего слова не нашлось, то мы пользуемся для обозначения испорченной таким образом городской атмосферы коротким, чужим и неприятным словом — смог, «открытие» которого принадлежит англичанам. Через смог, увы, не увидишь ни закатного, ни восходящего Солнца...
Зато я много десятков лет имел возможность наблюдать, а точнее созерцать, спокойно-величавые закаты западносибирских степных равнин — конечно же, вдали от городов. «Игры» Солнца здесь никогда не бывает: багровое, чуть потускневшее светило тихо и торжественно скользит наискосок ровному, как море, горизонту. Ни одна вмятинка не нарушит идеально круглый солнечный шар. Но нередко случается: приблизится Солнце к линии горизонта и из круглого делается овальным, точнее, эллипсоидальным: слегка, а то и очень заметно приплюснутым сверху вниз.
Однажды толщина такого солнечного «огурца» — я замерил карандашом на вытянутой руке — была вдвое меньше его дли-
как на рисунке, зато эллипс этот был идеальной формы. «Огурец» возлежал на линии горизонта и медленно ехал направо, делаясь все уже, но никак не желая спрятаться хотя бы краешком за Землю.
Все эти солнечные странности относятся к явлениям рефракции-искривлению и преломлению лучей в нашей атмосфере. «Самая главная» же из этих странностей, пожалуй, та, что закатное Солнце, по сути дела, уже опустилось за горизонт, а мы его все еще видим на небе. Так же как и Солнце восходящее: оно еще не взошло, а для нас вовсю сияет. Так что даже в дни весенних и осенних равноденствий фактические дни на несколько минут длиннее ночи... А поскольку у самого горизонта угол рефракции особенно велик, то нижний край закатного Солнца нередко как бы приподнят на несколько минут дуги больше, чем верхний — вот и получается не шар, а «огурец».
Считанных минут сибирских степных закатов мне редко когда хватало, чтобы написать этюд с натуры. И тем не менее, вооружившись заранее художественными принадлежностями и затаившись где-нибудь у бровки канавы или за кустом, я «ловил» закаты много лет. Увы, получилось лишь несколько удачных этюдов; один из них — на цветной вкладке.
...Я обещал написать о самом Солнце, а получилось — о явлениях в земной атмосфере. Но обещание свое я выполню обязательно, только несколько позже. Ибо сейчас давно уже пора, как говорится, «с небес — да на землю»...
КОМОКЗЕМЛИ
На огромном пространстве западносибирской лесостепи идет пахота. И поле, что раскинулось передо мною во всю ширь горизонта, — словно безбрежный темный океан со светлыми архипелагами березовых колков и островами зарослей ивняка. Густой, ровный рокот стоит над природой — пять могучих «Кировцев», голубых и оранжевых, легко и быстро управляются с работой, которой несколько десятилетий назад самым мощным тракторам тех времен хватило бы на много дней.
Словно корабли по воде, а не пахотные агрегаты с тяжеленными широкими плугами, курсируют-маневрируют «К-700» по полю. Над свежевспаханными далями курится под солнцем испарина — как бы легкий сизый дымок, а за самым дальним трактором поспевает едва отсюда видимая стая грачей. Наверное, птицы выклевывают из перевернутых пластов обильную добычу — куколок и личинок насекомых, червей, прочую живность.
Я тоже работаю со своим «комбайном», так на художничьем жаргоне зовется универсальный этюдник — ящик для красок, к которому приделаны три складных алюминиевых ноги, чтобы работать стоя. Решил запечатлеть свежевспаханное поле — вдали сине-фиолетовое, вблизи покраснее, поплотнее, — вкомпоно-вав сюда же несколько светлых островков-колков и оживляюще -яркие мазки новеньких «Кировцев».
Но до чего трудно писать пахоту — никак не дается мне сегодня отношение «пашня — небо» — то земля не в меру фиолетовая, то с небесами никак не слажу, а уж пока не взяты эти основные «большие» отношения — толку, знаю, не будет, хоть все мелочи до тонкости изобрази.
Но вот вроде «поймал» и цвет, и тон больших плоскостей — теперь бы успеть этими сложными замесями красок как можно быстрее закрыть на этюде небо и землю.
Однако что это? Почему трактор идет так близко к деревьям — направляется на угол живописного колка, уже обозначенного у меня на этюде? Так ведь недолго зацепить и деревья. Неужели не видит? Неужели не свернет?!!
Нет, не отвернул тракторист, хотя легкого движения руки было бы достаточно, чтобы плуги пощадили деревья.
Целая семья берез на краю колка дрогнула, закачалась, а крайняя, самая молодая березка — та, которую я, как знал, уже успел обозначить узкой светлой царапиной по краске, — тихо легла на пашню...
Словно этими самыми лемехами царапнули меня по самому сердцу.
Неужели нельзя было отвернуть?!! Конечно, очень сложны контуры полей, раскинувшихся между этих лесистых и кустистых кусочков западносибирской природы (посмотрите на рисунок «с птичьего полета»), и трудновато блюсти их конфигурацию из года в год, не приближаясь к кромке леса, но вот этот-то уголок вполне можно было объехать, не разрушив его и почти не сбавляя темпов работы.
Зачем же ты, механизатор, погубил еще один колок — маленький мир, пристанище для великого множества живности?
Нет, не могу больше работать над этюдом — и композиция пейзажа уже не та, куцая, и, главное, вконец испорчено настроение, а какая уж без вдохновения работа...
Чего уж теперь — быстренько побросать пожитки в свой «комбайн», подогнуть алюминиевые его ноги, ремень этюдника на плечо — и подальше, подальше отсюда.
Перешел знакомую рощицу — да лучше б я совсем сегодня из дому не выходил! Лес обпахан и здесь, не как в прошлом году — была оставлена опушка, — а к самой кромке: опушки той как не бывало, а на ее месте белеют вывороченные и сломанные корни, раздавленные ветки берез перемешаны с комьями чернозема.
Здесь тоже опушка леса была не совсем ровной — вот и «выпрямил» ее горе-механизатор...
Так, из года в год, вроде бы совсем понемногу спрямляя форму полей, но практически почти ничего не прибавляя к посевным площадям, человек обкрадывает сам себя — губит леса, играющие в этих краях незаменимую водоохранную (держат и копят влагу), ветрозащитную (ослабляют суховеи) и, конечно же, биологическую, роль: именно тут сохраняется и плодится разнообразная полезная людям живность, малая и средняя, а порой и крупная.
И делаются чудеснейшие сибирские колки с их живописными цветущими полянами, ягодными кулигами, грибными зарослями все более куцыми, «сжимаются», как бы усыхая — то потихоньку, то вдруг сразу на несколько метров, как в этот сегодняшний злополучный день, лишаясь главной своей защитной «буферной» зоны — опушек, уже, почитай, повсюду паханных- перепаханных.
И растет на тех бывших ягодных опушках нередко вовсе никакая не пшеница (не всегда подгонишь вплотную к лесу сеялку), а всякий сорняк — осот, щирица и прочая нечисть, расселяющая отсюда по осени тысячи и миллионы своих крохотных, но живучих семян.
А исконные луговые растения, что составляли разнотравную Целинную опушку, жившие до того в сложном, тесном, но очень ранимом содружестве, тут уж не появятся много-много лет, а скорее всего не появятся никогда — где им устоять против засилия нахальных осотов!
Засохнут и березки, сначала крайние, лишившись не только части своих корней, но и необходимого им ковра лесных трав, с которыми у них тоже давнее и тоже, увы, очень хрупкое содружество. И если колок небольшой, то через несколько лет ему — конец. Остается в таких случаях среди поля некое «гиблое место», или, говоря языком почвоведов, солодь. Да простит меня читатель за скучную и, увы, печальную цитату из учебника для сельскохозяйственных институтов «Почвоведение», где сказано про солоди, оставшиеся после колков: «,;.они длительное время находятся в переувлажненном состоянии, что исключает возможность своевременного проведения полевых работ. В большинстве случаев солоди целесообразнее оставлять под древесными породами, выполняющими роль полезащитных насаждений» (выделено мною. — В. Г.), то есть попросту говоря, не трогать колков плугом.
Проще и убедительнее сказано в Большой советской энциклопедии, в статье «Колки»: «К. играют полезащитную роль (чего уж лучше! — В.Г.). При распашке К. культуры на этих местах вымокают (чего уж хуже! — В. Г.)».
Удастся ли спасти этот ценнейший природный ресурс, эти чудесные, небольшие, пока еще многочисленные леса и лесочки, дарованные нам природой на огромной территории (посмотрите когда-нибудь с самолета, пролетая над этими местами!), но быстро исчезающие под натиском мощной техники, которая, фигурально выражаясь, пока что еще не очень подчиняется нашему разуму?
Кто знает...
Одно лишь можно сказать: искусственный колок, со всем его многообразием, со всем множеством растительных и животных организмов, со всеми звеньями сложнейших экологических цепей, создать пока невозможно. В лучшем случае получится рощица с сильно обедненным травяным и насекомьим миром...
Сел я на обочину вспаханного поля и обо всем этом крепко задумался. Долго так сидел, неприкаянный и вконец расстроенный. А потом машинально взял в руку комок земли, несколько часов назад оторванный лемехом от несчастливой опушки. Забрать его, что ли, на память о погубленном заветном уголке?
Поднял комок, повертел — увидел маленькую под ним пещерку. А в пещерке неожиданная находка — добрая дюжина жужелиц. Некрупные продолговатые жуки, некоторые черные, некоторые со слегка золотистым отливом, забились в небольшое подземное убежище. Отъявленные хищники, гроза множества вредителей (промышляют эти признанные энтомо-
фаги в основном по ночам) — сидят перепуганные в маленькой случайной полости. Представляю, какая была тут отчаянная паника, когда дерн, где они обитали, вдруг задрожал, заходил, встал дыбом, перевернулся; скольких их соплеменников здесь передавило! Уцелевшие, видно, обнаружили нишу от только что выдранного плугом корня — туда и набились бедолаги-жужелицы сразу нескольких видов. Да тут и я еще страху «а них нагнал, подняв комок, прикрывавший нишу.
Ну, как-никак, это «бригада» помощников земледельца уже не пропадет, а там, глядишь, наплодит себе подобных. Рассмотрю-ка повнимательнее глыбку земли, вырванную с целинной луговины — как-то не приходилось так вот внимательно наблюдать плодородный сибирский чернозем, впервые снятый плугом.
Да, действительно, это целый мир — сложный, своеобразный, живой, очень живой! Во-первых, ком насквозь и многократно пронизан корнями и корешками великого множества трав, на некоторых из корней — утолщения вроде клубеньков или маленьких картофелинок. Во-вторых, чьи-то ходы-тоннели пересекают комок во всех направлениях — то широкие, с толстый гвоздь, то совсем тонюсенькие, иные отделаны с величайшим тщанием, как бы обмазаны штукатуркой. Кто строил эти удивительные шахты, прокладывал линии «микрометрополитенов»?
Небольшая чешуйка земли, едва выступающая из корявого кома, что у меня в руке, вдруг шевельнулась, дернулась. Показалось? Да нет же, это жук-песочник, серо-черный, очень бугристый сверху — чтоб его не заметили враги на таких вот комьях земли. Посидит минутку неподвижно, слившись с грунтом, исчезнет из поля зрения всех соседей, а потом коротенькой, но быстрой перебежкой сместится на сантиметр-два...
Освобожу-ка я от завтрака — все равно он не состоялся — полиэтиленовый мешочек и унесу в нем кусочек этого удивительного мира домой, чтобы покопаться в нем поосновательней.
Только стал опускать комок в пакет, как мелькнула вдруг на поверхности его необычайно яркая крапинка. Пунцово-красная, она буквально сияет на темном фоне грунта. Частица краски? Нет, нет — «крапинка» движется, ползет!
Достаю из кармана пробирку (она на всякий случай всегда при мне), краешком ее горловины осторожно поддеваю находку с небольшой толикой земли, и пламенеющая живая частица скатилась в стеклянный сосудик. Дома рассмотрю в микроскоп — вот тогда и расскажу читателям поподробнее о «сверхкрасном» живом чуде.
Повесив на плечо этюдник, ненужный теперь и, наверное, потому ставший тяжелым и неказистым, бережно упаковываю комок в прозрачный мешочек. Теперь — домой.
По пути вспоминаю, что знаю о почвенных жителях. Наверное, и не перечислить всех, кто в ней обитает, перерабатывая опавшую листву и отмершие травы в плодороднейший гумус, кто обогащает почву кислородом, проделывая в ней вентиляционные ходы, кто вносит в нее азот, фосфор, микроэлементы... Одних лишь дождевых червей — этих признанных «пахарей» — может быть до сотни на квадратном метре. Это они, пропуская гумус через кишечник, превращают его в подобие жирной, но рассыпчатой гречневой каши, и такой чернозем состоит из отдельных крупных комочков.
А многоножки, моллюски, почвенные клещи, мелкие и мельчайшие земляные червячки, личинки великого множества насекомых! Да и не только личинки — здесь располагаются норки множества одиночных пчел и ос, убежища жуков, катакомбы многочисленнейших жителей нашей планеты — муравьев.
А не видимые глазом существа — коловратки, инфузории, амебы, водоросли, бактерии! Подсчитано, что живой массой микроорганизмов с одного гектара (площадка 100x100 м) можно загрузить целую колонну большегрузных автомашин; по меньшей мере одну из них придется «выделить» только лишь для бактерий. Подсчитано и «поголовье» мельчайших почво-образователей: на квадратном метре почвы, кроме бактерий, живет до полутора биллионов простейших, до двадцати миллионов червячков-нематод...
Столько жизни на квадратном метре почвы — до чего же богата наша земля!
А вот и другие данные. В одном-единственном грамме (подчеркиваю — грамме!) почвы живет от одного до десяти миллиардов бактерий (на Земле людей — менее пяти миллиардов), 36 миллионов актиномицетов — группы микроорганизмов, многие из которых питают растения азотом, миллион и более грибков, от нескольких тысяч до двух миллионов простейших. В одном грамме почвы!
Не правда ли, непостижимые, сногсшибательные цифры?
И именно потому, что почва так насыщена жизнью, в ней идет сложнейший круговорот веществ, поддерживающий ее плодородие. Так было сотни, тысячи лет — казалось бы, процесс вечный...
Но вот плеснули на этот квадратный метр какими-нибудь ядовитыми отходами, слили остатки горючего, обработали инсектицидом — химикатом для борьбы с вредителями — неразумно высокой дозой, и погибли мириады тружеников почвы, ее создателей и мелиораторов, накопителей и охранителей; нередко после этого из биологически активного тела почва надолго превращается в мертвую бесплодную субстанцию, почти шлак.
...Мой комок земли в стеклянной воронке. Над ним — электролампа, внизу — сосудик с крышкой, через которую пропущен носик воронки, как на рисунке. Под землей в воронку положен кусок марли, сквозь ячейки которой прошли бы мелкие обитатели почвы, но не просыпалась земля. Такой примерно прибор биологи применяют для изучения почвенной фауны: от яркого света и жары живность должна искать спасения внизу, уходить все глубже, чтобы в конце концов соскользнуть в стеклянную посудинку.
На ее дне, чтобы они не погибли от сухости, я кладу кружок черной толстой ткани, обильно смоченной водой. Черной — затем, чтобы мелкие подземные жители, большей частью светлые, были бы заметней. Уже вечер, включаю лампу над воронкой — до следующего дня.
...Утром в моей ловушке — ошеломляюще богатая живая коллекция почвенных обитателей, бежавших от света и сухости и просыпавшихся сквозь ячейки марли вниз, а теперь пестреющих на темном фоне влажной ткани.
Завожу посудинку с «уловом» под бинокулярный микроскоп — и в глазах рябит от немыслимого кипения жизни. Кого тут только нет! Ногохвостки — маленькие бескрылые насекомые различного цвета и облика, многие с прыгательной вилочкой на конце
брюшка; тихоходки , ложноскорпиончики — почти точная копия страшилы скорпиона, но крохотные и без ядовитого хвоста; малюсенькие многоножки; личинки множества видов насекомых...
Но больше всего — клещей. Это для меня не было неожиданностью. Давным-давно, еще и не читав книг по акарологии — науки о клещах — я как-то глянул на крупицу земли, сильно увеличенную, и пришел в изумление. И не мог не вставить в рассказ «Жители подземного царства», вошедший в книгу «Миллион загадок», которую как раз тогда писал, такие слова: «То тут, то там появляются почти не различимые человеческим глазом клещи. Я как-то видел их в микроскоп на комочке земли, взятой из подполья. Странным и зловещим был их облик — один из этих пигмеев был волосаторуким, другой — зубастым, третий — с угрюмым длинным хоботом...» Но я тогда был настроен на мрачный лад, того требовало содержание рассказа, и отметил у крохотных клещиков только «устрашающие» детали. Теперь вот тоже вижу перед собой в микроскоп таких же «зверей», но уже без того угрюмого настроя, гляжу и просто поражаюсь: вот передо мною невероятный, практически, неведомый людям мир, который чрезвычайно интересен и который несомненно заслуживает того, чтобы его знали многие.
А то ведь что получается: при слове «клещ» большинству из нас представляется что-то гадкое, противное, норовящее присосаться к коже и непременно заразить энцефалитом...
Почвенные же клещики — весьма и весьма далекие родственники известных нам лесных и пастбищных клещей, которые относятся к совсем другому отряду — иксодовых. Просто на русском языке не нашлось для них другого слова, и несколько отрядов членистоногих тоже названы (считаю, несправедливо) клещами...
Но приникнем опять к окуляру. В поле зрения микроскопа буквально кишат почвенные клещики разнообразнейших размеров, форм, окрасок — круглые, цилиндрические, прозрачные, желтые, коричневые, медленно ползущие и суетливо бегающие. И ведь все это — труженики почвы — сапрофаги (питаются отмершими частями растений) и хищники, поедающие первых; тельца и тех и других в конце концов тоже превращаются в гумус...
Есть среди них и вполне миловидные коротыши, и совершенно странные существа: верхний щиток тельца у некоторых распластан, расширен и торчит, подобно крыльям, в обе стороны.
Тихоходки — маленькие существа с восемью ножками, замечательные тем, что переносят холод до — 271° и жару до +160°.
Это так называемые орибатовые, или «крылатые», панцирные клещи, разделяющиеся на множество семейств. Одно из них — галюмиды — даже зовется «болыпекрылыми»: боковые выступы щитка — птероморфы (в переводе что-то вроде «крылообразно -стей») — особенно крупны, подвижно сочленены с телом и даже снабжены мышцами, что совсем необычно в мире клещей. Кле-щик с удовольствием «машет» этими крылышками, правда, не на лету, а во время пеших прогулок.
Глядя на это чудо природы, ученые призадумались: а не так ли вот возникли настоящие летательные крылья у дальних родственников клещей — насекомых? И не приведет ли дальнейшая эволюция орибатовых клещиков к тому, что через сколько-то сотен тысяч лет их потомки освоят воздушную стихию? Но возникает тревожная мысль: сохранит ли наша человечья цивилизация места обитания этих и многих других существ?
Можно было бы, не отрываясь от окуляров и не переставая восторгаться, глядеть на этот совершенно особенный мир и рассказывать о нем, рассказывать... Но — хватит. Сделав рисунок с самыми характерными «персонажами» таинственного племени почвенных клещиков, проверяю прогретый лампой сухой земляной ком — может быть, кто-то покрупнее не смог провалиться через марлю?
Так и есть! Там ползает, а точнее сказать, струится тоненькая, узкая многоножка. Это — геофил (в переводе — «земле -люб»), старый мой знакомый. Еще в детстве, переворачивая крымские камни при поисках жуков, я находил предлинных — до десяти сантиметров! — многоножек-геофилов. Не обращал на них внимания, а зря. Эти обитатели «подземного царства» на редкость интересны и внешностью, и повадками.
Достаю «живую ленточку» из воронки, выпускаю ее на лист бумаги. Ощупывая путь длинными усиками, геофил пускается в путь. Его ножки — по паре на каждом сегменте — переступают друг за другом этакими ритмичными волнами, будто посылаемыми каким-то весьма совершенным компьютером. В этом необыкновенном движении по листу бумаги исконный житель почвенных трещин и щелочек похож на какой-то миниатюрный железнодорожный состав, разумеется, «инопланетный»...
Сколько же «вагонов» в составе, то есть сколько сегментов в членистом теле многоножки? Слегка прижав стеклом, останавливаю подземного странника. Семьдесят три сегмента. Это значит — сто сорок шесть ног! Название «сороконожка» слишком, выходит, скупо для этого создания. А ведь иные геофилы нашей страны насчитывают до 177 пар ног...
Мне когда-то посчастливилось подглядеть сокровенное гео-филье таинство: многоногая длиннющая мама, обвив заботливо желтоватой лентой своего тела грудку яичек, насиживала их в маленькой подземной пещерке.
Я бы «а этом и закончил свой уже не в меру затянувшийся рассказ о жителях «комочка» с пашни, если б не вспомнил о красном существе, томящемся в моей пробирке. Вытряхнул его тоже на лист бумаги. Это была краснотелка — близкая родственница почвенных клещиков, не только безвредная для людей, но и полезная тем, что взрослые краснотелки этой группы — хищники-энтомофаги — охотятся за мелкими насекомыми. Глянул на нее в микроскоп — и не мог оторваться.
Это было что-то невероятное — этакая пышная-препышная плюшевая подушечка, но живая, на толстеньких ножках. Мягкая зверушка была столь пронзительно-красной, что самая чистая киноварь была бы бессильной для передачи этой сказки. Откуда такой цвет? Я переключил увеличение микроскопа на более сильное. Покровы краснотелки оказались состоящими из прозрачных мягких ворсинок; видимо, внутри них, и без того красных, происходило сложное отражение света, или же люминесценция — своеобразное оптическое явление, когда световые волны, преобразованные поверхностью предмета на молекулярном и атомном уровне, многократно усиливаются.
Иначе, чем объяснить то, что более или менее сносный этюд со своей новой сверхкрасной «натурщицы» я мог написать только с добавлением люминесцентных красок — тех самых, которыми теперь окрашивают бакены, дорожные знаки, некоторые ткани, отчего те делаются необыкновенно яркими. К сожалению, при воспроизведении в типографии такие цвета не получаются, и поэтому этюд, будучи помещенным в эту книгу, вышел просто красным... (См. цветную вкладку I).
ТРОЕ В ЦАРСТВЕ ПТИЦ
Никак не забыть одну давнюю весну, вернее картинку из этой весны, — в окрестностях того же Исилькуля Омской области.
Километрах в пяти на запад от него, за посадками совхоза «Плодопитомник», простиралось большое болото, звавшееся издавна Жуковским. Сейчас оно не существует: в целях осуше-
ния было окружено дренажной канавой и в считанные годы высохло, после чего там пасли скот; теперь это пустырь с весьма жалкой растительностью, только по остаткам кочек можно догадаться, что тут когда-то кипела жизнь.
А в ту весну — это было в начале шестидесятых годов — стаявший снег, как и каждой весной, намного расширял водные просторы равнинного Жуковского болота. Был тихий теплый день. Небо было так обильно наполнено светом, что уставали глаза, если на него долго смотреть. По небу носились стаи куликов, слаженно подставляя солнцу то верх спинок — и тогда вся стая делалась темной, то белые брюшки и нижние стороны крыльев — и над степным болотом словно вспыхивало белое облачко, отражаясь в спокойных водах.
Стремительно пролетали парами и стайками дикие утки — то маленькие головастые чирки, то крупные кряквы, и был слышен посвист их сильных острых крыльев.
Мы были тут втроем: я, сын Сережа и совсем еще тогда маленькая дочурка Оля. Трое людей в огромном царстве света и воздуха, в царстве воды и птиц. По весенним лужам мы с трудом добрались сюда из города и теперь стояли на чуть возвышенной сухой бровке.
Над нами вились чайки — единственно, кто был недоволен нашим вторжением. Белые длиннокрылые птицы пикировали на нас, с криками взмывали вверх, парили там, снова скользили вниз, белоснежная шумная птичья круговерть так захватила дочурку, что она прыгала по бугорку, махала руками, словно крыльями, смеялась, что-то задорно кричала птицам, налетающим на нас...
Но вот наконец чайки, убедившись, что зла от нас не будет, успокоились и разлетелись. Стало тихо-тихо над Жуковским болотом. И тогда Сережа дернул меня за рукав, показывая на недалекий бережок: «Папка, что это там такое?»
На сухом местечке, недалеко от кустиков ивы, происходило сказочное действо. С десяток довольно крупных птиц, размером с голубя, но обликом кулики, расхаживали по земле, они нагибали головы, вроде что-то клевали, но поминутно поворачивались друг к другу и распускали огромные пушистые воротники, размером чуть ли не с саму птицу, совершенно необыкновенные — все они были разного цвета! И на полянке с прошлогодними жухлыми травами будто вмиг расцветали цветы — багровые, ярко-белые, густо-синие и зеленоватые, светло- и темно-желтые, коричневые и даже черные, одни чистого тона, другие рябые.
Обладатели удивительных воротников наставляли друг на друга прямые куличьи носы, подпрыгивали, хлопали крыльями; иногда один «петушок» наскакивал на другого, и происходила короткая потасовка, но какая-то беззлобная, условная: «противники», не выщипнув друг у друга ни перышка из роскошных воротников, опускали перья и делались снова обычными, почти одинаковыми куликами.
Турухтаны!
Так вот какие они, удивительные птицы, которых я знал только по книжкам! Но рисункам в тех книгах было ой как далеко до феерического разнообразия нарядов турухтаньих самцов, прилетавших, оказывается, весною именно сюда. И как я раньше этого не ведал! А здесь было их токовище — исконное место турниров самцов, украшенных необыкновенными воротниками (у самочек наряд совсем скромный, без подобных «пышностей»).
Тихонечко, чтобы не делать резких движений и не спугнуть токующих птиц, мы передавали друг другу бинокль. В него зрелище куличьего турнира было видно во всех подробностях...
Воротники из перьев свешивались «бородою» вниз, а сверху переходили в пышную большую корону, в которой тонула клювастая головка птицы. Некоторые наряды — темные — отливали вороным металлическим блеском, другие — рябые — были не просто крапчатыми, а раскрашенными узором то из поперечных изящных полосок, то из продольных длинных пятнышек, то почти в круглый «горошек». Удивительно красивыми и нежными были совсем светлые воротники — чисто-белые и светло-желтые.
Даже по этой небольшой стайке было ясно, что двух одинаковых по окраске птиц этого вида не найти и из сотни. Редкое явление в животном мире, где разница в окраске отдельных особей если и заметна издали, то лишь натренированному глазу специалиста. Попробуйте различить в подобной же стайке, скажем, уток-самцов одного вида!
А тут — такое потрясающее разнообразие, явный «конкурс»: чей воротник краше? Выбор должны сделать самочки, а по-
скольку у последних, наверное, «на вкус и цвет подруги нет», то и окраски турухтаньих воротников не только передаются по наследству в различных комбинациях, но и продолжают усложняться и разнообразиться...
На следующую весну мы еще раз наблюдали токовище турухтанов на этом же месте. Но «пятачок» уже сильно пострадал от проложенной рядом дороги, да и воды вокруг было меньше.
А птиц было всего пять-шесть штук.
А потом, вслед за усыхающим болотом, токовище турухтанов пропало. Перестали прилетать сюда дикие утки, исчезла белая весенняя круговерть горластых чаек. Не стали тут больше вышагивать самые крупные здешние кулики — долгоногие, осторожные, с печально загнутыми вниз длиннющими носами, кроншнепы. Навсегда замолкли удивительные, ни с чем не сравнимые звуки — этакие гудки низкого тона, чем-то напоминающие голоса тепловозов. Это таинственная и осторожная птица выпь подавала свой басовитый клич над болотом ранними туманными утрами. Последними замолкли нежнейшие колокольчики маленьких, водившихся здесь тогда, лягушек.
Ничего этого теперь нет, а показать вам сейчас это место — и не поверите, что так было. Поверят разве что местные старожилы. А мы втроем — я, Оля и Сергей — нет-нет да и вспомним об этом благословенном болотном крае, исчезнувшем с лица западносибирской равнины.
Да полноте, скажет иной читатель, болота они и есть болота, гиблые и топкие места; болото — источник сырости и комаров; болото, кроме как разве дичи и клюквы, лишено какой-либо полезности и тем более красоты. Увы, такое отношение к болотам «культивировалось» веками, и не хотели видеть люди, что именно здесь, в болотах, зарождались ручьи, речушки и реки, что огромные в прошлом пространства болот благоприятно влияли на климат, что именно в этих сложных, но зато очень ранимых биотопах обитают не только комары и утки, но и величайшее множество других животных — моллюсков, ракообразных, насекомых, земноводных; это — целый мир, своеобразный, сложный. Не зря один умный человек — французский писатель Жак Перре — сказал: «Болота — это молодость земли»...
А насчет красоты — я убежден (и мое убеждение ни разу меня не подводило), что у природы, конечно не испорченной или не очень испорченной человеком, не может быть «некраси-
Биотоп — место обитания комплекса видов животных и растений, жизненно связанных с этим местом и друг с другом.
вых» пейзажей -г- в глухой ли тайге, в каменистой ли пустыне, в ледяных ли торосах. То же и с болотами. Кто хоть раз видел своими глазами потрясающе своеобразный, не поддающийся описанию восход солнца над безбрежными болотными равнинами, кто когда-нибудь всматривался в таинственную темную воду между бархатно-зеленых моховых кочек, кто любовался птичьими несметными стаями из охотничьего скрадка, устроенного у болота, или прямо вот так, как мы в тот памятный весенний день, — я верю, поддержат меня.
А кто не видел, пусть представит здесь описанное и поверит нам троим...
Эго я вот к чему. Нет, я вовсе не за то, чтобы всю природу оставлять нетронутой. Во многих местах осушение болот — совершенно необходимое дело. Но работу эту, чрезвычайно ответственную (ломать — не строить!), нужно проводить с обязательной прикидкой на ближнее и дальнее будущее, не забывая хотя бы об известном печальном примере: осушение болот в Белоруссии вызвало усыхание лесов в Беловежской пуще. Я верю, что в относительно недалеком будущем все без исключения люди будут получать еще в детстве и юности необходимые экологические знания, и не формально, а по-настоящему, по-естественному понимать и любить природу.
Им, будущим рачительным и добрым хозяевам земли нашей, и предназначены, как, наверное, уже догадался читатель, все «земные» главы этой книги... И пусть наряду с другими спасенными островами и островками дикой природы останутся целыми и небольшие болота, подобное Жуковскому под Исилькулем Омской области, стремительно «покоренному» и уничтоженному.
Чтобы люди где-то каждую весну могли слышать колокольцы лягушек, гудки выпи, видеть турухтаньи разноцветные праздники и белоснежные чаичьи хороводы.
ПОЮЩИЙ ПЕРЬЯМИ
В первые годы строительства научного агрогородка под Новосибирском (это почти напротив Академгородка, на другом берегу Оби) в окрестных лесах и лугах обитало очень много пернатой живности. Да и сейчас, среди огромных многоэтажек,
вроде бы напрочь поглотивших березовые колки, некогда здесь зеленевшие, поутру прямо из окна квартиры услышишь порой не только стрекот сороки, но и столь милое сердцу кукование кукушки. А совсем недавно, когда между стройплощадок городка еще оставались кусочки природы, можно было — тоже не выходя из квартиры! — наслаждаться трелями жаворонков, певцов летнего поднебесья, и даже слушать сольные выступления сибирского соловья — варакушки. Пичужка эта наделена не только выдающимся певческим талантом (причем у каждого певца этого вида — свой голос и репертуар, непохожий на песни собратьев), но и почти тропической внешностью. Представьте себе птичку, на грудке которой большое празднично-яркое пятно — лазорево-синее с золотисто-оранжевым ядром, а все это обведено как бы для контраста темной каймой. Сидит этакий красавец на вершине дерева, а то и на телевизионной антенне дома или тросе строительного крана, заливается на все лады, а люди внизу, если и разыщут взглядом исполнителя, то вряд ли разглядят его наряд — птичка уж очень маленькая, мельче воробья, и видится на фоне яркого неба темным силуэтиком, что скрадывает окраску. Зато в бинокль не оторвешься от дивного зрелища, особенно если цветное пятно варакушки блестит на солнце, сияет-переливается, когда певец раскрывает клювик и начинает свистеть, щебетать и стрекотать с неподражаемой изобретательностью и такой силой звука, которая вроде бы и не соответствует маленькому росту музыканта.
Но среди пернатых есть и совсем необыкновенные исполнители. Например, что бы вы сказали о птице, которая поет... хвостом? Именно с таким «певцом» нам удалось встречаться два года подряд, пока пойма Оби напротив нашего городка была не очень людной и там еще гнездились многие пичуги, впоследствии, конечно, навсегда покинувшие эти места: ох, далеко не все «наши меньшие братья» соглашаются стать горожанами!
...Мы шли вечером домой после наблюдений насекомых в одном чудесном (тоже, увы, ныне изведенном) уголке на границе леса и мокрого луга. Там во влажном буйстве зеленой жизни, на сочных желтых цветках калужницы, на сине-красных колокольцах медуницы, на скромных коричневатых цветочках гравилата усердно работали молодые шмелихи. Мохнатые, яркорыжие или черно-желто-белые, они, изголодавшись в ожидании этого цветения, перелетали с цветка на цветок, торопясь взять нектар и даже не считая нужным прятать на время этих перелетов свои предлинные хоботки.
Сделав все необходимое — записав виды насекомых-опылителей, время посещения ими различных цветков, перелетов, — мы отправились еще засветло домой. Но в вечернем небе токовал бекас, и как было не посмотреть, не послушать этого замечательного певца.
Частыми и сильными взмахами крыльев птица поднимала себя на вершину невидимой небесной горки, а потом, на ее вершине, остановившись и развернувшись, как бы съезжала с нее вниз, почти сложив крылья. Но бекас не падал камнем: он растопыривал свой хвост таким образом, что крайние рулевые перья, вывернувшись, превращались в сильно ,у., вибрирующий воздушный тормоз.
Это вибрирование рождало громкий странный звук, который, собственно, и заставил нас поднять головы и увидеть его источник. Многие сравнивают звуки токующего бекаса с блеянием барашка, действительно, есть какое-то сходство, но лишь частичное, разве что по общей продолжительности «блеяния» и частоте модуляций. Но никак не по тембру: звучащие перья бекасьего хвоста поют все же по-особенному, скорее жужжат или звенят, и это нужно слышать только самому. Да и видеть.
Птица, поющая перьями...
Бекас без устали взбирался на свою «небесную горку» и, мягко подсвеченный закатным солнцем, полусложив крылья и выставив вперед свой длинный куличий нос, снова и снова съезжал вниз; в полнейшей тишине — вечер был безветренный — далеко разносилась странная песня, совершенно нас заворожившая.
Мы оторвались от этого необыкновенного «озвученного» зрелища лишь тогда, когда уже изрядно потемнело.
ЗЕЛЕНОЕ ПРИВИДЕНИЕ
Оно ожидало нас почти при выходе из леса, ставшего к тому позднему уже часу совсем темным и таинственным. Там, на большой поляне, растут березы — группами и поодиночке. И была как раз та пора, когда все они, молодые и старые, едва одевшись в новый наряд — еще небольшие клейкие листочки, — цвели.
С деревьев свесились тысячи сережек, и они казались густо заштрихованными вертикальными полосками. Сережки поспели,
разделились на отдельные сегментики-цветочки, вытянулись, переполненные пыльцой, и — ждали ветра.
Ведь береза — анемофильное (ветролюбивое) растение, то есть такое, пыЛьцу с которого с целью оплодотворения переносят с цветка на цветок не насекомые, а ветры. Потому соцветия-сережки берез не яркие, а скромные, буровато-зеленые, без запаха, без сладкого нектара, привлекающего насекомых-опыли-телей. Здесь вся ставка — на ветер. Созреют сережки, раскроют свои многочисленнее скромные цветочки, и миллионы, миллиарды, триллионы пыльцевых микроскопических зерен разнесет ветер по свету.
Конечно, при таком способе «пересылки» пыльцы от дерева к дереву лишь немногим счастливым пылинкам повезет и они достигнут нужной цели — пестиков в сережках других берез. Способ вроде непродуктивный: сколько же миллиардов живых пылинок, в каждой из которых «закодировано» большое красивое дерево, теряется зря и гибнет!
Но посмотрите на березовые сережки поздней осенью или зимой, в оттепель, когда созреют семена-летучки: в каждой «шишечке» их несколько десятков! Это значит: весенне-летнее путешествие по ветру пылинок здесь окончилось благополучно. А теперь, тоже с помощью ветра, семена березы разнесены по полянам и опушкам; некоторым из них повезет — они упадут на не занятую другими растениями почву и дадут всходы. Так рождаются новые березовые рощи, если им не помешают в этом люди: березовая молодежь так нежна и слаба.
Процент «везучих» пылинок, с помощью которых завязались не только семена, но и выросли новые деревья, чрезвычайно ничтожен — это дробь со множеством нулей после запятой. Вот почему деревьям-анемофилам (в отличие от энтомофильных — «насекомолюбивых» растений) нужен такой грандиозный запас пыльцы... И вот я творю некое не предусмотренное природой действие. Подбираю с земли увесистый полусгнивший сучок "и, размахнувшись, забрасываю его прямо в середину островерхой березки, что спокойной свечкой стоит посреди поляны, чуть поодаль от своих сестер
Негромкий удар по стволу, легкий шелест листвы. Деревце всего лишь чуть-чуть содрогнулось, но вдруг произошло чудо.
Будто что полыхнуло, взорвалось внутри березы, внезапно осветившейся зелено-желтым светом до самой макушки кроны. Такого эффекта мы не ожидали! Это спелые тычинки сережек, переполненные сыпучим цветнем — ведь ветра-то не было весь день! — вдруг освободились от своего драгоценного груза. И достаточно было легкого толчка, чтобы миллиарды светлых пылинок вмиг сорвались с березовых тычинок и оказались одновременно висящими в затихшем вечернем воздухе.
Это было потрясающе-волшебное зрелище. Если бы воздух был абсолютно недвижен, то пыльца, наверное, медленно-медленно оседала бы вниз. Но оказывается, по поляне дул легчайший ветерок, для нас совсем неощутимый, не более десяти-пятнадцати сантиметров в секунду, но достаточный, чтобы медленно сносить в сторону почти невесомые пылинки. И от березы начал отходить направо светло-зеленый двойник, в точности повторяя всю сложную форму ее кроны, вплоть до острой вершинки.
Это зеленое привидение через полминуты полностью отделилось от березы, вышло из нее и теперь неспешно двигалось к темному лесу. Мы стояли как завороженные: сколько лет прожили в березовых краях, но никогда и нигде подобного не видели.
«Привидение» медленно плыло к темной кромке леса, стало большим, широким и не таким ярким. Потом, движимое легкими струями вечернего воздуха, тихо поднялось, распласталось, сделавшись горизонтальным, перевалило крайние деревья опушки и ушло, невесомое и таинственное, в ночные неведомые дали.
И хочется верить: несколько пылинок этого грандиозного желто-зеленого облака, улетев к далеким-далеким лесам, нашли там свою цель — цветущие сережки других берез, и помогли им образовать семена, предназначенные для продления белоствольного березового рода, могущего, оказывается, рождать необыкновенные лесные призраки...
НА ЗАЛИВНЫХ ЛУГАХ
Есть под Воронежем поселок Рамонь. Не доезжая его — небольшой научный городок, в котором я жил и работал, увы, всего один год. «Увы» — это я к тому, что уж очень по душе пришлись мне те милые края, истинно русские, с лесами и оврагами, с ручьями и речками, с плодородными полями — но почти по-южному долгим летом и мягкой зимой; однако пришлось с ними вскоре расстаться: в который уж раз позвала к себе Сибирь...
Ярче других из того «воронежского года» запомнилась мне одна картина: цветут заливные луга. Сразу от наших институ-
тов начинался овраг, который дальше переходил в лог — сначала небольшой, затем обширный, глубокий, далекий. Справа от него — село Айдарово, подальше — деревушка под патриархальным названием. Старое Животинное; край, где лог впадал в долину речки Воронеж, назывался Займищем. Так вот недалеко от этого места) начинались дивные заливные луга. Пешком туда добраться м,ожно было лишь с начала лета, когда с лугов сходила вода и начинали цвести травы.
Об этом цветенци хочется и рассказать. Не знаю, удастся ли это сделать словами — тут больше подошла бы кисть. Но мастерства написать красками по памяти ту дивную, непередаваемую картину у меня — уж это точно — не хватит.
А было всего там четыре цвета... Зеленая трава — зато не просто зеленая, а сочнейшего, изумрудно-янтарного оттенка, подобного которому на простых, «сухих», лугах не увидишь. По этому фону были щедро рассыпаны цветы. Куртины желтых ярчайших лютиков напоминали скопления множества солнц, расположенных так, что местами они были редкими, а кое-где луг буквально заливался желтым.
Зато совершенно равномерно по этому дивному ковру были рассыпаны сиреневые, закрученные пышной спиралью, пирамидки мытника и коричнево-фиолетовые плотные колокола рябчиков, обращенные вниз так, что лоснящиеся их донышки отражали небо и потому цветы те матово бликовали лиловым.
Вот это сочетание — зеленого, желтого, сиреневого и фиолетового — было настолько сочным, богатым, ярким, что в глазах рождалось необыкновенно приятное мерцание, не дающее оторваться от этой сказки. Картину оживляли шмели: залезали в колокола рябчиков, и те клонились вниз под тяжестью грузных насекомых...
До лугов было довольно далеко, но мы много дней подряд ходили в эти удивительные места и все не могли насытиться трепетно-яркой сочной красотой заливного луга.
А потом все это скосили. И было так обидно и досадно — как мол это так, люди или не видят такую красоту, или, видя, намеренно ее губят, чтоб не увидели другие? Но это были мои домыслы и придирки. Конечно, не могут люди не видеть прекрасного, и если косят тут травы испокон веку, так это потому, что лучшего сена, чем с заливных лугов, не бывает. И когда
труд косцов сливается с красотой природы, то получается и радость, и польза — вспомните замечательную картину нашего художника Пластова «Сенокос».
А тамошние травы, с весны надолго затопляемые водой, как видно, давно привыкли к ежегодному кошению. И в начале каждого лета до самой поры сенокосной сияЮт-переливаются зеленым, сиреневым, желтым, и фиолетовым заливные воронежские луга — за Рамонью, за Айдаровом, заЖивотинным, на Займище — во славу Природе и на радость л,юдям.
Но все равно какая-то ранка в душе осталась, и я почувствовал, что воронежская благодатная земля ждет от меня не платонической любви, а каких-то конкретных дел. И до тех пор не успокоился, пока не довел до конца организацию маленького — в полтора гектара — заповедника для местных насекомых и растений, под той же Рамонью, вокруг старого противотанкового рва.
Вроде это уж совсем иная история, «из другой оперы». Но упоминаю об этом я тут потому, что не увидя цветения заливных лугов у речки Воронеж, я не так бы полюбил этот край и, очень возможно, в 1973 году отступил бы перед трудностями, связанными с организацией второго в стране специального заповедника для насекомых.
А он, опекаемый ныне Всероссийским институтом защиты растений и Воронежским сельхозинститутом, процветает и по сей день...
ЗОЛОТОГЛАЗЫЕ ЭЛЬФЫ
Художник-анималист Н. Н. Кондаков, автор множества точнейших научных иллюстраций с изображением рыб, насекомых, птиц и зверей ко многим книгам, в том числе к последним изданиям «Жизни животных» и Большой Советской Энциклопедии, поздравил меня как-то с праздником такими словами: «Надеюсь, в Ваших заповедниках для насекомых уж и эльфы развелись, и Вам, с той необычной любовью Вашей, они уже покажутся — не будут прятаться, как от недобрых людей!» И нарисовал при сем эльфа, как он себе их представляет.
Николай Николаевич попал, что называется, в самую точку. Разве что у «моих» эльфов немножко другой облик: нежные
крылья длиннее и шире, а глаза — большие и сияюще-золотые.
И они, верно, мне показываются, особенно теплыми летними ночами. То порхают меж темных кустов, то прилетают прямо в лабораторный домик, что мы ставим на лето в микрозаповедниках под Исилькулем и Новосибирском: эльфы летят ночами на свет лампы и тихонечко ходят по столу, позволяя даже брать себя в руки и любоваться ими совсем вблизи.
И то верно, что эльфы здесь «развелись» — их действительно стало больше... А как же иначе: в микрозаповедниках — маленьких огороженных участках природы — не косят, не ездят, не пасут скот, а ходят лишь по узеньким тропинкам, поэтому вся безвредная живность тут благоденствует и плодится.
Как, и эльфы?
Да, и эльфы!
Только кто сказал, что эльфы имеют облик человека? Таковы мол сказки и легенды? А верно ли то, что человек, даже с крылышками, самое красивое существо и прекраснее его облика нет ничего на свете? И еще «неувязочка»: давние создатели мифов сказочным или божественным героям своим «приделывали» крылья (херувимам — птичьи, эльфам — насекомьи), не задумываясь над тем, что подобная конструкция попросту не будет работать — крыловым мышцам нужно, в частности, совеем иное туловище — и такое существо, даже шестикрылый серафим, камнем упадет вниз...
И тем не менее эльфы есть, живые, многочисленные, куда более изящные и сказочно-красивые, чем «человекообразные». Это — златоглазки. Удивительные, очень милые насекомые из отряда сетчатокрылых. Они, действительно, ведут таинственный образ жизни и, тоже действительно, очень помогают людям, как и подобает настоящим эльфам.
Стройное изящное тельце этих «посланцев ночи» светло-зеленого цвета, четыре совершенно одинаковых прозрачных крыла, затканных нежным и сложным кружевом жилок, сложены домиком, когда златоглазка сидит или ползет, небольшая голова, на которой сияют переливчато-золотым блеском выпуклые глаза — вот облик существа, с которым я знаком очень близко. Именно с этими золотоглазыми эльфами, сейчас прилетающими ночью из лесного мрака на свет лампы в лабораторный домик, я подружился совсем, что называется, «на короткую руку»; произошло это несколько лет назад, при следующих обстоятельствах.
Редакция журнала «Защита растений» попросила меня сделать цветные рисунки златоглазки, ее яиц и личинок. Дело в том, что эти личинки чрезвычайно полезны — они в массе истребляют тлей, для чего златоглазок не только охраняют, но и научились искусственно разводить в больших количествах. А была поздняя осень. Где взять живых насекомых? Именно живых — у мертвых златоглазок тельце сжимается и буреет, меркнет непередаваемо золотистый цвет волшебных ее глаз, сухая же личинка вообще сморщивается до неузнаваемости и чернеет.
Выручил коллега-энтомолог Г. А. Бегляров из Подмосковья, работающий в лаборатории, где как раз разводят золотоглазых эльфов: прислал их яйца и корм для будущих личинок. Я немедля взялся за оборудование на подоконнике маленькой фермы для разведения этих созданий, чему очень помогла инструкция, приложенная к посылке.
У златоглазок (другое название их — флерницы) все необыкновенно. Начать хотя бы с яичек, отложенных самками. Ни за что не подумаете, что это яйца насекомого! Может, вам даже
встречалось такое: на листьях кустов, чаще с нижней их стороны, торчит пучок длинных и тонких стебельков с продолговатыми белыми шишечками на концах — скорее что-то растительное, из царства грибов или плесеней. Но нет: это златоглазка-мама, откладывая яички, предусмотрительно садит их на тоненькие, но упругие и длинные паутино-вые стержни, чтоб их не достали другие насекомые-хищники и прочие охотники до подобных лакомств.
А там, в овальном футлярчике, покачивающемся от ветра на длинной стойке, формируется личинка, и вот уже ее тельце просвечивает розово-зеленым сквозь матовую оболочку яйца. Личинка тужится, кожица эта лопается, и на свет появляется далеко не симпатичное (на наш взгляд), уж во всяком случае никак не напоминающее эльфово дитя, крохотное существо, которое сразу знает, что делать: сползает по спасавшей его паутиновой подставке на лист растения, и тут же начинает рыскать по нему в поисках тлей. Следует заметить, что флерницы «ставят» (слово «кладут» — тут не подходит) свои яички только там, где для их детей имеется живой корм.
Зубастые личинки нежных эльфов — неописуемые обжоры. Прокалывая своими шприцеобразными жвалами тлей, они высасывают их дотла, лишь сухая шкурка остается. Личинки од-
них видов флерниц бросают эти шкурки, других — цепляют на свою волосатую спину, маскируясь таким образом то ли от своих более сильных врагов, то ли для незаметного подкрадывания к жертвам. К слову сказать, активны эти зубатики, в отличие от взрослых своих крылатых родителей, среди бела дня. А ночью — спят.
Шустрые хищницы быстро растут. А когда совсем отъедятся и станут достаточно большими, чтоб превратиться во взрослую златоглазку, сползают с растения вниз и ткут шелковый кокончик, круглый-круглый, как некий «спускаемый аппарат» инопланетного микрозвездолета. Через некоторое время его обитатель, уже изрядно преобразившийся (произошло еще одно превращение, и личинка стала куколкой), начинает изнутри пропиливать жвалами стенку шарика. Пропил этот идет по окружности, и от «кабины» через некоторое время откидывается идеально круглая крышечка. Куколка у златоглазок подвижная: выползает через образовавшийся люк, и последнее превращение — во взрослое крылатое насекомое — происходит на лоне природы.
Так бывает без вмешательства людей. А на «златоглазьих фабриках» (их в нашей стране уже несколько, и оттуда рассылают истребительниц вредителей в теплицы, на огороды и поля) специалисты отказались и от растений, и от тлей. Вместо тлей личинок флерниц там кормят яичками зерновой моли-ситотроги, производство которых было налажено много раньше для разведения крохотных наездников-три-хограмм, истребляющих яйца разных вредителей. Всю эту простую, но необычную зоотехнию пришлось спешно освоить и мне. Съедят личинки корм и готовы приняться друг за друга — аппетит у них сильнее волчьего! Тут надо не зевать, подбросить им новую порцию еды.
В природе маленькие хищницы истребляют не только тлей, а и многих других вредителей, доступных им по росту и прочности покровов — червецов, щитовок, медяниц, даже гусениц бабочек-совок, всего в их меню зарегистрировано 76 видов насекомых и 10 видов клещей.
...Вскоре в ячейках забелели первые шарики коконов, потом окуклились и все личинки. Я вытряс из «фермы» добрую пригоршню кокончиков!
Проследив за вылуплением из них златоглазок, выполнив и отослав все нужные рисунки, я стал перед проблемой: что же делать дальше с несколькими сотнями прозрачнокрылых эльфов, которые в моей оконной вольере все выходили и выходили из своих белых круглых «кабин»? Взрослые флерницы вовсе не хищницы, они потребляют в природе подобающую истинным эльфам пищу — цветочный нектар и пыльцу, и потому мои золотоглазые питомцы с удовольствием лизали мед. Но для полного блага и для воспроизводства новых поколений им, согласно инструкции, требовалась весьма хитрая витаминно-белковая добавка — автолизо ванные (перебродившие) дрожжи, да не простые, а пивные... А где их взять в Исилькуле?
Да и, кроме того, делать дома частную фабрику по производству эльфов не было никакой необходимости.
И вот в один прекрасный день я вытащил садок на балкон, поднял повыше и вытряхнул наружу его содержимое. Нежнозеленая трепетная тучка из нескольких сот тонкокрылых созданий стала неспешно разлетаться по улице.
Наверное, снизу это зрелище было заметным и достаточно необычным — может быть оттого, что солнце искрилось во множестве широких крылышек златоглазок, — несколько прохожих остановились и долго с удивлением глядели вверх, в сторону нашего балкона...
СТРАННЫЕ ПАССАЖИРЫ
Каждое лето, чтобы в комнаты не налетали комары да мухи, мы завешиваем форточки сетками. Но однажды из-за затянувшегося переезда в новую квартиру этого не сделали, и внутрь, естественно, налетела кое-какая полевая и «дворовая» живность: крохотные наезднички-хальциды, небольшие жучки и мотыльки, привлеченные в помещение ночью светом лампы, и мало ли кто еще. Днем они ползали по стеклу в надежде выбраться наружу, и, когда ненароком глянешь в окно, поневоле замечаешь этих «гостей» и начинаешь к ним приглядываться.
Однажды я заметил у небольшой ползавшей здесь мушки-пестрокрылки странные желтые штанишки на ногах. Подумал, наверное, у этого вида мух ноги специально утолщены, мало ли чего у насекомых не бывает. Но у другой точно такой же муш-;ки «штанина» оказалась лишь с одной стороны, а другая, про-Ливоположная нога — обычная, мушиная, тонкая. Тогда я отловил обеих, посадил в пробирку и разглядел в бинокулярный
микроскоп. Странные утолщения оказались... самостоятельными живыми существами, похожими на крабов или даже бесхвостых скорпиончиков, плотно ухватившихся одной клешней за мушиную ногу.
Это были так называемые ложноскорпионы, прозванные так за свой облик, почти скорпионий, но, во-первых, у них нет хвоста с ядовитым крючком на конце, во-вторых, по сравнению с настоящими скорпионами даже мелких видов, эти — сущие крошки. А вообще ложноскорпионы — вполне самостоятельный отряд обширного класса паукообразных. К слову: класс паукообразных очень обширен и объединяет отряды скорпионов, ложноскорпионов, фаланг, сенокосцев, пауков, а также несколько отрядов клещей.
Повадки крошек ложноскорпионов очень интересны. Самец совершает перед самочкой особый «брачный» танец с сериями замысловатых па. Самка, произведя на свет потомство, самоотверженно охраняет свои сокровища — грудку мешковидных личиночек. Она нежно прижимает их короткими брюшными ножками «к сердцу» и не отдаст их никому ни за что на свете, угрожая и весьма выразительно размахивая клешнями. Одну такую мамашу я как-то извлек из пня-гнилушки: на «мгновенных» набросках показано, как она мне грозила своими «руками», пока я на столике микроскопа попугивал ее карандашом.
Живя под корой и в других укромных местах, ложноскорпионы приносят пользу, истребляя мелких насекомых. Так называемый книжный ложноскорпион нередко встречается и в домах, поселяясь в шкафах со старыми книгами и других запущенных уголках и питаясь разной живностью, вредящей книгам, гербариям и другому добру. Наши сибирские ложноскорпионы очень мелки — в длину не более двух-трех миллиметров, но все равно наблюдать их повадки в лупу и микроскоп очень интересно. Малейшее движение пальцем у пробирки, и «крабик» моментально повернется в эту сторону, широко и предостерегающе раздав свои руки-клешни. Вообще ложноскорпионы своею формой и походкой скорее напоминают, я бы сказал, крабов, чем скорпионов: ходят то боком, то прямо, то пятятся назад, подолгу и забавно умываются и чистят клешни, особенно после еды.
Любопытен способ расселения этих угрюмых малюток: подкрадется к мухе нужных размеров (а может, и вида), схватит ее за основание задней ноги и не отпускает много дней. Летунья тем временем увозит «безбилетного пассажира» далеко от его родины: так расселяется ложноскорпионье странное племя по нашим лесам, полям и домам.
Крохотных пассажиров, прицепившихся к мухам-пестокрыл-кам, я наблюдал все то лето на наших окнах. Мухи выглядели покорившимися судьбе и не делали никаких попыток избавиться от ненужного им груза. Да и не сумели бы: уж очень плотна хватка маленькой сильной клешни.
В МИКРОЗАПОВЕДНИКЕ
Всего три года не трогала коса луговых диких трав в микрозаповеднике около нашего научного городка под Новосибирском, но уже радует глаз пышное разнотравье, кишащее всякой живностью. Кого только нет на цветках растений и в непролазных травяных джунглях! Изящные наездники множества видов, хищные клопики, верблюдки, жужелицы — все они уничтожают вредителей на окрестных полях, а живут и плодятся здесь, в огороженном от посторонних «насекомограде» площадью в три гектара, разместившемся среди опытных полей. Здесь, между высоких берез и кудрявых ив, белеют небольшие ящички — домики для шмелей, большую часть которых заселили мохнатые труженики. Некоторые же остались свободными, и их заняли... общественные осы. Мы не возражали: эти четырехкрылые корсары истребляют великое множество насе-комых-вредителей — ведь личинок своих они кормят этакими фрикадельками, ловко приготовленными из пойманных мух, бабочек, жуков. Мелькают осиные лапки и челюсти, падают вниз крылья и ноги жертвы, и вот она уже за считанные секунды превратилась в кругленький комочек мясного фарша. Осы эти устроили свои серые бумажные гнезда-шары на нижней стороне крышек пустующих шмелиных жилищ, и подходить к ульям с этой гудящей полосатой братией без сетки и рукавиц жутковато даже нам, специалистам.
А в темных таинственных травяных дебрях начали появляться не встречавшиеся тут в прошлые годы такие «звери», что и диву даешься. Посмотрите на этот портрет цикады-гор-батки. Крутолобая, с двумя парами буйвольих плоских рогов по бокам и длиннейшим бивнем, вытянутым
над спиною далеко назад. Зачем насекомому такое? Пока что для ученых это — тайна. В тропиках цикады этого семейства украшены еще более сложными, тяжелыми, немыслимой формы рогами, выступами, шарами — и как они только с ними управляются?
Семейство мембрацид, к которому относится эта цикада, почти целиком тропическое. В СССР обитает лишь три их вида, в том числе появившаяся в сибирском микрозаповеднике наша героиня, зовущаяся по латыни центротус корнутус (кстати, вид совершенно безвредный для сельскохозяйственных культур и выкармливающийся на диких растениях).
Каждый год микрозаповедники — хранители и накопители удивительных существ — открывают ученым все новые тайны. Все это — ценнейший фонд для биоников, агрономов, генетиков, дизайнеров, специалистов по охране природы. Настанет время, и многое из этих «живых кладовых» так пригодится ученым!
С оговоркой: если нам и нашим потомкам удастся сохранить эти маленькие пятачки нетронутой природы и в будущем.
А эта страшноватая глазастая физиономия, отчасти смахивающая на Чебурашкину, отчасти — на инопланетянина, принадлежит махонькому, обычному у нас, пауку-скакунчику. У скакунчика шесть глаз, направленных в стороны, вверх и назад — замечать добычу, и еще два огромных круглых глаза спереди, блестящих и твердых, как полированные линзы. А задние, «приемные», части этих интересных оптических приборов могут двигаться, то есть паук может их разводить и сводить в соответствии с расстоянием до наблюдаемого им, пауком, объекта. Молниеносно повер- нувшись к добыче, паук мгновенно определяет этим своим дальномером дистанцию, чтобы в прыжке безошибочно накрыть жертву; решающим в этой процедуре является размер угла между оптическими осями нацеленных на нее больших глаз. Передние же стороны глазных линз неподвижны и очень прочны — они не теряют ни блеска, ни формы даже у мертвого, ссохшегося паучишки.
К. Еще одна паучья хитрость. Пауки, принадлежащие к семейству скакунчиков, не плетут ловчих сетей, но паутинные железы у них всегда наготове: совершая прыжок на жертву, паук не забывает приклеить паутинку к тому месту, где сидел. Ведь добычу нужно хватать (иногда на лету) всеми восемью ногами и падать с нею куда-то вниз. Падение же безопасно: охотник с добычей повисает на страховочной нити. Иначе ведь можно угодить и в муравейник, и в лужу, и куда угодно.
Кроме того, есть и другое применение паутиновых нитей скакунчиками, да и многими другими мелкими паучками. Выбрав день со слабым теплым ветерком, они отправляются в воздушные путешествия на длинных, в несколько метров, паутинках, плывущих по синему небу.
И много еще удивительного есть в мире пауков — таинственных созданий, к которым человек почему-то привык относиться с неприязнью. А по мнению ученых, птицы и все другие энтомофаги, вместе взятые, уничтожают гораздо меньше вредных для сельского хозяйства насекомых, чем пауки. Эго и неудивительно: на каждом квадратном метре суши обитает в среднем от 50 до 150 пауков, и все они — отъявленные хищники. Подсчитано, что общий вес съеденных пауками насекомых на одном гектаре леса за лето составляет... два центнера! Что будет с лесами, садами, полями, с нашим урожаем, если почему-либо вдруг исчезнет эта армия наших восьминогих помощников, трудно представить.
Быть может, за все это мы простим паукам их угрюмую внешность? Впрочем, не всегда угрюмую: я считаю, что у скакунчика, с которого я делал этот набросок, она достаточно выразительна и занятна.
...Утро. Открываю дверь нашей маленькой биостанции — домика, затерявшегося среди старых кряжистых берез в микрозаповеднике. Прохладные травы покрыты обильными росами, и взошедшее недавно солнце, пробившись местами сквозь кроны деревьев, искрится-играет в разновеликих росинках, нависших на листьях, бутонах, стеблях.
А вот на зубчатых листьях кровохлёбки роса осела сплошным нежнейшим пушком, листики сделались словно седые, а капельки так мелки, что видны только в лупу.
Зато через полчаса, когда солнце поднялось чуть выше, произошло чудо. Влажная «седина» на листиках кровохлебки исчезла (а может, как-то переместилась к краям), и на острые концы каждого зубчика, что по краю листа, теперь насажены круглые шарики, увесистые и прозрачные, как хрусталь.
Но уж очень плотными кажутся шарики на зубцах, непохожими на росу. Да и вообще, роса ли это? Может, смола какая прозрачная или густой светлый нектар выступает на зубчиках кровохлебки ранними утрами тайно от людей?
Пробую капельку на вкус — увы, вода «чистейшей воды»! Это просто идеально круглая форма капель, которые не дефор-
мирует тончайший конец острия зубчика, создает иллюзию плотного тяжелого «материала». Тем более, в каждом шарике-линзе очень четко, но перевернуто виден весь кусочек тихого зеленого мира, в который я сейчас осторожно вторгся.
Это было удивительное зрелище — зубчато-фестончатые листья всех растеньиц этого вида, что собрались на росистой поляне, оторочены геометрически ровными рядами-ожерельями крупного бисера, словно выточенного из прозрачнейшего хрусталя.
А во многих хрусталинах этих мерцает голубой, красный, золотой огонек — лучики солнца, преломленные и радужно отраженные каплей.
Через полчаса видение... испарилось.
Настал жаркий июльский день, и осталось лишь необыкновенно светлое воспоминание об увиденном маленьком лесном чуде, да этот вот набросок. Посчастливится ли мне еще раз встретить такое?
Кто знает! Во всяком случае ни одно событие, наблюдаемое мною в травяных сказочных джунглях, по которым «путешествую» много лет, я дважды не видел одинаковым.
ВОКРУГ ТЕНИ
Это было более четырех веков тому назад, в далекой Италии. Бенвенуто Челлини, скульптор, солнечным утром шел по своей Флоренции и глядел на мир. Рядом двигалась его тень, знаменитый мастер скульптуры невольно стал наблюдать за своим движущимся отображением глазом профессионала. Тень скользила по камням мостовой, то вытягиваясь, то укорачиваясь на неровностях пути, в точности повторяя, движения идущего. Но вот камни с боку дороги кончились, и силуэт тени заскользил теперь по травяной росистой лужайке.
И тут художнику явилось видение. Вокруг силуэта его головы, на траве, вспыхнул широкий светлый ореол — священный нимб! Челлини не поверил своим глазам, закрыл их, повернулся, остановившись. Но когда глянул на свою тень еще раз — снова увидел чудо. Вокруг тени скульптора — причем не у туловища, а только вокруг головы! — отчетливо и ярко сиял трепетный круг. Взволнованный мастер сделал шаг, другой — нимб не исчез, а даже засветился еще ярче.
Что мог означать этот неожиданный священный знак? Как и почему возникло сияние?
Но тут сзади послышались голоса: группа людей шла тою же дорогой по своим делам. Не обратив внимания на стоящего, они прошли мимо. У Челлини сразу мелькнула мысль: сейчас их тени, скользящие по мертвым камням мостовой, сойдут с них, упадут тоже на эту животворную росистую траву, и именно сейчас можно будет проверить странное явление на их тенях. И вот тень первого прохожего на лужайке. Но у нее, у тени, никакого нимба!
Прошел второй, третий флорентиец, затем группа оживленно беседующих мужчин и женщин — и ни намека на какие бы то ни было сияния! Проскакал всадник — и его тень была самой что ни на есть обычной. Но, переведя взгляд на свою тень, потрясенный скульптор опять видел ослепительно светлое кольцо только вокруг своей головы.
Выходило лишь одно: сияние излучал один только Челлини. В обычных условиях он этого не ощущал, но стоило лучам утреннего светила скользнуть мимо его головы — конечно же, совершенно необычной — и упасть на росистую траву, как странный эфир, до того неуловимый, отразился вокруг тени и предстал светлым кольцом.
Великое волнение овладело скульптором. Это был какой-то знак свыше, ниспосланный мастеру богом, который несомненно следил за его жизнью и работой и распознал в нем гения. Или, еще вернее, вдохнул в него талант сам, а теперь показывал ему это неожиданно и наглядно: вот у тебя, Челлини, в отличие от других смертных, исходят из главы чудесные лучи, лишь твоя голова, одна в целом мире, отмечена светлым нимбом гения.
...История не сохранила всех подробностей наблюдений Бенвенуто Челлини над феноменальным сиянием, Известно лишь, что он уверовал в знамение (в самом деле, весьма убедительное) и всерьез принял его за знак собственной величайшей гениальности. А так ли это было? Ученик ювелира Банди-нелли, верно, был талантлив и трудолюбив; посчастливилось ему и в том, что жил он и работал одновременно с великим Микеланджело. И тот, и другой оказали влияние на скульптора, плодовитого и виртуозного, но, увы, многие работы Челлини излишне дробны, а глаз останавливается на многочислен-
ных «ювелирных» мелочах, другие же его скульптуры несколько более экстравагантны и театральны, чем этого требовал великий дух Возрождения, родивший, словами Энгельса, титанов искусства и науки, подобных Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонаротти.
Так отчего же все-таки божественный нимб гения сиял вокруг лишь одной головы Бенвенуто в то далекое флорентийское утро? Наука в конце концов объяснила это явление. Мы тоже получили возможность испытать это на себе.
...Ранней электричкой мы втроем — я, Оля и Сережа — приехали на полустанок, от которого идти к заказнику полезных насекомых от Исилькуля не тринадцать километров, как если бы пешком, а всего четыре. Невысокое утреннее солнце уже озарило поля и колки, золотит трепещущие крылышки первого утреннего жаворонка, уже поднявшегося в летнее небо со своей дивной переливчатой песенкой. А вот и знакомый поворот — дорога пошла теперь на север, восходящее светило уже пригревает справа. Слева — поле люцерны, раскинувшееся до дальних колков, еще погруженных в сонный синий туман. Наши тени длинные-длинные — солнце еще совсем невысоко — и скользят за нами по седоватому от утренней росы люцерновому полю.
— Глядите, — говорю ребятам, — налево, на наши тени, только не останавливаясь. Ничего не замечаете?
— Ой, свет вокруг моей головы! Моя голова светится! — восклицает Оля, — А почему у вас головы без света?
Но мы с Сережей уже знакомы с этим феноменом и не очень ему удивляемся, хотя зрелище сегодня особенно яркое: вокруг тени головы каждого из нас сияет жемчужный яркий нимб. Я вижу только «свой» нимб, Сергей — лишь у своей тени, Оля — у своей. Это лучи солнца попали в шарообразные росяные капли, усеявшие почти сплошным бисером чуть мохнатые листья люцерны, отразились внутренней поверхностью водяных шариков и снова вышли наружу, навстречу светилу. Наиболее ярко сияют (для каждого из нас!) те капельки, которые ближе к продолжению прямой линии «солнце — глаз наблюдателя», то есть у тени его головы — так сказать, в «противосолнечной точке» мира, усеянного росой. Светятся, конечно, и другие росинки, что дальше от тени, и лучики от них улетают как бы обратно на солнце, но вдали от нас, и потому эти дальние капельки не сверкают. Но когда голова идущего наблюдателя окажется между этими росинками и солнцем,, засверкают и они — конечно, только для этого наблюдателя. Так мы и объяснили Оле суть поразившего ее феномена.
Здесь нарисованы (конечно, схематически) две росинки, внутри которых преломляется и отражается солнечный луч. Верхняя капелька, находящаяся на прямой «солнце — наблюдатель», послала луч назад, и человек видит ее сияющей. Нижняя капля тоже сияет, но уже для кого-то другого, а «наш наблюдатель» ее видит темной. Так что все росинки вокруг тени только вашей (а ничьей другой) головы будут ярко светиться, разумеется, только для вас. Таким образом любой из «смертных и грешных» может стать в определенных условиях «святым»...
Подробно изучить описанное лучше всего с помощью обычной круглой колбы. Наполним ее водой — получится как бы огромная «росинка». Поставим колбу на землю и отойдем спиною к солнцу так, чтобы тенью головы закрыть «росинку». Теперь чуть сдвинем голову — в колбе засияет яркий блик. Сдвинем еще — блик ослабеет, а в метре от тени колба и вовсе не блестит. Больше всего она будет сиять только около тени вашей головы.
Особенно эффектный «нимб» заметен на очень росистом лугу во время быстрого движения наблюдателя на велосипеде или открытой машине. Отдельные детали травяного пейзажа смазываются, и вокруг силуэта головы, как на иконе, сияет яркий удивительный круг. Итальянскому скульптору, возомнившему в то далекое утро себя гением, следовало пристальнее изучать явления природы, как это делал другой его земляк и современник, Леонардо да Винчи — художник, проникший в глубину множества тайн окружающего Мира. Увы, для этого требовалось «немногое» — самому быть по меньшей мере таким же гением. Не сомневаюсь, что Леонардо, увидев такой нимб, дал бы ему разумное материалистическое объяснение, да еще бы и предложил применить это явление для какого-нибудь полезного прибора. Впрочем, Челлини и так, без нимба, достаточно знаменит — скульптуры его украшают лучшие музеи мира.
Солнечные же «нимбы гениев» носит, зачастую того не зная, каждый житель Земли.
Кто-нибудь из читателей, наверное, знаком с еще одним видом «окологоловных» сияний — ес-I ли свою тень наблюдать на пашне, даже совсем сухой, тоже лучше с движущейся машины или велосипеда. Вблизи тени вашей головы земля светлее и в этом случае. Рисунок поможет узнать причину и этого явления: около тени головы освещенные солнцем комочки земли закрывают свои маленькие тени, подставляя глазу только освещенный бок; несколько дальше от «противосолнечной точки» на патине уже заметны короткие тени, падающие от частиц почвы: еще дальше тени от комков длинные темные и в целом значительно затемняют пашню кроме участков вокруг головы.
Впрочем, все сказанное относится не только к комочкам земли, а и к камешкам, песчинкам, травинкам. Расстояние до тени не имеет значения. На противоположном склоне очень широкой или глубокой балки или оврага, куда должна упасть ваша тень от утреннего или вечернего солнца, вы свой силуэт можете не увидеть: далекие тени смазываются из-за большого углового размера Солнца — около 0,5 градуса дуги. Но там, где быть вашей тени, сразу заметите наиболее светлое местечко всего пейзажа: ведь именно только в этом «пятачке» травинки и камешки не дают теней.
! Самое потрясающее из явлений подобного рода — так называемый брОккенский призрак, по имени горы Броккен в Германии, где его издавна наблюдали люди, не найдя объяснения, приписывали это сверхъестественным силам и «населили» знаменитую гору всякой нечистью, которая в некую Вальпургиеву ночь собиралась на ее вершине на грандиозный шабаш. А чтобы туда не попали «обычные» люди, ведьмы, мол, пугают их необыкновенно странными и страшными тенями.
А это просто на светлом тумане, встающем солнечными утрами на фоне гор из долины, вырисовывается тень путника, кажущаяся огромной и вдобавок окруженная знакомым уже нам кольцом. Пугающе большой тень кажется потому, что туманный «экран» начинается сразу от наблюдателя, уже как бы окунувшегося в туман, но увенчанная нимбом его тень простирается и в глубь туманного облака, и кажется, что она там да« леко-далеко, а потому и огромна.
Это редкое явление вполне поддается фотографированию; удачные снимки броккенского призрака опубликованы в книгах по атмосферной оптике.
Можно вызвать «искусственный» броккенский призрак, направив ночью луч фары неподвижного мотоцикла или машины (другую фару прикрыть) в сторону ночного тумана и встав между фарой и этим «экраном». Поскольку лампа ближе солнца, можно сделать тень эту еще более страшной: пятьтесь к фаре, и тень будет до жути гигантской. А при отсутствии тумана можно воспользоваться пылью от идущего впереди транспорта — вроде того как на рисунке. Когда я провожу подобный ночной опыт, зрелище это настолько потрясает громадностью моей же тени, что — сознаюсь честно — становится не по себе...
Зато когда экраном для броккенского призрака или нимба служит чистая крупная роса или же туман с достаточно большими капельками, то светлый диск нимба видится в окружении красивейшего торжественно-яркого многоцветного кольца, очерченного на угловом расстоянии в 42 градуса дуги от противосолнечной точки или середины тени вашей головы. А это ведь уже не что иное, как самая обыкновенная радуга. «Самая обыкновенная» — в смысле наиболее часто видимая нами из подобного рода оптико-атмосферных явлений в дождях, водопадах и фонтанах. А ведь радуга — тоже чудо, тоже тонкое, сложное, красочное, почему-то всегда вносящее в душу тихую, но свежую радость. Нет, радуга заслуживает,- может быть, даже отдельной, богато иллюстрированной книги...
А посему, не останавливаясь на красавице радуге, но вспоминая виденные мною самим феномены вокруг противосолнеч-ных точек, я упомяну лишь еще два из них. Эти не менее интересные наблюдения может сделать, кстати, каждый, кто летит
на самолете.
...Гудящий авиалайнер пробил последний облачный слой, в салоне ярко засияло солнце, и пассажиры, что сидят у левого, южного, борта, торопливо зашторивают иллюминаторы синими светофильтрами. А я сижу у противоположного, северного, борта, и, как всегда в таких случаях, смотрю на удивительные картины, открывающиеся передо мной. Внизу, по белому облачному одеялу, скользит тень нашего громадного «ТУ-134». Хорошо видны не только крылья и фюзеляж, даже двигатели. Но самое замечательное — это светлый диск вокруг самолета, окруженный нежно-радужной круглой каймой. Центр этого кольца приходится в точности на то место тени фюзеляжа, в котором находится именно мое кресло, а точнее на тень опять же моей головы. А впрочем, для любого другого пассажира светлый диск будет иметь и другой центр — как на рисунке.
Природа этого явления в общем та же, что и нимба вокруг головы Бенвенуто Челлини: преломление и обратное отражение
солнечных лучей в водяных капельках, из которых составлено облако. Летчики зовут это явление красивым именем — глория, им оно очень хорошо знакомо (в отличие от большинства пассажиров, которые, кстати, имеют куда больше времени и возможностей беззаботно и подолгу смотреть в иллюминатор).
Как в песне: «Самолет поднимается выше и выше, и на взлете моторы протяжно ревут...» Вот уже и тень нашего могучего лайнера стала на облаках маленькой, неясной. Но глорию видно отлично: цветной волшебный кружок на ритмично-волнистом поле белых туч. Проходит еще несколько минут. Впереди погасли табло насчет ремней и курения — значит, подъем окончен, мы набрали нужную высоту. А там, далеко-далеко внизу, в противосолнечной точке, бегущей по огромному белому одеялу, которое укрыло землю, все еще виднеется румяно-зеленоватый кружок глории, уже, конечно, без тени самолета, несущего нас на десятикилометровой высоте в густо-синем солнечном небе.
Но вот облака внизу стали редеть. В голубых прорывах между ними медленно поплыли назад ниточки дорог и змейки рек. Еще немного — и мы будто повисли над огромной безбрежной чашей, тонко и сложно расписанной под географическую карту.
А что же противосолнечная точка? По лучам светила, пробивающимся в салон сквозь синие светофильтры у другого ряда кресел, прикидываю, где сейчас должно находиться солнце, мысленно строю линию, проходящую от него через меня вниз направо, в противоположную сторону мира, и пытаюсь уловить наиболее светлое место почти космического пейзажа.
Ага, нашел! Мягко окрашенный не то в розовый, не то в сине-зеленый цвет маленький кружок плывет-летит по полям, дорогам, пескам. Он невелик, в диаметре что-то около двух градусов дуги, но виден вполне сносно. Надо ведь — это до земли, если считать вертикально вниз, десять километров, а глория далеко в стороне, получается всего до нее не менее пятнадцати тысяч метров. И «обестененные» листья, комочки земли, глыбы и камни, здания и люди, стада и песчинки — все то, что попадает в волшебный кружок глории, сияет нежно-румяным диском, ползущим по лесам, рекам, городам, степям. На это лишь кажется, что она тихо ползет — глория летит с точно такою же скоростью, с которой мчится наш «ТУ-134».
Почему «противосолнечный» кружок на далекой земле светел — это теперь читателю понятно: там не видно никаких теней. Не очень ясны, даже для ученых, еще два обстоятельства: почему эта «земная глория» имеет не размытые очертания, а видится вполне уловимым диском с угловым диаметром в два градуса дуги — независимо от высоты полета? И еще: почему этот кружок окрашен в нежные, но вполне различимые цвета — в сухой степи днем нет ведь никакой росы? «Грешат» пока на дифракцию...
Да, много еще чудес сокрыто и в наших собственных глазах (какое это счастье — видеть!), и в окружающем нас мире, особенно если естествоиспытатель, пусть даже просто «зритель-любитель», вооружен биноклем, фотокамерой, лупой, кистью.
И хочется пожелать читателю, попросить, убедить: глядите — везде и всегда! — на мир как можно пристальней. И он, как бы одухотворяясь вашим пытливым взглядом, откроет вам великое множество своих сокровенных и неожиданных тайн.
ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ
В детстве я нередко находил в камнях, из которых были сложены заборы и дома, или прямо в древних известняковых скалах, на которых стоит Симферополь, окаменевшие останки древних морских ежей, нуммулиты (круглые раковины вымерших корненожек), белемниты (остовы древних кальмаров) и другие интереснейшие окаменелости. Груда их в углу одной из комнат продолжала расти, но, кроме них, мне страстно хотелось найти отпечаток какой-нибудь рыбы или хотя бы следа ящера, особенно после того, как крымский краевед С. И. Заб-нин, друг моего отца, к которому он иногда меня водил, показал мне однажды замечательный отпечаток рыбки, найденный им в скале. Камень был расколот точно вдоль полости, где лежала рыба, и вогнутый отпечаток морской обитательницы даже впитал ее цвет — буровато-желтый в отличие от фона почти белого камня.
Но так как мне упорно не везло с находкой заветного отпечатка, то я, помнится, шел на подделки: срисовывал из книги известное изображение распластанных останков первоптицы — археоптерикса (переходная фаза от ящеров к птицам), вырезал бумагу по контуру рисунка и наклеивал на плоские голыши. Наверное, получалось не очень убедительно, потому что я делал все новых и новых «археоптериксов», некоторых, помню, густо покрывал лаком — возможно, для «обобщения» цвета бумаги с камнем...
Сейчас смешно об этом вспоминать, но, наверное, это убе-льный пример того, насколько сильной бывает у детей тяга А И3учению Природы. А вот почему я стал не палеонтологом, а энтомологом — сказать трудно. Скорее всего потому, что живое по мне, куда интереснее мертвого...
Тем не менее какую-то дань своему детскому увлечению я изредка отдаю и сейчас. Это даже нечто меньшее, чем хобби — от силы несколько часов в год. Если хорошо поискать, остатки древних животных и растений или следов их деятельности отыщутся в любом краю.
Новосибирск тоже построен на целом кладе древностей, да еще каких! В этом можно убедиться, побывав в краеведческом музее, где стоит скелет мамонта, лежат огромные черепа носо-рогови кости других вымерших гигантов.
...Мы с Сережей бредем по высоким песчаным грядам, что насыпаны на берегу Оби недалеко от города. Что это за гряды, и что нас тут интересует?
Наиболее пригодная для плавания судов часть русла реки — фарватер — здесь регулярно углубляется и выравнивается земснарядом. Громко скрежеща и лязгая мощными ковшами, он выгребает донные отложения, и огромное количество песка, то совсем мелкого, то смешанного с камнями, доставляется на берег, где ссыпается в виде большущих, как горы, буртов. У одного из них работает экскаватор, от него бесконечной вереницей идут самосвалы, тяжело нагруженные песком, который на заводе превратится сначала в бетон, а затем, на стройплощадках, в жилые и промышленные здания. Но все равно материала этого поступает со дна реки больше, чем его расходуют, и несколько таких «гор» есть даже напротив нашего научного агрогородка.
Вскарабкались на очередной песчаный холм, и сразу же — ценнейшая находка, чернеющая среди разновеликих и разноцветных речных галек, обмытых дождями наверху «горы». Длинный кусок толстой кости, тяжелый-претяжелый, окаменел. А сверху покрыт коркой лоснящегося черно-синего «загара» древности — окислов.
Чья это была кость? В какие такие незапамятные времена? Во всяком случае не такие и близкие, коли кость превратилась в камень. Наверное, какой-нибудь огромный неведомый зверюга, непохожий на ныне живущих, бродил в этих краях...
А вот и еще находка: позвонок, правда небольшой, с кулак, и более легкий и светлый, чем черная увесистая кость. Но тоже достаточно древний. Вот из песка торчат отростки: снова позвонок, только другой формы. Да тут целый клад древностей!
Рюкзаки наши уже изрядно набиты тяжелым грузом. Это пенные находки — кости древних и древнейших животных, поднятые земснарядом со дна Оби вместе с донными отложениями, где захоронено несметное количество этих богатств.
Ни о чем подобном не подозревая и просто обследуя природу окрестностей городка, в который недавно переехали из Омской области, мы шли к Оби.
Среди галек, если хорошо приглядеться да еще и помочь при этом лопаткой, окатанные и окаменевшие обломки костей, то сплошных, то трубчатых, тоже с коркой бурого или совсем черного «загара» — значит, очень древних. Конечно, никакой палеонтолог по таким маленьким отколышам-окатышам не восстановит облик зверя и не назовет, к какой группе животных его отнести; научная ценность их ничтожна или равна нулю, тем более что неизвестно, из какого осадочного слоя, с какой глубины каждый из них извлечен. Но нам с Сергеем это не столь и важно: нам дорого то, что мы держим в руках и вот сейчас унесем домой эти спасенные нами от использования в стройматериале настоящие останки настоящих вымерших зверей...
Впечатление еще усиливалось оттого, что черные окаменелости лучше прогрелись солнцем, чем светлые камешки, и были теплые, как бы сохранившие что-то от той, давно ушедшей, жизни нашей планеты. И перед тем, как сложить их в рюкзак, мы подолгу их ощупывали, гладили, перекатывали в руках.
Попадались в гальке и песке, по-видимому, относительно «молодые» косточки небольших животных — более светлые и почти не окаменевшие. Там же мы нашли несколько «щепок» превратившихся в камень стволов деревьев, тяжелых, как напильники. К одному из довольно крупных — с килограмм — позвонков намертво прикипели желваки-конгломераты из древних мелких камешков и раковин. Значит, кость пролежала в русле потока или реки чрезвычайно долго, притом на огромной глубине, спаявшей осадочные породы снова в почти цельный камень.
Части черепов, зубы, куски трубчатых и пластинчатых костей, мелкие их окатыши, позвонки, окаменевшая древесина — всего этого было для внимательных охотников за древностями предостаточно. И подумалось, как же кипела жизнь в древнейшие времена в этих местах, сколько же здесь было всякого зверья, если мы находим такую массу останков! Конечно, тут перемешаны все эпохи: ручьи и реки миллионы лет сносили мертвых животных в Обь, и при таких путешествиях скелеты «демонтировались» до косточек, рассеиваясь на многие километры. Большинство останков погибших зверей, как мы знаем, в при-
роде не уцелевает, поэтому даже то, что оказалось в реках, а теперь, извлеченное земснарядом, попалось нам на глаза, наглядно свидетельствует об огромной «биомассе» крупных животных (не говоря о мелких), населявших наши небогатые сейчас живностью суровые края в давно отшумевшие, наверное, очень теплые эпохи.
Что ни поход — часа на два-три — то большая партия находок. «Музейная жилка» не позволяла свалить все это в угол. И пришлось для каждой партии древних костей делать стеклянный «саркофаг» — как на рисунке. Несколько таких коллекций, экспонировавшихся на выставках местных природ олюбов, сейчас висят у нас дома, в «биокомнате».
На странице 68 — хронологическая схема возникновения и развития жизни на нашей Земле. Как-никак, старушке скоро пять миллиардов лет — в некотором роде юбилей. Земной же коре — около 4,3 миллиарда лет. Справа — округленная «шкала времен», которая принята у палеонтологов и геологов, — периоды и эры. Показаны лишь важнейшие группы животных и растений, их «взлеты и падения». Многие, как видите, не дотянули до наших дней, другие — вроде бы процветают. Но последний, антропогенный — «родивший человека» — период настолько короток (начало антропогена 0,6 — 3,5 миллиона лет тому назад), что почти не получился на схеме. А ведь именно этот тонюсенький «ломтик» времени, особенно последние его столетия («техноген»), уже повел за собою невиданные доселе изменения биосферы Земли.
...Самая пока большая из наших приобских находок воспроизведена здесь на рисунке. Это — задняя часть черепа древнего бизона, некогда обитавшего там, где сейчас расположена
полуторамиллионная с т о л и ц а Сибири. Для масштаба я поместил «в кадр» Сергея — автора находки. Линией показан контур рогатой головы бизона, некогда вмещавшей этот мощный лобастый череп.
ОНИ ОХРАНЯЛИ МОЙ ГОРОД
Приглашаю читателя совершить вместе со мною путешествие в страну моего детства, по маршруту, несколько неожиданному: он проляжет чуть в стороне от живых зверушек и насекомых, от небесных светил и живописи.
Итак, улицы, ведущие к центру города (я уже писал, что мы жили в самой высокой части Симферополя), были не прямые, а прихотливо извилистые, как речушки и ручьи, стекавшие в большие реки прямых и более широких улиц городского центра; эти старинные районы сейчас мало изменились, разве что улицы покрыли асфальтом да снесли несколько мешавших движению транспорта или совсем ветхих домов.
Городской мир тогда для меня делился на четыре четких яруса, каждый из которых имел не только свое назначение, смысл и образ, но и свой четкий, непохожий на другой, цвет. Самый верхний — небо, с его облаками, стрижами, грифами — был синим. Второй ярус был пышно-зеленый, и он как бы соединял небо с землей. Это были деревья: высокие пирамидальные тополя, густые акации, раскидистые платаны, шипастые гледичии, непробиваемые лучами солнца каштаны. Третий ярус был всегда солнечным и оранжево-красным: этот цвет создавали черепичные крыши — владения воробьев, голубей, кошек, трубочистов и, конечно же, нас, ребятишек, страсть как любивших, несмотря на запреты, очутиться в этом обширном, непривычно пустынном, красно-горячем мире. Горячем потому, что лазать по деревьям и крышам ловчее босиком, и горбушки «татарской» черепицы (самый распространенный тогда в Крыму вид кровли), разогретые солнцем, приятно подпекали босые ступни.
А четвертый ярус, что пониже, был белым. Это — дома, заборы, стены, сложенные из известняка и побеленные. Слепящая белизна одноэтажных, реже двухэтажных домов еще более подчеркивалась бархатисто-черными широкими поясами: в те времена было принято после побелки фасадов к праздникам окрашивать низ дома — фундамент, панель или просто по шнурку — печною сажей, разведенной на керосине. Получалось очень лкрасиво.
Был ниже и пятый ярус — сами улицы, вернее, их поверхность: то просто обнажившаяся скала с оббитыми обручами тележных колес белыми буграми, с цышнотравными лужайками по бокам, то булыжная мостовая с блестящими, очень выпуклыми голышами — асфальта в ту пору еще не было. Поверхность эта, однако, не была безжизненной: здесь жили муравьи — неуловимо-стремительные бегунки и медлительные блестяще-черные жнецы, а вечерами бегали большие жужелицы, ковыляли симпатичные толстые жабы, шурша по тротуару отвисшим тяжелым животом. Наутро же дворовые тропинки, переулки, а то и мостовые серебрились на солнце от длинных засохших следов, которые оставили ночные хозяева улиц — большие рыжие слизни.
Но самым памятным ярусом был, безусловно, четвертый, белый. Прежде всего потому, что белый цвет — самый яркий. Он создавал и цветовой образ города. Это и до сих пор так — даже с вершины Чатырдага, одной из самых высоких гор Крыма, если, конечно, ясная погода, даже сквозь огромную толщу густо-голубого воздуха (как-никак по прямой это почти тридцать километров) мой Симферополь мерцает белым. Ну и, конечно, белый ярус был очень важен потому, что там жили люди, в том числе и я сам...
Но, знаете, что мне раньше всего запало в память изо всего, в общем-то, очень сложного для младенца городского мира? Необыкновенные, сказочные звери. Да, да, звери! Впрочем, не совсем звери: не то птицы, не то даже рыбы — большущие существа, какие-то и страшноватые и добродушные одновременно, что жили на одной из улиц.
Головы у них были, в общем, птичьи, с крючковатым, загнутым вниз, носом. По верху головы шел гребень наподобие петушиного, но переходящий сзади в рыбий плавник. Однако на спине у моих «знакомых» были вполне настоящие крылья. А вот туловище дальше шло опять как будто рыбье или змеиное: оно было покрыто крупной чешуей. Зато хвост, закрученный хитрой восьмеркой, кончался длинной волосистой кистью — вроде как у лошади или, скорее, у коровы. А вот ног или лап у них не было вовсе, зато из тела местами росли затейливые завитки.
И жили эти звери (хотя и были неподвижными, каменными) на стенах одного из домов, мимо которого меня из нашей тогда окраинной улицы сначала, совсем маленького, носили, а потом водили в город. И я очень расстраивался, если мы проходили другой дорогой.
Зато потом, когда вырос побольше и стал ходить в город сам, направлялся только по этой улице, к своим заветным драконам
стающим в виде плоского рельефа фасады одного из ста-р ы х двухэтажных зданий Симферополя.
рИ а очен; переживал за своих каменных друзей, когда уже в Л ?Z, v-шал по радио, что в город вошли фашисты. Цел ли с й 6 7 х ES Цел „Фи наш дом, где я родился и вырос? Что будет ЛПРЛЬС моим милым белым городом, с моими друзьями по ули-т школе с нашими соседями? И как назло, ни фотографии, П1 Сноска - ничего не осталось у нас с тех времен для того, нтпбы я мог хотя бы нарисовать себе на память своих каменных ™ импев (рисунок, что рядом, сделан мною уже сейчас), посмотреть на родные улицы и переулки.
Было мне очень тяжело. Но был у меня хороший помощник, который старался изо всех сил, чтобы излечить мою боль — это Природа. Непохожая на крымскую, скромная природа Западной Сибири, с ее привольными степями, озерами, уютными колками, милыми лесными опушками и полянами.
Спасибо тебе за это, благословенная омская земля, ставшая тоже родной, обласкавшая меня и пригревшая, милосердно и терпеливо лечившая мои душевные раны в пору юности, которая пришлась как раз на годы суровых испытаний моей Родины. НИИ
А память, в которой, оказывается, при давно ушедшем уже детстве прочно отпечатался почти каждый дом, каждый переулок, каждое дерево, каждый выступ камня, все равно часто возвращала меня в те края. И, становясь взрослым, я начал понимать, что, кроме живой и неживой природы, кроме школы, кроме мастерской отца и библиотеки матери, был у меня еще один воспитатель — архитектура.
Все эти здания и кварталы, в которых я вырос и на которые, оказывается, поневоле смотрел больше, чем на все иное (ведь идя, смотришь не столько вверх или вниз, сколько вперед и по сторонам), были для меня не просто мимолетной декорацией. Очень хорошо, хотя, может, несколько сухо, сказано про все это в Большой Советской Энциклопедии: «Архитектура, зодчество — система зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни и деятельности людей, а также само искусство создавать эти здания в соответствии с законами красоты. Ее художественные образы играют значительную роль в духовной жизни общества...»
Художественные образы... Ведь каждый дом имел именно свой, непохожий на других, облик. Были дома серьезно-строгие. Были беззаботно-радостные. Были удивленные, вопрошающие.
Были и таинственно-загадочные. Были дома мудрые, а были и глуповато-смешные. Все это зависело и от таланта зодчего, его замысла, и от прихоти заказчика, и просто от расположения и формы окон, дверей, лепных украшений, а иной раз, несомненно, и от того, как и когда я увидел этот дом впервые и что именно остановило мое на нем внимание. Я тогда, конечно, решительно ничего не смыслил ни в теории и истории искусства, ни в архитектурных стилях. Воспринимал просто все таким, как оно есть, и счастлив теперь, что так оно и было и что никто мне в этом не помешал.
Это уж теперь, приезжая в отпуск на родину и оглядывая своих каменных «воспитателей», вижу, что далеко не все здания были безупречны по вкусу и стилю. Многие были не в меру пышными за счет обилия «лепнины», многие — безвкусными из-за совершенно невообразимого смешения стилей и отсебятины. Ведь эта часть города была, в основном, построена до революции, и каждый домовладелец небольшого тогда провинциального дворянского городка старался «переплюнуть» другого чем-то особенным, может быть даже несуразным; тем более щедры были на украшательство владельцы магазинов и ресторанов.
Но уж в чем они были молодцы, эти давние архитекторы и домовладельцы, — так это почти полным отсутствием подражания. В отличие от изрядно портящего нам жизнь столь хорошо знакомого «чтоб как у других», их «архитектурное кредо» было иным: чтоб непременно «не как у других». Впрочем, то было тоже, наверное, своеобразное проявление мещанства, только «на противоположный манер»...
Как бы то ни было, разная архитектурная безвкусица и эклектика , возможно раздражавшая немногих для той поры истинных знатоков архитектуры лет шестьдесят назад, успешно прошла испытание временем, и в значительной части Симферополя сплошь и рядом, иногда на одном и том же фасаде, мирно и уютно соседствуют солидные тяжелые ампир и пышное рококо, странные подражания древней готике и тяжеловато-помпезное «южно-российское» барокко, томный болезненный модерн периода стыка веков и прямолинейно-грубоватый рационализм двадцатых годов.
И вот ведь что интересно. Фасады те множество раз ремонтировали, красили-белили, и многочисленные лепные детали над окнами, дверями, на стенах мало-помалу замазались, округлились, местами чуть ли не слились с фоном — ведь на них нарос
Эклектика — соединение разнородных художественных стилей и взглядов.
твердый толстенный слои красок и извести, — но «лепнина» стала от этого только лучше, обретя монументальность и утратив ненужную дробность деталей: карнизиков, завитков, листиков и прочих, мелочей. И получился как бы общий, единый, вполне благородный стиль — старинное, и всё тут...
Очей своебразный результат дала такая вековая «обработка» немудрящей белильной кистью домохозяйками лепных деталей, изображавших львиные морды, маски богинь и амуров, во множестве вплетенные в рельефные орнаменты. Физиономии их утратили свои когда-то утонченные «божественные» формы и стали совсем земными, то сердито-одутловатыми, то добродушно располневшими, то смешно оплывшими, когда под слоями извести, наносившейся мочальной кистью, почти исчезли либо глаза, либо губы.
А некоторые явно были задуманы их авторами не идеализированными, не в подражание античным, а как простые, вполне живые, земные физиономии, зачастую с весьма неправильными чертами лица — то скуластые, то с близко посаженными глазами, то курносые, но именно этим удивительно симпатичные. Сдается мне, что моделями для некоторых из них служили провинциальному скульптору его земляки-соседи, а то и сама тщеславная хозяйка дома...
И лишь недавно я сделал для себя неожиданное открытие. Замечал в детстве и отлично помнил лишь тех, «не идеальных» каменных, алебастровых и цементных людей (ну и, конечно, почти всех каменных же зверей) нашего города; а те, что были выполнены как добросовестное подражание холодной классике «а-ля-Аполлон», да еще и охранялись от порчи и наслоений побелки, мною, оказывается, в детстве и вовсе не замечались! Совсем недалеко от нас был громадный помпезный домище, точнее дворец, — бывшая резиденция губернатора. На нем — не счесть колонн, гирлянд и прочего, а недавно я сосчитал: на его фасаде красуется в почти полной сохранности девятнадцать изображений живых существ, в том числе кариатид , масок античных богов и богинь, купидонов , львов... Но то ли потому, что их
Кариатида — скульптурное изображение женской фигуры, служащее опорой в архитектурном сооружении.
Куп ид о и — мифическое божество любви, изображалось в виде шаловливого мальчугана.
было слишком много, то ли оттого, что они были очень правильно-официальные, холодные, неприветливые, не знал их и не видел, хотя ходил буквально рядом сотни раз. А сейчас они и вовсе мне не нравятся, хотя вроде и придраться не к чему, отличная работа. Так что секрет невидения и неприятия людьми — в парадной бездуховности, безжизненности такой скульптуры. Что же, таврический губернатор, наверное, это чем-то заслужил...
То ли дело мои любимцы — кустарно-пряничные, .очень выразительные нимфы и менады, грифоны и сатиры, наяды и кариатиды, драконы и купидоны, дриады и атланты — вое они не бесстрастно глядели вдаль, а либо приветливо улыбались (мои как бы «сверстники» — ребячьи маски амуров и купидонов), либо думали тяжкие странные думы, либо выполняли почти непосильную работу: стоя в неудобной позе, напрягши до предела мышцы, день и ночь, из года в год держать тяжеленный балкон на руках, спине, а то прямо на голове, согласитесь, это нелегкий труд, но старинные атланты и кариатиды Симферополя, даже облупленные, даже многократно забеленные, мужественно и безропотно несут свою странную трудовую вахту.
У иных вроде бы и работы уже не стало: убрали балкон. А снизу стоят два бородача с перекатывающимися под известковой кожей мускулами, с серьезным выражением лица и, не убирая поднятых над головою рук, терпеливо ждут, когда люди догадаются обеспечить их новой работой, построят новый балкон. Не подозревают могучие старики, что дни их сочтены и дом подлежит сносу. Пара таких обнаженных по пояс, но «безработных» атлантов все еще стоит на перекрестке улиц Чехова и Танкистов, и мне жаль этих мужественных алебастровых людей, бескорыстно несших свое тяжкое бремя почитай целое столетие. На рисунке — один из них...
Н имфы, менады — мифические существа в виде прекрасных дев; наяды — мифические обитательницы вод (вроде русалок); дриады — подобные «жительницы» лесов. Грифон — фантастическое чудище с львиным телом, птичьими крыльями и головой льва или орла. Сатиры — мифические обитатели леса с туловищем и головой человека, козьими ногами и рожками. Атлант — в архитектуре — мужская статуя, поддерживающая балкон, перекрытие и т. п.
конечно, ничто не вечно, даже камни. Город растет, обновляется, и это очень хорошо. Как написал один журналист, многое здесь просится в равной степени и на холст живописца, и под ковш экскаватора. И я уже не досчитался многих своих каменных приятелей, погибших в кучах строительного мусора при сносе старых зданий.
И потому решил: пройду-ка по городу, запишу сохранившиеся еще скульптурные изображения живых существ на фасадах старых зданий, некоторые сфотографирую, некоторые нарисую. Спозаранку, чуть свет, бегу на улицы, освещенные солнцем с востока, чтоаы запечатлеть очередную «натуру» до того, как она окажется в тени. Горюю, когда пасмурно, и жду с нетерпением солнышка. А к вечеру опять забота: не прозевать «ухватить» те рельефы, которые озарены светилом с запада. Переживаю, что «не уложился» в отпуск. А дома, в Новосибирске, снова волнения: как получились фотопленки, не испортил ли какую?
Странновато выглядит человек, нацеливающийся фотокамерой на облупленные детали старой отделки домов. «Правильно, товарищ корреспондент, давно это повалить надо и дать нам новые квартиры!» — такими репликами не раз меня подбадривали на улицах симферопольские домохозяйки. Что верно, то верно, старинные дома и домишки, строившиеся почти без плана в незапамятные времена, неблагоустроенны, холодны, от вековой сырости, и жить в нИх современному человеку трудно. И потому во многих местах города, лязгая гусеницами и поднимая нещадную пыль, хозяйничают бульдозеры и экскаваторы, снося это «старье»: здесь встанут новые отличные дома — просторные и сухие. Все это очень своевременно и очень правильно.
Но вот я походил по новым многоэтажным кварталам Симферополя, решительно ничем не отличающимся от современных микрорайонов других городов — как говорят, «из стекла и бетона». И разве что скромную плоскую ленточку геометрического орнамента увидишь на редком из таких зданий. Дома уже много десятилетий не украшают никакой «лепниной» — в свое время она вполне справедливо была признана дорогостоящим архитектурным излишеством.
Только вот представляю, каким бы я вырос среди таких «коробок», не украшенных странными красивыми раковинами, гирляндами цветов и плодов, стилизованными листьями, симпатичными мордами львов, похожими на огромных добродушных котов (а я и думал маленьким, что это именно коты), бородатыми и рогатыми сатирами, богинями и богами в образе простых тетей и дядей, — без всего этого мира, своеобразного, привлекательного, почти живого? Без его окружения и воздействиябыл бы какой-то очень большой изъян в моем развитии и становлении, сильно пострадала бы любовь к природе, к творениям рук человека, наблюдательность. А уж художником я бы А вовсе не стал.
Но мои цементные и каменные друзья, кроме воспитания меня и мне подобных, подпирания тяжелых балконов икарнизов, оказывается, несли и другую, трудную, опасную, почетную работу.
Хозяйничавшие в городе гитлеровцы не видели и не желали замечать таких мелочей, как скульптурные украшения домов. Им было не до этого: заботы о спасении своих шкур от дерзких налетов партизан, базировавшихся в крымских rqpax, от диверсий героев-подполыциков, действовавших в самом городе, а затем уже от наступавших наших войск порождали звериный страх и бешеную злобу. Обыски и аресты, угон людей в Германию, массовые расстрелы — прямо на улицах, в балках, пересекающих город, в застенках, в загородных концлагерях... И каменные лики под карнизами и арками зданий помнят, помнят об этом. Около 23 тысяч убитых и замученных симферопольцев, многие десятки тысяч силой угнанных в Германию, разрушенные предприятия, разграбленное оборудование — таков зловещий итог пресловутого «немецкого порядка» за 865 дней оккупации города. Много, много страшного рассказали мне оставшиеся в живых друзья и соседи.
И все эти 865 дней на бесновавшихся фашистов молчаливо и грозно смотрели каменные лики атлантов и кариатид, львов и грифонов. Смотрели и ненавидели. Глядели и запоминали. Многочисленные каменные стражи города расположились высоко под крышами, над окнами, в арках ворот, и фрицы их не замечали, а если и видели, то им было явно не до скульптур: я насчитал только две разбитых пулями кариатиды. Пули они берегли для живых...
И хочется думать, что молчаливые, недвижные фигуры на зданиях помогали своим живым землякам и творцам, да иначе и не могло быть — неужели только вот так стояли и смотрели? Нет, я уверен: коли весь город, вся страна встала на борьбу с ненавистным врагом, не оставались в стороне и «каменные горожане» — мужественные атланты и сатиры, суровые сфинксы и грифоны, даже нежные нимфы и менады.
И не только они. Высоко-высоко на фасаде дома № 4 по Пушкинской улице высечены несколько больших барельефов в духе первых послереволюционных лет — в стиле благородного символического классицизма. Гордый мускулистый пролетарий
тяДелым молотом у наковальни. Пахарь с серпом у плеча, плугомчИ снопами пшеницы (под которыми трогательно примостилась кттттттка молока). Отлично выполненные фигуры целехоньки, хотя стшь ненавистные фашистам серп и молот должны были побудить их не пожалеть для этого пулеметных дисков. Но дело в том, чтЛ огромные фигуры, в общем-то, незаметны — некоторый просчет зодчего, вознесшего их слишком высоко, над густыми деревьями, спас их. И в результате они вышли победителями эти мускулистые гранитные люди с серпом» и молотом. Такими я их и нарисовал. Они охраняли мой город. И, вместе с живыми, они стояли его, очистили от ненавистного врага.
Был древний обычай, деревянной избы или с резьбой, непремен- ор на видном месте русалку либо крклатую фигуру с человечьим ликом. Считалось, что она обережет дома и его обитателей от лиходейства и дурного глаза. Стражниц этих так и называли — берегинями. Берегинь и сейчас можно встретить на уцелевших старых резных деревянных домах в Центральной и Северной России, в Поволжье, в Сибири.
Вроде бы суеверие, а Все равно хороший был обычай. То лукавые, то строгие, то веселые, то наивные существа с женским лицом, рыбьим хвостом или птичьими крыльями — плод фантазии талантливых плотников — уже потрескались от старости, и теперь роли поменялись: не берегини охраняют людей, а люди сберегают для дальнейших поколений чудесные произведения народного творчества — уцелевшие дома, одетые вычурной деревянной резьбой с лошадиными головами или петухами на крышах, с берегинями на фронтонах, наличниках окон или над воротами. Если такой дом все же подлежит сносу, то деревянное старинное кружево заботливо снимается и перевозится в музей.
А иногда весь дом, мельница, церковь, деревянная крепостная башня целиком перевозится за сотни километров в один из специальных музеев деревянного зодчества — таких музеев под открытым небом в нашей стране уже несколько. Перед этим
каждую деталь размечают, наносят на план, затем зданиеосторожно разбирают и перевозят на новое место, где терЛеливо собирают вновь, заодно тщательно реставрируя и прочитывая специальными препаратами против грибков, жуков-дреюточцев и огня.
Вполне справедливым было бы подобное отношение не только к деревянной резьбе, но и к лепным украшениям, кие могут возразить: первое — искусство чисто народное, плотницкое, второе же — дворянское баловство и помпезность. Так-то оно вроде так, только сделаны были все эти гирлянды, маски кариатиды, да и сами дома, такими же рабочими талантливыми руками, как и деревянные шедевры. И если можно еще поспорить насчет художественной ценности некоторых из этихлепных украшений, то уж историческая ценность их несомненна.
Они г- свидетели эпох ушедших.
Они — выразители трудолюбия, вкусов, настроений наших предков.
Они помогли охранить мой город.
Они помогли охранить и отстоять десятки других городов — каменные, цементные, алебастровые берегини.
Они прожили славную жизнь, намного боле долгую, чем наши жизни.
Но и камни не вечны, и вещие существа эти умирают. Я сам видел: сносили дом, так никто и не глянул на маски дриад с таинственной улыбкой, окруженные завиткми в стиле «модерн»: мощный бульдозер, грохочущий в тучах белой пыли, крушил стены старого дома вместе с его берегинями...
Даже у моих заветных драконов оцЦыла и почти исчезла чешуя, то же стало и с глазами. В теле рдного из бедняг наделаны большие зияющие дыры — когда-то крепили к фасаду плакат или что иное. Как поднялась рука «шлямбурить» эти дыры в почти живом существе? Жаль мне будет стариков драконов, если они умрут. А такое очень может быть: здание, на котором они доживают свой век, как я сейчас на него посмотрю, было выстроено «под готику», причем неумеренно вычурную, и, конечно, в понимании специалистов, «художественной ценности не представляет...»
Но разделят ли эту нашу сегодняшнюю точку зрения наши же потомки, скажем, лет через триста? Убежден: они будут по крохам, по сохранившимся фотографиям, рисункам кропотливо изучать, восстанавливать образы ушедших эпох, поминая недобрым словом любых разрушителей, даже самых благонамеренных и умных. И, может быть, все же есть резон пересмотреть бытующее сейчас отношение к «недеревянному» зодчеству наших
городов конца XVIH — начала XX веков, в общем неповторимому Лсвоеобразному?
И еще (это я уже как биолог): людям всех эпох и народов было свойственно изображать живой мир, украшая свои жилища и общественные здания образами растений, животных, людей. В этдм тысячелетиями проявлялась какая-то очень нужная связь с гтоиродой. Вспомним пещерную живопись палеолита, фрески и Лрельефы древнего Египта, Греции, Рима, Индии; вспомним строгую, но богатую растительными орнаментами и образами хилер и монстров готику, вспомним эпоху Возрождения — настоящий гимн Природе и Человеку. Так вот хорошо ли мы сделали, что начисто убрали с фасадов своих новых жилищ и общественных зданий все то, что накапливалось и совершенствовалось век ми — художественные образы живой Природы?
Кстати, насчет животных. Домашней живности, столь нужной человеческой душе, все туже и туже жить в городах; как ни горько, а, заглядывая вперед, приходится признать, что нашим потомкам-горожанам придется жить и вовсе без домашних животных. Такова неизбежная плата за наш городской комфорт и прочие городские Йлага. И вот не признаком ли этого служит исчезновение из нашего «декоративного обихода» тех самых симпатичных львиных физиономий, похожих то на добродушных котов, то на людей, забавных драконов и химер, гордых орлов и грифов, загадочных гранитных сфинксов и бронзовых вздыбленных коней?
...Уже который огпу ск я с фотоаппаратом и планшетом для рисования брожу по родному городу, навещая своих молчаливых любимцев. Составил даяле их «адресный список», завел фототеку. Затеял как бы «полный атлас» сохранившихся скульптурных изображений живых существ на фасадах родных улиц, некоторые рисунки из него вы здесь и видите.
Оказалось, что лучше всего рисовать такую скульптуру шариковой ручкой — твердый штрих одинаковой толщины, немного похожий на след граверного резца, наиболее убедительно передает объемы старинных барельефов. После, уже дома, я немного дорабатываю некоторые рисунки жидкими гуашевыми белилами, взятыми на перо, штрихами которого, направленными поперек или наискосок черных штрихов, смягчаю рисунок в нужных местах, изображаю «воздух» или шершавость поверхности.
Но в иллюстрированном списке моем все больше названий приходится обводить черной рамкой. Это значит: опять снесли несколько домов, и вместе с ними погибли такие-то сатиры, атланты или нимфы.
ЛЕГКОКРЫЛЫЕ КОЧЕВНИЦЫ
Я стою иа балконе нашего нового дома под Новосибирском я гляжу в бинокль. Но любуюсь не лесистыми заречными далями, что призрачно колышутся в жарком июньском мареве у горизонта. НеД мой бинокль направлен вверх: там, в бездонносветлой синеве, резко очерченной кругляшами черных диафрагм бинокля, — мириады легкокрылых существ. Это — бабочки. Некоторые, что поближе, величественно, как планеры, проплывают на недвижно распластанных крыльях, на которых я успеваю разглядеть в бинокль четкие темные жилки: у тех, что повыше, жилок не видно, но бабочки светятся на солнце десятками плывущих или порхающих пятнышек. Но это не все: над ними, где-то в почти уже недосягаемой выси — бабочки, бабочки, мельтешащие уже едва различимыми точками, как далекий снегопад или тополиный пух, и кажется, чем выше, тем больше этих странных летуний. Но это только кажется — просто в поле зрения бинокля попадает меньше тех, кто проносится на малой высоте.
Прислонившись к стене, чтоб не дрожали руки, я напряженно всматриваюсь в голубую просторную высь, похожую на какой-то иной, сияющий, захватывающий дух мир.
Вспомнились и слова поэта: «Сколько их? Куда их гонят?» В самом деле, почему столько бабочек в небе? Откуда, куда и зачем они летят, и все в одну сторону — на запад?
Еще раньше, в конце весны, я заметил увеличение численности бабочек-боярышниц, принадлежащих к семейству белянок, обычных жительниц наших мест. В природе они встречаются обычно в пределах некоей «средней нормы», наряду с другими легкокрылыми обитательницами наших лугов, лесов и полей — пеструшками, крапивницами, голубянками, чернушками! Но бывает так: в каком-то сезоне очень уж удачно сложатся для определенного вида насекомого сразу несколько условий"4 погодных, пищевых и многих других. И тут происходит массовое размножение вида, как говорят экологи — вспышка численности. Насекомые этого вида в такой удачливый для них год размножаются порой до невероятности.
Но как бы чувствуя, что их потомкам не хвати на родине пищи и других благ, снимаются с места и пускаются в дальний путь сначала отдельные странники, а потом все больше и больше переселенцев-мигрантов заполняют широкие магистрали воздушного океана, устремляясь, как бы по неведомому нам сигналу, в дальние края — и все в одном направлении.
Ученым и любителям природы давно известны массовые «разовые» миграции божьих коровок, многих видоа бабочек (даже их гусениц — но те ползут по земле), стрекоз; не так давно то время, когда «крылатая чума» — перелетная саранча — сбивалась в стаи, затмевающие солнце. Сейчас так-их страшных туч в нашей стране уже не увидишь — ученые, работающие над проблемами защиты растений, давно нашли средства уничтожения саранчевых кулиг еще до старта, в месте их рождения и подготовки к полету.
Но вернемся к боярышницам. В начале лета 1979 года под Новосибирском цх появилось столь много, что они стали явно преобладать над другими бабочками, мелькая всюду — в лесах, садах, на городских улицах. К середине июня их стало особенно много. Вот тогда я и подметил у них «тягу на запад», увидел летящих «в сторону дальнюю» не только над землей и растениями, но и высоко в небе. Решил узнать: каков потолок этих летуний? Оказалось, очень высокий, даже недоступный моему восьмикратному биноклю. И несколько дней — выдалась однажды особенно жаркая неделя — небо было буквально заполнено мигрирующими боярышницами.
Но немало интересного свершилось и на земле. Бабочки белыми гроздьями облепили едва еще раскрывшиеся соцветия чертополохов, зонтики борщевиков и снытей, разнообразные луговые цветы. Бабочки не только кормились на них, развернув свои скрученные в спираль хоботки, но и наскоро знакомились друг с другом, энергично трепеща своими широкими в черную полоску белыми крыльями, справляли свои многочисленные свадьбы.
Очень странные скопления бабочек мы увидели и на влажном песке, что неширокой полосой протянулся по левому берегу реки ниже плотины Новосибирской ГЭС. Здесь, среди зато
рающпх купальщиков и сосредоточенно замерших удильщиков, шевелящиеся белые «куртинки» боярышниц. Бабочки сидят густо-густо, плечо к плечу, некоторые с видимым наслаждением потягивают хоботком влагу из прибрежного песка.
Думаю: неужели здесь, на каждом таком крохотном, от силы двадцатиЛантиметровом пятачке, какая-то особенная влага, возможно, богатая некими солями, нужными боярышницам? Сгоняю стайкуЛ — в воздухе мельтешит несколько десятков разлетающихся бабочек, на песке остаются лишь две-три. Но вскоре сюда, к оставшимся, слетаются остальные, и «бабочья лужайка» вновь принимает изначальный вид, густо шевелит десятками белых крыльев. Прогоняю стайку вторично, на этот раз основательно» всех до последней бабочки. Увы, никто сюда уже не возвращается, зато в других местах пляжа порхающая компания быстро рассаживается, но не в одну а в несколько кучек, сначала небольших, а затем «многолюдных». К прежнему же пятачку больше не подлетает ни одна.
Получается, что влечет их не только влага, содержащая соли, но и компания себе подобных. Тут можно пообщаться с соплеменниками, устроив нечто вроде собрания, и потянуть хоботком — обязательно за компанию! — каплю-другую водички из песка, что, наверное, так приятно в тридцатиградусную жару. Ни дать ни взять «бабочкины клубы»...
Жаль, я тогда не захватил с собой фотоаппарата. Зато спустя несколько дней, не очень далеко от этого места, но не на песке, а в тенистом лесу, я все же заснял нечто очень похожее. Бабочки, принадлежащие к совсем другому семейству бархатниц (боярышницы относятся к белянкам), — темные красавицы с эффектными глазками-колечками, — восседали плотной кучкой на горизонтальном участке изогнутого березового ствола. Там не было ни сока, ни другой какой влаги; ничего похожего на «свадьбу» также не намечалось. Сфотографировав эту милую компанию, я все же решил немного поэкспериментировать и взмахом руки согнал бабочек со ствола. Они взвились порхающей стайкой, но далеко не разлетелись; когда я отошел шагов на десять, снова все до одной уселись на прежнее место.
Я спешил домой и тайну «клуба бархатниц» решил разгадать на следующий день, придя сюда специально, по назавтра ни на том же самом месте, ни где-нибудь поблизости не было видно ни одной бархатницы, и лесная загадка, одна из многих, так и оста-
лась для меня нераскрытой, лишь запечатленной на фотоснимке.
Но я опять отвлекся. В отличие от безобидных бархатниц, боярышницы иногда наносят людям ощутимый вред. Вернее, не сами бабочки и не самим людям. Гусеницы боярышниц, кроме основной своей еды — листьев дикого боярышника, — вгоды массового размножения обгрызают листья плодовых деревьев в садах, порой оставляя от листа лишь сеть жилок. Осенью еще юные гусеницы мастерят зимние гнезда: поврежденные листья сворачивают в незамысловатый паутиновый «дом», внутри которого коротает зиму компания гусениц, иногда до сорока штук. Спят они там в эдаких персональных спальных мешках — паути-новых коконах. А весной набрасываются на молодые листья и даже почки. Отъевшись и достигнув предельных размеров — в длину почти со спичечный коробок, — гусеница превращается в куколку, не забыв прикрепиться к ветке, тонким, но прочным паутиновым пояском. Недели через две-три шкурка куколки лопается и на свет является крылата! боярышница.
После бабочкиных «свадеб» самки откладывают на листьях своих кормовых растений яйца — блестящие шарики, расположенные бок к боку так, будто на листе кто-то прекрохотный собрался начать бильярдную партию. Из яичек вылупятся крохотные гусеницы, и цикл начнется снова...
За годами массового размножения насекомых-кочевников неизбежно следуют «периоды упадка» — из-за быстрого размножения природных их врагов: грибковых и вирусных болезней, паразитических и хищных насекомых (наездников, мух-тахин). Теперь наступает эпоха благоденствия для них, ранее незаметных, и племя заполонивших было местность бабочек или иных насекомых быстро идет на убыль.
Так маленькие друзья земледельца, держащие под неусыпным контролем всех тех, кто сможет сделаться вредными обжорами, неоценимо помогают сельскому хозяйству. Только, конечно, при условии разумного и своевременного использования химических препаратов, чтобы заодно с вредителями не загубить насекомых и других животных, которых, к слову сказать, неизмеримо больше видов, чем самих вредителей сельскохозяйственных культур. В последние годы вместо ядохимикатов против гусениц многих бабочек, в том числе и боярышниц, успешно применяют биологические препараты, вызывающие бактериальные болезни у гусениц и не вредящие остальному животному и растительному миру. Успешно истребляет яйца множества вредных бабочек крохотный наездничек трихограмма, которого сейчас в огромных количествах разводят на специальных фабриках.
Приглядывайтесь изо дня в день, из года в год к миру малых существ повнимательней. И тогда вы отметите, что такой-то сезон был «счастливым», скажем, для водных жуков-плавунцов, осаждающих вечерами городские фонари, или же для полезнейших опылителей — шмелей. Иное лето выдастся, увы, чертовски «комариное», а то вечерний воздух наполнится мириадами крохотных тлей, то появятся вроде бы невесть откуда взявшиеся полчища и тучи божьих коровок — а это они размножились именно после резкого увеличения «поголовья» тлей, которыми питаются и сами, и их личинки. Или же, если не поленитесь поглядывать на небо, вам посчастливится наблюдать огромные воздушные эскадрильи стрекоз-переселенцев — такое тоже случается раз в несколько лет.
КУКУШКИНЫ СЛЮНКИ
Жара. На июньском небе — ни облачка. Подхожу к Оби изрядно уставший, изомлевший, а потому раздетый по пояс. Поравнялся с прибрежными зарослями — а тут и калина, и ива, и черемуха, как вдруг... попал под дождь. Крупные холодные капли падают на плечи, спину, руки — невольно съежился. Долгожданный дождь — вот радость-то! Но — стоп, откуда быть дождю: небо-то ясное, безоблачное!
Нет, чудес на свете не бывает. Нужно остановиться и поглядеть вверх: откуда же летят крупные светлые капли воды? И вот вижу: с высокого куста ивы — да, собственно, это не куст, а дерево — сорвалась капелька и занесенная легким ветерком, — прямо на меня; за ней — другая, третья, с разных веток. Значит, не с неба капли, а с ивовых кустов! Но с чего бы это в такую сушь с листьев капала вода? Есть, правда, такие растения, которые при избытке влаги «плачут», вот и у нас дома растет такой тропический арум, знакомый многим: на концах его широких сочных листьев нависают капельки воды, капающие на подоконник, особенно перед дождем, и под листьями накопляются изрядные лужицы. Но сибирские ивы — не арумы, и не было такого, чтобы кроме росы или нависших дождевых капель с них что-то текло. Дождя не было много дней, а время — далеко за полдень, какая уж тут роса! Так в чем же дело?
Осматриваю нижние ветки ивы. Вот она, причина! На ветв.ях и черенках листьев — белые комки пены, а на многих из чих нависли снизу светлые капли, сквозь которые хрустально преломляется окружающий пейзаж. Вот одна капля потяжелела, на глазах вытянулась вниз — и сорвалась на землю! Рядом пролетела еще капля, еще и еще — необычный «дождик» накрапывает под ивами, и капли его рождаются не в тучах небесных, а в странных маленьких пенных «облачках», будто зацепившихся за высокие ветви в недавнем полете...
Но нет, теперь-то я уж точно догадываюсь, кто «нацепил» эти пенные облачка на кусты и деревья. До этого каждое лето в траве на лесных полянах мне приходлось встречать подобные комочки белой пены, правда, помельче. На первый взгляд могло показаться, что это кто-то бродил по поляне и поминутно... сплевывал в траву. Именно так и подумал однажды мой спутник, которого я спросил, сорвав травинку с пеной: как мол ты думаешь, что это такое? Брезгливо поморщившись, он выругал меня, и лишь с трудом удалось заставить его рассмотреть «плевок» внимательней: гляди, мол, тут совсем одинаковые по размеру пузырьки, у слюны такого не бывает!
А дальше я показал ему маленькое луговое чудо. Сдвинул соломинкой со стебля пену, и там, под ней, шустро закопошилось какое-то темное маленькое существо. Я взял его пальцами, обтер от пузырьков. На ладони сидело насекомое, с широкой головкой, островатым хвостиком-брюшком, бескрылое и, судя по всему, растерявшееся и беспомощное. Его и скрывал пенистый комочек. Лишь тогда мой знакомый заинтересовался и попросил рассказать подробнее о столь странном способе маскировки живых существ.
Есть такая группа насекомых, по-научному афрофориды, — родня цикадам; они и похожи на цикад, только помельче, с непрозрачными крыльями, и не стрекочут. Зато, спасаясь от врагов, отменно прыгают и недурно летают; покрыты толстой прочной кожицей — в общем, защищены как следует. Только вот детишки афро-форид — личинки — совсем беспомощны: они внешне хоть и похожи на родителей, но, во-первых, не имеют крыльев, во-вторых, еще не умеют прыгать, в-третьих, кожица их тонка и мягка, в-чет-вертых...
Но не бывает такого, чтобы мудрая природа, совершенствуя свои живые творения в результате тщательного отбора и многомиллионолетней эволюции, не позаботилась бы о них. И изобрела оригинальный способ маскировки и защиты личинок афро-форид: вскоре по выходу из яйца личинка, начиная кормиться ,(они сосут сок и с некоторых растений), выделяет жидкость,
обильно сдобренную муцинами — веществами, придающими ей клейкость и тягучесть. Через крохотные отверстия по бокам боюшка — дыхальца — личинка вдувает в эту слизь порции воздуха (а может, и смесь каких-то газов — пузырьки эти еще никто не исследовал). Насекомое быстро обрастает клейкими пузырьками, не удовлетворяясь одним-двумя их слоями, а нарабатывает пышный, толстый, многослойный комок пены, в котором личинку, если и захочешь, то не враз и найдешь. В народе эти комочки пены называются «кукушкиными слюнками».
Но какая птица обратит внимание на странную «слюнку» и станет рыться в ее липкой пузыристой слизи, разыскивая личинку? Какое паразитическое или хищное насекомое продерется сквозь десятки пузырьков к жертве? Такая защита-маскировка, пожалуй, куда надежнее, чем самая твердая оболочка.
Интересная подробность: личинки пенниц (так по-русски зовут самих афрофорид), будучи насильственно лишенными своей влажной «одежды», быстро гибнут от пересыхания. Только в природе такого не происходит, если, конечно, живо кормовое растение.
Всего в нашей стране обитает около полутора десятка афрофорид, большинство их мирно проживает на диких растениях, и «кукушкины слюнки» видимо вреда им не причиняют.
Виновницами «дождя», пролившегося на меня в июньский ясный день под зарослями, и оказались личинки пенницы ивовой, или, по-научному, афрофора салицина. Они образуют большие комки пены, во много десятков раз превышающие размеры личинки — порой с большой палец руки.
Ну а зачем, спросит читатель, такая расточительность, если природа, дескать, столь уж мудра, для чего столько пены, коль излишки ее проливаются дождем? Отвечу: каплет вовсе не пена — она густа, неподвижна, что необходимо для надежного сокрытия личинки, — а ивовый сок, прошедший через пищеварительный тракт насекомого, вонзившего тонкий хоботок в ивовую ветку. Задерживаются и используются лишь нужные для жизни личинки вещества, а остальная водичка, светлая, отфильтрован ная, нисколько не тягучая, капает на землю.
Не это ли явление дало когда-то повод поэтично назвать прибрежные ивы плакучими?
СЕМЬЯ В БУКЕТЕ
Я категорически против уничтожения даже небольшого коли чества луговых или лесных цветов для комнатных букетов. Тем не менее мне самому приходилось иногда делаться самым нату .
ральным браконьером и тащить из лесу и лугов изрядные букеты цветущих трав, запрятанные в рюкзак. Нет, не для красоты: изучая жизнь шмелей и ставя эксперименты по их доместикации (одомашниванию), невозможно обойтись без натурального шмелиного корма, особенно если опыты идут в закрытом помещении. Было время, когда в нашей квартире (это было еще в Исильку-ле) летало до сорока больших шмелиных самок разных видов, не считая мелких рабочих шмелей. Всю эту ораву надобно было обеспечить свежим питанием, и раза два в неделю мы обновляли «обработанные» шмелями букеты диких цветов, стоящих в банках на окнах, полках, столе, полу.
Один из таких букетов задержался как-то на моем столе дней на десять: шли обложные дожди. Гляжу, соцветие какого-то зонтичного растения оплетено паутиной. Спицы склонившегося «зонтика» послужили пауку удобным каркасом для устройства гнезда: в поникшее соцветие была ловко вплетена аккуратная паутиновая корзинка донышком вверх. Края корзинки постепенно переходили в широкий раструб, сотканный из более редкой паутины — ловчую сеть, крайние нити которой крепились к соседним цветкам букета.
Мне пришлось присесть на корточки, чтобы заглянуть внутрь паучьего логова. На стене раструба сидел небольшой паучок с круглым брюшком, расписанным серо-белым узором. Но самое интересное было в глубине паутинового грота: там прятались паучьи дети. Их было много, штук тридцать, а может, и больше; они были крохотные, куда меньше булавочной головки, и желтые как цыплята. Сидели они плотной кучкой, почти неподвижно. И, вероятно, очень хотели есть.
Каково же было матери-паучихе, потерявшей, наверное, всякую надежду на добычу! Все пауки — и взрослые, и маленькие — питаются только живыми насекомыми, истребляя их в великом множестве; но ведь комната в городском многоквартирном доме — не лесная поляна, и если сюда случайно залетит какая букашка, то уж вряд ли сядет на цветы, скорее где-нибудь на окне будет ползать. Надо все-таки кинуть какое-нибудь насекомое в паутину. Но, как на беду, ни на одном окне не нашлось даже захудалой мошки. А на улице — дождь. Чем же помочь бедняжкам?
Наконец, после долгих поисков, Сережа нашел в коридоре под лестницей здоровенного комара-долгоножку, спрятавшегося там, вероятно, от непогоды. Видели вы долгоножек? У них совсем комариный облик, длинные, легко обламывающиеся ноги, а размеры огромны — иные долгоножки достигают (без ног!) трех сантиметров в длину.
Долговязый комар взят пинцетом за брюшко и осторожно подведен под паутиновый колпак. Жужжащие длинные крылья его коснулись сети, прилипли, и неуклюжее насекомое повисло на паутине. Хозяйка ловушки кинулась к нему, куснув несколько раз, обездвижила и, как водится у пауков, стала обматывать жертву паутиной. Затем подтолкнула ближе к логову. И тут началось самое удивительное.
Во-первых, паучиха прокусила покровы долгоножки во множестве точек — на голове, на груди и брюшке. Делала она это не поспешно, как при умерщвлении добычи, а методично, не торопясь. После такой процедуры у комара не осталось, пожалуй, ни одного «живого места». Затем мамаша отправилась в глубь гнезда, и... постучала несколько раз ногой по неподвижной куче своих крохотных детей: вставайте мол, вас ждет еда!
Делтый комок зашевелился, начал делаться больше, рыхлее, и вот вся многочисленная орава поползла за матерью к долгоножке. Паучки присосались к пище там, где мать надкуси-л-а ее своими острыми челюстями-хелице-рами, и долго-долго сосали. А паучиха сидела себе в сторонке, и нам казалось, что она улыбается, глядя на своих крошек, облепивших гостинец.
И до тех пор она не притронулась к добыче, пока не наелся последний паучонок и не уполз в глубь гнезда. Хотя, наверное, сама была очень голодной...
ПАУТИНА И ЛУНА
Не узнать природу после дождей. Первая половина лета была- засушливой, но прошли ливни, и там, где лес местами просматривался почти насквозь, теперь взгляд повсюду упирается в сплошную зеленую стену. Непередаваемо сочный изумрудный цвет обрели моховые бархатные коврики, ими аккуратно обложены потемневшие от влаги корявые комли берез. Тропинка, по которой пробираюсь скозь чащу к знакомой поляне, тоже стала неузнаваемо узкой, повсюду перегороженной новыми ветками кустов и деревьев. На молодых сочных листьях дрожат не высохшие еще капли дождя — в чащу солнце не проникает, — и к концу пути вся моя одежда насквозь мокрая.
Но вот тропа выходит на поляну. Над деревьями — утреннее небо, чистое и безоблачное, и к темно-голубому его цвету будто
примешался какой-то новый, едва уловимый оттенок. Что это — . близость осени? Нет, не может быть, сейчас только конец июля. Просто, наверное, за дни ненастья глаза отвыкли от синевы. А, может быть, умытая дождями зелень вершин деревьев стала более насыщенной, яркой, и потому кажется, что и голубой небесный фон тоже чуть-чуть изменил свой цвет.
Внезапно останавливаюсь, пораженный совершенно необыкновенным явлением. Из влажных трав, блестя на солнце, взметнулась вверх серебряная паутиновая нить. Но там, куда она идет, теряясь в голубой выси, нет никакого предмета, к которому она могла бы крепиться, — ни веточки, ни листика, ближайшие же деревья стоят шагах в пятнадцати от паутины. Светлая блестящая ее струна непонятным образом круто идет к небу, чуть-чуть прогнувшись от тяжести, как раз туда, где на утреннем небосводе висит мраморно-белая половинка Луны!
Я не верю глазам. Конечно, можно допустить, чтобы паутина шла вверх и ни к чему там не крепилась, если ее, приклеен-
ную одним концом к траве, так занес ветерок. Но это может длиться очень недолго, да и паутиновая легкая нить будет непременно колыхаться на ветру. Сейчас же полный штиль, и нет решительно никаких причин, чтобы паутинка этак вот задралась вверх. Но сверкающая ее линия наперекор всякому здравому смыслу тянется напрямик к Луне, как нитка к бумажному змею, парящему в небесах!
Общаясь с природой, мне приходится чуть ли не каждый день разгадывать самые разные загадки. Но вот попробуйте разгадать эту! Что я узнаю, имея доступ только к короткому нижнему отрезку нити: выше ведь не забраться! Тихонько трогаю паутину пальцем. Она не прилипает к руке — пауки делают липкими лишь спиральные витки паутинового «колеса», каркас же ловчей сети делается из прочной, но неклейкой паутины. Оттягиваю нить в сторону, и она пружинит как резиновая, что явственно означает: там, наверху, «канат» явно закреплен!
...Где-то я читал: паутина столь тонка, что если бы протянуть ее от Луны до Земли, то ее увез бы грузовик. Наверное, речь шла о тонких ловчих волокнах, для толстых каркасных нитей одним грузовиком не отделаешься: ведь расстояние до Луны — без малого четыреста тысяч километров! Да что это я прикидываю какую-то чушь — не к Луне ж, в самом деле, тянется таинственная нить!
Снова отхожу назад, ловлю на паутинке солнечный блик и ихонько перемещаюсь вбок, чтоб блик этот, скользя вдоль паутины, не терялся из виду. Так, дециметр за дециметром, я следую нить, насколько позволяет глаз. Выше шести-семи мет-блеск в общем-то тоненькой паутинки уловить уже нельзя, и она растворяется в синеве. Но стоит лишь мысленно продолжить ее, и опять получается невероятное: паутинка указывает на Луну.
Неужто не удастся раскрыть эту тайну? Она ведь не даст мне тогда покоя. И вряд ли повторится подобное. Нужно разобраться в этом только сейчас.
Однако не помогло мне ни острое зрение, натренированное, как я считал, на наблюдении разных тонкостей, ни знание кое-каких «биофизических» секретов. Я ходил вокруг, трогал паутину рукой, изучал точку прикрепления, задрав голову, глядел на бледнеющий полумесяц — и недоумевал.
...Секрет диковинной «межпланетной» паутины раскрылся неожиданно и просто, стоило лишь отойти на несколько шагов от этого места и оглянуться. Нить действительно шла в направлении Луны, но на уровне вершин ближних деревьев заканчивалась: здесь она прикреплялась к такой же паутине, только горизонтальной, протянутой от дерева к дереву. Это было подобие Т-образной радиоантенны. Верхнюю черту этого «Т» не было видно с тропинки: отсюда она не могла блестеть, Солнце было в стороне. Вот и казалось, что паутинка ведет на небо, в то место, где как нарочно в этот час оказалась Луна.
Ну вот, тайна и раскрыта. Только, думаете, я остался доволен? Вовсе нет: уж очень простой оказалась разгадка. Ни при чем оказалась Луна, хотя было почти очевидно, что она не имеет отношения к лесной загадке...
Может возникнуть вопрос: а как паук сделал эту «антенну»? Ведь, наверное, непросто протянуть нить между вершинами двух деревьев довольно далеко отстоящих друг от друга. Вот на этот вопрос отвечу сразу, так как нечто подобное уже видел. Сидя на ветке, паук выпускает в воздух тонкую липкую паутинку, и та, относимая воздушными течениями, цепляется за другое дерево. При постройке своих сетей пауки очень часто пользуются именно таким способом «наведения мостов». Подтянув первую тонкую нить, паук проползает по ней несколько раз в обоих направлениях, укрепляя «мост» толстой прочной паутиной.
Заинтриговавший же меня вертикальный отрезок.
«Т» был сделан, конечно, проще: строитель дополз
До середины «моста», прикрепил там паутину и спустился вниз, на траву. Паук начал делать каркас для ловчей сети. Только не стал продолжать работу: расстояния, на которых находились все три точки крепления, явно превышали паучьи «ГОСТы».
МИНУТКА
...Это было на границе Омской области и Казахстана, даже «за границей», — недалеко от поселка Булаево Северо-Казахстанской области, куда мы часто ездили с Сережей из Исилькуля на электричке или мопеде. Это хоть и рядом, а места все же заметно отличаются от прииртышской лесостепи: и луга там попривольнее, и озера посинее — но зато посолонее; несколько иной и мир насекомых. Вот мы и решили собрать тамошних шмелей для сравнения видового состава наших мохнатых «соседей» по области и республике: где-то здесь, по моим прикидкам, должны проходить границы ареалов (местообитаний в широком смысле) некоторых видов степных и лесостепных видов шмелей. Вот тут наука, что называется, требует жертв: установить видовую принадлежность многих насекомых можно только в лаборатории, причем у мертвого экземпляра: признаки очень тонки, заметны лишь в микроскоп. И энтомологам-систематикам и зоогеографам приходится изредка идти на крайнюю меру, отлавливая ограниченное число нужных насекомых. Увы, без этого весь дальнейший смысл работы, связанной с охраной видов, теряется. Ведь что ни вид — другие повадки, другая численность, другой круг опыляемых растений. Для успокоения читателя сообщу, что шмелеведов-систематиков и шмелеведов-зоогеографов в нашей стране единицы.
Мы бредем по целинной траве, внимательно глядя вниз: многие шмели летают скрытно, между стеблей — в целях маскировки. Но мы знаем этот секрет. Мелькание чего-то темного в траве, резкий взмах сачка — и вот уже в нем жужжит очередной пленник.
Вот и сейчас какой-то шмелек мелькает внизу под листьями высоких трав, на высоте сантиметров двадцати от земли, пытаясь незаметно от нас удрать. Удар сачком чуть «с упреждением» по ходу полета, и пленник — в матерчатом мешке, вместе со сбитыми обручем несколькими листьями и цветками. Быстрый поворот сачка, чтобы мешок завернулся за обруч (мера против побега насекомого), — и теперь лишь извлечь очередного шмеля, как будто бы (как это было бы здорово!) нового в нашей коллекции: уж очень бурым показался мне его цвет издали, да и тельце вроде подлиннее обычного.
Только почему не жужжит пойманный бедолага, не взлетает вверх в прозрачном сетчатом мешке? Неужто я не рассчитал и разбил его ударом обруча?
Трогаем пальцем сквозь ткань — не жужжит. Значит, можно открыть сачок, не опасаясь, что насекомое, увы, раненое или убитое, выпорхнет.
Но, заглянув в сачок, вижу нечто совершенно неожиданное и необыкновенное. Вместо шмеля на дне мешка сидит... крохотный зверек в буровато-желтой шубке с длинным хвостиком, задрал голову и, почему-то совсем не испугавшись, смотрит на меня со дна сачка махонькими, с булавочную головку блестящими глазенками, тоже, наверное, удивляясь: мол, что это со мною такое творят?
Это было для нас потрясающей неожиданностью. Неправдоподобно маленькая зверушка, похожая скорее всего на мышонка, не ползла по земле, а явно «летела» по травяным джунглям на изрядной высоте над землей — иначе я ее просто бы не приметил и уж во всяком разе не взял бы сачком, приняв за новый вид шмеля... Выходило, что мышка как-то быстрехонько ползла по травам «поперек стеблей».
Куда девать неожиданного пленника? Не в морилку же с эфиром к шмелям! Да не детеныш-ползунок ли это? К счастью, нашлась алюминиевая баночка из-под диафильма с проколотыми в ней отверстиями — мы всегда берем ее с собою для тех насекомых, которых надо доставить в лабораторию живыми.
Кроха свободно уместилась в этом «контейнере», который я бережно положил в карман.
...Вот и вечер. Полевая работа окончена: нужные насекомые собраны, осталось вдоволь времени и для того, чтобы набрать клубники (ее там было ох как богато в те годы) и грибов. Электропоезд, вынырнувший из сгустившихся уже сумерек, приостановился на полустанке всего лишь на несколько секунд: кроме нас, пассажиров на посадку — никого... Да и в вагоне народу разве что с десяток. Устраиваемся поудобнее у окна: ехать больше часа...
Как там наша мышка? Довезем ли до дома такую кроху? Достаю коробку, открываю крышку. На счастье, как раз в этот миг в вагонах включили свет. Сердце отлегло. На донышке «контейнера» — живой-здоровый зверек, крохотный-крохотный, во много раз меньше домашней мыши, но, судя по пропорциям тела, вовсе не детеныш. Не мечется, не суетится, не пытается выпрыгнуть, а сидит и глядит на нас, задрав свою миниатюр- ную, но вполне взрослую мордочку.
Трогаю зверушку пальцем — ни тени страха. Понюхала палец, лизнула и опять на нас уставилась.
Вытряхнули мы тогда осторожно зверька на ладонь. И снова — никакой боязни. Походил по руке, заглянул с ее края вниз, потом уселся в середине ладони и... давай умываться! Послюнявил крошечные кулачки передних лапок и трет ими мордочку, щеки, шею... Сейчас можно рассмотреть «живой трофей» как следует. Тельце, чуть длиннее шмелиного, одето в бурую с желтоватым оттенком мягчайшую шерстку, светлую на брюшке и горле. Мордашка не совсем мышиная: поуже, но кончик ее — более тупой. А хвост намного длиннее тельца.
Что же с тобой делать, приятель? Теперь лишь одно: везти домой. Но сумеем ли мы тебя сохранить живым, прокормить — кто его знает, что ты ешь на воле?
В кармашке рюкзака оказалось несколько крошек хлеба. Одну из них Сергей дал «зверю». Тот вежливо, но без колебаний взял угощение передними лапками, словно руками, и, сидя «на корточках», деловито принялся за еду — ровно с ним ничего не случилось. Уписал так несколько крошек, снова умылся и пополз по руке... Тогда мы со спокойной душой посадили его в «транспортный контейнер». Давно знаю по опыту: коль пойманное животное ест — значит, будет жить.
Дома прежде всего — к книгам. Искать пришлось недолго: по всему выходило, что наш трофей называется мышью-ма-люткой (одно из самых мелких млекопитающих планеты — вес взрослой мышки всего около пяти граммов!), по-латыни Микрб-мус минутус. Минутка — так мы сразу же окрестили зверушку — « состояла в близком родстве с домашней мышью, но образ жизни, по книгам, вела совсем иной, сообразно чему мы тут же, несмотря на поздний час, оборудовали ей жилище. Вполне подошел готовый террариум для земноводных: сбоку и сверху сетка, с двух сторон поднимающиеся стекла, да и объем вроде достаточный — целых сорок кубических дециметров.
В вольерку эту мы поместили пару веток со множеством отростков, на дно насыпали песку, в угол — комок сухой травы, а у стекла — две посудинки: одна для воды, другая для пищи. Пленница ничуть не удивилась, заползла на ветку, спустилась вниз, побегала по песку, нашла кормушку с кусочком хлеба — перекусила, нашла поилку — попила.
В. Гребенников среди «макропортретов» своих шестиногих и восьминогих натурщиков. Верхний ряд: муравей-древоточец, слоник ляринус, оса-блестянка.
Средний ряд: оса эвмен, трубковерт, рогачик. Внизу: краснртелка, бронзовка, карапузик, ложнослоник.
Фото Ю. Лушина
Насекомые на цветущей иве: степной шмель, земляная пчела андрена лимонница, траурница.
(К главе «Сибирские первоцветы».)
Парят белоголовые сипы. (К главе «Встреча».)
Закат в степи. Исилькуль.
(К главе «Кое-что о Солнце».)
А наутро мы не могли оторваться от террариума, наблюдая способ передвижения Минутки. Ее длинный, упругий, какой-то очень «живой» хвост во время пробежек зверька по веткам все время плотно обвивал их. Не беда, что «страховка» эта происходила сзади туловища: хвост затейливыми, постоянно сдвигающимися петлями прочно держал животное на ветке, случись ему оступиться, хотя лапки держали его на стеблях, на наш взгляд, вполне надежно. Временами даже казалось, что хвост Минутки живет какой-то самостоятельной жизнью, не имеющей отношения к мышке, — будто маленькая змея цепко ползет по веткам.
А вместе с хвостиком, удивительно подвижным, длинным и сильным, Минутка напоминала никакую не мышь, а тропичеЛ скую обезьянку, для которой хвост служит как бы пятой конечностью. И мы подолгу дивились, когда Минутка, в общем-то не любящая бегать по земле, проверяла, не подложили ли мы в кормушку чего-нибудь новенького. Тогда она свешивалась к корму с ветки лишь на длинном своем хвосте, кончик которого трижды опоясывал сучок, а четыре крохотных лапки уморительно болтались в воздухе...
Прошла неделя. И вот в одно прекрасное утро мы увидели, что в путанице веток возникает круглое гнездо из былинок, пучок которых мы положили в угол клетки. Тогда я поддал мышке и другого стройматериала — ваты. Минутка оценила его по достоинству и вплела в стенки своего убежища — шарика диаметром около шести сантиметров с дырочкой-лазом сбоку.
Зверек, построив «дом в доме», стал показываться нам на глаза реже, что нас немного опечалило. Но, видимо, в степи мышей-малюток «ноги кормят» — так же, как и небезызвестного зверя, — в общем, ей явно очень хотелось бегать по растениям. Избрав довольно сложный и трудный маршрут по веткам и сучкам в террариуме, «обезьянка» бегала и бегала по этому пути часами, плотнехонько обвивая хвостом ветки (и как он только не истирался!). Даже стало жаль зверушку: места-то ей тут, выходит, мало! Маленькому зверьку нужна была Большая Свобода. А другой клетки не было . И чтобы хоть как-то скрасить жизнь крохотной невольницы, садок с нею мы увезли в микрозаповедник для насекомых, где повесили на наружную стену нашего лабораторного домика.
Впрочем, на образ жизни Минутки это переселение совсем
М. Львовский в статье «Мыши-малютки» (Наука и жизнь, 1966, с- 97 — 98) советует делать для «пробежек» этих зверьков колесико, подобное «беличьему колесу».
не повлияло. Вместо воды Минутка иногда охотно пила молоко, кроме хлеба с удовольствием ела ягоды, насекомых (конечно, мелких) и всякую всячину. Семечки от подсолнуха были ей «не по зубам», и нам приходилось самим вылущивать ядрышки для зверька. Но предпочтение Минутка отдавала зернышкам из колосьев мелких диких злаков, которые «обмолачи-
SBaaa» долго и тщательно: значит, в природе это была ее излюбленная еда.
И все-таки очень правильно сделал кто-то из гостей нашего микрозаповедника: однажды мы увидели, что стеклянная дверца террариума приподнята на два пальца. Минутка, разумеется, ушла на волю. Ну что ж, гуляй, кроха, живи, радуйся, лазай по своим травяным джунглям!
И всякий раз глянув в музее на соломенный шарик внутри стеклянной коробки, которую я с любовью смастерил для найденного под Новосибирском такого же гнездышка, вспоминаю совсем нечаянно изловленную (вместо шмеля!) в далеких североказахстанских степях умницу Минутку.
ЕЩЕ О СОЛНЦЕ
Может ли астрономия быть полезной сельскому хозяйству? Ученые лаборатории экологии Новосибирского биологического института на основе многолетних наблюдений уловили четкую связь между численностью водяной крысы — злостного вредителя посевов и... некоей звездой. Биологи не остановились на этом и на основе своих выводов разработали систему долгосрочного прогнозирования нашествия грызуна на поля, что так важно для борьбы с ним.
Что это за звезда? Оказывается, обычная, каких в нашей Галактике миллионы, и не какая-нибудь огромная, а совсем небольшая — относится к широко распространенному классу так называемых желтых карликов. Расположена звезда внутри одной из спиральных ветвей Галактики и отлично видна с нашей Земли.
Ну а чтобы не томить читателя дальше, скажу, что любому из вас она хорошо знакома, так как ближе к нам, чем остальные звезды — расстояние от нее до Земли составляет около ста пятидесяти миллионов километров.
Солнце?
Конечно же оно! Кто же может так влиять на жизнь нашей планеты, как не наше родное светило, пусть «желтый карлик», но зато давший Земле ровно столько тепла и света, сколько
нужно для возникновения и процветания величайшего чуда Вселенной — жизни..
А с нашей, человеческой, точки зрения, и не назовешь это-светило «карликом»: в поперечнике солнечный шар в сто девять раз больше земного! Ну вроде как арбуз против просяного зернышка.
Бурной, неспокойной жизнью живет наше светило. В недрах гигантского пламенного шара бушуют ядерные реакции невообразимо огромной силы, поддерживая мощное тепловое и световое излучение поверхности и порождая там разнообразные катаклизмы, многие из которых проходят на Солнце не беспорядочно, а регулярно повторяются с периодом в одиннадцать лет. И в годы солнечной активности чаще и ярче полыхают полярные сияния, бушуют магнитные бури, сбивая с толку стрелки компасов, нарушается коротковолновая радиосвязь, меняется режим и частота землетрясений, гроз, эпидемий, массовых размножений вредных насекомых и грызунов, в том числе злополучной водяной крысы...
А на самом светиле одно из самых заметных проявлений этой активности — знаменитые солнечные пятна. В «годы активного Солнца» (1969, 1980, 1991) их особенно много, и они проходят по диску нашего неспокойного светила и в одиночку, и группами, кучками. Да и в другие годы редкий день на Солнце не бывает пятен.
Только многие ли из читателей видели своими глазами солнечные пятна — именно на Солнце, а не на картинке в учебнике или журнале? Если честно — то, увы, немногие...
Что ж, давайте это устроим. Тем более что это проще простого. Если зрение ваше достаточно острое, вы «просто так» увидите их через самодельный темный светофильтр — в главе «Немного о Солнце» было рассказано, как его сделать. Темные точки на Солнце, — это и есть знаменитые пятна, гигантские вихри в фотосфере (самой яркой оболочке) светила.
Еще способ. Осколок хорошего, не «кривого» зеркала (неплохо от старинного шлифованного) положите во дворе метрах в тридцати-пятидесятя от вашего дома, чтобы солнечный зайчик попал в окно квартиры, обращенное в противоположную от Солнца сторону, например утром — в западное окно. Остальные окна завесьте (да и ненужную часть рабочего окна),чтобы в комнате было как можно темнее. На стену, противоположную окну, прикрепите светлый ровный экран — скажем, глаженую простыню или лист ватмана. Пучок отраженных зеркалом лучей диафрагмируйте картонкой, установленной недалеко от зеркала, с круглыми отверстиями диаметром от двух до пятна-
дцати — двадцати миллиметров. Получится как бы гигантская камера-обскура (оптический прибор), только ее «объективом» послужит дырочка в картонке у зеркала.
Само собой, чем уже диафрагма, тем резче изображение Солнца, но, увы, темнее — потому я и советую затемнить комнату как можно надежней. Но даже при очень темной «обсерватории» сужать диафрагму можно лишь до определенного предела, зависящего от расстояния до экрана: изображение снова начнет терять резкость из-за дифракции — это когда лучи, встретив преграду, слегка отклоняются. Так что придется выбрать «золотую середину».
Такой «безлинзовый гелиотелескоп» при очень больших размерах солнечного диска — с тарелку и более — также давал мне возможность наблюдать наиболее крупные солнечные пятна. Только приходилось то и дело бегать во двор, чтобы подвернуть зеркало, так как изображение Солнца довольно быстро ползло по экрану: Земля-то — вертится... Поэтому лучше работать вдвоем: один у зеркала, другой — в комнате.
Очень хорошую любительскую «солнечную обсерваторию» сможет устроить дома обладатель обычного полевого бинокля. Сразу предупреждаю: не вздумайте смотреть на Солнце в бинокль даже со светофильтрами — опасно для зрения. Изображение светила при этом также отбрасывается на экран, но расположенный совсем близко — в полутора-двух метрах от бинокля.
Призматический бинокль закрепите на штативе, спинке стула или оконной раме против открытой форточки (оконные стекла исказят изображение)с помощью любого нехитрого приспособления. На бинокль насадите картонку с отверстием около 40X40 сантиметров для окуляра (второй окуляр ненужной половинки бинокля вдвиньте до конца) — щиток этот загородит экран от лишнего света. Экран — лист бумаги, лежащий на ровной доске, перпендикулярной солнечным лучам.
Наведем бинокль только на Солнце, пока на бумаге не появится «зайчик». Вращением окуляра отфокусируем изображение. На экране — четко очерченный светлый диск, на котором отлично вилны крупные и мелкие пятна. Не верящих в то, что пятна эти — солнечные (а не соринки в бинокле), разубедите тем что в качестве проектора используйте вторую половинку бинокля.
каждым день пятна меняют место на диске Солнца из-за его собственного вращения (у своего экватора оно делает оборот почти за 25 суток, к полюсам вращается медленнее), а также свою форму и размеры. Кроме пятен можно увидеть и так называемые факелы — обширные светлые поля в фотосфере. Они заметны ближе к более темным краям солнечного диска, особенно близ находящихся там пятен. Множество тонких и слабых деталей можно наблюдать на Солнце, если листок бумаги, служащий экраном и приложенный к неподвижной плоскости, быстро двигать рукой, лучше кругообразно: структура бумаги для глаз смажется, и на совершенно равномерном фоне явственно выступят факелы и даже очень мелкие пятна.
Любители мастерить смогут быстро механизировать этот процесс. Для наблюдений Солнца в молодости я несколько лет пользовался самодельным вращающимся экраном из деревянного колеса-шкива с ручкой, которое через резиновый шнурок-пасик передавало вращение катушке от ниток, на торец катушки был наклеен бумажный круг, как на рисунке.
Еще более удобный в работе вращающийся экран сделать так.
С оси комнатного вентилятора временно снять крылатку и на конец оси электромотора насадить резинку для стирания карандаша, для чего в центре ее проколоть отверстие. К этой резиновой муфте приклеить вырезанный из толстой ровной бумаги диск (следить, чтобы центры диска и оси мотора точно совпали). Когда клей высохнет, включить мотор. Для стабилизации экрана (чтобы он вращался строго в одной плоскости) сбоку прикрепить картонку с V-об-разным вырезом, которую во время вращения диска надвигать на него почти до конца прорези.
Прибор оказался отличным: свободны руки для зарисовок и записей, а большая скорость вращения делает экран неуловимо-равномерным, что выявляет тончайшие нюансы солнечных событий, совсем незаметных даже на белой-пребелой, но неподвижной бумаге.
Изображение Солнца и при таком способе проекции тоже довольно быстро скользит по экрану — из-за вращения нашей Земли. Поэтому прибор приходится время от времени подправлять, чтобы светлый диск был в центре поля зрения бинокля, а не у его края. Это легко определить так: в центре изображение бесцветное и резкое, а у сползшего вбок солнечного диска края теряют четкость, причем один край краснеет, а другой синеет (так называемая хроматическая аберрация в линзах инструмента); сдвигать солнечный диск нужно в сторону его красного края, пока он не обесцветится.
Совсем отличной ваша домашняя гелиоскопическая обсерватория станет тогда, когда сумеете затенить на время наблюдений все окна, кроме небольшого, около десяти сантиметров, отверстия в одной из форточек.
Но вот все улажено, закреплено, затемнено, проверено... Мягко гудит круглый экран, на нем круг поменьше — Солнце. Непередаваемо волнующее зрелище! Раскаленный огромный шар — ведь поперек его поместится сто девять земных «шариков»! — вот он, перед вами, как бы виоит в пустоте, круглый-круглый, к краям чуть потемнее. Там и сям зияют темные воронки пятен, то больших, сливающихся друг с другом, то разделенных, то совсем крохотных — меньше нашей Земли. Трепетно-огненным сиянием горят огромные, прихотливые по форме, как облака, поля факелов. Искренне советую всем хоть раз в жизни увидеть и прочувствовать эту космически величественную и в то же время волнующе живую картину — и школьнику, и колхознику, и интеллектуалу. А если у последнего имеется снобистское безразличие к «любительским пустячкам» — пусть на короткое время его позабудет...
Фотолюбитель, соорудивший «биноклевый гелиотелескоп», может сделать, кстати, очень неплохие фотоснимки Солнца с его пятнами. Снимать можно обычной (лучше зеркальной) фотокамерой на достаточно чувствительную фотопленку прямо с вращающегося или ровного неподвижного экрана. Этот способ, но как и предыдущий — с зеркалом во дворе, — даст вам озможность запечатлеть на фотографиях фазы замечательных и редких явлений природы — солнечных затмений.
Много лет назад, в исилькульском сарае с дырявой кры-ией что было очень кстати (дерновые пласты, лежавшие на жердях, местами провалились, и дыры эти служили мне как бы орезями в куполе обсерватории), я наблюдал Солнце по всем правилам, по возможности дважды в день измеряя площади и количество солнечных пятен и факелов, точно нанося на стандартные десятисантиметровые кружки все метаморфозы солнечной фотосферы и выводя показатель солнечной активности — так называемое число Вольфа , а стопка «солнечных карт», если ее быстро перелистать, по смещению пятен живо воссоздавала картину величественного вращения огромного раскаленного шара. Это были замечательные времена, хотя постигать азы астрономии, в том числе солнечной, пришлось самому с помощью книг: предмет этот в нашей школе не преподавали — шла война...
А не раз случалось и такое. Вдруг на изображении солнечного диска темными резкими тенями появлялись что ни на есть земные птицы, оказавшиеся между Солнцем и сараем с дерновой крышей, и были они резкими-резкими, так что можно было различить каждое перышко. Я выскакивал из «обсерватории» и смотрел вверх: действительно, там кружилась стая голубей. А однажды по светлому экрану величаво прошел... орел. Помню силуэт его широких зубчатых крыльев и крючковатый нос. Птица, видно, набирала высоту, кружа на восходящем потоке воздуха: она дважды прошла по моему экрану плавными виражами. Выйдя на улицу, я пристально всматривался в поднебесье, но орел парил столь высоко, что невооруженными глазами я так его и не увидел...
ВЛАСТЕЛИНЫ НЕБА
Читатель уже заметил, что я неравнодушен к образу паря-Щей птицы. Да, это так. Почему, не знаю, но зрелище парящей в небе на неподвижных крыльях птицы всегда вызывало у меня величайшее, ни с чем не сравнимое благоговение; это одна из тех немногих картин природы, на которые я могу смотреть, не отрываясь, часами, тем более сейчас, когда численность крупных птиц (а парят больше крупные пернатые) за послед-
Подобные инструкции для любительских наблюдений Солнца даны в «Постоянной части Астрономического календаря».
ние десятилетия резко сократилась. Справедливости ради нужно сказать, что с большим интересом наблюдаю за полетом и других созданий, которые могут хоть неподолгу скользить по воздуху, не взмахивая крыльями — бабочек-парусниц, крупных стрекоз. Ну и, конечно же, изделий рук человеческих — планеров.
Но я хотел рассказать здесь о пернатых парителях. Одно из первых воспоминаний, связанных с ними, такое. Нередко свою кровать я выставлял вечером во двор (ночи-то в Крыму летом очень теплые) и засыпал под сказочное мерцание звезд (не оттуда ли у меня неравнодушие к ночным дальним светилам?), а пробуждался от пения птиц и яркого света. Открыв глаза, первым долгом осматривал голубое высокое небо и в нем видел либо стайку звенящих быстрокрылых стрижей, уже вылетевших на первый утренний промысел (они ловят в вышине мошек), либо кружащего грифа или коршуна. Я не знал, что эти птицы парят над городом неспроста (об этом расскажу ниже), а просто наслаждался их плавным, волнующе-красивым полетом.
Кружит этакий великан в выси, ни разу не взмахнув крыльями, и делается все меньше и меньше — это нагретый уже жарким утренним солнцем воздух устремляется вверх, вознося с каждым витком спирали пернатого планериста к,, зениту. Какой же величественный силуэт у парящих крупных хищников с широкими, зубчатыми на концах крыльями! Совершенно не разбираясь тогда в орнитологии, науке о птицах, я замечал, что они были разными и по цвету, и по размерам. Были почти черные, большие; были снежно-белые (иногда они почему-то парами летали вместе — белая и черная птицы); были бурые и серые; были и пятнисто-рябые, небольшие. А изредка пролетал гигант с крыльями золотисто-коричневого цвета, отороченными сзади черной косой каемкой. У него была белая голова и загнутый вниз, тоже белый, клюв. Златокрылый великан парил большей частью очень высоко, и я разглядывал его в бинокль, который еще с вечера специально клал рядом с кроватью.
А днем, правда изредка, порой происходило необыкновенное событие. О приближении его оповещали громкие вопли с соседних дворов, хлопанье палками по доскам сараев... Это мои сверстники и ребята постарше, разводившие голубей (тогда многие держали большие их стаи), замечали в небе ястреба или сокола, уже занявшего над голубиной стаей выгодную воздушную позицию. Крик и стук доходили до исступления, но повелитель неба не обращал на это внимания и зоркими глазами выбирал себе жертву. Мгновение — и вот уже в небе, рассекая воздух тугим ракетным звуком, несется нечто продолговатое, форму которого и не разглядеть. Не уловить и момент удара: лишь перышки бедолаги вспыхнут облачком-взрывом и отлетят в столону. Я ненавижу жестокость и насилие, но это зрелище, в отличие от — моих ровесников-соседей, меня всегда почему-то восхищало — до чего точным и красивым оыл удар птицы, несколько секунд до этого бесшумно парившей в высоте на широко распластанных крыльях.
.А однажды случилось такое. На улице, пряло к-моим ногам, упала с неба... голубиная голова. Я посмотрел вверх, но там уже никого не было: событие совершилась, пике хищника было, видимо, ночти удачным, лишь соловка голубя от сильного толчка оторвалась (голубеводы знают, что она держится у птицы очень слабо) и упала вниз. О воздушной трагедии говорила лишь-эта «деталь», шмякнувшаяся о камни, да облачко белых и рыжеватых перьев в синей вышине.
И получается: все то, что в природе взаимосвязано и отработано миллионолетней эволюции — высокоэстетично. Даже охота хищника. Ему нужно осмотреть как можно больше пространства, а для этого — подняться высоко над землей. Широкие крылья помогут это сделать даже без единого взмаха: нужно только поймать телом струю теплого ветра, дующего снизу вверх, который невидимо поднимается над прогретыми солнцем местами. И эта вертикальная теплая «тяга» возносит птиц порою так высоко, что их и не видно невооруженным глазом.
Впрочем, парят птицы не только из отряда хищных. Отлично и очень красиво планируют аисты. Их полетами мы с семьей наслаждались целое лето на Западной Украине (мне пришлось недолго поработать в Тернопольской сельскохозяйственной опытной станции). Аистиных гнезд в этих краях очень много — на деревьях, хатах, старых церквах, новых домах. Летит над тобою этакий могучий черно-белый великан, поводя длинным красным носом то налево, то направо: осматривает, что и как тут у нас на земле, и не шелохнет крыльями.
Наверное, так же вот летали когда-то над землей крупные крылатые ящеры птеродактили. Из живших в юрском и меловом периодах (схема на стр. 68) птеродактилей самым громадным был птеронадон: а в размахе крыльев этот живой планер достигал почти 8 метров! Паря над морямаи, он на лету выхватывал из них рыбу беззубым клювом, очень длинным — иначе ведь, слишком снизившись, можно было угодить в воду и больше не взлететь. И вообще птеронадон — загадка для ученых: с ровного места такое сверхдлиннокрылое, но коротконогое (смотри рисунок) существо не взлетит. Разве что при сильном встречном ветре?
Да что там птеронадон! Помнится, зайдя однажды в отцовскую мастерскую, где в тот день никого не было, я услышал какую-то громкую странную возню, что-то гремело, билось, о железо и верещало. Оказалось: в отверстие жестяной выхлопной трубы движка, выведенной через потолок и чердак наружу, залетел... бедняга стриж, провалившийся до самого нижнего колена трубы почти к мотору. Разъединив трубу, отец извлек стрижа; он зло пищал и кусался. У птицы были удивительно длинные, узкие, о.сгрые на концах крылья. Отец вынес стрижа во двор и положил в метре от деревянного столба домашней радиоантенны (в те поры радиолюбители строили для них громадные мачты). Стриж выглядел совершенно беспомощным и даже не делал попытки взлететь: длиннющие крылья его волочились по земле. Осмотревшись, птица увидела столб. Доковыляла до него и довольно быстро стала карабкаться по столбу вверх. Мы с нетерпением ждали, что будет дальше. Стриж дополз где-то до двухметровой высоты, глянул по сторонам, примерился, оттолкнулся от столба короткими лапами, раскинул свои узкие крылья, упал вниз, но тут же, у самой земли, крутой параболой взмыл вверх; мелькнул там, как черный изящный полумесяц, — только мы его и видели.
Аистам же взлетать легче, чем птеродактилям и стрижам — у них длинные сильные ноги. Взлетая, они машут крыльями, но, если позволяет высота или встретится вертикальный теплый ветерок с удовольствием раскидывают свои бело-черные широкие крылья и парят. Особенно запомнилась нам с сыном Сергеем одна картина. Тихий осенний день, высокие готические башни „Спинного костела в тернопольском селе Сухостав, а за ними, только на большой высоте, огромная, сотни в полторы, стая аистов, не шелохнув крыльями, медленно скользит на юг, наверное, в Африку...
И еще очень красиво парят пеликаны. Я видел это когда-то над берегом Азовского моря.
Те в скользящем полете совсем похожи на древних носатых птеродактилей.
Я уже писал, что численность многих крупных птиц у нас местами резко сократилась; что касается орлов и грифов — то их стало меньше во всей стране. Орлам трудно теперь найти спокойное место для гнезда и обеспечить себя и своих детей добычей. Пойманные же птицей суслики и другие грызуны могут накапливать в своем теле многочисленные ядохимикаты, применяемые на полях. Сами грызуны как-то справляются с химией, «привыкли», что ли, а вот питающиеся ими смелые мощные птицы оказались существами гораздо более нежными. И пошел орлиный славный род на убыль: редко-редко встретишь теперь в средней полосе страны, в Западной Сибири, на Урале гордо парящего повелителя неба. Во всяком случае в окрестностях Исилькуля Омской области, да и Новосибирска, их теперь нет совершенно. А ведь всего лет двадцать-тридцать тому назад были!
Сейчас придется ненадолго отвлечься от основного предмета этой главы — но именно затем, чтобы вновь вернуться к парящим в небе.
Еще с раннего детства мне нравились картины художника Самокиша — крупного советского баталиста и анималиста , моего земляка, жившего в Симферополе (однажды отец на улице сказал мне: «Гляди — вон идет Самокиш!» — и я увидел усатого, чуть сутулого старичка, несшего свернутые в трубку холсты). Вздыбленные или скачущие во весь опор кони, пулеметные тачанки, рубящиеся в смертельных схватках всадники — картины этого художника так же неотделимы от моего детства, как неотделимы от него виртуозные, полные динамизма рисунки пером Самокиша, фронтового художника-документалиста первой мировой войны, которыми щедро были заполнены страницы дореволюционных журналов «Нива», хранившегося у нас толстыми кипами. И встречаясь теперь с картинами Самокиша, этого славного усатого красноармейца в буденовке, так здорово писавшего любимых им лихих коней, — а картины его есть во многих музеях страны — я как бы встречаюсь со старыми, испытанными и верными друзьями, оставшимися в живых. Ведь 27 октября 1941 года в керченском порту полностью сгорела экспозиция Симферопольской картинной галереи, во время страшной бомбежки фашистской авиацией.
В самом начале тридцатых годов, когда мне было года три-четыре, отец сводил меня на очередную выставку, где были и картины нашего Самокиша — с его конниками-буденовцами, битвами за Сиваш и за Красное знамя. Но была среди них одна, непохожая на остальные, как бы выпадающая из общей героической батальной темы. Опаленная знойным солнцем улица. Вдали, у хибар — худые, в лохмотьях, люди. А на первом плане — высохший на солнце лошадиный труп. На этикетке было написано: «Н. С. Самокиш. Голод в Крыму. 1923 год». Не знаю, цел ли этот большой холст сейчас, но уж очень запомнилась мне эта, казалось бы, странная картина .
Однако для меня тогда она вовсе не была странной — наоборот, очень правдивой и чем-то даже близкой. «Хмурое утро» молодой Советской республики, еще не успевшей встать на ноги, но уже истерзанной Врангелями и Деникиными, колчаками и антан-тами, совпало по времени с моим ранним детством. И в числе самых первых моих воспоминаний, кроме ярких и радостных картин, стук нищих под окном, и именно вот такие, как на том холсте у Самокиша, трупы лошадей.
Видел сам, да и не раз, смерть лошади на улице.
И я вовсе не догадывался, что именно поэтому парили над городом странные красивые птицы: они видели внизу свою исконную пищу — падаль. Это были не орлы, не соколы и не ястребы, которые питаются только свежим мясом, добытым в в открытом бою. Из книг я узнал, что среди отряда хищных птиц есть группа таких, которые питаются именно павшими животными. Ведь в природе все закономерно, и все ее звенья связаны в сложные цепи. Отживет тот или иной зверь отмеренный ему век и умирает. Но почему его останки должны доставаться только микробам и мухам? И природа давно предусмотрела это, «назначив» для ликвидации мертвых животных некоторых зверей и птиц — санитаров-«профессионалов».
И если отбросить предубеждения и лишнюю брезгливость, то оказывается, что они делали очень нужное и важное дело: когда в степях, лесах и горах было много разного зверья, птицы очищали природу от падали, за счет которой и существовали сами, и растили потомство. В этом был глубокий смысл: мертвое прямым образом превращалось в живое. И не просто в живое, а в своеобразное, особенное украшение неба. Вот этого уже у них не отнимешь: величественнее парящих грифов, на мой взгляд, нет в полете ни одной птицы.
Только спуститься на улицы они, конечно же, не решались и кружили, кружили над городом, отлично видя даже с огромной высоты «зря пропадающую» пищу. Кстати, среди пернатых именно у грифов наиболее острое зрение, намного острее человеческого.
И вот теперь я могу назвать всех этих птиц, что в детстве кружили над городом в светлом утреннем небе.
Белые (иногда розовато-белые) парители с темными концами крыльев. Очень красивые в полете птицы, только люди дали им совсем неблагозвучное название — стервятник. А молодые «стервенята» — темно-бурые, почти черные.
Вот. почему я видел иногда белую и черную птиц, летящих вместе: наверное, это были мать с сыном. Ну а насчет названия, так у красивейших и безвредных наших растений есть такие имена, как «волчье лыко», «бородавник», «вшивка», «икотник»,
«клоповник», «мокрица», «язвенник»...
Неофрон (латинское название стервятника) относится к подсемейству грифов семейства ястребиных отряда дневных хищных птиц. Кстати, неофрон — не просто падальщик, он весьма сообразителен. Вспомним кадры из телепередачи «В мире животных»: чтоб разбить толстую скорлупу страусиного яйца, он применяет самый настоящий инструмент — специально выбранный камень. Клюв у него, по сравнению с другими грифами, слабоват, так он берет в него камень, .размахивается и швыряет в яйцо до тех пор, пока оно не треснет.
Громадный черный гриф из того же подсемейства и отряда, Ширококрылая лобастая крючконосая птица — но в парящем полете гриф замечателен своею особенной, не похожей на орлиную, мрачно-торжественной красотой. Мне посчастливилось более или менее отчетливо видеть черного грифа — жителя высоких гор — только пару раз. Сейчас они в Крыму — великая редкость.
Почти такой же по размеру (в размахе крыльев почти 2,5 метра) и форме, но не столь мрачно окрашенный белоголовый сип — тот самый золотисто-черно-белый великан, которого я упоминал в начале главы. Гнездится в скалах, небольшими колониями, да и летать предпочитает компаниями. Основная его окраска описывается как глинисто-бурая. Но на фоне синего неба, подсвеченный солнцем, сип выглядит почти золотым, что еще более подчеркивается темными концами крыльев, снежно-белой головой и шеей, окруженной пышным белым воротником.
Ну и некоторые падальщики помельче — например черный ворон.
А сейчас, понятная вещь, над городом всем Им делать нечего: какая уж пожива степным и горным санитарам в счастливом изобильном краю, где, наверное, мало кто помнит картины, что остались в моей памяти, наподобие того потрясающе-печального полотна Самокиша?
Все это отлично. Только вот приезжая в отпуск на родину, я часами гляжу в безмятежно-чистые южные небеса в надежде найти хоть одну медленно скользящую там черточку — грифа, сипа или орла. Увы, ширококрылых планеристов не видно. И почему-то от этого немножко щемит сердце. Наверное, просто потому, что очень уж величественно и красиво парили тогда надо мною эти молчаливые властители неба.
Кстати: в сороковых годах я отчетливо видел трех белоголовых сипов в Исилькуле Омской области. Дело было к осени, и величавые ширококрылые птицы держали путь на юг. Ошибки быть не могло, это были точно они: я отчетливо разглядел их в бинокль. Не знаю, что бы сказали по этому поводу орнитологи: ведь сипы — жители южных горных мест. Впрочем, чего только не бывает в таинственном мире птиц: в Омскую область залетали даже южане — фламинго, и чучела их вы можете и сейчас увидеть в областном краеведческом музее!
Ну а что касается не падальщиков, а больших хищников-охотников, то увидеть беркута, степного орла, подорлика в Исилькуле было раньше не редкостью. Там же на перелетах я наблюдал не раз огромного красивейшего орлана-белохвоста. Теперь никаких орлов в исилькульских небесах не видно ни в какое время года. Разве что небольших хищников — канюка, сарыча, луней, кобчика. Величавые же хозяева небосвода, недвижно парившие над лесостепью на своих широких крыльях, куда-то делись.
А жаль.
То же и на родине: хотя бы издали, в бинокль, «засечь» веавого крымского гиганта сипа! Или кого-нибудь из его собратьев. Но кроме чаек, стрижей, грачей (и самолетов) никто поле зрения моего бинокля не попадает. Неужто это еще один признак общего оскудения дикой природы, так сильно измененной человеком?
ВСТРЕЧА
И все же встреча с золотокрылыми спутниками моего детства состоялась. Да еще какая!
Недавно, в отпуске, я осуществил-таки давнюю мечту: взобрался на Чатырдаг, свою заветную гору. В детстве она казалась мне огромной, далекой и неприступной и, видимая с разных концов тогда еще малоэтажного Симферополя, звала, звала к себе. Зов этот (а может, просто блажь?) становился с годами все сильнее, и вот наконец я решился; «предприятие» это оказалось совсем несложным, зато впечатлений — не меньше, чем на отдельную книгу; здесь -лишь в двух словах.
Полюбовавшись со скалистого гиганта утеса Ангар-Буруна (восточная вершина Чатырдага) золотеющими уже сентябрьскими горными лесами, выискав глазами внизу ниточку дороги с едва отсюда различимыми автомашинами и троллейбусами, идущими к морю, я пошагал на запад вдоль всей «спины» горного великана к другой его вершине — Эклизи-Буруну.
Я шел мимо живописных карр — больших и малых блоков известняка, медленно, но неуклонно разъединяемых вековыми силами воды, мороза и ветра; мимо туров — внушительных пирамид из камней, сложенных туристами, чтобы не заблудиться в тумане; вдоль альпийских лугов, через которые, как живые, ползли клочья облаков, поднимающиеся снизу, и я хватал эти мягкие и влажные клочья прямо руками; мимо уютных лужаек, загороженных от ветра скалами, и на этих лужайках буйствовали травы, точь-в-точь такие, как в Сибири, даже со шмелями на цветках, и сердце щемило от столь неожиданного сходства-кусочек сибирского шмелиного луга, заброшенный на вершину крымского утеса.
Но вот седловина начала забирать кверху. Последняя пере, дышка, последний бросок, и выше меня — лишь небо. Не Эверест, не Эльбрус и даже не Фудзи, всего лишь 1527 метров, — но какой огромный простор объял меня со всех сторон! На юге ц востоке — дальнее, как океан, сияющее под солнцем море, с мерцающими городами на берегу. Правее море скрыто мощными горбами Бабуган-Яйлы, одетыми густым лесом. Еще правее, внизу, под скалами и до самого горизонта — долины, холмы леса, удивительно разнообразные и живописные, явно нетронутые человеком.
И это действительно так: вся эта дивная страна на юго-западе от вершины, где я стою — Крымский заповедник, воспетый некогда Константином Паустовским. Как хорошо все-таки сделали люди, что в небольшом Крыму заповедали такую немалую площадь — почти триста квадратных километров! А ведь можно было раскорчевать-распахать-возделать эти долины и склоны, настроить тут поселков, дорог, каменоломен, заводов. Низкий же поклон тем, кто сумел отстоять эту красоту, этот кусок первозданной природы, что раскинулся сейчас подо мною!
И подумалось: отчего мы не делаем так в той же Новосибирской и Омской областях, каждая из которых во много раз обширнее миниатюрного Крыма? Почему мы там не оставили хотя бы квадратный километр целинной ковыльной степи, а устройство лесных микрозаповедников по 3 — 5 гектаров в маленьких колонках все еще наталкивается на многочисленные «организационные трудности»? . -
...А там, еще правее и севернее заповедника, где горы сходят на нет и где начинается степь, белеет мой славный Симферополь.
Ровно гудит похожий на стремительный поток прохладной воды горный ветер.
Раскаленные на солнце серые скалы громоздятся величавыми каскадами.
Синеют дальние горы, одетые лесами, мерцают светлые пятнышки городов и селений.
И вдруг у меня появляется волнующее, радостное предчувствие. К чему бы это? Неужели просто от высоты?
О нет: почти наравне со мною, из-за соседнего утеса, вдруг выплывает навстречу ветру большая золотистая птица с черными концами неподвижных крыльев. Белоголовый сип, да так близко! С затаенным дыханием слежу за парящим великаном. Он меня отлично видит, но решил не сворачивать: идет на сближение. Еще немного, и всего в. нескольких песятках метров от меня проплывает златокрылый гигант, лишь белая голова с горбоносым клювом чуть-чуть повернулась ненадолго в мою сторону. Я вижу, как верхние перья издали казавшихся неподвижными распластанных крыльев сильно вибрируют в тугом встречном ветре, да чуть-чуть поворачивается сильный хвост, поправляя полет. Волнующее, непередавае-емое зрелище!
Как мне повезло!
Но это еще не все. За гигантом сипом появился еще один, еще и еще: пять, шесть, семь гигантских птиц совершают облет своих горных владений, совсем не боясь стоящего рядом человека.
А я-то думал, повымирали крылатые друзья моего детства! Нет, ничего подобного, они живут — несомненно в заповеднике, сохранившем не только буковые и сосновые леса, скалы и пещеры, горные родники и речки, но и всех их четвероногих и пернатых обитателей.
Как символ, как сказка, как добрый знак, как сон проплыла передо мною эскадрилья ширококрылых мудрых птиц, будто специально прилетевших на свидание со мною.
Какое же это счастье, когда сбываются мечты, загаданные еще в далеком детстве, когда ты чувствуешь себя живой, уцелевшей частицей огромного прекрасного Мира, чьи земли, скалы, небеса дышат величественной и неистребимой Жизнью!
ГРОЗА ТЛЕЙ
Золотая исилькульская осень. Мягко и немного уже грустно синеет небо, но в тихих уголках еще по-летнему припекает солнце, ярко золотя только начавшие облетать березки в лесопосадках плодопитомника. Ветки яблонь-дичек, что на краю этих полос, отягощены темно-красными гроздьями кругленьких тугих плодов на длинных черешках. В воздухе пролетают стрекозы, какие-то мушки, мелкие крылатые тли. Тихо плывут в синеве длинные серебряные паутины.
Интересно узнать: что за насекомые населяют редкую жесткую траву в самой лесополосе? На деревьях на зиму из них мало кто останется, сейчас, наверное, все шестиногие спешат до холодов подыскать себе убежища понадежней у земли, в лесной подстилке, а сейчас, в такой теплый день, многие из них должны быть вот в этих травах. Слева и справа от полосы пашня, где только что высадили крохотные яблоньки, значГ" все насекомые этого места, и вредные, и полезные, должны иск- что до весны «стянуться» только в траву и подстилку лесоггЛ лосы — больше им деваться, вроде, некуда.
Сачок с капроновой сеткой длинными взмахами шуршит траве, кустам, нижним ветвям деревьев. Это, как говорят энто° молоти, «кошение» — один из приемов сбора энтомофаунц" обитающей на растительности. Трудновато продираться через кусты, не замедляя движений сачка (иначе юркие «трофеи» попросту выпорхнут), но вот уже полоса пройдена, и в сетке — большой тяжелый ком сухих листьев, трав, срезанных обручем сачка, мелких веток. Ком шевелится, жужжит и пищит — это все насекомые. Вывернув сачок, быстро переваливаю содержимое его в большую банку и плотно ее закрываю.
Через час в лаборатории, даже при беглом взгляде, многочисленное население лесополосы — как на ладони. По траве ползают гусеницы, снуют мелкие хищные клопики, муравьи, шелестит крыльями стрекоза-стрелка, на стенке банки сидят нежные златоглазки с голубоватыми прозрачными крыльями. Но что за странные червячки, поочередно прицепляясь то головой, то хвостом, смешно ползают по стеклу, по листьям и былинкам? Их удивительно много, может быть, сотня, а может, и тысяча в этой банке: я разглядел поначалу только крупных, а повсюду, оказывается, копошится и масса мелких!
Один червячок — под объективами микроскопа. Мягкое бугристое тельце раскрашено красивым красно-коричневым мраморным узором, на спине просвечивает быстро пульсирующий сосуд — «сердце», а на заостренном спереди головном конце тела — остаток недоеденной «червячком» тли. Сомнения быть не может — это личинки журчалок.
Журчалки (их еще зовут цветочными мухами, или сирфидами) знакомы, конечно, многим из нас. Кто не видел ярких черно-желтых в полоску мух, похожих на ос, что в жаркий день висят в воздухе как маленькие вертолеты или сосут нектар на цветках укропа, диких зонтичных, яблонь? Это как раз и есть сирфы и сферофории. Сирфы — те пошире телом, «токовища» их (излюбленные места полетов) под кронами больших деревьев. Сферофории — с узким тонким тельцем, тоже отличные летуньи, но «вертолетничают» больше в травах. И оирфы и сферофории относятся к большому мушиному семейству журчалок. Взрослые мушки эти признаны весьма полезными: перенося пыльцу с цветка на цветок, они опыляют растения.
Плохо то, что многие садоводы пока что еще не очень считаются с присутствием полезных насекомых в своих владениях, а потому невольно их истребляют, особенно при бесконтрольных химобработках, когда вместе с вредителями гибнет огромное количество разнообразных помощников садовода. Что можно им посоветовать? Прежде всего, держать тесную связь с энтомологами, чтобы знать, в каких именно лесополосах колхозного сада поселились личинки журчалок. А на следующий год при опрыскивании сада тщательно оберегать эти лесополосы от малейшего заноса ветром ядов-инсектицидов.
Большое количество сегодняшних личинок в траве лесопосадок плодопитомника заставляет предположить, что если всем им удастся благополучно перезимовать, то на следующий год в этой местности появится множество мух-журчалок. Одна мушка, подкормившись на цветах тех же яблонь, отложит до тысячи яиц, и журчалочье племя будет целый сезон держать под контролем всех тлей округи, не давая им чрезмерно размножаться.
Журчалки появляются в природе из года в год не равномерно, а «вспышками». Такую вспышку мн 1973 году в Воронежской области.
Особенно много полосатых мух было в микрозаповеднике для полезных насекомых, отгороженном от пасущегося скота участке дикого луга и старого противотанкового рва. Там я насчитал до 50 журчалок на одном лишь соцветии диких зонтичных! И не только в поле: даже во дворах все цветы были облеплены сферофориями и сирфами. С того памятного «журчалочье-го» года остался вот этот рисунок. Не правда ли, «веселая» компания?
Иногда, сидя за столом над бумагами в лабораторном доми, ке одного из наших сибирских микрозаповедников, я слышу тоненькое жужжание. Это в открытую дверь опять залетела стройненькая полосатая сферофория. Она неторопливо облетает все помещение, замирает на месте, поворачивается, опять движется вперед, вбок, а то и назад, не переставая тонко-тонко звенеть прозрачными крыльями. Обследует пространство над столом, у окна, облетает полки, снова повисает около моего лица. Наклоняюсь к мушке — мгновенный бросок в сторону, н снова зависла любознательная летунья над столом — крохотный полосатый вертолетик, удивительно совершенный. Остановившись у открытых дверей в воздухе, сферофория повернулась, поглядела на меня круглыми большими глазами (что, мол, ты понимаешь в нашей насекомьей жизни!), сделала «налево кругом» и по прямой унеслась за дверь, к цветам и солнцу...
ЦВЕТУТ В ОКТЯБРЕ ЛУГА...
Набросок этот я сделал с натуры 3 октября 1975 года на лесной поляне неподалеку от Исилькуля Омской области. Совсем по-летнему припекало солнце, зеленели травы, и повсюду пестрели цветы — белые куртины ромашек, розовые плотные шапки тысячелистников, густо-лиловые стрелки вероник и шалфеев, нежные голубые цветки луговой герани. А особенно странным зрелищем для октября были колокольчики: необычно крупные, ядреные, они синели повсюду, и над ними вились черно-желтые в полоску цветочные мухи-сирфиды... Как бы убежденные в том, что на дворе по меньшей мере начало лета, колокольчики не только цвели, но набирали новые бутоны — явно с тем, чтобы непременно раскрыть их через два-три дня.
Как видно, луговым травам оказалась нипочем жестокая летняя засуха того года. Они терпеливо ждали хотя бы небольшого сентябрьского дождичка, после него, незаметно для нас, в толще дерна, набрались сил, а когда пришло «бабье лето, пусть необычное, позднее, октябрьское, победно и дружно выбросили, как разноцветные флаги, свои цветы — навстречу солнцу и насекомым: жизнь, мол, не только продолжаете , но и торжествует!
И еще раз случилось подобное в Западной Сибири — в 1980 году.
Эту необычно сухую, теплую и очень затянувшуюся осень я застал в Новосибирске. В осеннем золоте березы простояли здесь Зесь октябрь, и даже к началу ноября можно было на лугах на-боать букетик и цветущих трав не менее пяти видов. Они так и ушли под снег. Впрочем, это их не погубит: цветки икотника, пастушьей сумки, ярутки, пикульника не так уж и редко начинают цвести осенью, а кончают... весной, давая нормальные здоровые семена.
А картина буйно цветущего осенью сибирского луга все же необыкновенна и столь ярка, что после вспоминается всю зиму...
ГЛАЗА
Да, яркие картины мира, запечатленные зрением, вспоминаются порою всю жизнь — днем и ночью, на работе и во сне, и так, наверное, до самого последнего мгновения, пока работает мозг человека — еще таинственная для нас кладовая зрительной, да и всякой иной, памяти. И если относительно хорошо изучен оптический механизм зрения, то об остальном этого не скажешь. «Техника» передачи зрительными нервами сигналов от сетчатки до соответствующих долей мозга, рождения в нем зрительных образов — реальных, вспоминаемых, воображаемых — еще изучена сравнительно мало, а потому во многом таинственна. Желающим поглубже узнать про все это я советую прочесть интересную научно-популярную книгу P. JI. Грегори, вышедшую в 1970 году в издательстве «Прогресс».
А сам поведаю читателю по этому поводу лишь кое-что из собственного скромного опыта.
Маленьким, что греха таить, я очень боялся темноты. Зайти в темную комнату для меня было почти невыполнимым делом. Хотя уже почти во всех соседних домах было электричество, у нас все еще по старинке пользовались керосиновым освещением, и лампы горели вечерами только в одной-двух комнатах. В остальных же помещениях большого старинного дома царил непроглядный мрак: ночи на юге почти всегда очень темные, а окна с вечера закрывались изнутри плотными ставнями.
Трудно сейчас сказать, чего я боялся: уже знал, что никаких домовых, о которых мне рассказывала няня, нет и в помине, уже прочитал немало книжек и убедился, что таинственные шорохи, которые иногда слышатся по ночам, издают самые обыкновенные мыши. Но все равно перед тем, как зайти в темную комнату, меня охватывало очень нехорошее чувство, вернее предчувствие чего-то неизвестного. Дверь в темную комнату становилась дверью в неведомый, чуждый и враждебный мир,, вступать в который было небезопасно. Этот мир нельзя было ни увидеть, ни осязать, ни измерить; там становились бесполезными все органы чувств.
Но я знал: стоит сделать над собой усилие, хорошенько доказать самому себе, что ничего страшного в темной комнате нет и быть не может, храбро туда войти, взять там какой-нибудь заранее задуманный предмет и выйти не торопясь, как все страхи снимет как рукой.
Одолеть же этот страх было просто необходимо. Во-первых, было стыдно за себя: «такой большой», а боюсь темноты, во-вторых, мрак этот странным образом притягивал к себе: в моем представлении темная комната, если только ее не бояться, может обернуться новым, непознанным еще мною, интересным миром, быть может чем-то похожим на глубокие подземелья в старинных замках, на неведомые пещеры. И это нужно было во что бы то ни стало проверить.
Вот потому однажды вечером я набрался духу, вышел в темную переднюю, плотно прикрыв за собою дверь, нащупал рукой другую дверь, ведущую в небольшую, давно необитаемую комнату, где стояли шкафы со старыми ненужными книгами, лишние стулья, кровать, на которой никто никогда не спал, а ставни не открывались даже днем. Отогнав все мысли о страхе, я распахнул эту дверь и смело вошел внутрь.
Выходя из светлой комнаты, я случайно глянул на горящую лампу, и теперь в глазах мелькала светлая цепочка, каждое из звеньев которой в точности воспроизводило пламя двадцатипя. тилинейной лампы, похожее на корону. Вереница этих корон плыла в темноте, то медленно опускаясь, то взвиваясь вверх или в сторону, следуя за моим взглядом, скользящим по темному пространству.
Я знал: это следы от яркого пламени, оставшиеся на некоторое время где-то в моих глазах, как и остаточные образы закатного солнца, и это было совсем не страшно.
Затем цепочка исчезла, и меня со всех сторон окутал мракл-странная темная среда, без конца и начала, без верха и низа, но можно было без труда представить, что вот здесь, совсем близко, стена, а ближний шкаф стоит ровно в трех шагах от меня, там же, еще дальше — окно с закрытыми ставнями. И это тоже было совсем не страшно.
. А можно было, почти не напрягая воображения, вмиг изменить эту комнату, и она как бы делалась невообразимо огромной причем уставленная не простыми шкафами и стульями, а какой-то диковинной, высокой мебелью. Миг — ив комнате вырастал дивный сад, со стройными рядами пальм вдоль стен, со свисающими с высоких потолков гирляндами вьющихся растений. Я тянулся рукой к ближайшим ко мне листьям, но вместо мягкого их прикосновения пальцы неожиданно ощущали твердую шершавую стену, и видение вмиг исчезало. И это было тоже нисколько не страшно.
Я вышел из комнаты спокойно и неторопливо, несказанно довольный собой. Еще бы — ведь это была настоящая победа: преодолеть боязнь темноты.
...Вообще, достаточно ли умело мы пользуемся прибором, дарованным нам природой, — глазами? Все ли возможности его используем? Хорошо ли бережем?
Со зрением, как я считаю, мне повезло: даже сейчас, в очках, я еще довольно уверенно различаю две звездочки двойной звезды эпсилон созвездия Лиры. Эго как бы мой небесный пробный камень — между этими двумя звездочками расстояние Зг минуты дуги, иначе говоря, 0,06 градуса .
Читатель может попробовать и свои глаза на этой двойной звезде. Вот как ее найти. Летними вечерами высоко шв небо, довольно близко к зениту, сияет яркая Вега — альфа Лиры (зимою же Вега видна вечером низко на севере). Совсем близко к ней, когда достаточно стемнеет, зажгутся две звездочки послабее и составят с Вегой равносторонний треугольничек; эпсилон Лиры находится в северной его вершине — ближайшей к Полярной звезде. Нарисованный здесь кусочек звездной карты поможет вам ее быстро разыскать.
Станьте так, чтобы свет фонарей и прочие городские помехи не влияли на глаза. Еще лучше лечь — не придется напрягать мышцы шеи, и глазам куда удобнее; очень многие астрономиче-хкие наблюдения (например, метеоров) проводятся именно лежа.
А теперь смотрите как можно внимательней на звездочку — то прямо на nvr А"Рономы оценивают видимые расстояния между светилами в гра-HPfiE ми„уТах (60 в градусе) и секундах (60м в минуте); большой круг небесной сферы равен 360°.
нее, то чуть от нее в сторону. И если у вас хорошее зрение, то увидите не одну, а две светящиеся точки, расположенные близко-близко друг к другу. Может быть, они увидятся вам не точками, а штришком, который, после некоторой тренировки, станет в какие-то мгновения «распадаться» на отдельные компоненты. А теперь проверьте увиденное в бинокль (кстати, это лучший «телескоп» астрономаглюбителя).
Обычно же в виде «пробы»" рекомендуют другую двойную пару — Мицар и Алькор. Мицар — вторая от конца «ручки ковша» Большой Медведицы, Алькор — звездочка послабее над Мицаром. Но эти звезды находятся друг от друга на расстоянии добрых 12- минут дуги, что всего лишь в два с половиной раза меньше видимого диаметра лунного диска (полградуса), и даже при очень посредственном зрении видно, что эта звездная пара легко разделяется темным промежутком ночного неба. Так что лучшая двойная звезда для проверки зрения, как я считаю — эпсилон Лиры.
В детстве же глаза мои были куда острее. Венеру, когда она подходила близко к Земле, я ясно видел вечерами как крохотную молодую Луну — тонкий яркий серпик рожками вверх н налево. И это от силы лишь одна минута дуги, то есть втрое меньше, чем между компонентами эпсилона Лиры.
Сейчас, даже в очках, узреть серп Венеры не могу, Мешает снопик «лучей», как бы идущих от ярчайшей планеты нашего небосвода во все стороны — это с годами среда внутри глаза становится чуть неоднородной; явление называется иррадиацией и свойственно нормальному зрению. Впрочем, «лучи» эти можно убрать темными очками или картонкой с проколотым в ней отверстием диаметром с иголку, через которое лучше смотреть на Венеру, когда та находится близко к Земле в нужной фазе (узнать об этом можно из школьного астрономического календаря). Нужно только приставить картонку к глазу так, чтобы отверстие приходилось как раз - посредине нашего зрачка.
Я уверен (сам прочитал где-то про такой вот «дырчатый телескоп»), чт© многие из читателей, применив этот простецкий прибор, увидят без бинокля «обыкновенное чудо» — серп Венеры, младшей сестры нашей Земли, Просто мы плохо знаем и свои глаза, и многие объекты, вполне им доступные!
Проверить остроту зрения можно и в комнате. Проведем две тоненькие темные линии на бумаге в миллиметре одна от другой или же поставим две темные точки на бумаге (или наоборот — светлые на темном). Хорошо осветив рисунок, отойдем от него на три метра, и угловое расстояние между точками или линиями составит как раз минуту дуги — столько же имеет в поперечнике
«венерианский» серп в противостояние. Если линии или точки видите хотя бы временами раздельно — у вас преотличное зрение.
Но даже и не особенно острыми глазами, тоже совсем невооруженными, можно увидеть поразительные вещи: ведь они еще могут служить очень сильным микроскопом.
Если внимательно вглядеться не в ночное, а в дневное небо (лучше безоблачное или равномерно освещенное), то можно рассмотреть два рода мельчайших объектов, находящихся не на небе, а внутри нашего же глаза.
Первое — это круглые колечки, иногда с темным или светлым ядрышком в центре, почти неподвижные или медленно плывущие, особенно после того, как взгляд переведен в новую точку. Иногда они видны поодиночке, иногда гроздьями по нескольку штук. Это не что иное, как мельчайшие частицы в толще так называемого стекловидного тела — светлого студня, заполняющего пространство за «объективом» глаза — хрусталиком. Стекловидное тело — очень прозрачная среда, но не всегда без «греха» — не без вот этих самых крохотных редких включений. Они и проецируются на сетчатку, но не точками (так как находятся далеко от нее), а колечками, из-за дифракции — оптического явления, когда световые лучи чуть-чуть отклоняются от прямой линии, встретив преграду, в данном случае частички внутри нашего стекловидного тела, и вокруг них видны так называемые дифракционные кольца — как на рисунке.
И вот тогда на фоне светлого неба свободным глазом увидите мельчайшие светлые искорки — словно множество метеоров бороздит далекую стратосферу, но не прямыми траекториями, а волнистыми, зигзагообразными. Некоторые видят их светлыми, другие, наоборот, темными.
Что это такое? Нечто кажущееся, отзвук тонкой сложной работы зрительных центров мозга?
Но не убирая ладонь, закрывающую другой глаз, запомним путь одной из искорок, когда она петлю какую-нибудь делает (при этом смотрите в одну точку небосвода или на кончик древесной ветки). Пройдет несколько секунд, и по тому же месту пробежит еще одна искорка, в точности повторяя путь прежней. А потом — еще и еще.
Так вот мы видим не что иное, как кровяные тельца — эритроциты, бегущие по тончайшим капиллярам, что питают сетчатую оболочку глаза. Но неужто можно видеть глазом такую малость? Ведь кровяные «шарики» (вернее диски) очень малы, и чтобы их увидеть, нужен микроскоп с увеличением в несколько сот раз. Как же так — без микроскопа, а видно?
Но ведь и сетчатка нашего глаза — сложное и тонкое чудо. Она состоит из множества «приемо-передаточных микроэлементов», в частности палочек и колбочек, особенно густо расположенных в центре нашего «видеоэкрана», в так называемом желтом пятне: здесь примерно по одной колбочке на 2 микрометра , а если считать в долях градуса дуги глазного шара — «яблока», то каждая колбочка имеет в поперечнике 14 — 15 минуты дуги. Вот почему, кстати, острые глаза видят двойные звезды, разделенные двумя-пятью минутами дуги, и даже серп Венеры.
А «секрет» видения кровяных телец, бегущих по капиллярам, в том, что светочувствительные колбочки находятся не на самой поверхности сетчатки, а под слоем, пронизанным сетью опорных клеток; нервных волокон и кровеносных сосудиков. Вот по ним и бегут кровяные тельца, заслоняя попеременно «датчики» сетчатки — колбочки, с которыми они вполне соизмеримы: красное кровяное тельце человека имеет в диаметре 7,5 микрометров.
Чтобы увидеть движение крови в капиллярах, студентам медицинских и биологических вузов обычно показывают в микроскоп прозрачную перепонку живой лягушачьей лапки. Но далеко не каждый подозревает, что носит в глазах своих два отменных микроскопа, которыми в любой момент можно увидеть живые кровяные тельца человека, бегущие по крохотным сосудам...
Читатель может все же усомниться в том, что «бегающие искорки» — это наши кровяные тельца, а «плавающие грозди» — что-то вроде соринок в стекловидном теле, это, мол, просто кажется.
Сомневающимся предлагается проверить реальность этих объектов тремя способами. Первый — закрыть левый глаз, глядеть на светлое правым и хорошо запомнить рисунок бега некоторых «искорок» и расположение «плавающих гроздей». Потом закрыть правый глаз, смотреть левым — и картина будет иной.
До 1967 года микрометр (мкм) называли микроном; в одном миллиметре — тысяча таких единиц.
Второй тест: вплотную к одному глазу (другой закрыт) приложить картонку так, чтобы половина поля зрения затенилась. Будучи близким к глазу, край преграды окажется не в- фокусе. В этой «полутени» (смотри рисунок) и те и другие объекты видятся из-за дифракции настолько контрастнее, что иной раз удается узреть даже некоторые из сосудиков-капилляров, по которым бегут шустрые эритроциты.
Третий тест самый простой: закройте оба глаза — и «искорки», и «грозди» напрочь исчезнут...
Но бывают в глазах наших и дальше, в зрительных отделах мозга, и другие явления — фосфены, с которыми читатели, возможно, и знакомы.
В детстве мне, особенно вечерами и утрами, если посмотреть .на гладкую стенку, часто «виделись» разные узоры, порой изумительной красоты. Разноцветные пятнышки, полоски, крупинки, — они медленно перетекали друг в друга, то густые, то редкие; временами сыпался как бы цветной песок или бисер, а то вдруг отдельные пятнышки выстраивались в правильные ряды, перекрещивались в виде прямых и косых решеток, замысловатых ковриков.
При известном усилии можно было направлять ток этих фос-фенов, менять их формы и характер. Они вовсе не мешали глядеть на реальный мир, и виделись даже при закрытых глазах, правда не такими яркими и многоцветными, как при открытых. Особенно красочными и сложными эти узоры бывали тогда, когда у меня из-за какой-нибудь детской хвори повышалась температура. Как бы то ни было, помнится, я всегда с большим удовольствием их разглядывал.
А вот где-то после восемнадцати — двадцати лет орнаменты эти стали более слабыми, скромными и появлялись все реже. Сейчас, пожалуй, их у меня нет совсем. Разве только, если сильно «приглядеться», — некое мелкое-мелкое, почти бесцветное мельтешение. И только. А жаль: ведь иные люди видят «художественные» фосфены всю жизнь. По воспоминанию я нарисовал картину одного из таких своих видений детства — она на цветной вкладке. А под ней — тоже один из фосфенов, увиденных и нарисованных сразу «с натуры», то есть взрослым, физиологом Г. Остером; иллюстрированная статья его «Фосфены» помещена в № 4 журнала «Наука и жизнь» за 1971 год; там рассказано также о способах искусственного получения фосфенов — меха нических и электрических.
Нет, наши глаза очень стоят того, чтобы познакомиться с ними поближе в свободные минуты. Ведь именно они так ярко открывают нам весь многоцветный, объемный, неописуемо многообразный мир и ведут по нему всю жизнь. Именно через глаза этот мир ежечасно и ежеминутно дарит нам свои бесчислен"4 ные сокровища. Но мы так привыкал к этим щедрым и безвозмездным дарам, что порой перестаем их замечать. А зря.
ЦЕПОЧКИ НА СНЕГУ
Сегодня выдался великолепный день. Всю ночь над полями и колками пролежало толстое, пышное, но морозное одеяло зимнего тумана, и к утру оно не то исчезло, не то развеялось. Но туман исчез не бесследно: каждый сучок, каждый стебль, каждая соломинка обросли густыми бахромками из кристалликов льда, и леса встречали утро сплошь облаченными в сверкающесказочные белые одежды. День пришел тихим, безветренным, и это хрупкое зимнее чудо, охватившее, наверное, все громадное пространство Среднего Прииртышья, сохранялось ненарушенным до самого вечера.
Простой иней — да что же тут особенного? Но в этом обычном явлении на этот раз я заметил кое-что необыкновенное. На мертвых стеблях трав, торчавших над снегом, как раз там, где оставались опустевшие цветочные чашечки, засохшие сухие корзинки или просто обломанные цветоножки, рассыпчато наросли белые мягкие розетки и звезды лучистого инея. И цветы расцвели вновь! Белые пушистые зонтики дягиля, мохнатые шары мордовника, даже колосья диких злаков цвели почти по-настоящему, пышно и роскошно.
«Ожили» не только цветки: бурые изящно изогнутые листья осок, колючие доспехи татарников, кряжистые остовы лопухов, неряшливые старые кустики почерневших полыней, да и вообще все то, что осталось от буйного летнего разнотравья — теперь, присыпанное алмазными кристаллами инея, сделалось аккуратным, чистым, новым и смотрелось совсем живым.
Белая гладкая полянка-сугробинка, а на ней — удивительно разные, мелкоузорчатые, но четкие силуэты старых лесных знакомых, над которыми вроде не так уж давно жужжали и порхали многочисленные сборщики нектара и пыльцы... Но ведь летом не увидишь так ясно, так образно каждую травку луговины; буйная зелень соседей, темный фон земли скрывают от глаз характерный силуэт растения, все тонкости его формы, и приходилось, выбрав и сорвав стебелек, поднимать его над головой и рассматривать на фоне светлого неба — только тогда я мог увидеть растеньице во всем его своеобразии, почувствовать его силуэт, образ, но, увы, ценой преждевременной его гибели. А здесь, будто специально подобранные и смонтированные на белом фоне, разместились чудесные зимние гербарии, оживленные серебряными искристыми цветками, от которых невозможно отвести взгляд!
Чудо недолговечное: назавтра осыплется иней, а через не-делю-другую, как пройдут большие снега, все это скроется под глубокими сугробами и, изломавшись под их плотной тяжестью уже не выпрямится. Кроме разве мощных остовов борщевика, вымахавшего за лето кое-где в полтора человечьих роста. Воскреснет весною уже другое, настоящее, живое: проклюнутся семена, осыпавшиеся со всех этих растений, оттают спящие корни и луковицы многолетников, пойдут в рост сочные стебли-миллионы, миллиарды зеленых растительных жизней. Тогда же проснутся и толстые шмелихи, и тяжело полетят над темными студеными лужами и подтаявшими сугробами — к благоухающим ивовым сережкам.
А пока шмели спят. Осенью разлетелись из родных, но уже устаревших гнезд, зарылись неглубоко в дерн на лесных полянах и опушках, сделали себе там по уютной пещерке размером и формой с голубиное яйцо и окоченели до далеких еще теплых дней.
Однако — за дело! Цель сегодняшней экскурсии — не созерцание произведений художницы-зимы, а вполне определенное задание: обнаружение следов жизнедеятельности мышевидных грызунов, с которыми экологически связаны шмели. Дело в том, что многие из зазимовавших самок шмелей будут разыскивать весной покинутые норы грызунов, где сохранилась мягкая выстилка, чтобы в ней загнездиться: шмелиному нежному потомству нужно надежное утепление.
Но с грызунами человек издавна ведет вполне справедливую борьбу, и, как ни странно, именно по этой причине может сократиться и шмелиное население в той или иной местности. И потому, много ли лапок хомяков, мышей, полевок отпечаталось следами-цепочками на снежной глади полян и опушек, можно судить о количестве шмелей в округе, о местах их сосредоточения и возможного гнездования. Для этого участки, где гуще всего наследили зверушки, выползающие ночью из убежищ и разгуливающие под луной по снегу, необходимо нанести на план.
Осмотр первой полянки ничего не дал. Но вот на снежной пелене — узкая, почти прямая цепочка ямок, махоньких, с пшеничное зерно. Будто кто-то аккуратно катил по снегу тонкозубую легкую шестеренку. Цепочку пересекает другой след: ямки чуть шире, и не вереницей, а парочками, сдвоенные. У канавы, что за осиновой рощей, переплетения и россыпи следов гуще, путаней, кое-где совсем сплошные. В одном месте все они стекаются в широкую, густо истоптанную магистраль, которая пересекает не накатанную еще дорогу, исчезая по другую ее сторону в кленовой посадке.
Здесь, у корней деревьев, в снегу, заслеженном и переворошенном сотнями крохотных лапок, зияют лазы — отверстия, будто проткнутые в снегу пальцем.
Что за четвероногий народец тут живет и зачем он топчется здесь ночами? Лесных и полевых грызунов в здешних краях — много видов; пока же нужно пометить расположение «мышеграда» в блокноте (ведь это будущее шмелиное городище!) и зарисовать форму следовых цепочек.
А потом отправиться дальше. За этот осиновый лесок, мимо золотистых, слегка прикрытых снегом стогов — туда, к высоким березам, чьи густо заиндевевшие светлые кроны торжественно и ярко сияют на фоне синего январского неба.
ХОМЯЧОК МИШКА
Он жил у нас три года — маленький серый зверек, честно зарабатывавший свой хлеб. Мишка — так мы прозвали хомячка — занимался «переработкой» ваты, которую мы по весне накладывали в приманочные ульи для шмелей.
Теребление ваты было для Мишки одним из любимых занятий. Сидит на задних лапках, а передними, да еще и зубами, орудует быстро и ловко, пропуская сбоку захваченную прядь ваты через рот. Получался мелко-комковатый пышный материал, который шмелихи, ищущие места для гнездования, явно предпочитали простой, нетеребленой вате, очень длинные волокна которой спрессованы сплошной массой и поддаются обработке шмелями с трудом.
Мы периодически меняли вату в Мишкиной клетке, и за зиму хомячок нарабатывал нам добрых четверть мешка отличного гнездового материала, сухого и чистого, чуть-чуть приятно пахнущего мускусом, в отличие от мышиных запахов.
Наш Мишка, относившийся к виду «хомячок джунгарский», оказался вообще исключительно милым зверьком. Круглый, как шарик, совсем без хвоста, с большущими черными глазами. Передали мне эту живую находку знакомые: во время ночной февральской поездки перед машиной в свете фар увидели небольшую стайку белых зверушек, перебегавших шоссе. Машину остановили, и одного зверька удалось без труда поймать рукой; мне он был доставлен в банке.
Снежно-белым Миша оставался лишь первую зиму. На следующую осень, к сожалению, хомячок белеть не стал: в теплично-комнатных условиях, как оказалось, окраска животных с разным сезонным нарядом не меняется. Так что побелеть Михаилу больше не пришлось — прожил он у нас целых три года серым.
Любил хомячок щелкать семечки, грызть печенье и даже лакомиться тортом. Не отказывался и от ленточек высушенного на батарее мяса. А когда таскал в гнездо-коробочку, поставленную в клетку, горох, то упрятывал в защечные мешки десятка полтора гороховых зерен: странно было видеть, как под самой кожей зверька крупные шарики проскальзывали назад, куда-то к пояснице. Нагрузившийся таким образом Мишка с большим трудом протискивался в «леток» картонного гнезда, что было очень смешно: он напоминал тогда объевшегося в гостях Винни-Пуха.
Характер у Михаила был серьезный, деловой. Ласки он не любил, но со временем его удалось научить выползать на ладонь за горошинами и семечками.
Однажды из комнаты, где висела на стене Мишкина клетка, послышалось как бы тиканье часов. Я тихонько заглянул в клетку. Хомяк сидел у стеклянной поилки и сосредоточенно тюкал зубами о край посудины. Так он укорачивал отрастающие резцы. Деревяшки и камни, что мы ему пробовали подкладывать в клетку, почему-то игнорировал, часами клацая зубками о стекло. Так мы и привыкли к этому мерному успокаивающему звуку.
Раза два в месяц мы отсаживали джунгарского хомячка в банку и проводили в клетке генеральную уборку. В «кладовой» — в углу гнездовой коробочки — лежала под ватой горка чистых светлых горошин, побывавших в защечных мешках хозяина.
Я нарисовал своего почти ручного любимца с натуры; пока он щелкал семечки. Рисунок, правда, несколько грубоват, но дело в том, что одна рука у меня, как видите, была все это время занятой.
Умер Мишка тихо и спокойно — от старости. Заснул в своем гнездышке, и больше не проснулся. Но до сих пор мы нередко вспоминаем нашего неутомимого-работящего хомячка, помогшего нам успешно провести опыты по заманиванию шмелей в искусственные гнездовья: уж очень им нравилась вата, переработанная джунгарским хомячком.
ФРОСЯ
А вот морская свинка Фрося против махонького хомячиш-ки была настоящим гигантом. Правда, «практического толку»
с нее не было никакого. Но с кончиной Мишки в домашней лаборатории, хотя и населенной муравьями, жуками, наездниками и прочими шестиногими, без «высших зверей» сделалось явно скучновато. Пришлось обращаться в исилькульскую ветеринарно-бактериологическую лабораторию — в таких лабораториях содержат белых мышей и морских свинок для анализов коровьих болезней.
Нам выбрали там молоденькую здоровую свинку, домой я ее доставил просто в кармане. Сажать ее в клетку или огороженный доскою угол мы не стали: пусть в ее распоряжении будет вся квартира!
И Фроська оценила это по достоинству. «Резиденцию» себе выбрала под шкафом; в часы отдыха зарывалась или закутывалась в положенную специально для нее тряпочку, которую для начала подкидывала, бодая головой. Иногда «гнезда» не получалось, и Фрося довольствовалась тем, что под тряпку лишь кое-как прятала голову.
Фроська строго соблюдала границы своих владений: никакими калачами ее невозможно было выманить за порог не только на лестничную клетку, но и на балкон, которого боялась панически, до дрожи.
Вроде немудрящее и не очень умное создание, но привязались и мы к ней, и она к нам — капризница, избалованная почти вольной жизнью. В отличие от чрезвычайно кротких (так везде пишут, а по-моему, просто трусливых, забитых и потому ко всему безразличных) морских свинок., содержащихся в небольших клетках и ящиках, Фрося показала упрямый, своевольный характер. И это мне очень понравилось: каждый зверь должен иметь свое «я», а не быть живой безропотной игрушкой.
Кто впервые заходил в нашу квартиру, непременно удивлялся странным звукам — не то писку, не то повизгиванию. Это Фрося надеялась, что ей принесли какое-нибудь лакомство — она всегда любила что-нибудь новенькое. Более всего она обожала молоко, и когда кто-то из нас после молочного магазина только еще входил в подъезд дома и едва начинал подниматься по лестнице, Фроська носилась по комнате и возбужденно визжала.
Но с удовольствием ела свинка и траву, и овощи, и сено (норма на зиму — один мешок; ежегодно мы устраивали небольшой сенокос с помощью ножа). Нередко же свинка для -разнообразия — но уж никак не с голоду, животик ее всегда был толст, как барабан, — закусывала газетной бумагой или даже совсем необыкновенным «продуктом» — полиэтиленовой пленкой, которой могла сжевать (и переварить!) изрядное количество. Рисунок изображает Фросю в момент, когда ей предлагают изысканное лакомство — , кусочек полиэтиленового мешочка.
А вот в руки Фроська не давалась, хотя обожала, когда у нее чешут за ушами, и обязательно перебегала в ту часть комнаты, где больше народу, вертясь у всех под ногами. Любила (а иногда требовала визгом), чтобы Оля ложилась на пол, вспрыгивала девочке на спину, а потом тянула и перебирала ее волосы на затылке. Согласитесь, более чем странная прихоть.
PI вот что еще любила Ефросинья: лизать... босые ноги хозяина. Вроде бы унизительное для животного занятие, и я долго старался отучить ее от странного побуждения. Но после длительных наблюдений пришел к выводу, что это необходимо ей для удовлетворения важной потребности. Сложная цепь материнских инстинктов включает в себя непременный ритуал — обли-
зывание детенышей. Ей нужно было лизать нечто теплое, живое, а Фрося, увы, была бездетна. Первое и единственное потомство ее оказалось невезучим: один детеныш родился мертвеньким, второй прожил лишь неделю; впрочем, у домашних животных первенцы часто нежизнеспособны. Устраивать же в квартире «свиноферму» мы не стали.
В общем, немало радости, да и забот, нам доставляла Фрося просто своим присутствием, тихой возней, забавными повадками, своей красивой трехцветной окраской — шерстка ее была рыже-бело-черная.
Изредка ночью мы просыпались от необычных громких звуков, совершенно не похожих на Фроськин визг, мелодичных и призывных, вроде бы как трель неведомой птицы. Это свинка, подчиняясь инстинкту, звала себе подобных. Песни эти были странными, какими-то нездешними и, несмотря на мелодичность, вызывали у меня непонятную, тоже нездешнюю, тоску.
Из Исилькуля в Новосибирск мы переезжали зимой, клеточку с Фроськой пришлось завернуть в ватное одеяло... С новой квартирой она освоилась быстро, тем более что ее обитатели, да и мебель, были прежними.
Под конец жизни (а прожила она у нас почти шесть лет) Фрося стала спокойнее, флегматичнее, перестала петь ночами, все меньше носилась по комнате. Похоронили мы ее в микрозаповеднике под большим кустом ивы, вокруг которого в мае густо жужжат шмели Студенты, проходящие тут практику, подглядели как-то за нами с Олей и после спрашивали, для чего это мы положили однажды под иву несколько сорванных колокольчиков. «Просто так», — ответил я ребятам, чтобы не засмеяли нас, чудаков...
Морских свинок завезли в Россию еще при Петре Первом.
А впервые европейцы обнаружили их в Южной Америке в уже одомашненном виде: тамошние индейцы разводили их на мясо, как кроликов; их и сейчас там едят. А в самых разнообразных лабораториях мира живут эти быстро размножающиеся, крупные и удобные для всяких опытов грызуны. И потому, как я считаю, морские свинки давно уже достойны не тайного букетика колокольчиков, а настоящего памятника, подобного поставленным в честь собак, служивших для медицинских экспериментов.
Кстати: животные эти никак не «свинки», и тем более не «морские» — старинное, совсем не верное название прочно пристало к заморским грызунам, родственным скорее нашим хомякам.
ЧУДЕСНЫЕ КРИСТАЛЛЫ
Мириады снежинок все оседают и оседают на заметно толстеющее белое покрывало, которым одеты бескрайние сибирские поля, — и в том залог будущих урожаев. Но иногда стоит глянуть на снег глазами не только хозяйственника.
Я положил на дворе кусочек темной ткани, а когда на него опустилось несколько десятков крохотных, с миллиметр, снежных крупинок, — вынес на веранду бинокулярный микроскоп.
И глазам предстало чудо. Вместо привычных шестиугольных ажурных пластинок, какие замечаешь иногда на своем рукаве (именно такими рисуют снежинки художники), я увидел граненые, как карандаш, прозрачные толстенькие стержни. Торцы их были увенчаны пластинками-накладками разнообразнейших форм, иногда пластинка была лишь с одной стороны призмочки. Иные стерженьки были совсем без накладок, сплошные или с отверстиями внутри.
Чудо-снежинки были удивительно прозрачны, и в их хрустальных гранях торжественно сияли светлые холодные блики.
Метеорологу, конечно, такие кристаллы не в новинку, ну а я не удержался, чтоб не порисовать «небесный хрусталь» с натуры. Сказочности не получилось, вышел лишь вот этот суховатый схематичный набросок.
Только закончил рисовать — как, увы, неосторожный вздох у бинокуляра растопил коллекцию драгоценностей, что насыпались с неба на кусочек ткани.
...Еще одна картина-воспоминание, связанная с чудесными кристалликами, что рождаются в зимних холодных небесах.
Была еще глубокая ночь, когда я шел из дому на исилькульский вокзал, чтобы сесть на первую электричку и уехать в Омск по делам. Было тихо, и крупные снежинки, опустившиеся за ночь на снег, блестели под фонарями необычно яркими, сказочными искрами. Они лежали целехонькие — плоские шестиконечные фестончатые звезды, иные размером с добрую канцелярскую кнопку. А сверху тихонько опускались новые. На ходу я заметил: такая снежинка в тихую погоду летит плашмя, почти не качаясь. Так вот почему над дальними фонарями стоят иногда в небе высокие светлые столбы! Снежинки-зеркальца, находящиеся выше прямой «фонарь — я», отражают его свет
подобно маленьким горизонтальным зеркальцам, искры эти сливаются в одну вертикальную полосу, и кажется, что каждый фонарь светит не столько на землю, сколько вверх, будто посылая, как прожектор, узкий пучок света куда-то в зенит. Снежинка, падающая тоже плашмя, но сбоку фонаря,а не передо мной, отразит свой блик куда-то в сторону. В общем, получается нечто вроде светлой лунной дорожки, отразившейся в озере, но не в земном, а в «небесном», и идущей потому не вниз, а вверх.
Думаю, что причину возникновения зимних светлых столбов над ночными источниками света знают многие.
Но, обернувшись назад, я увидел нечто совершенно необыкновенное. По обеим сторонам зимней прямой улицы тоже горели фонари, и два их ряда сливались вдали в светлое кучное сияние; над ними были тоже светлые столбы, но невысокие. Не-, высокие потому, что эта «порция» снега дружно кончала падать, и выше шел чистый воздух. Зато еще выше, метрах, наверное, в ста или даже больше над улицей, оседал плоским обширным облаком другой слой снежинок, и светлые столбы от фонарей после изрядных интервалов четко продолжались там, в вышине. Впрочем, это были почти не столбы, а короткие яркие пятна-отражения светильников — уж очень, видно, ровным был низ опускающего снегового облака, и в нем полностью от-, разилась улица — два ряда фонарей.
Я явственно видел их в небе все, до последних, далеких, потому что отражение улицы смотрелось не с нижней точки, а как бы со стометровой высоты, и потому было сильно развернутым — только висело вверх ногами.
Замечательный зимний мираж вдруг ожил и стал совсем реальным: вдалипоказались две фары автомобиля. Машина подъезжает все ближе — и по небу, по светлой фонарной «аллее», приближаются еще две таких же ярких фары!
Зрелище было удивительным и неожиданным: исилькульская обычая улица, с фонарями и машинами, отразилась в небе, да еще зимой! Посмотрите на рисунок — не правда ли, интересно?
Январская фатаморгана была недолгой: снежный слой опускался все ниже, отражения фонарей в небе слились со светлыми столбами, и густой снегопад засверкал тысячами зеркальных снежинок на зимней просыпающейся улице.
Видение исчезло...
Одно за другим зажглись окна в домах, да и я уже подошел к вокзалу.
А сейчас, спустя много лет, думаю: не оглянись я тогда — не увидел бы неповторимого «небесного зеркала».
Сколько же других уникальных явлений, может быть, таких, которые случаются крайне редко или всего только единожды, ускользает от нашего взора лишь потому, что мы, идя, смотрим большей частью вниз, не догадываясь или не желая под нять на миг голову и глянуть повыше, в небо!
ФЕЕРИИ ЗИМНИХ НЕБЕС
Зимнее солнечное утро. Настолько солнечное, что от разлитого по снегам света больно глазам, и их приходится сощуривать, выйдя из .помещения, в котором, оказывается, царил почти мрак по сравнению с этим ослепительным морозным миром.
И все равно мне надо первым делом глянуть в сторону Солнца — нет ли чего интересного близ него на небе?
Закрываю светило ладонью. Так и есть: справа и слева от него сияют яркие радужные пятна, ближе к Солнцу багровые, а с противоположных сторон — синие. У солнышка «уши», говорили когда-то в старину про такую парадно-величественную небесную картину, быть морозу!
А нередко бывает и такое. Будто кто-то взял гигантский циркуль, наставил его острую ножку на Солнце, и прочертил ко небосводу большущий светлый круг. Причем угловые радиусы этих грандиозных светящихся окружностей большей частью строго определенные: либо 22 градуса дуги, либо 46 градусов. Случается, что оба круга видны одновременно, да еще и со светлыми радужными «ушами», разместившимися но этим кольцам то на уровне Солнца, то в верхней точке круга. Иногда видна лишь часть круга и одно «ухо».
Что же это за величественные «небесные знаки» и почему их видно не всегда? Что-нибудь связанное с процессами, происходящими на самом Солнце — частицы, вылетевшие из него единовременно, которые смотрятся в виде светлого края гигантского расширяющегося пузыря, или же двумя сгустками, вроде сегодняшних. Не эта ли картина называется солнечной короной?
Увы, к самому Солнцу ни «уши», ни светлые кольца прямого отношения не имеют. Никакая это не корона (ее видно только
во время полных солнечных затмений ), — это «проделки» все тех же наших, земных, снежинок. Похожие то на запонки, то на зонтики — когда прозрачная пластина «напаяна» лишь на один торец шестигранной палочки, то на морского ежа — когда несколько стержней срослись концами, то на разнообразные звездочки, они отражают и преломляют солнечные лучи множеством способов, в зависимости от того, в каком положении плавают в воздухе снежинки той или иной «модели», и все явления подобного рода называются общим словом — гало.
В почти бесконечных по форме кристалликах воды есть нечто общее: грани их и «лучи» сходятся под углами в 30, 60, 90, 120 градусов. И «зонтики», и «запонки», и граненые «иглы», и разносортные ледяные «гайки», «шайбы», «муфты», «ежи» — всюду строгая шестигранность и шестидесятиградусность.
И вот на небе появился легкий туман из плоских снежинок, повисших плашмя, горизонтально. Лучи отразились в снежных зеркальцах как раз над и под Солнцем, и получился вертикальный световой столб, уже знакомый нам по предыдущей главе.
Другое дело, если в воздухе зависли, скажем, ледяные шестигранные карандашики, да притом вертикально, торчком. Тогда образуется светлый горизонтальный или паргелический круг, иногда величественно опоясывающий параллельно горизонту весь небосвод на уровне Солнца (на схематическом рисунке я изобразил «небесные феерии» таких гало, какие мне довелось видеть в разные годы в разных местах; существуют и другие формы).
Если грани вертикальных приз-мочек ориентированы одинаково, то на определенных расстояниях от Солнца появляются как бы его отражения — яркие радужные ложные солнца, или паргелии («уши»). Иногда в небе сияет пять, семь или даже более «солнц».
Светлые околосолнечные круги появляются гораздо чаще, чем горизонтальный круг. Наиболее обычен (и красив) малый 22-градусный круг. Изнутри он алый, снаружи — ярко-голубой.
Иногда его опоясывает большой 46-градусный круг (диаметром 92°, то есть больше, чем вполнеба), реже видимый «в одиночку». Парагелии (ложные солнца) возникают как раз на пересечении горизонтального и околосолнечных кругов или неподалеку от этих точек. 22-градусный паргелий образован прохождением лучей через грани кристаллов, сходящиеся под углом 60°; ложное солнце, удаленное от «всамделишного» на 46°, возникает при преломлении света в 90-градусных углах призм — между торцовой и боковой гранями.
Бывает и так: ложное солнце пересекли короткие отрезки горизонтального и малого кругов или же Солнце, настоящее или ложное, лежит на пересечении отрезков паргелического круга и вертикального столба. И тогда в небе висит большущий светлый радужный крест. Конечно же, такое небесное «знамение» (не очень, кстати, и редкое) поражало воображение набожных людей и мистиков, видевших в нем некое устрашающее божественное предупреждение: круг еще куда ни шло, круглое в природе встречается часто, но в небе — крест...
К малому гало могут примыкать касательные дуги, обращенные выпуклостью к Солнцу, — боковые, верхняя, нижняя, промежуточные. Выше большого гало иногда высоко в небе появляется эффектная околозеиитная дуга, ориентированная параллельно плоскости горизонта. Существуют и другие, более редкие и сложные формы гало. О некоторых из них рассказано в книге М. Миннарта «Свет и цвет в природе» (Москва, издательство «Наука», 1969 г.).
Жаль вот только, что явления гало менее доступны городским жителям, чем сельским. И не только из-за того, что городское небо загорожено домами и дымами: гало, по моим многолетним наблюдениям, действительно появляются над городом реже, чем за городом. Предполагаю, что частицы дыма и пыли, всегда висящие над городами и поднимающиеся иногда над ними на огромную высоту, служат ядрами конденсации, и водяные пары, оседая на них, образуют снежинки не сложных «классических» форм, а либо упрощенные, либо искаженные. На своей «гипотезе» я не настаиваю, но обидно будет, если и в самом деле окажется, что из-за деятельности человека исчезают местами не только звери и птицы, но и замечательные небесные явления.
Зато довольно часто в городах видны венцы — сплошные светлые диски, возникающие тоже вокруг светил, но не на рас-,
стоянии, а вплотную к ним. Происходят они вследствие дифракции — отклонения и рассеяния света у множества преград — пылевых и дымовых частиц.
Венцы нередки и в незагрязненном небе. Они возникают в высоких полупрозрачных облаках, состоящих из совсем крохотных снежинок, нередко поражая наблюдателя своим нежным многоцветьем — середина венца голубая, а наружная кайма его окрашена в мягкие теплые тона («городские» венцы большей частью бесцветны).
Чтобы не испортить глаза, солнечные венцы лучше наблюдать через темное стекло или отраженными простым стеклом, под которое подложено что-нибудь черное. А лунные венцы и гало наблюдайте без всяких предосторожностей. Подобные ночные картины очень впечатляющи и романтичны.
Помните, у Пушкина: «Сквозь волнистые туманы пробивается луна...» Как раз в такую ночь можно ожидать появления чудесных цветных венцов и гало. Кстати, ложные луны называются парселениями (Селена — по-гречески Луна). Один из лунных венцов я изобразил на цветной вкладке.
Напомню, что гало и венцы, хоть и родственны радуге, но отличаются от нее весьма существенно. Радуга образуется только в жидких дождевых каплях (а не в снежинках), и только в той стороне небосвода, которая противоположна Солнцу.
В трагически-суровую повесть Ванды Василевской «Радуга», где рассказано о мужестве и героизме советских людей в годы фашистской оккупации, а заодно и в запомнившийся всем фильм под этим же названием, вкралась именно такая ошибка. В зимнем морозном небе сорок первого сияла тогда не радуга, а, по всей вероятности, сложное гало, с малым кругом и красно-голубыми паргелиями. Не будем строги к не знавшей атмосферной оптики талантливой писательнице, книги которой разжигали в бойцах справедливую ненависть к захватчикам, приближая далекую еще тогда Победу.
А для себя запомним: гало, венцы и радуга — явления принципиально разные.
НОЧНОЕ «ЗНАМЕНИЕ»
Стоит ли тут писать о полярных сияниях? Нашим северянам они хорошо знакомы, для них это — обычное явление природы. Но все-таки зона наиболее частых полярных сияний лежит выше 67-параллели, то есть за полярным кругом — а это всего лишь шестая-седьмая часть площади нашей страны. Жителям
средних широт северные сияния показываются куда реже. Даже омичи, свердловчане, новосибирцы, томичи, красноярцы, иркутяне не могут похвастаться частыми наблюдениями этих небесных «знамений» — географическая широта их городов не более 53 — 55 градусов. А высокие здания, искусственный свет из множества окон и фонарей, задымленная и запыленная атмосфера, необходимость или привычка постоянно глядеть не вверх, а под ноги — все это очень мешает горожанину видеть ночное Небо — с его величественными и разнообразными явлениями.
Для жителей южных районов страны — Крыма, Кавказа, среднеазиатских республик — полярные сияния большей частью зрелище недоступное, за редкими исключениями. Помнится, в детстве я лишь один раз видел на северной части темного крымского неба странные малиново-красные облака, быстро меняющие свою форму и яркость. Это и было полярное сияние — свечение верхних разреженных слоев атмосферы, возбужденное так называемым солнечным ветром — летящими от Солнца заряженными частицами больших энергий, захваченными геомагнитным полем. Взаимодействуя с молекулами газов воздуха на высотах от сотни до тысячи километров, эти частицы — электроны и протоны — производят свечение подобно лампам дневного света и неоновым трубкам ночных реклам, содержащим разреженный газ, через который пропускается ток. И тогда на небосводе развертывается грандиозная небесная феерия, трепетно-подвижная иллюминация — полярное сияние.
Вот как описал картину северного сияния летописец в «Дневных записках достопамятных приключений»:
«1770 года 18 февраля в ночи в северо-западной стороне было ужасное зрению знамение, большая часть неба казалась кровавого виду, и небо многократно разверзалось, откуды огневидное и червленовидное сияние блистало, а тем якобы междоусобное сражение являло, что по прошествии нескольких часов было невидимо. Сему подобное было знамение и 20 февраля в ночи, в той же стороне, и таким же расположением, отчего весь снег освечало, и якобы огненные искры на землю рассыпало, что в великое зрителей привело удивление и в страх и опасность».
Как точно и образно описано не только само явление, но и поведение изумленных им людей, несмотря на то, что автор ничего не знал об истинной природе полярных сияний и полнейшей их безопасности! Сознаюсь, мне до него далеко. Изведя
множество бумаги, я понял, что так ярко, как он, все равно не напишу, и решил так: сокращенно перепечатать тут свою научную статью, помещенную в давнем номере «Бюллетеня Всесоюзного астрономо-геодезического общества». Статью эту, как мне тогда писала редакция, поместили не только как имеющую определенную научную ценность, но как в некотором роде образец точного и подробного описания небесного явления для лю-бителей-наблюдателей тех времен.
Ночами я наблюдал тогда метеоры, днем — Солнце. В марте 1946 года на экране своего самодельного «гелиотелескопа» заметил большую группу крупных солнечных пятен, окруженную факелами и ежедневно меняющую свою форму. В таких случаях нередки хромосферные вспышки — гигантские выбросы частиц, устремляющихся в космос; порывы этого «солнечного ветра» достигают Земли, и как знать, думал я, не проявят ли себя в ближайшие дни в нашей атмосфере...
Так что, готовясь во дворе к ночным наблюдениям метеоров, я не был застигнут врасплох, в некотором роде «предсказав» для себя величавую небесную феерию (с тех пор полярных сияний такой силы и красоты мне видеть не доводилось).
Итак, страница 25-я 4-го номера «Бюллетеня ВАГО» за 1948 год... Сухость текста, принятую в научных журналах, читатель дополнит воображением, а местами — курсивом в скобках — я не удержался, чтобы не поместить свои сегодняшние мысли-воспоминания.
Наблюдения полярного сияния 25 — 26 марта 1946 г. в г. Исилькуль.
Б. С. Гребенников
Полярное сияние 25 — 26 марта 1946 г. было замечено в 21 ч. 30 м — моменты указаны по омскому декретному времени — в виде трех вертикальных светлых полос, подобных столбам от фонарей в снежную ночь, — туманных очертаний, шириной 5° и высотой над горизонтом 25°. Средняя полоса находилась точно на севере, боковые, более слабые, на 30° от средней. Затем полосы стали расширяться и вскоре исчезли. В продолжение 20 мин. полосы возобновлялись в более слабой форме, а также в других местах, причем одновременно не наблюдалось более 4 полос. Все полосы располагались не параллельно, а как бы сходились в точке, находящейся на меридиане, градусов на 70 под горизонтом. (Разумеется, я оставил все наблюдения метеоров!).
В 21 ч. 40 м. полосы сменились весьма сильным освещением северного горизонта, которое охватывало 80° по азимуту и поднималось до 15° над горизонтом; изредка появлялись следы 1 — 2 полос. В 22 часа сияние захватило до 20° северного горизонта и несколько ослабело, а в 22 ч. 10 м. снова усилилось. (Я едва успевал записывать и зарисовывать все это дрожащими от волнения руками...)
В 22 ч. 45 м. явление разгорелось с новой силой: светлые столбы высо той до 60° непрерывно исчезали, появлялись, сливались один с другим в широкие, до 15°, полосы, а также медленно смещались. В этот момент сияние охватывало до 90° по азимуту. В 22 ч. 55 м. в наиболее широких полосах начали появляться цветные оттенки, особенно в верхней части полос. Преобладал густо-красный цвет. В момент наиболее ярких вспышек освещение было довольно интенсивным: можно было читать шрифт с буквами 5 — 6 мм; звезды оставались видимыми до 4,5 величины. В течение всего периода наблюдений небо было ясно, звезды в интервалы между вспышками были видны до 6,0 величины. Лишь у северного горизонта находились редкие слоистые облака, которые на фоне сияния казались темными. (Это был апофеоз величественного небесного спектакля, космичность которого подчеркивалась абсолютной тишиной уже спящего городка.)
На рис. 1 изображен фотографический отпечаток с негативного рисунка сияния (на кальке) около 23 час; сходство его с наблюдавшимся явлением довольно хорошее, лишь облака следовало изебразить немного менее интенсивными. (Свою черно-белую иллюстрацию из «Бюллетеня ВАТО» я перерисовал, но уже в цвете, для этой книги — она на цветной вкладке.)
Наблюдения были прекращены в 23 ч. 30 м., когда сияние было уже очень слабым.
СТРАННЫЕ ГОЛОСА БОЛИДОВ
Сначала немного о названии главы. Болидами принято на-, зывать очень яркие метеоры, превосходящие по блеску Венеру. По сравнению с обычными метеорами, порою весьма частыми (метеорные потоки), болиды — более редкое явление: это в атмосферу Земли вторгаются довольно крупные «небесные камни», иногда большие глыбы; изредка такой посланец космоса не успевает испариться от трения о воздух, и явление заканчивается выпадением на землю оплавленных метеоритов.
...Это было поздним зимним вечером. Над темно-синими сугробами исилькульской улицы, над снежными шапками, нахлобученными на крыши одноэтажных домиков, мерцало тысячезвездное небо. Было морозно, спокойно и тихо, я шел по этой темно-синей уютной улице.
Как вдруг где-то сверху, в зените, раздался неожиданный звук, сухой и резкий, похожий на неровный треск разрываемой ткани. Я моментально вздернул голову — чуть шапка не свалилась. Ярчайший болид, рассыпая желтовато-белые искры, стремительно несся по звездному небу — столь стремительно, что я успел застать его лишь в середине и конце пути, когда он, пыхнув последними искрами, потух где-то высоко-высоко в атмосфере.
Тут же исчез и звук «рвущейся ткани» — словно кто-то распорол ее по шву до конца. И снова над городком повисла мягкая снежная тишина. Зато метеор оставил за собой длинный светящийся след, протянувшийся по звездам как раз через зенит. След этот быстро таял и окончательно померк секунд через пять.
Все это было мне не в диковину: в юности я несколько лет наблюдал метеоры, состоя иногородним корреспондентом-наблюдателем метеорного отдела Таджикской астрономической обсерватории (ныне — Институт астрофизики АН Тадж. ССР), куда регулярно высылал из далекой Омской области звездные карты, исполосованные следами зарегистрированных мною «падающих звезд». Наблюдал метеоры каждую ясную ночь, иногда, что называется, от зари до зари. Видел, кроме многих сотен «обычных» метеоров, и очень крупные яркие болиды, вроде этого, который, казалось бы, ничего такого уж особенного не представлял.
Но вот что меня сильно смутило. Ведь я сначала услышал звук, и тогда лишь, подняв голову, увидел болид. Может ли быть такое? Большинство метеоров, влетая на бешеной скорости в атмосферу и почти мгновенно раскаляясь от трения о воздух, испаряются яа высотах 60 — 130 километров, в редчайших случаях достигая 20 — 40 километров до Земли. Звук же летит в атмосфере со скоростью 330 метров в секунду, так что звуковые волны могли достичь меня самое меньшее через минуту, а вероятнее всего не раньше, чем через минуты три-четыре. Вот например грозы: есть простой прием расчета их дальности от наблюдателя — для этого нужно считать секунды, прошедшие между вспышкой молнии и первым громовым раскатом, число этих секунд поделить на 3, и получится расстояние до молнии в километрах. И многие из нас по опыту знают, что если вспышка молнии и звук ее «выстрела» раздаются почти одновременно, то это значит, что огненная стрела ударила где-то совсем рядом — к слову сказать, ощущение при этом далеко не из приятных.
Но вернемся к болиду. Треск яркого посланца Вселенной я слышал тоже в те самые мгновения, когда он пролетал по небу; выходит, это случилось не выше нескольких метров? Но такого не могло быть! Многолетний опыт наблюдений этих не-
бесных тел, характер, «облик» явления говорили о том, что пролетел болид, как ему и подобает, очень высоко. Доказательством тому служил хотя бы характерный для многих метеоров светящийся след. Эти следы образуются не ниже нескольких десятков километров, состоят из распыленных светящихся частиц испарившегося «пришельца» и «живут» там от долей секунды до целого часа, позволяя себя зарисовывать и фотографировать.
Или все же мне звук почудился?
Но ведь именно «рвущаяся ткань», а не что иное, заставила меня быстро глянуть в зенит!
Так что ж, выходит, звук этот каким-то непостижимым образом, вопреки всем законам физики, летел сюда со скоростью света — триста тысяч километров в секунду?
И тут я вспомнил: где-то в сороковых годах, теплым летним вечером, когда Солнце уже упряталось за горизонт и на противоположной стороне неба начали загораться первые звезды, я заметил далеко на юго-западе светящийся шар, диаметром где-то с четверть видимого диска Луны, но с размытыми краями. Это был болид. Он падал сравнительно медленно, и не прямо, а по довольно крутой, загнутой вниз, дуге: наверное, летел почти в мою сторону и притом быстро, но с торможением; мне же виделась короткая крутая дуга его пути. Через несколько секунд болид исчез — испарился. Но как раз в мгновения полета болида оттуда слышался странный звук меняющегося тона, сначала высокий, но быстро переходящий в низкий, скорее всего похожий на поскуливание собаки или мяуканье неестественно большого кота (в той стороне был пустырь и животных там не было), только с этаким «техническим» тембром, вроде как при настройке радиоприемника.
Тоже случайность, иллюзия, совпадение? Ведь удары и грохот, издаваемые иногда крупными болидами, слышны так же, как и раскаты грома, порожденные молнией (или как выстрелы орудий), подчинены тем же законам акустики, и по времени полета ударной звуковой волны, которая иногда высаживает стекла, ученые устанавливают место падения болида, находя там, конечно, в редких счастливых случаях, осколки «небесного гостя» — метеориты.
Отчего же странное «мяуканье» и этого болида слышалось не спустя минуты, а именно в короткие мгновения полета?
Так и остались эти две моих небесных тайны неразгаданными; зная, что наверняка попаду впросак, я, откровенно сказать, помалкивал, описав лишь световую картину пролетевших болидов.
А ведь зря помалкивал. Если все наблюдаемое станет безропотно укладываться в рамки уже известного, будет абсолютно четко подчиняться только уже открытым нами законам природы — будут ли тогда развиваться науки? Что станет с ними, если мы упрямо начнем отвергать все непонятное, неведомое, таинственное?
Такого, непознанного, было и будет очень много, может быть, даже по принципу «дальше в лес — больше дров». И очень хорошо, что эта кладовая тайн остается неисчерпаемой: именно в этом один из залогов прогресса человечества.
Взять, например, известный случай с кольцами Сатурна. Увидев их вблизи с помощью межпланетных автоматических станций, ученые обнаружили, что три известных ранее широких кольца с близкого расстояния «распались» на сотни, если не тысячи тонких и тончайших колец, причем многие из них не концентричны, а заходят друг за друга, некоторые скручены в жгуты и даже соединены поперечными «спицами». Все это на первый взгляд не вяжется с законами физики. Не зря говаривал Камилл Фламмарион (книгою которого «История неба» я зачитывался в детстве): «Сатурн — чудо Солнечной системы...» Но я уверен, что люди дознаются и до этой тайны и получат именно от колец Сатурна очень много важного, реального, полезного.
Да что там Сатурн! На нашей, казалось бы, досконально изученной Земле вон еще сколько загадок. Например, шаровые молнии — природа их так и не получила должного объяснения; ориентировка птиц, когда они безошибочно находят свою родину после долгого отсутствия в дальних странах: голуби, отвезенные за сотни километров и затем выпущенные, тут же берут курс на родную голубятню... Да и многое-многое другое.
Так же и с болидами. Оказалось, что несмотря на совершеннейшую, казалось бы, невозможность одновременного видения и слышания болида имеется очень много таких наблюдений, сделанных разными наблюдателями в разных частях света. В каталоге профессора И. С. Астаповича, изданном в 1951 году в сборнике «Метеоритика», описано множество таких болидов с загадочными звуками, начиная с летописей 585 года. В 1940 году профессор тогдашней Сибирской сельскохозяйственной академии (Омск) П. JI. Драверт, известный геолог, географ, астроном и краевед, собравший сведения о большом количестве болидов и метеоритов, дал название этому странному явлению: электрофонные болиды. Название это было сразу принято учеными, и сейчас астрономы всего мира широко уп©г> ребляют этот термин нашего земляка.
Я приведу лишь несколько выдержек из обширных списков электрофонных болидов Астаповича и Драверта, где они опубликовали не только собственные наблюдения, но и скрупулезно собранные многочисленные свидетельства очевидцев. Из 163 электрофонных болидов списка И. С. Астаповича 23 — сибирские. Вот некоторые из них:
1 декабря 1706 года, житель Тобольска: «При полете было слышно «шустанье» (скрежет)...
1 марта 1929 года, жительница деревни Чередово Тарского округа А. Преженцева: «Услышала сначала шум, подумала, что едут мимо с лесом на санях (чего не было), а затем избу осветило. Через некоторое время послышался гром» (болид завершился выпадением известного метеорита Хмелевка)...
10 августа 1937 года, Крутинский район Омской области, счетовод А. Ф. Глушаков: «В темную ночь сделалось так светло, как от электрического освещения, причем во время всего полета, а длился он секунд 15 — 18, был слышен шум, как будто где-то свысока летит камнем вниз огромный орел»...
6 августа 1938 года, под Омском, пилот И. Я. Кащеев уви дел яркий Оранжевый болид с сизой оболочкой. «В середине же пути слышался треск, как при поворачивании пробок в электросчетчике»...
Кстати, некоторые очевидцы падений знаменитых Тунгусского и Сихотэ-Алинского метеоритов (1908 и 1947 гг.) во время полета «небесных камней» слышали звуки, напоминающие шум летящих птиц, жужжание, гудение. 11 октября 1950 года некоторые жители Венгеровского района Новосибирской области также слышали шипение во время полета болида, а лишь потом, после его исчезновения, три громовых удара (найден метеорит Венгерово из нескольких осколков).
Расстояние, с которого слышны эти необыкновенные звуки, оказалось огромным. Большей частью это 50 — 200 километров, минимальное — 10 километров (но звук пришел бы оттуда лишь через полминуты) , максимально рекордное — 420 километров (оттуда «нормальный» звук прилетел бы через 21 минуту, но на самом деле просто не долетел бы: ослабел бы и угас где-то далеко за пол пути).
Во многих случаях звуки электрофонных болидов даже предшествуют их появлению: сначала наблюдатель слышит звук и лишь затем, повернувшись в его сторону, видит, как в небе начинает появляться болид.
Имеется сообщение о том, что синхронный с полетом болида свист слышали, в отличие от взрослых, только дети (4 октября 1950 г., Миссури, США), и несколько наблюдений, подтверждающих, что сначала внезапно встревожились куры и собаки, на которых обратили внимание люди, и лишь потом появился болид.
Замечательно и, конечно же, пока не объяснено то, что среди группы людей часть слышала звуки (и описали их по-разному), а часть ничего не слышала вообще, болид был для них бесшумен, как, например, 1 февраля 1934 года (Германия): «10 человек из 25 слышали свистящие и гудящие шорохи». Не так давно с этим делом крупно повезло австралийцам: 7 апреля 1978 года над Сиднеем пролетел ранним утром большущий болид. Примерно третья часть опрошенных показала, что слышала одновременно с его полетом различные звуки, для остальных же болид был беззвучен.
Вот перечень звуков, которые, по словам очевидцев, сопровождают болид во время его полета: жужжание, шорох, свист, скрежет, шелест; журчание и кипение воды; полет пули, снаряда, ракеты, вспугнутой птицы, стаи птиц; треск электросварки, горящего пороха, хлопанье; шипение струи газа или раскаленного металла, опущенного в воду; перелом сухого дерева; шум песка, сыплющегося на листья...
Ну а были ли болиды, похожие по звуку на «мои» исиль-кульские?
Конечно же были. Только я об этом совсем и не знал. Августовский болид 1898 года в Финляндии издавал звук «как бы от разрыва чего-то мягкого, например бумаги или полотна». В июне 1928 года в Ларедо, Сан-Антонио и Уимберли (Техас, США) при полете болида слышались «скулящие звуки» (расстояния от этих пунктов до болида 220, 160 и 230 км). В мае 1944 года под Ашхабадом музыкант А. П. Пейч услышал звук «у-у-у-у-у» и увидел болид; звук повышался, «убыстряясь в частоте тона, затем резко оборвался» (вычислено: высота вспышки 84 км, погасания — 32 км, от этих точек до Ашхабада — 205 и 180 км).
Наконец, накопилось уже немало детальных описаний элект-рофонных болидов, которые наблюдали профессиональные астрономы.
Увы, несмотря на то, что сейчас ученые уже единогласно признали явление электрофонных болидов объективным достоверным фактом, загадка их не разгадана и по сей день. Неко-
торые специалисты полагают, что «виною» всему — электромагнитные волны, излучаемые болидом во время полета. Эти волны летят со скоростью света, а уши некоторых людей (кстати, очень сложный и тонкий биологический аппарат) каким-то еще неизвестным нам образом превращают электромагнитные колебания в звуки, различные у разных лиц, а для многих — недосягаемые. Есть и другие гипотезы: электростатическая — коле-лебания электрозаряда между болидом и землей, ультракоротковолновая, плазменная и многие другие.
Ставили эксперимент: излучения высокочастотного мощного передатчика на расстоянии 300 метров описывались «подопытными» как жужжание, пощелкивание или удар. Но испытуемые утверждают, что источник этих звуков находился как бы «внутри головы». В то же время звуки электрофонных болидов имеют четкую направленность извне и воспринимаются нормально, ушами, что я могу твердо засвидетельствовать теми двумя исилькульскими наблюдениями.
Установить истину пока еще трудно: полет болида — в об щем-то, явление редкое, непредсказуемое, и оборудовать специальную аппаратуру для мгновенного всестороннего изучения болидов, да еще организовать постоянное дежурство хотя бы нескольких десятков «слушателей» — практически, невозможно, как и невозможно заранее приготовиться к наблюдениям ша-„ровой молнии.
Однако можно не сомневаться: коль ученые обратили повсюду внимание на странные голоса болидов — загадка их будет разгадана. И если немного пофантазировать, то изобретатели тогда придумают прибор для мгновенной сверхдальней связи, работающей по этому принципу. Такая связь будет замечательной: подаваемые сигналы примут лишь те отобранные заранее и подготовленные операторы, у которых уши (или мозг?) «настроены» только на источник этих излучений. Немалую пользу принесет «электрофоника» врачам-оториноларин-гологам как для диагностики, так, может быть, и для лечения. Да мало ли чего можно ждать от дальнейшего мудрого содружества Человека и Природы? Мог ли поверить ученый, скажем, XVIII века в то, что очень скоро его потомки изобретут радио, будут ходить по Луне или принимать телепередачи с Венеры, Марса и Сатурна?
Главу закончу строками славного омича профессора П. Л. Драверта, бывшего, плюс ко всему выше о нем сказан-
ному, еще и поэтом (многие ученые «доброй старой закалки» были вот такими, многогранными, неутомимо восторженными):
Когда над мутною громадой древних гор
Медлительно скользит по небу метеор,
И шелест слышится загадочный в эфире, —
Вперяя жадный взор в огнисто дымный след,
Я думаю о том, чего давно уж нет...
Заметьте: шелест, и не спустя минуты, а когда метеор сколь зит по небу. Точнее и не скажешь.
А к читателям просьба. Если увидите и услышите такое, сразу же опишите и зарисуйте как можно подробнее и вышлите автору этих строк или во Всесоюзное астрономо-геодезиче-ское общество. Этим вы очень поможете науке разгадать вековую, возможно, очень нужную людям тайну.
И поможете мне покрыть вину: намеренное сокрытие от науки важнейших обстоятельств полета двух замечательных электрофонных болидов. Ведь я поступил тогда как перестраховщик и невежда...
КИПАРИСЫ НА ОКНЕ
Ох и далеко же от нашего Новосибирска до темного ночного моря, что сейчас плещется там, в Крыму, о зубастые крутые скалы! По-над скалами теми вьется дорога, обсаженная кипарисами. Острые вершины их смотрят в зенит, где, наверное, проплывают частые лохматые облака, ненадолго открывая в прорывах черно-лилового южного неба искристые россыпи созвездий. И шумит, наверное, сейчас зимний влажный ветер в густых ажурных ветках, гнет вершины кипарисов, а они, выпрямляясь упруго, снова нацеливаются в зенит, и кажется, что это вдоль прибрежной дороги выстроились извилистой шеренгой не деревья, а стремительно темные силуэты сказочных ракет перед грандиозным космическим стартом...
Конечно же, вместе с ними глядит в ночное крымское небо и тот кипарис, с которого я несколько лет тому назад сорвал круглую небольшую шишечку. Был, помнится, жаркий августовский день с золотым солнцем и тысячью солнечных бликов на море, а на стройных темно-зеленых деревьях, что у шоссе, было много плотных зеленых и буроватых шариков — зреющих шишек. Сорванная шишечка была тяжелой, чуть липкой @т емолы и елово-душистой.
А когда спустя месяц открыл коробку, где она лежала вместе С другими крымскими «сувенирами» — разноцветными морскими камешками, раковинами улиток, черепками, подобранными во дворе старинной крепости, — не узнал своей находки. Шишка высохла, побурела, растрескалась, и несколько составлявших ее призмочек-столбиков, направленных в разные стороны, далеко отошли друг от друга. А между ними оказалось множеств во угловатых семян, похожих на мелкую гречневую крупу, но хвойно-пахучих.
Взял я тогда щепотку семян и рассыпал на бумажку, положенную на мокрую вату. Чтобы влага не испарялась, вату с бумажкой и семенами поместил в стеклянную посудинку с крышкой.
Пришла зима. Семена не подавали признаков жизни, хотя вроде бы немного разбухли. Тогда я поставил свой маленький «парничок» над батареей отопления.
И вскоре, хотя на дворе трещали морозы, изо всех до одного зерен проклюнулись корешки. Три прорастающих семени я посадил в цветочный горшок. Не прошло и двух недель, как зелененькие упругие ростки выпростались из оболочек, приподняли землю, весело выглянули наружу и тут же выбросили по два изумрудных листочка.
Прикрыв «рассаду» стаканом, чтоб не пересохла, я наблюдал, что будет дальше. Листики увеличивались, подымаясь на быстро растущих стеблях. Но концы листьев, увы, начали буреть. Наверное, все же погибнут нежные растения, уроженцы далекого юга... Однако на вершинах ростков появились пучки сочных хвоинок, не таких, как первые широкие листочки, а голубовато- сизых, узких. Пучочки эти стали разворачиваться, и вот уже крохотные деревца растут под стаканом!
Не без опаски убрал я стакан: в комнате сухо, чего доброго погибнут! Однако деревца «болели» недолго и почти незаметно. Тогда я рассадил их в отдельные газоны, с великой предосторожностью разделив комок земли на три части, чтоб не повредить корней. Эту процедуру мои уже крепенькие пиг&мцы перенесли совсем безболезненно.
...Сейчас, когда я пишу эти строки, по ту сторону оконных стекол, разрисованных ледяными узорами, зима — уже третья в жизни трех моих кипарисят. Они поднялись над землей на добрых полметра на прямых красновато-коричневых стволи-
ках; сизо-зеленые лапчатые веточки их «крон» упруго смотрят вверх, а на концах их разворачиваются и все растут да растут кисточки молодых хвоинок; снизу хвоинок, если приглядеться, висят маленькие хрустально-прозрачные шарики смолы — признак здоровья и благоденствия растений.
Да и по всему сейчас видно: много лет расти-зеленеть в нашей новосибирской квартире островерхим южным деревцам, оказавшимся такими жизнестойкими. Ведь несмотря на то, что северные зимние дни, казалось бы, губительно коротки, и этот недолгий свет из окна падает на них лишь с одной стороны, — три маленьких деревца, как и подобает кипарисам, смотрят вершинками точнехонько в невидимый с подоконника зенит.
И еще три точно таких же удивительных деревца отразились в оконном стекле, за которым морозно гудят провода да искрится январская долгая ночь...
МОИ ЗЕЛЕНЫЕ ДРУЗЬЯ
«Жизнь удлиняется потому, что люди видят зелень». Эта цитата дословно выписана мною из статьи доктора биологических наук Н. Ф. Реймерса «Экология человека: основные проблемы». В статье рассказано, что проводились математические исследования материалов, полученных в 68 городах Московской области, и выявилась четкая связь между продолжительностью жизни людей и числом квадратных метров зеленых насаждений на одного жителя. Общеизвестно положительное влияние городской зелени как поглотителя шума и пыли и как источника кислорода; в статье же рассматривается информативная сторона явления, попросту говоря, зрелища. Ведь на долю зрительных воздействий природы на человека, пишет ученый, приходится 87% от всех его ощущений. Отсюда и вывод (сформулированный им пока как предположение), который я вынес в начало этой главы.
Потому что целиком и полностью согласен с Николаем Федоровичем. И еще, на основании собственных ощущений и настроений, добавил бы к этому: зелень желательна по возможности разнообразная, и чтобы она была перед глазами круглый год,не менее нескольких часов в сутки.
Художники психологи, правда, советуют применять больше искусственного зеленого цвета в быту и на производстве — для обоев, окраски оборудования, полов, даже мебели. С этим невозможно не согласиться: глаза людей за очень еще исторически короткий промежуток времени не успели перестроиться, приспособиться к городскому и техногенному ландшафту и упорно, как у наших далеких и близких предков, просят зеленого цвета — основного цвета природы, среди которой человек и стал собственно человеком.
Не только зеленоватые стены, одежда и станки в какой-то мере могут удовлетворить эту «жажду зелени». Как-то мне не хватило для черновиков бумаги, а магазин был закрыт на учет. Перебрав старые тетрадки, я отделил у них обложки — голубые, зеленоватые, розовые, и стал писать. Совсем как-то не заметил, что розовые листки вроде бы не пришлись по душе, и я их оставил на потом. Писал больше на голубых, желтых, зеленых... Одну главу написал очень быстро, вовсе не заметив, что пришло «откуда-то» вдохновение и эдакое «природное» настроение, а затем дело пошло явно хуже, и вещь эту я не закончил, начав другую.
Потом уже, перебирая написанное, с удивлением обнаружил: легко писавшиеся главы родились на листках светло-зеленого, с теплым оттенком, цвета!
Ведь белый цвет бумаги — очень яркий, неестественный; мы не замечаем, что когда подолгу смотрим на обширные белые площади (письменный стол с документами, конструкторские чертежи, долго не закрытые краской этюды), — в конце концов начинаем раздражаться, устаем и либо прерываем занятие, либо начинаем «халтурить». Может быть, стоит подумать о том, чтобы для писательских «черновых» нужд выпускать дешевую простую бумагу, но обязательно подзелененную? Выношу этот вопрос на рассмотрение психологов, писателей и окулистов, да и читателей, среди которых найдется немало таких, которые по долгу работы или учебы имеют дело с белой бумагой по нескольку часов в сутки.
В общем, нашим глазам и мозгу действительно не хватает зелени, особенно за пятидесятой параллелью, где лето относительно короткое и мы не можем бывать подолгу в зеленых лесах и на зеленых полях. Да и на юге теперь горожанам тоже явно не хватает зелени.
Вот отсюда у нас и невольная тяга к комнатным растениям. .И дело, по-моему, не только в зеленом их цвете, но и в форме.
Интересно бы поставить опыт: одна группа людей живет и работает в окружении массы комнатных растений-с их разнообразными по размерам и форме листьями, побегами, ветками, другая — в таком же помещении, стены которого ровно выкрашены в «средне-растительный» цвет; для чистоты опыта воздух в оба помещения подается одинаковый. Более чем уверен, что у второй группы дела пойдут хуже.
Помню я не столь давнее время, когда в моду вошла «лаконичность» домашней обстановки — низкая мебель о трех то-не.ньких ножках вразбег на фоне обоев ярчайшего цвета; все громоздкое, тем более старинное, объявлялось «не стильным» и предавалось анафеме — резная мебель, кружево, вышивка. Комнатные растения тоже попали в «черный список» предметов мещанства, безвкусицы и даже пошлости; самое большее, что допускалось «растительного» — сухая, изящная или, наоборот, корявая ветвь в керамической высокой вазе. Не дай бог в то время появиться в «приличной» квартире фикусу, пальме или герани...
Конечно, те «новаторы» были отчасти правы. Когда были выброшены из жилых помещений громоздкие ящики и кадки с лимонами и розанами, фикусами и пальмами, оказалось, что в квартирах больше места; когда же с окон были убраны застившие свет «бабушкины» герани и бегонии — в комнатах стало солнечно.
Но извечная тяга к зелени, к растениям все же брала свое. Сначала робко появились на давно опустевших подоконниках крохотные сосудики с маленькими-премаленькими кактусами.
Потом их стало побольше: на кактусы «пошла мода», любители этого действительно интересного дела уже не стали считаться с размерами своих питомцев и в живых коллекциях кактусистов, объединившихся в общества и клубы (и правильно, так легче защищать полезное дело!), можно было уже встретить растения вполне приличных размеров. Коллекции росли, росли и сами растения. Зеленые спутники человека снова заняли подоконники, подставки, полки... У многих снова появились лимонные деревца. Не везет только вот фикусам — красивым кустарникам с большими темно-зелеными листьями, которые с той странной поры до сего дня влачат судьбу изгоев. Во всяком случае я уже года три не могу добыть фикусовый росточек.
Квартира или кабинет, где нет комнатных растений, производят на меня гнетущее впечатление. Едва мы переехали в Новосибирск, как тут же я начал «попрошайничать» насчет отростков — это было в 1976 году; более сотни «зеленых единиц» 23 видов или сортов вечнозеленых растений населяют сейчас нашу квартиру.
Принципы, по которым я их подбирал, были довольно жесткими. Во-первыхдлистья не должны загораживать свет из окон. Во-вторых, чтобьЛрастения были живучими и не гибли даже в том случае, если и вовремя не полить. В-третьих, чтобы было поменьше забот с подкормкой, пересадкой и прочим. В-четвер-тых, чтобы общая площадь листьев была как можно больше, а форма — как можно разнообразней. Пятый пункт многим покажется вовсе странным: ггоб растения эти меньше цвели или даже не цвели совсем.
В одной из своих книг я уже рассказывал, что цветок для меня неразрывно связан с насекомыми-опылителями: цветок без пчел и шмелей, жужжащих над ним, без жуков-бронзовок и во-сковиков, уткнувшихся в его сладостные недра — вроде как образ неразделенной любви, одиночества или какой-то неполноценной жизни. Особенно цветки, попавшие в комнату из луга или теплицы. Ни в коей мере не навязываю своих взглядов и чувств, прекрасно понимая, что цветы были, есть и будут для людей источником вдохновения, символом жизни и любви и той самой частицы природы, которая, как говорится, вхожа в каждый дом и понятна почти всем. И, конечно же, прекрасный обычай — дарить друг другу цветы и по торжественным дням, и просто в знак любви и уважения. Так что правильно сделает тот, кто со мной не согласится.
Но у меня отношение к цветам, точнее, к цветкам, почему-то иное. Живые цветки, срезанные с растений, увезенные откуда-то куда-то, проданные-купленные и доживающие свои часы даже в самой шикарной настольной вазе, вызывают у меня жалость. Последние же минуты жизни их всегда одинаковы: сначала в мусорном ведре, затем в мусоропроводе и мусоровозе, а потом на свалке. Немногим лучше судьба и «небукетных» цветков, то есть тех, что расцветают на домашних растениях: покрасовавшись столько-то дней (или даже часов, как у некоторых кактусов) и не дождавшись предназначенных им природой насекомых-опылителей, они вянут и опадают, правда, порадовав наш взгляд, но большей частью не оставив ни завязи, ни семечка. Я не говорю уже о тех случаях, когда очень яркие и многочисленные цветки «бьют в глаза», чем создают душевный дискомфорт, то есть плохое настроение. Особенно это относится к крупным цветкам и соцветиям с ярко-красными и фиолетовыми лепестками: китайских розанов, многих сортов герани, фиалок и тому подобных растений, цветки которых, в результате долгой работы самодеятельных селекционеров, не обладавших высоким художественным вкусом, стали напоминать не природные, а искусственные поделки из бумаги или стружки, окрашенной ядовито-ярким анилином. К тому же масса цветущих растений выделяет пахучие эфирные масла, болыдие концентрации которых могут вызвать головную боль и алергические заболевания.
Ну а в том, что я вовсе не «цветконенавистник», читатель, конечно, убедился, познакомясь с главами «Нетерпеливая ветка», «Сибирские первоцветы», «На залирных лугах» и многими иными. Цветы я люблю, берегу и изучаю. Но только в живой природе — на лугах, в лесах, в оврагах, лустроенных с таким трудом микрозаповедниках, где мы оберегаем каждый цветочек. Делать же в квартире «цветущий луг» вовсе ни к чему...
Другое дело устроить дома как бы маленький кусочек леса, даже не один, а несколько. «Пять условий», которые я привел чуть выше, выдержали далеко не все мои зеленые питомцы. Одни упорно старались поставить свои широкие листья поперек света и жадно захватывали таким образом все окно, не считаясь ни с нами, ни с собратьями, которым становилось темно и которые из-за этого чахли и в конце концов погибали. Третьи нуждались в постоянном уходе, а мы все дома народ занятый и уделять для занятий комнатным цветоводством много времени не имеем возможности, поэтому очень нежные растения у нас долго не продержались. В общем, получился как бы естественный отбор, в результате которого право жить «на равных» в нашей квартире, не причиняя никаких неудобств ни нам, ни себе, получили только десятка два видов растений — неприхотливых, всегда зеленых и очень разнообразных. Для тех, кто хочет тоже устроить в нескольких уголках квартиры «маленькие джунгли», не требующие особых забот, перечислю основные из этих зеленых моих друзей и на всякий случай их нарисую — ведь не все знают их названия.
Сансевьера. Ее толстые, сочные, похожие на обоюдоострые мечи листья торчат из земли вертикально. Они очень красивы — исчерчены поперечными полосками, светло- и темно-зелеными, очень напоминая этим окраску арбузной корки. Для размножения сансевьеры я режу один лист на куски по 5 — 7 сантиметров, ставлю пучок этих отрезков в стакан, в который наливаю немного (на палец) воды. Через месяц, когда обрезки пустят корни, я сажаю их в любую посудину, можно мелкую — миску или тазик с землей; отверстие в дне посуды необязательно. Через год в тазу — целый лес из зеленых полосатых «мечей» высотою до метра, прочных и сочных. Этот «лес» отлично живет и густеет даже в темных углах комнаты, привнося в нее дух здоровья, жизненной силы и еще что-то «арбузное».
О кипарисак я уже писал. А чтобы хвойных растений дома было побольше, так же поступил и с туями: сорвал в Крыму туевых шишечек к рассеял их семена по плошкам. Деревца эти, имеющие почти такую же, как у кипарисов, хвою, более раскидисты, и ветви их тянутся не вверх, а в стороны. Впрочем, у нас в СимферополеХво дворе росла туя с высоким гладким стволом и густой шаровидной кроной — отец обрезал нижние сучки, и получился не куст, а дерево. Жаль, что в Сибири этому, в общем, очень неприхотливому растению зимой на улице холодно, зато в помещении оно себя чувствует отлично, особенно во влажной торфяной почве. На лето же его можно выносить наружу.
Очень декоративны и неприхотливы плющь У меня их два сорта — обычный, с широкими кожистыми листьями, и другой, с глубоко разрезанными листьями в виде пятиконечной звезды. Лианы плющей протянуты даже в самые темные места комнат, и ничего, растут; иные плети достигли уже доброго десятка метров. Растения эти хороши тем, что если их пустить по стенам и даже потолку, они совершенно не займут полезной площади, зато превратят комнату в подобие сказочного парка. Плющи терпят любые невзгоды и подолгу обходятся без полива, хотя, в общем-то, любят влагу. Помню, в Тернопольской области, где всегда очень влажный воздух, плющами почти сплошь были красиво закрыты фасады многоэтажных домов; оказалось, что многие из них полностью утратили связь с землей и, присосавшись к стенам зданий, пустили корни в их неровности. Питательных веществ, полученных таким странным образом, вполне хватало: многометровые «стены» плюща выглядели здоровыми и мощными. В квартире тоже можно декорировать плющами значительные площади стен, скажем, сделать зеленый «ковер» или завить вокруг горшка с растением большущий плющевой шар. А небольшие веточкиплюща отлично живут просто в сосудиках с водой.
Из других лиан неплохо прижился у нас циссус ромболистный. Крепится он не присосочками, как у шпоща, а усиками — наверное, из-за этого его прозвали еще «комнатным виноградом». Темно-зеленые листья его тонкие, угюватые, подернутые сизоватым матовым налетом. Длинные плети циссуса и пышные его заросли в углах под потолками совеем преобразили комнату.
Плети циссуса на потолке у нас смыкаются с растениями, обитающими на другой стороне комнаты, образуя зеленую арку. А внизу — небольшое царство кустарников; ветви отдельных из них достигают потолка и лежат там на шнурках, протянутых через комнату. Из кустарниковых растений самым неприхотливым оказался один из сортов гибискуса сирийского (в просторечьи — «березка»,) с ярко-зелеными зубчатыми листьями. Растет он тут, да и в других местах квартиры, в самых различных посудинах, в зависимости от «заданной» величины: в маленьких горшочках он так и будет небольшим, в объемистых — вымахает до потолка; форму кроне гибискуса можно придать любую, обрезая и загибая побеги, а вырастить — из маленькой веточки, поставленной в воду. В роде гибискусов есть и другие виды, например, так называемый китайский розан, но мне он не по душе из-за крупных, слишком ярко-красных, похожих на искусственные, цветков.
В этот «лесной уголок» отлично вписался и папоротник нефролёпис с его длинными, дробно-ритмичными листьями. Обычно они ниспадают, я же пустил их как бы вверх — опорой для них служат несколько светлых нитей, протянутых над растением. Нефролёпис не требует много света и отлично чувствует себя на шкафу за кустами.
Красива жительница амазонской сельвы монстера с ее огромными блестящими листьями, в которых будто специально кто-то выстриг симметричные дырки или глубокие разрезы. Она может расти даже в самых затененных углах, но в комнате достаточно одного экземпляра этого растения-гиганта, иначе нарушится «визуальное равновесие» нашего домашнего бот-сада.
Хороши и нетребовательны хлорофйтумы. Фонтан узких светло-зеленых листьев как бы брызжет из вазона; одна-две из «струй» этого фонтана становятся длинными-длинными, и там, внизу, выпускают новые пучки листьев с воздушными корнями.
Бывает и так что то же происходит еще раз — получается «трехкаскадноЛ растение, которое очень напоминает салютный фейерверк, многократно взрывающийся зелеными вспышками. А рассаживаю ик просто: отделяю «комплект второго каскада», у которого корни уже наготове — ив новый горшочек.
Еще одному зеленому уголку в нашей квартире придает экзотический вид HTOVO южноазиатское или египетское — циперус, ближайший родственник знаменитого родоначальника бумаги — папируса. У циперуса тонкие упругие стебли, увенчанные изящным зонтиком узких листьев — наподобие маленьких пальм. Циперус — один из лучших увлажнителей воздуха слишком сухих квартир: житель болот, большой любитель воды, он «перекачивает» и испаряет ее быстрее всех других комнатных растений (все циперусы — из «болотного» семейства осоковых). Вот за ним приходится следить — чтобы в поддоне всегда была вода, иначе он пересохнет и погибнет. Еще одну «нежность» я обнаружил у циперуса совсем неожиданно и чуть было его не погубил: решил промыть листья растения в ванной комнате под душем, тем более что делал это неоднократно. Но после такого купания мой циперус вдруг поник, пожелтел и быстро начал «отдавать концы». Оказывается, в тот день водопроводная вода была хлорированной и оказалась для листьев циперуса сильнейшим дефолиантом (ядохимикатом), удаляющим листву, дефолианты применяются, к примеру перед уборкой хлопка. Хорошо, что яд не успел проникнуть к корневищу; и бедняга циперус, лишившись более чем половины своих роскошных листьев и стеблей, кое-как выжил, пустил новые побеги и сейчас с трудом восстанавливается.
А вообще воду для поливки домашних растений мы отстаиваем в ведрах и больших банках дня три-четыре. Поливаем три раза в неделю, и вся эта зеленая братия за один присест выпивает около полутора ведер воды — чтобы потом медленно и равномерно испарять ее через листья. Кондиционированный таким образом воздух в квартире в меру влажен, чист, насыщен кислородом и сильно ослабляет электростатические «щелчки», неизбежные в комнатах, где пол покрыт отдельными квадратиками линолеума.
Еще несколько зеленых жителей нашей квартиры. Арум, с широких листьев которого, похожих на стилизованное сердце, перед дождем каплет светлая водичка.
Кактусов у нас немного, лишь самые неприхотливые; из них, по-моему, наиболее замечателен ползучий селеницерёус: его
«тело», узкое и квадратное в сечении, вытянулось уже на четыре метра, и я им «закольцевал» почти все окно по периметру.
Говорят, что у него чудесны и цветы: душистые, белые, размером с тарелку, они цветут одну лишь нрчь, за что кактус этот зовут еще «царица ночи». Но подозреваю, что наш йеленицереус, зная мое сложное отношение к цветкам в комнате, намеренно не хочет меня расстраивать...
Живут у нас и другие растения: перисто-пышные, ажурные аспарагусы; кое-какие бегонии; сенполии с их толстыми листьями, похожими на мохнатые уши; традесканции; взошли и упорно лезут вверх востролистые побеги финиковых пальм, выращенные на влажной вате из косточек фиников; раскинул темно-зеленые ремневидные листья амариллис, который однажды выбросил мощную стрелку с тремя огромными, очень красивыми и нежными цветами — как бы специально для того, чтобы меня перевоспитать.
И несмотря на то, что зеленых друзей у нас очень много, они совсем не занимают нужной людям площади, не загораживают окна, а уход за ними, в общем, крайне прост и практически не отнимает времени. Многие, впервые входя в нашу квартиру, восклицают: да у вас тут целый сад! Конечно, специалист-цветовод усмехнется: какой это сад? Но мои зеленые питомцы, пусть совсем и не знатные родом, свое назначение выполняют добросовестно: «растительные оазисы», большие и малые, дают глазам и сердцу покой и отдых.
Несколько слов о том, как размещена у нас эта «зеленая масса». На подоконниках — лишь те растения, которые почти не загораживают свет, то есть все, что невысоко ростом, а также кипарисы — они пока еще очень ажурны. В углах подоконников и напротив рам — растения высокие и узкие: некоторые кактусы и сансевьеры. Что касается «зеленых оазисов», то они расположены в тех местах, где у стен между мебелью получились «неходовые» промежутки; кое-что на шкафу, кое-что — на полу.
Но большая часть зеленых наших друзей живет на стенах. Здесь они никому не мешают, их удобно поливать, здесь из них можно составлять любые композиции — от пышных раскидистых «джунгдей» до изящных тонких бордюров.
Между прочим, я заметил: зеленая окраска у многих растений, живущих в затененных местах леса, имеет более темный, густой тон; это и Цонятно: для фотосинтеза , при слабом свете, хлорофилловые зерна в клетках листьев расположены много гуще; такие растения можно смело поселять в полутемные и даже темные части помещений. И наоборот: если цвет листьев растения светло-тепло-зеленый — это значит, что ему нужно много света, прямое солнце, в тени же оно зачахнет.
При размещении растений по стенам или подоконникам следует избегать симметричного или «квадратно-гнездового» принципов. Лучше смонтировать где-то «джунгли», а где-то и вовсе «полупустыню», пропустив через нее разве что стебель-другой какой-нибудь комнатной лианы. И я отнюдь не предлагаю размещать на стенах только растения. В общую композицию стены, кроме них, должны органично (но не громоздко) войти и другие предметы — часы, картины, полки с книгами. А лучше всего перед такой работой сначала поискать расположение всего этого на маленьком эскизе или макете, выполненном в том или ином масштабе по принципу «семь раз примерь», а тогда уже забивать в стену гвозди.
Отличнейшее место для развития всех комнатных лиан (плющей, циссусов и др.) — потолок. Там всегда тепло, светло и, главное, чрезвычайно много места — ровно столько, как на полу этой же комнаты, из которой убрана вся мебель.
Вся эта «фитомасса» не будет никому мешать и украсит комнату как ничто иное.
Можете мне поверить, что в ее окружении, а точнее с ее помощью, работается куда продуктивнее, чем в окружении самой модной мебели и самой современной домашней техники: я убеждался в этом неоднократно.
НАХОДКЕ - СОРОК МИЛЛИОНОВ ЛЕТ
По поводу крохотного темного пятнышка, едва просматри вавшегося на уголке недорогой янтарной запонки, можно было не досадовать — уж слишком мелким оно было, это пятнышко, и к тому же почти скрыто от глаз непрозрачной жилкой минерала.
Фотосинтез — образование органических питательных веществ и» простых соединений за счет энергии света, поглощаемого хлорофиллом.
Но при внимательном рассмотрении оказалось: это — насекомое. Целехонький, словно живой, комарик, относящийся скорее всего к семейству так называемых галлиц. Когда же и как попал он в янтарь?
...Около 40 миллионов лет тому назад на толстом стволе дерева (а деревья эти были совершенно не похожи на современные) образовалась трещина, и из нее вытекла смола. Быть может, привлеченный ее запахом, присел на смолу комарик и... сразу прилип. Но прилип так удачно, что остался почти целым. По-видимому, он был еще живой, когда следующая капля древней живицы залила его сверху, изолировав от внешнего мира и предотвратив гниение и высыхание.
Менялись на планете эпохи, проходили тысячелетия, миллионы лет... Остатки от древних лесов — большие и малые комья застывшей смолы — оказались погребенными под толщей напластований. Смещались материки и океаны, исчезали древние леса и появлялись новые, на них не похожие, населенные неведомыми зверями и птицами. Вымерли и те «пранасекомые», которые дали начало современным видам, и те, которые не оставили за собой никаких поколений. А замурованный в янтарную смолу комарик спокойно лежал в недрах планеты и как бы ждал своего часа.
Янтарь — чудесная прозрачно-золотистая смола третичного периода, вымытая морскими прибоями из неведомых нам геологических слоев со дна моря, — доносит до нас древних насекомых, иногда совершенно целых. И тогда ученые-палеоэнтомоло-ги получают замечательную возможность подробно изучать представителей той далекой эпохи — ведь «круглый» возраст балтийских янтарей составляет сорок миллионов лет (янтарь в основном собирают в Прибалтике).
У моей находки — шесть длинных ножек, пара тонких красивых крыльев, отороченных бахромой нежных волосков, длинные усики, тоже совсем целехонькие. Галлица (это самец) окрашена в буровато-серый цвет, тело покрыто светлым пушком. И вообще сохранились самые тончайшие и нежные детали организма, даже внутренности, которые просвечивают сбоку между сегментами брюшка. Вокруг насекомого в смоле — пузырьки воздуха.
Несмотря на то, что останки насекомых в янтарях встречаются не так уж и редко, каждая такая находка, особенно если объект хорошо сохранился, — большая ценность для науки. Ведь любое из этих «янтарных» существ принадлежит к вымершим ныне видам (или превратившимся в другие, современные), почти всякий раз неизвестным науке.
Из янтаря я выпилю небольшой прямоугольный блок с гал-лпцей внутри, после шлифовки и должного оформления он займет место в музее. Поскольку объект очень мал — в длину около двух миллиметров, — рядом будут экспонироваться «укрупненные» рисунки или фотографии.
Вот он, на наброске, сделанном с натуры, посланец далекой эпохи, — комарик-галлица из третичного янтаря.
...Протирая запонку перед тем, как рисовать, я вдруг уловил странный волнующий запах. Потер еще сильнее. Да это пахла древняя смола! Свежий, ароматный запах леса! Это было удивительное чувство, и на какой-то миг мне снова показалось, что я ощутил великую связь жизни древней и жизни сегодняшней.
А под микроскопом в крохотных пузырьках, окружавших комарика, отразилось окно моей рабочей комнаты, и в нем — по два светлых облачка, плывущих по весеннему небу.
НОЧЬ НА ПОЛЯНЕ
Сон долго не приходил.
Разве быстро уснешь, когда вокруг тебя столько чудес, от которых почти отвыкаешь, живя в городе, — звездное небо, темные замершие клубы кустов и деревьев, таинственные ночные звуки...
А потом замелькало перед глазами знакомое видение. Будто иду я по широкому — до горизонта — клеверному полю, густая прохладная зелень с розовыми головками соцветий раздвигается, уходя назад, и ясно видно каждый стебель, каждый цветок, каждый сочный трехдольчатый лист. И еще будто над полем мелькают яркими крыльями бабочки, большие шмели и разные пчелы — золотистые, серые, пестрые — вьются у соцветий, перелетают с одного цветка на другой. На ходу я внимательно приглядываюсь к шмелям, сидящим на цветках, летающих над ними, и силюсь увидеть, узнать среди множества шмелей какого-то особенного, очень нужного, но мелькают перед глазами другие насекомые, проплывают зеленовато-голубые трилистники, уходят назад цветы, и на их место встают все новые и новые.
И уже будто это я не иду, а низко-низко лечу в воздухе лицом вниз, а подо мной, как огромный ковер, неторопливо развертывается и движется назад это поле со шмелями, бабочками и цветами, необыкновенно отчетливыми и в то же время немножко ненастоящими.
Вспомнилось: так же вот бывает после того, когда ты целый день собирал ягоды. Перед тем как заснуть, видишь лесные поляны, усеянные спелой земляникой, а ты будто рвешь эти ягоды, рвешь, рвешь...
И подумалось: это, наверное, бывает всегда, когда целый день пристально вглядываешься во что-нибудь под ярким солнцем.
А Сережа уже давно уснул, и ему перед сном, наверное, тоже виделось такое — множество насекомых, мелькающих над клеверным полем.
Кто ягоды видит, кто шмелей...
Темное августовское небо со знакомыми россыпями созвездий обрамлено со всех сторон зубчатой кромкой кажущегося черным леса. Даже на самых вершинах деревьев не шелохнется ни один лист: березы тоже спят, отдыхая от шума дневных ветров.
Козодой — ночная длиннокрылая птица — вынырнул из мрака, бесшумно пролетел над росистыми травами, над нами, лежащими у кустов, шарахнулся в сторону — и скрылся бесшумно в зарослях.
Вышел еж, хозяин ночных лужаек, повел по сторонам длинным, влажным на кончике носом, едва заметным клубком покатился по поляне, и захрустел найденным в траве жуком.
Прошелестела трава, кто-то в ней тихо пискнул... Снова шорох, но уже дальше, в глубине темного куста.
Мерцающая светло-желтая звезда все дальше и дальше отходит от вершины березы.
Но мы с Сережей не видим и не слышим этих чудес. Целый день мы считали шмелей на отцветающем клеверном поле, пересекая его раз за разом вдоль и поперек и отмечая крестиком в маршрутных листах каждое увиденное насекомое — и все это под жарким августовским солнцем. Мы очень устали за день.
Сейчас мы крепко спим.
...Среди ночи я вдруг открываю глаза: большая ночная бабочка трепещет крыльями над самым лицом. Потом подлетела к ветке, коснулась холодных росяных капель, нависших на листьях, и с мягким «фр-р-р» исчезла во мраке.
Едва заметно посветлело прохладное небо. Уже нет той желтой яркой звезды у вершины березы — она ушла за другие деревья.
Где-то неподалеку поет запоздалый комар.
От росы мне зябко. Поправив на Сереже одеяло, придвигаюсь к нему поплотнее. Надо ведь выспаться: скоро уж и рассвет.
И перед тем как закрыть глаза, вдруг вижу: на востоке, там, где зубчатая стена леса пониже, повис над горизонтом еле заметный, но так мне знакомый косой конус зодиакального света. Это удивительное явление особенно хорошо видно на юге: незадолго перед рассветом или после заката Солнца, когда совсем стемнеет, над горизонтом, если не мешает посторонний свет и если ночной воздух прозрачен, сияет огромное светлое как бы облако, поставленное наискосок к горизонту. Но объект этот не земного происхождения: в центре его находится Солнце. Гигантское облако, простершееся в плоскости орбит наших планет и состоящее из мельчайших частиц, освещенных Солнцем, зодиакальный свет видится нам иногда в такие вот предутренние и предночные часы. Правда, на наших широтах увидеть его труднее:
Солнце здесь опускается (или восходит) косо к горизонту, и затянувшиеся сумерки «забивают» зодиакальный свет. Тем не менее я в юности специально «ловил» его под Исилькулем; для этого нужно было к вечеру или под утро уйти далеко за город, чтобы не мешало искусственное освещение: зодиакальный свет, в общем-то очень слаб, и без тренировки его не увидишь. Лучше всего его было наблюдать весной после захода Солнца или осенью перед рассветом, как вот сегодня, но это случалось чаще всего в сентябре-октябре. А сейчас август — и тем не менее, даже полусонный, я сразу «засек» давным-давно казалось бы забытый объект своих наблюдений.
Быстро вылезаю из-под одеяла, обуваюсь, «на скорую ногу» и — прямо по росным травам — бегом к той опушке. Да, я не ошибся: это он, добрый старый Зодиакальный Свет, величественный и еле уловимый. Забыв обо всем, я долго стоял у дерева и глядел на небесное диво, начавшее уже меркнуть, теряться: на востоке занималась заря.
...Странный сон приснился мне под утро. Стою я будто у холста огромной панорамы, изображающей степь. На палитре у меня — масляные краски, в руке — длинная кисть. Я смешиваю темную лазурь с белилами, и получается голубой цвет, но краски какие-то тугие, неподатливые, словно резиновые, и перемешиваются с трудом. Но почему я здесь, почему опять с этими кистями? Ведь эти громадные холсты, декорации, краски — все это давно-давно, когда я работал в клубе оформителем, а сейчас я уже много лет как энтомолог, неужели кто-то все перепутал? Наконец голубой цвет готов, примерно тот, что мне нужен; приближаюсь к панораме — а холст далеко-далеко — и накладываю мазки на уже голубое небо... Однако небо это хоть и написано на холсте, но оно — настоящее, высокое, и все то, что на этой панораме, весь горизонт, степь, травы — тоже все настоящее. Мне поручено сделать эту панораму лучше, освежить, подправить, дописав ее масляными красками, но ведь степь и небо — это часть мира, это весь мир, вся природа. А красок мало, да они какие-то не яркие, полузасохшие. И вдруг осознаю, какая великая ответственность лежит на мне: что если сделаю что-нибудь не так — как же тогда? А если вообще испорчу работу? Почему же я все-таки не знаю, кто и когда мне ее поручил, эту работу, и зачем я за нее взялся?
Но вдруг, открыв глаза, вижу над собой иной мир. Высокие деревья, вершины которых уже тронуты солнцем, яркое небо над ними, не такое как во сне, а серебристое, светлое, вижу стрекозу на фоне этого неба, вылетевшую на первую утреннюю охоту. Рядом спит Сережа. Вдалеке знакомо гуднула электричка, окончательно возвращая меня к действительности.
Пройдет полчаса и, вооружившись пинцетами, лопатой, планшетом с картой, мы превратимся в открывателей чудес, могущих поспорить с самым фантастическим сном: мы будем наблюдать жизнь обитателей нашей поляны, нашей заветной Страны Насекомых. Здесь, неподалеку от клеверного поля, закопали мы по весне несколько специальных деревянных домиков для шмелей. Многие из них — мы это уже знаем — шмели сами разыскали и заселили. Найти их среди разросшихся трав поможет карта, испещренная значками, с заголовком «Шмелиные Холмы». Почему «холмы» — не помню и сам, просто это «кодовое» название, необдуманное и случайное, но теперь именно так мы именуем счастливую поляну среди березовых колков, на которой сохранилась большая колония шмелей различных видов. Впоследствии этот участок обнесут оградой и объявят официальным заказником полезных насекомых — первым в стране. Но это будет через несколько лет; энтомологическим заповедникам я мечтаю посвятить отдельную книгу. А сегодня нам предстоит поднимать дерновые и дощатые крышки подземных домиков, чтобы наконец увидеть — что же там, внутри заселенных ульев? Потому мы здесь и заночевали.
Солнце осветило деревья уже до половины. На коре ближней березы греются кучками золотые и серые мухи, вяло взлетая и садясь на прежнее место. Это приметила , , стрекоза. Пройдя низко надо мной, она вдруг взметнулась, громко зашелестев крыльями, пошла свечой вверх — и схватила неосторожную муху прямо в воздухе.
Возле нашего бивака жук-листоед вскарабкался «а травинку. Потоптавшись на ее вершине, приподнял надкрылья изумрудно-зеленого цвета, с трудом выпростал из-под них слежавшиеся за ночь прозрачные, будто целлофановые крылья и грузно полетел над росистой травой.
Я вылезаю из-под отсыревшего одеяла: пора будить Сергея.
Исилькуль — Симферополь — Новосибирск,
1978—1981 |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) —
творческая студия БК-МТГК.
|