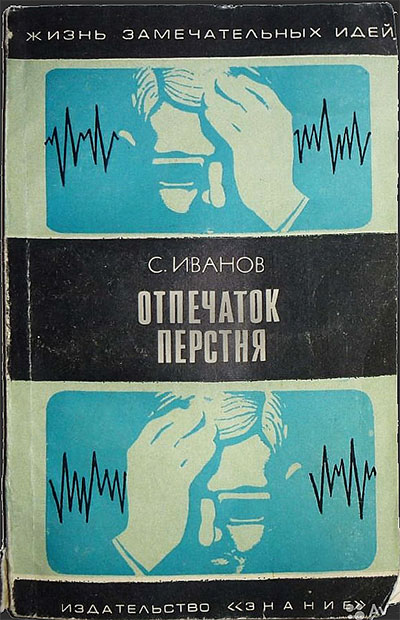Полный текст книги
В одном из Платоновых диалогов наш ум сравнивается с восковой табличкой, на которой мир оставляет, подобно перстню. свои отпечатки. Так родилась гипотеза о природе памяти, дожившая до наших дней. Отпечатки, или, как теперь говорят, следы памяти, служат объектом увлекательных поисков, в которых участвуют психологи, физиологи, биохимики, – поисков, сопровождающихся замечательными находками и открытиями. О них и рассказывается в этой книге, рассчитанной на широкие круги читателей.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОХИТИТЕЛИ СЕКРЕТОВ
К Александру Романовичу Лурии, тогда еще начинающему психологу, пришел однажды молодой человек и попросил проверить его память. Сам он не замечает ничего в ней особенного, но на обследовании настаивает редактор газеты, где он, Ш., служит репортером. Редактор недоумевает, как Ш. ухитряется, ничего не записывая, запоминать слово в слово все его поручения и все свои интервью. Лурия приступил к опытам без особой заинтересованности: мало ли встречается людей с феноменальной памятью на слова, на фамилии, на лица. И у феноменальной памяти есть свои пределы. Прошел час, другой, и Лурия почувствовал себя совершенно сбитым с толку. Никаких пределов память Ш. не имела. Лурия прочитывал ему бесконечные ряды слов, чисел, букв – Ш. невозмутимо воспроизводил их и в прямом и в обратном порядке. Таблицу из пятидесяти цифр он запомнил в три минуты, а еще через полторы превратил ее в многозначное число. Ни интерференции, ни фактора края – ничего из того, что мешает нам одинаково прочно запоминать каждый элемент заучиваемого, для него не существовало. Неумолимое время было не властно над его памятью: через пятнадцать лет, встретившись с Ш., Лурия попросил его воспроизвести те самые ряды слов и чисел. Ш. закрыл глаза и сказал: «Да, да… это было у вас на той квартире… вы сидели за столом… вы были в сером костюме… я вижу, что вы говорили». И все, что ни говорил тогда ему Лурия, воспроизвел так гладко, будто все пятнадцать лет только и делал, что повторял эти бессмысленные ряды.
Такого не то, что психология, наука, правда, сравнительно молодая, такого не знала ни философия, интересовавшаяся памятью на протяжении двух с половиной тысячелетий, ни вообще человеческая история. Конечно, во время оно любой древнегреческий старшеклассник помнил наизусть всего Гомера (около 28 тысяч строк) и не забывал его до конца своих дней, а древнеиндийский, вдобавок к своим эпосам, затверживал еще и сотни тысяч строк из религиозно-философских трактатов. Но то был результат упорного вызубривания, сопровождавшегося особой тренировкой памяти, а иногда и использованием мнемотехники, результат методической, часто отгороженной от всего прочего, специальной работы. Да и тексты-то были не бессмысленны. Тут же все получилось как бы само собой, а если и была мнемотехника, были особые приемы, то и они рождались у Ш. почти непроизвольно, а уж о выучивании, о повторении, о размышлении над материалом и речи быть не могло. Нет, история такого не видывала.
История видывала другое, и прежде всего врожденную или благоприобретенную память на образы одного какого-нибудь вида, связанную с остротой тех или иных чувств и органов восприятия, память на зрительные и слуховые образы, а чаще еще уже – на имена, на ритмы и мелодии, на оттенки цвета, запаха, вкуса. Чем уже эта память, чем более избирательна она, тем яснее и ее происхождение- постоянная непроизвольная тренировка, чисто профессиональный навык. Немало было написано о феноменальной памяти на лица, которой отличались Александр Македонский, Наполеон и другие выдающиеся полководцы, помнившие в лицо всех своих гренадеров. Ничего феноменального! Почти всех своих учеников помнят в лицо старые педагоги, всех больных – медицинские сестры, всех завсегдатаев ресторанов – официанты и гардеробщики. Запоминают на всю жизнь, хоть и не помнят уж ни фамилий, ни характеров, ни сопутствовавших знакомству обстоятельств. Ничуть не хуже, чем у Наполеона, только в своем роде, была память у тех сталеваров, которые еще недавно, до изобретения приборов, определяли по игре оттенков розового цвета на раскаленной стенке печи, готова или не готова плавка, или у опытных дегустаторов, которые узнают по вкусу не только возраст вина и сорт винограда, но и где он произрастал, на склоне горы или в долине, и щедрое ли солнце было в то лето. Чудес, которые творит с памятью профессиональная тренировка, так много и так они разнообразны, что, пожалуй, ничего особенно чудесного в них и нет, а чудом было бы обратное – отсутствие хорошей памяти на лица у опытного педагога или вкусовой памяти у дегустатора.
Не каждому дано быть полководцем. Но даже в профессиях кассовых, где, кажется, никакого особенного таланта не требуется, а требуется лишь знание дела да усердие, и там успех зависит от врожденного предрасположения к тому или иному кругу занятий. В предрасположение же это, помимо определенных свойств характера и нервной системы, входит и своя комбинация свойств памяти, чьи изъяны не залатать никакой тренировкой. Космонавтов и пилотов тренируют после того, как они благополучно выдержат экзамен на прочность, гибкость и готовность памяти, без которых человек не в состоянии принимать решения молниеносно, ибо не в состоянии молниеносно давать новой информации надлежащую оценку. Про того, кто обладает упомянутыми свойствами, мы в обычных житейских обстоятельствах говорим, что он за словом в карман не полезет, а кто не обладает, что он крепок задним умом. Но ведь без этих свойств невозможно представить себе ни толкового администратора, своего рода полководца в миниатюре, ни диспетчера аэропорта, чью деятельность столь выразительно описал Артур Хейли в своем нашумевшем романе «Аэропорт», ни диспетчера энергосистемы или цеха, ни представителей многих других, вполне массовых профессий, связанных с оперативной переработкой информации. И недаром все эти диспетчеры подвергаются такому же строгому отбору, как пилоты и как космонавты.
Во всех прочих случаях экзаменом служит сама жизнь. Одни делают правильный выбор сразу, зная или угадывая, что будет лучше всего отвечать их наклонностям. Другие находят себя после нескольких попыток. Но для этих попыток тоже нужен характер, способный преодолеть быстро укореняющуюся инерцию, и, кроме того, понимание причин той неудовлетворенности, которая не может не возникнуть, если дело выбрано не по душе. Человек, не сумевший вовремя задуматься над природой этой неудовлетворенности и перебороть себя, живет целиком о власти инерции, не доставляя радости ни себе ни людям, а часто терзая и себя и людей. Он делает свое дело иногда даже с преувеличенной скрупулезностью, но ни разу не достигает в нем того счастливого артистизма, который служит верным признаком призвания, рождающегося из всей суммы психических свойств, сформированной воспитанием и обучением в младенческие лета из урожденного материала. Материал же этот у всех у нас особенный: к одному воздействию податлив, к другому не очень; оттого-то и все мы друг на друга непохожи, и на вкус на цвет товарища нет.
Предмет нашего обсуждения достаточно тонок и сложен, и мы должны всячески воздерживаться от категорических утверждений. И все же, если бы мне, например, повстречался человек, вознамерившийся посвятить себя педагогике и обнаруживший вдруг дурную память па лица, я бы не удержался и предостерег его от этого шага и от всех подобных шагов, ведущих к постоянному общению с людьми, в котором эти люди будут попадать в зависимость от него. Не боги горшки обжигают, но ведь и гончар гончару рознь. А тут будут лепиться не горшки, а судьбы, и сколько окажется таких людей, кто беспамятство такого человека примет за черствость и в ответ очерствеет сам. Нет, не стоит ему идти ни в педагоги, ни во врачи, ни в руководители любого масштаба, ни даже в продавцы. Есть десятки других дел, в которых проявятся и будут верно служить ему другие свойства его памяти и в которых он достигнет божественного мастерства.
К счастью, неискоренимого беспамятства на ограниченный круг предметов, кажется, не существует, как не существует и сверхъестественной памятливости на такой же круг. Нет людей, которые совсем бы не запоминали лиц или одинаково хорошо запоминали каждое попавшееся им лицо. Про французского художника Гаварни, правда, рассказывали, будто он мог, гуляя с кем-нибудь, воскликнуть: «Вы помните этого человека? Да ведь мы с вами встретили его двадцать лет назад на Монпарнасе!» Рассказывали нечто в том же роде и про Доре: будто бы он мог воспроизвести в гравюре один раз увиденную картину, да так, что от него не ускользала ни одна подробность. Но рассказы эти при всем остальном, что нам известно о Гаварни и о Доре, свидетельствуют о феноменальной зрительной памяти вообще, а не о специальной памяти на лица или картины. В последнем же случае мы, возможно, имеем перед собой типичный образец эйдетической памяти, на которой подробнее остановимся в па-чале следующей главы.
Такою же замечательною, но уже слуховой, или, вер-1 нее, музыкальной, памятью обладали Моцарт и Рахманинов. Последний, решивши подшутить над одним из своих друзей, спрятался в комнате, по соседству с залой, где тот исполнял только что сочиненную свою пьесу, а назавтра, к величайшему смятению композитора, сыграл ему эту пьесу без малейшей запинки и с блеском. Моцарт же похитил музыкальный секрет у самого римского папы. (Когда Моцарту исполнилось четырнадцать лет, отец его решил продемонстрировать своего гениального сына Европе. Будучи в Риме, они не преминули пойти в страстную среду послушать в Сикстинской капелле знаменитое «Miserere». Сочинение это, написанное в XVI веке Грегорио Аллегри, произвело на мальчика сильное впечатление. В тот момент, когда оно начинается, папа и кардиналы падают ниц, пламя свечей бросает свой отблеск на «Страшный суд», написанный Микеланджело на стене, к которой примыкает алтарь; свечи постепенно тушат, фигуры несчастных в свете догорающих свечей становятся еще выразительнее; регент, отбивающий такт, замедляет темп, пение мало-помалу замирает, и грешник, как писал один из очевидцев, «в душевном сокрушении перед величием своего бога, простертый перед его троном, кажется, ожидает в молчании голоса, который сейчас будет его судить».
Однако впечатление, производимое этой вещью, зависело не столько от места, где его исполняли, или от сопутствовавших исполнению ритуалов, сколько от самой манеры исполнения. Папские певцы обучались особым приемам, которые нельзя было передать нотами. Во всех стихах псалма повторялась одна и та же мелодия, но каждый стих по звучанию отличался один от другого едва уловимыми подробностями: одни звуки усиливались, другие ослаблялись, одну строфу пели быстрее, другую медленнее. Приемами этими владела только Сикстинская капелла, и тем не менее даже ноты этого песнопения, в которых был записан лишь общий его рисунок, давать кому бы то ни было запрещалось под страхом отлучения от церкви. Однажды австрийский император Леопольд 1, сам неплохой композитор, попросил у папы через своего посла копию «Miserere», чтобы послушать его в исполнении своей капеллы, где были собраны лучшие певцы того времени. Согласие было получено, регент приказал сделать копию, ее послали императору, и каково же было изумление Вены, когда она услышала пошловатую и явно искаженную пьесу. Леопольд вообразил, что регент послал вместо сочинения Аллегри какую-то вульгарную композицию, и отправил в Рим жалобу. Регента уволили, не пожелав выслушать его оправданий, но тому удалось уговорить одного из кардиналов растолковать папе, что способ исполнения, которому обучались годами, на бумаге непередаваем. Его святейшество, не будучи знатоком музыки, едва-едва разобрался в сути дела, однако регента простил и велел ему написать императору объяснение.
После этой истории нам станет понятнее величие того, что совершил Моцарт, и то изумление, в которое он поверг римскую публику после концерта, данного им по окончании страстной недели. Вернувшись в среду вечером в гостиницу, он записал по памяти все «Miserere», за исключением нескольких ускользнувших подробностей. Второе и последнее в году исполнение должно было состояться в пятницу. В пятницу Вольфганг отправился снова в Капеллу с рукописью, спрятанной в шляпе, и внес в свою копию поправки. И вот после двух таких поспешных уроков он спел «Miserere» в концерте так, как пели его многоопытные певцы Капеллы. Когда Моцарт вместе с отцом отбыли в Неаполь, а потом снова вернулись в Рим, папа, которому уже рассказали о сенсации, захотел увидеть юного гения и пожаловал ему по этому случаю крест и грамоту на звание кавалера «Золотого воинства».)
Подобные случаи и легли в основу первой, житейской классификации типов памяти, которой не чуждались и психологи. Еще в прошлом веке было сказано, что памятей столько же, сколько и добродетелей, а в нынешнем – что память вообще это абстракция. Разумеется, в эту первую классификацию, кроме зрительной и слуховой памяти, вошла и память на запахи и память вкусовая, и осязательная память, которая у всех у нас дремлет за полной почти ненадобностью, но, если потребуется, может пробудиться и достигнуть необычайного совершенства. В свое время философы английской школы, следуя Беркли, посвятили осязанию немало вдохновенных строк, ставя его чуть ли не выше зрения: оно и только оно дает, по их мнению, истинное ощущение протяженности. Это, конечно, было заблуждением. Ощущение протяженности доставляет нам и зрение, само развившееся из осязания, и даже слух: именно ему, а не осязанию обязаны слепые своей способностью улавливать расстояние до ближайшего препятствия, отражающего стук их палочки. Однако осязание нельзя сбрасывать со счетов, и не только из-за его участия в особых случаях узнавания или из-за древности его рода, а хотя бы из-за его роли в формировании многих представлений, носящих эмоционально-метафорическую окраску, таких, например, как «гладкие речи», «без сучка и задоринки», «сырая, рыхлая книга», «колючий человек», «тупица», «острота», «тонкий юмор». И еще одну важную роль выполняет осязание – служит подспорьем двигательной памяти, с которой психологи и начинают обычно классификацию. Эта весьма почетная память лежит в основе всех рабочих навыков, всех выученных нами спортивных упражнений и танцевальных фигур и, главное, всех наших бесчисленных автоматических привычек, вроде умения чистить зубы, переходя улицу, смотреть сначала налево, а потом направо, а уходя, гасить свет. Память эту академик И. С. Бериташвили, старейший из наших физиологов, неспроста называет упражненческой и целиком отождествляет с условными рефлексами.
Подобно тому как есть люди с преобладающей зрительной или слуховой памятью, так есть люди и с преобладающей памятью на движения. Распознать преобладающий тип, кажется, проще всего по роду занятий. Но тут легко обмануться, потому что занятие складывается из совокупности элементов, в которой тип памяти может оказаться в подчинении у других свойств личности. Злые языки утверждали, что Вагнер при всем своем могучем таланте обладал отвратительной музыкальной памятью и не мог пропеть ни одной фразы не сфальшивив. Если это так и было, то интересно, как чувствовали себя после «Лоэнгрина» и «Тангейзера» те, кто, заметив этот изъян у юного Вагнера, отговаривали его от занятий музыкой? Но кто помнит свои ошибки, а тем паче неловкие советы! Как бы то ни было, психологи подыскивают для обоснования своих классификаций случаи попроще. Посмотрите, говорят они нам, как человек вспоминает забытый номер телефона. Если у него преобладает слуховая память, он попытается восстановить интонационно-ритмический образ номера. Такой человек всегда предпочтет сто раз услышать, чем сто раз увидеть. Тот же, кто опирается на память зрительную, постарается представить себе этот номер написанным, а кто – на двигательную, напишет его, не на бумаге, так в воздухе, да еще попытается произнести его, но не затем, чтобы вспомнить звуковой образ, а чтобы воспроизвести свои речевые движения. Когда он запоминал номер, он несколько раз невольно произнес его вслух. Он, этот человек двигательного типа, может прочитать сотни книг, и все равно, когда он откроет книгу, вы заметите, как он шевелит губами.
Психологам все это известно больше ста лет. Гремевший в середине прошлого века мнемонист-счетчик Иноди рассказывал французскому психологу Альфреду Бинэ, что всю ту уйму цифр, которой ему приходится оперировать, он воспринимает только на слух. «Я слышу цифры,- говорил он.- Они звучат около моего уха такими, какими я их произносил». Другой мнемонист Диаманди, напротив, все свои фокусы строил на зрительной памяти. Каждую цифру, которую ему предлагала публика, он мысленно записывал рукой в большой воображаемый квадрат, держал его перед глазами и все оттуда считывал. Так что психологи видывали многое, и обыкновенное, и необыкновенное, и многое уже успели разложить по полочкам к тому дню, когда на их горизонте возник Ш. со своей поразительной памятью, поразительной потому, что, в отличие от своих предшественников, он не умел забывать ничего и не укладывался ни на какие полочки – ни на зрительную, ни на слуховую, ни на двигательную. Все памяти развиты были у него одинаково.
РАССЫПЧАТЫЙ ГОЛОС
Ш. был, очевидно, ярко выраженный эйдетик, как Доре и Диаманди и как, в своей сфере, Моцарт Рахманинов и Иноди. Понятие это ввел немецкий психолог Иенш, и означает оно в переводе с греческого «принадлежащий образу», или, буквально, «принадлежащий идее». Иенш заметил, что дети подолгу сохраняют в памяти сложные картинки, которые им давали разглядывать на несколько секунд. Когда Иенш просил их рассказать, что изображено на картинке, они не припоминали ее по частям: картинка просто возникала перед их взором, и они «считывали» с нее детали так же легко, как Диаманди цифры со своего квадрата.
У взрослых эйдетическая память встречается редко, а у детей, как подтвердили недавние опыты американского психолога Хэйбера, сплошь да рядом. Может быть, это она помогала нам в школе с легкостью заучивать огромные стихотворения и целые страницы из учебников, ничего не говорившие нашим чувствам? Но отчего она тускнеет с годами и сохраняется только у немногих счастливчиков? Оттого, должно быть, что мы перестаем упражнять ее, и она угасает, подобно костру, куда больше не подбрасывают дров. Ведь память это не что иное, как способность к механическому сохранению образа, не память даже, а как бы удержанное в неприкосновенности восприятие. С годами же нам все реже и реже приходится прибегать к наглядному мышлению; наглядное и непосредственное вначале наше запоминание мало-помалу уступает место словесно-логическому и опосредствованному. Все свое окружение мы впитываем в младенчестве ненасытно, ничуть не тяготясь той информационной перегрузкой, о которой любит потолковать наш озабоченный век, но впитываем во многом бессознательно и буквально. Если нам понравилась сказка, мы требуем, чтобы нам рассказывали ее снова и непременно «как в прошлый раз», отчаянно восставая против всяких поправок и улучшений. С такой же непосредственностью мы окунаемся в стихию заучивания наизусть – стихов, песенок, букв, таблицы умножения, правил. Но стихия истощается быстро. От нас требуют решения задач, а тут уже мало одной механической памяти. Требуют умения пересказывать тексты своими словами и составлять планы. Сперва это раздражает нас, мы цепляемся за текст, а план составляем, когда сочинение уже написано. А потом ничего, привыкаем и к «своим словам», и к «выделению главного», ко всему привыкаем, нисколько не сожалея об утрате непосредственности и способности к механическому запоминанию. Не помнить ведь надо, а знать; разве все упомнишь в наш век информационного взрыва! Знать надо, думать, шевелить мозгами, а все эти спряжения да склонения, да разные исключения, да числа Авогадро -все это в справочниках, в словарях. И страшно нам нравится анекдот про Эйнштейна и Эдисона, который нам время от времени пересказывают любимые наши научно-популярные журналы. Приходит раз Эйнштейн к Эдисону, а тот жалуется: никак не может найти себе помощника. Эйнштейн спрашивает, а что должен уметь помощник? Эдисон говорит: не уметь, я и сам все умею, а помнить он должен – все формулы по физике, все свойства металлов и тысячу еще всяких вещей. Даже длину моста через какой-то пролив или залив. К старости, говорит, память слабеть стала, вот и нужен такой помощник, чтобы, чуть что, мог сразу сказать. «Жаль,- говорит Эйнштейн,- не гожусь я к вам в помощники, ничего такого не помню. Но зачем, скажите на милость, все это помнить, когда есть справочники?» Чудак этот Эдисон! Даже непонятно, как это он умудрился столько понаоткрывать. Терпение, наверно, было адское. Говорят, спал по три часа в сутки, а когда искал материал для нити накаливания, перепробовал все вплоть до соломки для шляпок. Ну насчет шляпок, может, и выдумка, а вот разговор с Эйнштейном был, это точно. Сам феномен был и от других того же требовал. Но не каждый, же рождается с такой памятью. Эйнштейн же не родился. Даже наоборот, про его забывчивость еще больше анекдотов есть, а тоже ведь кое-что открыл. Думать умел, вот и все.
И ведь верно, не каждый рождается с такой памятью. И даже эйдетик – не феномен. Феномен тот, у кого эйдетическая память сохраняется на всю жизнь, а таких можно сосчитать по пальцам. Но и взрослый эйдетик не мыслит одними наглядными образами. Если он, например, художник, он тоже прежде всего думает – строит композицию, отбирает цвета. Не копиями же прославился Доре, а самостоятельными композициями. Никогда он не «принадлежал образу» безраздельно, и никто ему не принадлежит, даже те, кто рождается с синестезиями. Да, синестезии – вот поистине редкое явление. Человек слышит цвет и видит звук. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание – все чувства перемешаны у такого человека, никаких перегородок. Тоже, наверное, какое-то врожденное отклонение от нормы, как при всякой сверхъестественной памяти на образы одного типа. Там, очевидно, мощное развитие слуховых или зрительных зон в мозговой коре, а тут избыток контактов между этими зонами. И вот человек утверждает что этот звук голубой, а тот розовый, а цвет этот похож на пенье жаворонка или, наоборот, на скрежет полозьев об асфальт. Все мы, правда, немного синестетики. Разве не говорим и мы, что один цвет теплый, а другой холодный, что вот этой даме пора сменить крикливые тона на приглушенные, что симфония эта бесцветна, а вот тот художник предпочитает сочные краски? Разве скандализует нас «пронзительный свет луны» у Гончарова или «запах цветов, доходящий до крика» у Волошина? Да ничуть. Уж давно «пронзительный свет» стал расхожим штампом, как и сотни подобных метафор. Но метафоры есть метафоры. Мало кто запоминает окружающее метафорически, да еще при помощи таких изысканных ассоциаций, как «кричащий запах». Даже синестетики мыслят не метафорами. Цвет звучит для них не в переносном, а в буквальном смысле. Запах у них криком кричит, а звук пронзает все их существо.
Ш. и был таким синестетиком, и эйдетиком и синестетиком вместе. Как-то раз Ш. пожаловался Лурии на то, что ему мешает шум, доносившийся из соседней комнаты. Шум превращается в клубы пара, и они заслоняют таблицу с цифрами. «Какой у вас желтый и рассыпчатый голос»,- объявил он однажды психологу Л. С. Выготскому. Началась новая серия опытов. Ш. дали послушать один тон – он увидел серебряную полосу, тон сделали повыше -серебряный стал коричневым, а во рту появилось ощущение кисло-сладкого. Один тон вызвал у него образ молнии, раскалывающей небо пополам, а от другого он вскрикнул – будто игла вонзилась в спину. Какие уже тут метафоры! Гласные были фигурами, согласные брызгами, а цифры, то молочными пятнами, то башнями, то вращающимися отрезками. Все имело свою форму, свое звучание, свой цвет и вкус и благодаря этому впечатывалось в память с удесятеренной силой. «Я вспоминаю,- рассказывает Лурия в своей «Маленькой книжке о большой памяти»,- как однажды мы с Ш. шли обратно из института… «Вы не забудете, как пройти в институт?» – спросил я Ш., забыв, с кем имею дело. «Нет, что вы,- ответил он,- разве можно забыть? Ведь вот этот забор- он такой соленый на вкус и такой шершавый, и у него такой пронзительный звук…»
Синестезия и помогала и мешала ему: то, что он запоминал, он запоминал навсегда, но были вещи, которые он никак не мог запомнить. Синестетические переживания делали образы зыбкими, подвижными; детали на картинках менялись местами, увеличивались, уменьшались, убегали прочь. Он плохо запоминал лица, воспринимая их как игру света и тени. То ли дело забор – забор, как таблица, постоянен и не выразителен. Смысл слов зависел у него только от их звучания. «Самовар,- говорил он.- Ну, конечно, это сплошной блеск, но не от самовара, а от буквы «с». Слово «самовар» было похоже на самовар. А фамилия врача Тигер с настоящим врачом не имела ничего общего: «Тигер,- объяснял он,- это такая высокая палка, из-за «е» и «р» она втыкается вниз», а вместо палки появился румяный толстый человек. Чтение было для него пыткой. С трудом продирался он через зрительные образы, которые помимо его воли вырастали вокруг каждого слова. Особенно страдал он, если в тексте попадались детали, которые уже были прежде. «Афанасий Иванович вышел на крыльцо»,- читал он, и перед его глазами возникало крыльцо Коробочки, на которое когда-то поднимался Чичиков. Герой «Старосветских помещиков» сталкивался с героем «Мертвых душ». «Я не могу читать! – жаловался он.- Другие думают, а я вижу». Стихи с их метафорами приводили его в отчаяние; для него, буквалиста, поэзия была книгой за семью печатями и отвлеченные понятия, вроде «умеренности» или «протяженности», тоже. Клубами пара и брызгами заволакивалось все, что нельзя увидеть, ощупать, услышать, что не «втыкается вниз» и не «пронзает спину». Когда же ему предложили выделить из рядов, которые он запомнил, названия птиц и жидкостей, он растерялся. Он их нашел, но лишь после того, как пробежал внутренним взором все ряды от начала до конца. «Если бы мне дали простой алфавит,- признавался он,- я бы не заметил этого и стал бы честно заучивать».
Так как же он заучивал эти лишенные связей ряды и мертвые таблицы, все то, что нам в тысячу раз труднее запомнить, чем осмысленный текст, чем лица, чем логику события и суть дела? У него была своя мнемотехника, или эйдотехника, как называет ее Лурия, подчеркивая этим, что запоминались прежде всего образы, а не смысл, не ассоциативные связи, намеренно конструируемые в традиционной мнемотехнике, а ощутимые фигуры.
Искусство мнемотехники родилось более двух тысяч лет назад. Однажды, как гласит предание, греческий поэт Симонид был в гостях и пировал с приятелями. Внезапно его вызвали по неотложному делу. Едва он переступил за порог, как раздался сильный подземный толчок, дом рухнул, и все пировавшие были погребены под обломками. Родственники не могли опознать никого из погибших. Тогда Симонид представил себе план комнаты, и тотчас в его памяти ожило, где кто сидел, и он уверенно указал, какие останки кому принадлежали. С тех пор все, что ему требовалось запомнить, Симонид помещал в комнаты воображаемых домов и по мере надобности извлекал их оттуда. Симонидовой системой занимались Цицерон, Квинтилиан, Раймунд Луллий, Пико делла Мирандола, Джордано Бруно и другие выдающиеся умы. Расцветала она дважды – во время увлечения ораторским искусством, в Древнем Риме, когда никто не отважился бы выступить по бумажке, и в эпоху схоластических споров, участники которых, чтобы не лезть в карман за словом, должны были знать наизусть всю Библию и кучу богословских трактатов. В ту пору всю Европу наводняли странствующие мнемонисты, которые и сами были ходячими энциклопедиями и за большие деньги делали ими других. Желающих они обучали строить не только воображаемые дома, но и целые города и населять их сведениями из священного писания, из истории, географии, астрологии, астрономии, математики.
Через несколько веков появилась еще одна система, но уже не образная, а словесная. Пользовались ею в основном для запоминания чисел и дат. Какому-нибудь школяру требовалось, положим, запомнить год Куликовской битвы – 1380. Для подобных целей он уже раньше выучил назубок таблицу из четырех горизонтальных рядов. В каждом ряду было по десять клеток. В верхнем стояли цифры от 0 до 9, а в остальных по определенной системе располагались буквы. Дальше проделывалась простая операция. Единица подразумевалась, а из 380 получались три буквы – 3, В и Л. Из них почти само собой выходило слово «завалено», а из него при небольшом усилии воображения целая фраза: «Куликово поле завалено трупами». Запомнить такую фразу и «декодировать» ее обратно в число было проще простого: 3, В и Л ставились обратно в таблицу и все.
Ничего особенно трудного ни в той, ни в другой методе не было: достаточно было приобрести навык. Мнемонист Арну, обладавший самой обыкновенной памятью, ошеломлял публику следующим трюком. Он говорил цифру за цифрой целый час без передышки, а потом повторял весь ряд без единой ошибки. Между тем повторял он, в сущности, уже не цифры, а слова, которые мысленно переводил в цифры. В свое время он выучил строк двести стихов, а стихи, как известно, учить легче всего, потому что они организованы в ритмические структуры, где каждое слово тянет за собой соседнее, и вдобавок подкреплены рифмами. Арну брал слова из стихов и мгновенно переводил их согласные в цифры. Из двухсот строк получалось тысячи две цифр. Проговорив этот ряд, Арну начинал его сначала, увеличивая каждую цифру на единицу или две, потом отнимал единицу и так далее. Ничего этого публика, конечно, заметить не могла и провожала талантливого фокусника громом оваций. Молва о нем облетела всю Европу.
В наши дни мнемотехника совсем пришла в упадок. Науки стали стройными логическими системами, где мнемотехникой только все напортишь. Школа предпочитает требовать от учеников не только знания фактов, но прежде всего их понимания. Кроме знаменитой фразы «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны», в которой первые буквы в словах совпадают с первыми буквами цветов солнечного спектра, расположенных в порядке убывания длины волны, да двустишия про число «пи», никто для запоминания не пользуется никакими особыми приемами. Единственной областью, где обучение начинается с мнемотехники, является, пожалуй, радиосвязь: мало кто из новичков, сталкивающихся с азбукой Морзе, в состоянии быстро перевести ее в бессознательную автоматическую память, где у нас пребывает обычный язык. Посему все начинающие радиотелеграфисты пользуются системой перевода совокупности точек и тире в аналогичные по ритмическому рисунку словосочетания. Ровно двадцать лет не видал я в глаза телеграфного ключа, да и занимался радиосвязью всего месяца три, но до сих пор в памяти сидят и «дай, дай закурить» (- -…), и «Я на горку шла» (…-…), и «Тетя Катя (…-.), и другие, более выразительные, но, к сожалению, непечатные перлы мнемотехники связистов. Сидят, но что они обозначают, давно позабылось, за исключением буквы Ж, чей мнемонический аналог содержал в себе и название самой буквы. «Я буква Ж» – звучал он, то есть три точки и гире, или «ти-ти-ти-та», как слышалось в наушниках и как думалось на первых порах.
Кажется, это единственная из сохранившихся законченных систем. Все прочее – разрозненные приемы, которые каждый изобретает сам для своих нужд. Я знаю одного физиолога, который никогда не может с уверенностью сказать, для чего служат афферентные импульсы, а для чего эфферентные, покуда не вспомнит, что А стоит в алфавите раньше чем Э, а, значит, афферентные импульсы это те, что идут от органов чувств к мозгу, то есть в согласии со взглядами физиологии на взаимоотношения организма со средой, возникают первыми, а эфферентные, выходит, наоборот. В своей книге «Интеллигентность и воля» немецкий психолог Э. Мейман рассказывает, как благодаря мнемотехническому приему он вспоминал, откуда входят в спинной мозг моторные нервы, а откуда чувствительные. В словах «моторный» и «спереди» он обнаружил общую букву и, сопоставляя их, соображал, что моторные входят спереди, а чувствительные сзади. «Образование таких искусственных приемов,- добавляет он,- прямо-таки необходимо, и потребность в них обыкновенно свойственна тем, кто обладает чересчур слабой памятью». Вывод, пожалуй, слишком категоричен. Одна моя знакомая аналогичным образом решает, где право и где лево. Быстро проговаривая вслух весь алфавит, она находит в нем буквы Л и П, соображает, какая из них стоит первой и, сопоставив этот результат с навыком чтения (слева направо), находит искомое. Во всех других вопросах она ориентируется без всяких приемов, а, главное, помнит такое количество житейских подробностей, что видавшие виды специалисты по памяти, которым я демонстрировал ее, только разводили руками.
ПРОКЛЯТЫЙ ДАР
У Ш., с которого мы в третий и последний раз начинаем главу, тоже, как было сказано, имелась своя мнемотехника. Похожа она была отчасти на систему Симонида. Всякое слово, если оно не заволакивалось клубами пара.(а в опытах они у него не заволакивались, потому что все экспериментальные «ряды» состоят из конкретных понятий вроде «стола», «окна», «зимы», «карандаша» и т. п.), вызывало у него наглядный образ, и он мысленно расставлял их по хорошо знакомой дороге. Если слов было немного, это была улица его родного Торжка, а если побольше, московская улица Горького. Вот почему он одинаково легко воспроизводил любой ряд слов в прямой и обратной последовательности: он быстро шел по улице и вглядывался в подъезды и подворотни, куда он расставлял слова, пока их ему читали. Но иногда он пропускал одно или два слова. Заметив это, Лурпя даже обрадовался: все-таки Ш. не чуждо и человеческое, все-таки он может и забывать. Ничего подобного! Ш. просто не всегда удачно расставлял слова. «Карандаш» нечаянно слился у него с оградой, ион проскочил мимо него, «яйцо» слилось с белой стеной, а «знамя» с красной; «ящик» же попал второпях в темную подворотню. Ошибки Ш. были ошибками не памяти, а внимания, он не забывал, а не замечал. Это было удивительно, но все-таки удивительнее была прочность его памяти. Он мог «отвернуться» от слов хоть на пятнадцать лет, а потом повернуться к ним и снова их всех увидеть.
Познакомившись со своей памятью, Ш. бросил службу в газете и стал профессиональным мнемонистом. Но вскоре ему пришлось раскаяться в своем решении. Публике не было дела до того, что шум в зале превращается у него в пар, что в спешке слова могут слиться с фоном, что иностранные слова, которые ему часто предлагали и которых он не знал, для подворотен не годились: их приходилось запоминать только по шероховатостям, по переливам красок. Голова у него разбаливалась от этой мешанины ощущений, и он принялся искать способ усовершенствовать свою мнемотехнику. Надо освобождать образы от лишних деталей! Прежде ему говорили «всадник», и он представлял себе и человека на коне, в бурке и папахе, и белеющие вдали горы; теперь оставалась одна нога со шпорой. Сочетания слов, которых он не понимал, он стал разлагать на такие части, чтобы они хоть чем-нибудь напоминали известные ему слова и становились наглядными образами. „Nel mezz del camin di nstra vita mi ritrvai per una selva scura",- кричали ему из публики первые строки «Божественной комедии», и «nel» превращалось в балерину Нельскую, «mezz» – в скрипача, «del» – в папиросы «Дели» и так далее, а «selva» становилась опереточной Сильвой, но так как она была все-таки не Сильвой, а Сельвой, то когда она танцевала, под ней ломались подмостки.
С трудом, но Ш. освоил свои новые приемы и ухитрялся без ошибок воспроизводить и итальянские, и английские, и какие угодно тексты. Но они не желали покидать его память. Никогда он прежде не заботился о том, как бы чего не забыть, теперь он только и мечтал научиться избавляться от всей чепухи, которой он занимался на предыдущем сеансе, и очищать свою память для последующего. Все толпилось перед его глазами, звучало в ушах, забивало нос и рот. Первое, что ему пришло в голову, было уже давно изобретено людьми и для той же самой цели: по вечерам, после сеансов, он стал записывать все слова, и цифры, записывать, чтобы забыть. Мы ведь тоже записываем, чтобы забыть, а не чтобы помнить. Да, да! Разница только в том, что мы записываем в свои блокноты и календари, то, что должно пригодиться, но делаем это с тем же самым намерением – разгрузить свою память от мелочей и оставить в ней только одно – привычку заглядывать по утрам в календарь и не забывать записную книжку дома. Недаром говаривал Платон, что изобретение письменности содействовало ухудшению памяти. Это истинная правда в отношении памяти непосредственной, памяти на даты, на фамилии, на факты, на названия, на изречения. У нас она давно в плачевном состоянии. Все записано в блокнотах, в календарях, в справочниках, в энциклопедиях. На каждый случай имеются свои извозчики, избавляющие нас от знания географии. Хорошо это или плохо? Когда как. «Забывчивый» и «рассеянный» Эйнштейн не понимал свойств металлов и длину мостов, потому что это ему было не нужно, а Эдисону было как раз нужно именно это. Справочник справочником, но, очевидно, какой-нибудь вес или удельное сопротивление, оживлявшееся в памяти при обдумывании задачи, наводило Эдисона на новую, счастливую мысль, и он это понимал. Все дело в роде занятий. Эйнштейн помнил тысячу вещей, которыми Эдисон интересовался мало, например, не только мысли, но даже интонации Спинозы. У него была превосходная память на все, что входило в круг его интересов. Как бы то ни было, кое-что из мелочей все-таки стоит помнить: сегодня это мелочь, а завтра может стать необходимейшей вещью. Бывает, впрочем, что человек старается разгрузить свою память совсем не от мелочей, не от тех сведений, которым, может быть, только и место, что в справочнике. Память его, или, скорее, душа, изнемогает от переживаний и наблюдений, от образов и коллизий, порожденных его воображением, от всего того, что так и просится на бумагу. Хемингуэй так и говорил: «От многого я уже освободился-написал про это». О творчестве как об освобождении говорил и Гете. Изобретение письменности имело и хорошую сторону.
Увы, Ш. был не Гете и не Хемингуэй. Сказать людям ему было нечего и не было у него таланта. А даже если бы и было что сказать и был бы талант, его бы это не освободило. Ведь слова были для него не обозначениями предметов и качеств, не средством для передачи мыслей и чувств, а самостоятельными, существами, носителями неуправляемых представлений. Да записывание и не разгружало его память. Тогда он додумался еще до одного средства, тоже давно изобретенного. В старину в Мексике бытовало поверье, что сборщик кактуса должен быть чист от всех грехов. Перед тем как отправиться в поле, сборщики завязывали на веревочках узелки – сколько грехов, столько и узелков, и, исповедавшись в сторону всех ветров (исповедь ведь тоже во все времена была не чем иным, как разгрузкой памяти от тяготивших ее воспоминаний), бросали веревочки в огонь. Грехов больше не существовало. Ш. стал сжигать свои бумажки, с наслаждением глядя, как цифры и слова обращаются в пепел. Тщетно! Магия сжигания не помогала. Помогло только одно – самовнушение. Еще в детстве он упражнялся в том, что теперь вошло в моду под названием аутотренинга. Мысленно он прикладывал руку к печке, и рука становилась горячей. Если ему сверлили зуб, он воображал, что зуб сверлят другому, и боль покидала его. И вот теперь ему больше ничего не оставалось, как воззвать к самовнушению. «Не хочу этого помнить!» – твердил он себе, сжигая свои бумажки. И кое-что ему действительно удавалось забыть.
Тем временем Лурия пристально вглядывался во внутренний мир Ш., стараясь понять, какой отпечаток наложила его фантастическая память на всю его личность. Это был противоречивый мир, где преимущества наглядного мышления часто подавлялись его недостатками. «Другие думают, а я вижу!» Другие думали, а он видел- это предваряло каждый его шаг. Едва у него созревало какое-нибудь намерение, как он уже успевал увидеть все, что из этого получится, все пережить и перечувствовать заранее, прежде чем намерению суждено было осуществиться. Да оно и осуществлялось не так, как следовало бы, потому что не было у Ш. предвидения, свойственного обыкновенному человеку, а была одна фантазия, смесь реальных ситуаций, которые могли бы произойти в действительности, и ситуаций воображаемых, порожденных игрой образов, с их голубыми пятнами, скрежетом, соленостью или шершавостью. Сталкиваясь с действительной ситуацией, не похожей на возникшую в воображении, Ш. терялся. Однажды у него было простое судебное дело, которое он должен был бы выиграть, а он проиграл его. Он шел в суд и представлял себе, где сидит судья и где сидит он сам, а все вышло иначе: судья сидел не там и ему предложили сесть не там, и он не мог вымолвить ни слова. Юрий Олеша как-то с горечью сказал, что много лет ему казалось, будто все происходящее с ним только репетиция, что вот сейчас жизнь пишется начерно, а в один прекрасный день ее можно будет сесть и переписать набело и набело дописывать до конца. А жизнь всегда пишется набело, с самого начала. Ш. тоже казалось, что наступит день, и все начнется по-настоящему. Но день этот так и не наступил. Он переменил десяток профессий и так ни к чему не приохотился. Да иначе и быть не могло. Репетируя каждый свой шаг, создавая в воображении подробнейшие сцены, он уже не оставлял в них места случайности; они превращались для него в реально свершившиеся события. Он жил как бы в одном прошлом, в том, что миновало, все же его будущее и настоящее было чем-то вроде смутного сна. Он был игрушкой в руках своей нечеловеческой памяти, которой он, несмотря на всю свою волю, управлять не умел. Память, которая для того и дана нам, чтобы мы не были детьми мгновения, а могли действовать, используя прошлый опыт и накапливая новый, память, живущая в нас не ради прошлого, а ради будущего, протягивающая в будущее из прошлого непрерывную нить и помогающая нам отбирать из окружающего то, что полезнее всего для наших потребностей и замыслов, раздулась у Ш. до таких размеров, так тесно переплелась с воображением и так перенасытилась образами, что поглотила всю его личность и выпустила из рук своих эту нить. Она стала играть роль, прямо противоположную той, которую предназначила ей природа: только и делала, что поворачивала своего обладателя лицом к прошлому. Но добро бы это прошлое было не вымышленным, добро бы Ш. было действительно что вспомнить!
А то ведь ничего не было, кроме обманутых надежд и малоинтересного фона жизни.
И как это ни парадоксально, но при всей своей фантастической памяти Ш. был, в сущности, человеком без прошлого. Реально прожитая жизнь дробилась в его сознании на не связанные между собой кусочки, перемешивалась с нереальной, и этот зыбкий калейдоскоп и служил основанием его личности. Не он шел сквозь жизнь, а жизнь проходила сквозь него, мимо него, потому что он всматривался не в жизнь, а в грезу, рождавшуюся прежде, чем он успевал сообразить, во что надо всмотреться.
Таким, во всяком случае, он предстает перед нами в воспоминаниях Лурии. Обсуждая главные особенности памяти Ш. и других феноменов, мы составили себе представление об основных проявлениях образной памяти и о разнице между непосредственным и опосредствованным запоминанием. К последнему мы еще будем возвращаться: ведь оно лежит в основе памяти словесно-логической, а та, естественно, не исчерпывается ни мнемотехникой, пи элементами обучения, а сопровождает нас всю жизнь, помогая нам решать практические задачи, рассуждать о том, что может произойти, пересказывать то, что произошло, и делать выбор. Всякая классификация условна, ибо она предполагает известную статичность: выхватывая из общей гущи то одно, то другое, она невольно создает впечатление, что пока действует одно, другое замирает. Между тем в реальных поступках и мыслях все памяти действуют сообща, только одна выдвигается на передовую позицию, а другая работает чуть поодаль. Однако без классификации, без искусственного разделения на элементы, каждый из них разглядеть будет трудно. А потому продолжим ее и коснемся еще одной памяти – эмоциональной. В ней отчетливо проявляется и ее самостоятельность и вместе с тем ее связь со всеми другими видами памяти и прежде всего с памятью образной. Память чувств это ведь тоже память впечатлений, но впечатлений особых: наши эмоции это не зрительный аппарат, не музыкальное ухо, это сердцевина личности, зеркало наших потребностей и устремлений. Рассказ об эмоциях мы тоже начнем с одного эксперимента. Провел его много лет назад психолог Павел Петрович Блонский.
РАЗВЕДЧИКИ РАССУДКА
Подобно своим предшественникам, Блонский тоже занимался классификацией. Все типы памяти, связанные с нашим чувственным восприятием, он свел к одному понятию- образная память, а потом расположил виды памяти, которые он считал нужным выделить, в том порядке, в каком они возникали в процессе эволюции. Получился простой ряд: двигательная память, эмоциональная, образная и, наконец, смысловая. Так же просто установил он и роль эмоций в наших воспоминаниях. Однажды на лекции он предложил студентам написать странички по две первых пришедших им в голову воспоминаний о событиях, случившихся с ними в текущем году. Когда все написали свои две странички, Блонский попросил студентов взяться за перо еще раз и написать о чем-нибудь из жизни до института. Получилось 224 сочинения. Результат оказался таков, какого Блонский и ожидал. 88 сочинений из первых 112 было посвящено событиям, вызвавшим у авторов сильные эмоции, а из вторых 112, относящихся к событиям более далеким, таких сочинений было 102. Легче всего вспоминается то, что производит сильное впечатление, на что мы откликаемся не одним рассудком, но и всем сердцем. Поистине прав был поэт: «О память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной!»
Но что такое память сердца и отчего она сильней памяти рассудка? Что они такое, все эти неутихающие переливы чувств, то глубоких, то мимолетных, то бурных, то спокойных, то определенных, то противоречивых? Один сентиментален, другой холоден, один порывист, другой сдержан – сколько людей, столько и характеров, но бесстрастных нет никого, никого нет, кто хоть раз не изведал бы страх, решимость, отвращение, нежность, разочарование, отчаяние, восторг. Нет и бесстрастных среди животных, и у них натуралисты находят целую гамму эмоций, попроще, погрубее наших, но самых настоящих. И им ведомы страх, гнев, жалость, привязанность. Да кто из нас не наблюдал их проявления и у собак, и у кошек, и у лошадей, и у птиц.
Многие естествоиспытатели и философы описывали и классифицировали эмоции, страсти, аффекты, деля их народы и виды, пытаясь понять их природу и назначение, а иногда и их взаимоотношения с памятью. Большинство было склонно не слишком доверять чувствам. Дойдя в своем трактате «О человеческой природе» до проблемы памяти, Давид Юм, например, обмолвился так: «Что касается тех впечатлений, источником которых являются чувства… то их последняя причина, по моему мнению, совершенно необъяснима для человеческого разума; и всегда останется невозможным решить с достоверностью, происходят ли эти впечатления непосредственно от объекта, порождаются ли они творческой силой ума или же обязаны своим происхождением творцу нашего бытия». Великолепный образец логической беспомощности, к которой питал столь необъяснимую слабость субъективный идеализм! Впрочем, Юму нельзя отказать и в проницательности: чувства действительно могут порождаться и объектами, то есть реальными ситуациями и ситуациями воображаемыми, и как те, так и другие могут оставить в памяти неизгладимые впечатления. Но сами впечатления, сама память чувств не заинтересовала Юма. Чувства, конечно, есть, и великое множество, и Юм, классификатор каких поискать, посвящает их описанию страниц двести своего трактата. Но проку в этом описании немного, как во многих подобных описаниях, появившихся после Юма, ибо нет в них руководящей идеи. С первой такой идеей выступил материалист и естествоиспытатель Дарвин
.
Корни эмоций простираются далеко, к эпохам власти животных инстинктов, говорил Дарвин. Некоторые из выразительных движений человека – это остатки тех действий, которые когда-то были необходимостью. Вот человека охватил сильный гнев; он сжимает кулаки, стискивает зубы, тяжело дышит, расширяет ноздри. Зачем все это? Сейчас разве что для разрядки, а когда-то гнев предшествовал борьбе, был подготовкой к ней, боролись же и кулаками, и зубы пускали в ход. Отчего при изумлении у нас поднимаются брови? Чтобы шире раскрылись глаза и побыстрее разглядели, не опасность ли таится в неведомом. Дарвин понимал, что это объяснение охватывает лишь самые простые эмоции, не эмоции даже, а аффекты, то есть острые и грубые переживания. Но рациональное зерно было нащупано. Эмоции бессознательны: возникают они прежде, чем рассудок успевает осмыслить вызвавшее их событие. Да он, бывает, и вовсе не способен пуститься за ними вдогонку: сердцу не прикажешь! Конечно, многие из эмоций – остатки инстинктивных действий, многие, но далеко не все. Ведь человек, гкак говорил еще Аристотель, животное социальное, да еще единственное владеющее речью. Может быть, движения, служившие когда-то для выражения наших чувств, и способствовали развитию речи. Но они не утратили сво-, ей целесообразности, они развивались вместе с речью, приобретали новые оттенки, делая наш духовный мир богаче и тоньше. Они стали таким же средством общения, как и слова: нахмуренные брови, саркастическая улыбка, блеск глаз красноречивее целого монолога. Да, они стары, как мир, но и мир менялся и мы менялись вместе с миром, и многим из них уже не найти объяснения ни в каких инстинктах. Как объяснишь хотя бы эстетическое чувство, об угасании которого к концу своей жизни горевал тот же Дарвин? Он горевал о том, что, поглощенный трудами, много лет не интересовался искусством, утратил к нему вкус, и чувства его притупились. Он говорил об этом как об утрате счастья. Читая это признание, одни, должно быть, понимающе кивали головой, другие же пожимали плечами: достиг всемирной славы и еще о чем-то скорбит, да и о чем скорбит-то! Как хорошо эти другие знают, что такое счастье и чего им недостает в жизни, как просты и объяснимы их собственные эмоции!
Еще одно объяснение предложили в 1884 г. американский психолог Джемс, в будущем один из основателей философии прагматизма, и датский врач Ланге. Сначала появляется факт, организм отвечает на него телесным возбуждением, автоматической реакцией. Потом мы осознаем это возбуждение, и вот это-то осознание и есть эмоция. Обыкновенно считают: мы что-то потеряли, огорчились и плачем. Нас оскорбили, мы пришли в ярость и наносим оскорбителю удар. Все не так! Мы потеряли, разрыдались и от этого-то и огорчились. Мы нанесли удар и от него и пришли в ярость. Просидите целый день в меланхолической позе, отвечая на вопросы томным голосом, и вам станет грустно; придите в движение, и печаль пройдет. Иными словами, психическое состояние зависит от физиологического, во всяком случае при простых эмоциях. По нынешним взглядам, теория эта страдает многими несовершенствами, но ее не отвергают: так или иначе эмоция – это реакция на какой-нибудь факт, будь то внешнее впечатление или воспоминание, и реакция, вначале неосознанная. Душевный порыв предшествует рассудочной деятельности.
Оригинальную теорию выдвигает сегодня физиолог П. В. Симонов, взявший за отправную точку давно известное количественное преобладание отрицательных эмоций над положительными. Факт этот был замечен еще в XIX веке немецкими психологами. Пытаясь истолковать его, они говорили, что человеку всю жизнь суждено стремиться к гармонии, к удовлетворению желаний, но гармония недостижима: на смену одним желаниям приходят другие, и человек страдает от вечной неудовлетворенности, если не окружающим, то самим собой. Кто не страдает, тот более не живет; если у него нет больше желаний, он перестает быть человеком. Страдание движет нашими поступками и служит источником великих дел. Вот почему отрицательных эмоций больше, чем положительных. Симонов подошел к делу с другой стороны. В преобладании отрицательных эмоций, утверждает он, заложен приспособительный смысл. Нашим предкам всегда было выгоднее быть начеку и первыми нападать на врага, быть неудовлетворенными и вечно стремиться к удовлетворению. Естественный отбор косил ленивых и благодушных, не склонных к поискам и не умевших страдать от потерь и неудач. Страдания удесятеряли силы у сильных духом. Но ведь можно и не страдать, а, взвесил все за и против, спокойно двинуться на преодоление преграды. В том-то и дело, что на взвешивание требуется время и, главное, достаточное количество сведений, которых может и не оказаться. Симонов так и говорит: отрицательная эмоция возникает при недостатке сведений, необходимых для достижения цели, которая формируется потребностью. Она понуждает организм искать эти сведения. Отчего рождается страх? Оттого, что мы не знаем, как защититься. Осознание средств защиты делает нас хладнокровнее. Отчего мы раздражаемся и горячимся в споре? Оттого, что чувствуем: наших доводов не хватает для убеждения оппонента. Доводы найдены, оппонент побежден, и мы успокаиваемся. Достижение цели усмиряет эмоцию, анализ гасит ее. Но каков же тогда источник положительных эмоций? Да все та же цель! Если ее достижение требовало напряжения, на смену ему приходит спасительная разрядка: сомнения и страхи уступают место ликованию, а оно тоже удесятеряет силы, ибо вселяет в нас веру в себя.
Логичная теория, но опять не всеобъемлющая. По-прежнему речь идет главным образом об аффективных реакциях, связанных с удовлетворением простых, по преимуществу инстинктивных потребностей. Она дает ответы на многие вопросы, но и вопросов вызывает не меньше. «Какой нехваткой сведений, или, по Симонову, «дефицитом информации», вызывается такое чувство, как сострадание, и к какой категории отнести его – к положительным или отрицательным эмоциям?» – полемизирует с Симоновым психолог А. Б. Добрович. «Мне грустно и легко, печаль моя светла»,- цитирует он Пушкина.- Каким знаком снабдить светлую печаль?» Симонов утверждает: если вероятность достижения цели велика, возникают положительные эмоции, если мала,- отрицательные. Но каким образом цель становится желаемой? Когда дело идет об удовлетворении физиологических потребностей, ответ ясен. Но как сформулировать в «ин-формационно-потребностных» терминах происхождение эстетических потребностей и связанного с их удовлетворением наслаждения? Потребность в хлебе понятна, но попробуйте объяснить потребность в зрелищах. Не всякую сложную эмоцию можно понять, разложив ее на составные элементы, ибо она уже не просто сумма, а явление, обладающее качествами, которых у каждого из элементов не было. Словом, чем дальше от преходящего аффекта и бесхитростного физиологического устремления, тем труднее уложить эмоцию в рамки теории, классифицировать ее в понятиях какой-нибудь одной дисциплины и тем настоятельнее необходимость, говоря о ней, не забывать о таких человеческих свойствах, как фантазия, характер, психологический тип, индивидуальность,: не забывать о сопереживании и о других явлениях социального и этического порядка. Обсуждение всех точек зрения увело бы нас слишком далеко от темы; выделим же из них то руководящее начало, которое поможет нам установить связь эмоций с памятью. Эмоции выражают наше отношение к воспринимаемому и к самому себе, говорится в классическом учебнике психологии Теплова. Эмоции – это один из способов познания вещей, добавляют сегодня его ученики. Эмоция – это первая, еще бессознательная оценка факта, побуждающая нас к действию, прежде чем рассудок соберет все сведения для анализа, настаивают физиологи. Превосходно! Отношение, способ познания, оценка – во всех этих определениях разногласия нет; хотя они и не раскрывают до конца сущности глубоких чувств и сложных эмоций, нам они вполне подходят.
ДВОЙНАЯ ЧЕСТЬ
С первого взгляда получается очень просто. Происходит яркое событие, и мы запоминаем его лучше всего остального благодаря двукратной оценке, двойному усилию- усилию чувств и усилию рассудка. А если второго усилия не будет, если мы не проанализируем свои впечатления и свои чувства, что станется с ними тогда, забудется ли эмоциональная встряска, даже самая сильная?
Вот любопытное признание Стендаля, одного из величайших знатоков по части чувств. 18 марта 1805 г. Стендаль записывает в «Дневнике»: «Жаль, что я не писал в эти дни, я бы превосходно изобразил муки любви; но вчера я виделся с нею, и все прошло». Все прошло! Мук как не бывало. Новые, противоположные чувства пришли им на смену, осталось только ощущение: были муки, а их оттенки, их сила, что приходило тогда в голову – все позабылось, да мигом, за одну ночь! А в следующих строках еще любопытнее: «Очень трудно описывать по памяти то, что было в вас естественно; гораздо легче описывать искусственное, притворное, потому что усилие, понадобившееся для того, чтобы притворяться, помогало вам запомнить это. Упражняться в запоминании своих естественных чувств – вот занятие, которое может дать мне талант Шекспира. Вы видите себя притворяющимся, вы сознаете это. Это ощущение легко воспроизводится аппаратом памяти; но чтобы вспомнить свои естественные чувства, надо начать с того, чтобы осознать их».
Стендаль рассматривает крайний случай – притворное чувство, не чувство, а скорее усилие воли, деятельность, начинающуюся с рассудочного акта, контролируемую и напряженную. Даже если человек и «вжился в образ», его все равно не покидает ощущение двойственности его положения, он знает, что играет, и это не может не стеснять его, не вызывать все новых и новых усилий и, может быть, новых эмоций – от досады на неудачную игру до удовлетворения тем, что все идет гладко.- И все это, конечно, осознается, хотя бы отчасти, а потом и припоминается, взвешивается: гладко ли сошло, не допущено ли какого промаха? Как не запомнить эту игру! Она может и никогда не изгладиться из памяти, разве что притворство станет у того, кто ее провел, второй натурой. Тогда, если верить Стендалю, пиши пропало!
Чувства, как мы уже знаем, чувствам рознь. Наши привязанности, особенно к близким своим, постоянны, наша ненависть может продолжаться годами. Но это не память чувств, не память о впечатлениях, вызванных чувствами, это сами чувства, то вспыхивающие, то тлеющие в нас, но не угасающие никогда:
Что же, однако, сказать нам о тех чувствах, которые угасли, а тем более об аффектах, служивших оценкой событиям? Вспыхнут ли они вновь, если мы вновь попадем в те же обстоятельства, столкнемся с таким же объектом, который вызвал у нас эмоциональную оценку? Иногда, пожалуй, и вспыхнут. Но можно ли усилием воспоминания вызвать пережитое когда-то чувство и с такой же силой пережить его вновь? Целое исследование посвятил выяснению этой проблемы французский психолог Тео-дюль-Арман Рибо. Десяткам лиц задавал он этот вопрос и, сопоставив их ответы, естественно, не удержался от классификации – поделил всех опрошенных на три категории. К первой он отнес тех, кто совсем не может повторить угасшую эмоцию. Вспоминая о пережитом, эти люди обычно отделываются общими фразами: «было больно», «было приятно». Так и случилось со Стендалем, не научившимся еще запоминать свои чувства. Вторые способны пережить эмоцию дважды, но в очень слабой степени, и таких подавляющее большинство. Третьи же вызывают в себе прежнее чувство без особых усилий; это натуры артистические, наделенные богатым воображением. Но чтобы чувство ожило целиком, оно хоть на миг должно восприниматься не как прошлое, а как настоящее, как то, что никогда и не угасало. Но тогда получается иллюзия, получается та же игра, самообман. Прекрасные стихи написал Тютчев, и не об оценочных, быстро проходящих эмоциях, а о глубокой страсти, но, подойдя к ним с холодным анализом, мы можем и не поверить им. «И та ж в душе моей любовь». Да, любовь, но, может быть, и не та, а уже другая, сегодняшняя. Прочтите с таким же кощунственным подходом «Я помню чудное мгновенье», и вы еще более убедитесь в этом. Тютчев и Пушкин вдохновились иллюзией воскрешения прежнего чувства и создали бессмертные стихи. Мы не знаем ту, о ком писал Тютчев, но мы хорошо знаем историю с Керн: тогда, в первый раз, и не было никакой любви, было лишь мимолетное виденье, миленькая девушка, приезжавшая в Тригорское. Любовь пришла во второй раз, но о ней невозможно было написать иначе – вот в чем секрет! Нет, не так легко оживлять пепел, это не всегда осознается, надежда живет, а приходит день, и надежда оказывается обманутой. Об этом сказал двадцатилетний Блок:
Но оставим любовь поэтам. Они лучше нас разбирались в ней, и если они утверждали, что любовь воскресла, значит, так оно и было, а если что воскресить не удалось, значит было и так. Пусть каждый из нас думает о любви все, что угодно; нет более неблагодарной темы для аналитических рассуждений. Лучше рассуждать о памяти чувств вообще. Но, рассуждая о ней, мы все равно приходим к тому, к чему пришли и Рибо, и Блонский, и другие психологи. Нет уже более самих чувств, настаивал Блонский, они умерли, угасли, но нервная ткань, которая была связана с эмоциональным возбуждением, стала, более возбудимой: теперь она может откликаться и на слабые стимулы той же природы. Откликаться, добавим мы, и внушать нам иллюзию воскрешения. Что же это за стимулы? Трудно, когда говоришь о памяти чувств, удержаться от стихов, но мы процитируем напоследок всего пять строк – из «Гремской колокольни» Симона Чико-вани (в переводе Беллы Ахмадулиной):
Всему дана двойная честь! Не будь ее, не было бы ни этих стихов Чиковани, которому собор в Греми всегда напоминал плывущий в тумане корабль, ни других прекрасных сочинений, построенных па ассоциациях по сходству, которые служат одним из условий и запоминания, и узнавания, и творческого мышления, с его интуитивными озарениями. Ведь яблоко, в котором Ньютон узнал закон всемирного тяготения, или сцепившиеся хвостами обезьяны, в которых Кекуле угадал долго не дававшуюся ему структурную формулу бензола, ведь все это не что иное, как ассоциации по сходству, все это предметы, получившие двойную честь – быть тем и тем. И все на свете может приобрести ее, если человек обладает воображением или напряженно ищет решения какой-нибудь задачи, и ему не хватает лишь завершающего штриха, чтобы решение предстало перед ним.
Всему дана двойная честь! В ней-то и кроются часто те стимулы, о которых говорил Блонский, на ней-то большей частью и основана память чувств. Большей частью, но не целиком, потому что бывают случаи, когда пас неотступно преследует воспоминание, не понукаемое никакими внешними стимулами. Это бывает, когда чересчур резким оказывается контраст между пережитым и тем, что окружает человека теперь, а пережитое сопровождалось сильным эмоциональным потрясением, наложившим отпечаток на весь строй чувств и мыслей человека, на всю его судьбу. Таким потрясением для многих стала война, или, точнее, нечто страшное, из ряда вон выходящее, с чем они столкнулись на войне. Таким потрясением бы
в
ает смерть любимого человека, без которого и жизнь больше не мила. И тяжкий проступок может стать таким потрясением, оно превратится тогда в навязчивое воспоминание, в «кровавых мальчиков», не дававших уснуть пушкинскому Борису. Все это тягостные эмоции, эмоции отрицательные, те, которых у нас больше и которые сильнее положительных; они сильны, помимо всего прочего, и тем, что, осознавая их, мы часто сознаем и свое бессилие, невозможность поправить дело: прошлого не воротишь! Ни Димитрия не в силах оживить Борис, ни воскресить любимого человека не может тот, кто горюет по нем, ни вернуть тот день не можем мы, когда утратили чье-нибудь драгоценное для нас расположение. Только об одном мечтаем мы тогда – о забвении, но есть вещи, которые забыть нельзя, даже если у тебя самая обыкновенная, не феноменальная память.
ЗВУКИ ЗАПАХОВ И ЗАПАХИ ЗВУКОВ
Однако вернемся к слабым стимулам: все-таки приятнее заниматься исследованием вещей неочевидных, по поводу которых можно смело строить разные предположения. Вот мы проникаемся необъяснимой симпатией или неприязнью к человеку, которого и в глаза прежде не видали. Возможно, какими-то своими чертами или манерами он похож на того, кого мы когда-то любили или ненавидели, чей образ, изгладившийся из нашей памяти, служил для нас первым воплощением идеала красоты, доброты, мудрости или, наоборот, подлости и коварства. Может быть, в подобной неосознанной памяти чувств кроется и происхождение некоторых невротических маний и фобий. Утверждают, что композитору Мейерберу лучше всего работалось в поезде, под стук колес. Ничего в его музыке нет от железнодорожного ритма и не в ритме туг дело, а скорее всего в неосознанном условном рефлексе: ехал Мейербер в поезде и сочинил удачную вещь, и закрепилась в его подсознании, как говорят физиологи, временная связь, или ассоциация, но уже не по сходству, а по смежности: «поездка – вдохновение».
Живучесть и стойкость таких связей не уступают их распространенности и разнообразию, и очень многие люди прекрасно отдают себе в этом отчет. Одному акробату никак не удавался номер: трижды взбирался он под купол и трижды, начавши балансировать, падал на сетку. Несмотря на охватившее его отчаяние и страх, он нашел в себе силы, после того, как публика разошлась, снова взобраться под купол и отработать трюк так, чтобы много раз подряд все получалось безупречно. Этим он разорвал начавшуюся было устанавливаться связь «номер – неудача». Пример этот взят из недавно опубликованной «Повести о разуме» Михаила Зощенко. В конце 20-х годов сам Зощенко заболел сильнейшим неврозом, первопричиной которого, по его мнению, была какая-то застрявшая в подсознании «отрицательная» условнорефлекторная связь. Он занялся самоанализом, принялся изучать литературу по неврозам, побывал на знаменитых Павловских средах и стал в институте у Павлова своим человеком. В конце концов он докопался до причины своего невроза, избавился от него, а потом написал историю своих изысканий, в которой вы можете найти немало поучительных фактов подобного же рода.
Однако чаще всего стимулами для эмоциональных воспоминаний служат не бессознательные и бесплотные условнорефлекторные связи, а осязаемые образы с их цветом и запахом, с их звуками и вкусом, образы, которые взывают к нашей памяти чувств и находят в ней осознаваемый отклик. Происходит не восстановление условного рефлекса, не оживление навыка или реакции, а то, что Иван Петрович Павлов называл «уловлением связи вещей», всячески подчеркивая разницу между рефлексом и этим уловлением, в котором активно действует и наша образная память, и память эмоциональная, а вместе с нею и мысль, пробуждающая воображение и фантазию. 18 июля 1896 г. Толстой возвращался домой полями и увидел сломанный куст малинового репея, который в его местах называли «татарином». В тот же день в его дневнике появилась краткая запись: «Напомнил Хаджи Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хотя как-нибудь да отстоял ее». Что случилось дальше, все мы хорошо знаем. Дальше был написан «Хаджи Мурат». Вот чистейшая и осознанная ассоциация по внутреннему сходству, всколыхнувшая у Толстого целую бурю воспоминаний, чувств и глубоких мыслей и заставившая его воображение приняться за работу. Для Толстого ассоциация стала подлинным стимулом – стимулом к действию. Но есть ассоциации, которые не побуждают ни к поступкам, ни даже к отчетливой работе мысли, и тем не менее память хранит их как драгоценный дар, ибо они служат источником счастливого расположения духа, вестниками сосредоточенности, обостренной восприимчивости и вдохновения. Вот как рассказывает об одной из таких ассоциаций Иозеф Кнехт, герой романа немецкого писателя Германа Гессе «Игра в бисер»:
«Мне было тогда лет четырнадцать, и произошло это ранней весной… Однажды после полудня товарищ позвал меня пойти с ним нарезать веток бузины… Должно быть, выдался особенно хороший день, или у меня на душе было как-то особенно хорошо, ибо день этот запечатлелся в моей памяти, являя собой небольшое, но важное событие. Снег уже сошел, поля стояли влажные, вдоль ручьев и канав кое-где уже пробивалась зелень… воздух был напоен всевозможными запахами, запахом самой жизни, полным противоречий: пахло сырой землей, прелым листом и молодыми побегами… Мы подошли к кустам бузины, усыпанным крохотными почками, листики еще не проклюнулись, а когда я срезал ветку, мне в нос вдруг ударил горьковато-сладкий резкий запах. Казалось, он вобрал в себя, слил воедино и во много раз усилил все другие запахи весны. Я был ошеломлен, я нюхал нож, руку, ветку… Мы не произнесли ни слова, однако мой товарищ долго и задумчиво смотрел на ветку и несколько раз подносил ее к носу: стало быть, и ему о чем-то говорил этот запах. У каждого подлинного события, рождающего наши переживания, есть свое волшебство, а в данном случае мое переживание заключалось в том, что, когда мы шагали по чавкающим лугам, когда я вдыхал запахи сырой земли и липких почек, наступившая весна обрушила сь на меня и наполнила счастьем, а теперь это сконцентрировалось, обрело силу волшебства в фортиссимо запаха бузины, став чувственным символом. Даже если бы… переживания мои на этом бы и завершились, запаха бузины я никогда не мог бы забыть… Но тут прибавилось еще кое-что. Примерно в то же самое время я увидел у своего учителя музыки старую нотную тетрадь с песнями Франца Шуберта… Как-то, дожидаясь начала урока, я перелистывал ее, и в ответ на мою просьбу учитель разрешил мне взять на несколько дней ноты… И вот, то ли в день нашего похода за бузиной, то ли на следующий, я вдруг наткнулся на «Весенние надежды» Шуберта. Первые же аккорды аккомпанемента ошеломили меня радостью узнавания: они словно пахли, как пахла срезанная ветка бузины, так же горьковато-сладко, так же сильно и всепобеждающе, как сама ранняя весна! С этого часа для меня ассоциация – ранняя весна – запах бузины – шубертовский аккорд – есть величина постоянная и абсолютно достоверная, стоит мне взять тот аккорд, как я немедленно и непременно слышу терпкий запах бузины, а то и другое означает для меня раннюю весну. В этой частной ассоциации я обрел нечто прекрасное, чего я ни за какие блага не отдам».
Удел этой главы – цитаты, а посему возьмем теперь в руки «Старосветских помещиков», которые так не давались бедняге Ш., и перечитаем со школьных лет памятный кусочек про поющие двери. Вот он уже сам оживает в памяти и звучит своею незабываемою музыкой: «Но самое замечательное в доме- были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому виною или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет,- но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно наконец слышалось: «Батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей… и боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!»
Какая длинная навевается вереница чувств и при чтении этого отрывка. Подумайте только, как свободно и вместе с тем как точно все это сказано: звуки-то пахнут, и пахнут не только ночью или комнаткой, но и соловьем, и шорохом, то есть опять звуками! И ведь не скажешь по-другому; когда говорят Гоголь или Толстой, какой бы формально неправильной ни была их речь («вслушиваясь… слышалось»), знаешь доподлинно: иначе и сказать нельзя, иначе и не может быть. У Гоголя пение дверей, звуковой образ пахнет другими образами, целыми картинами; конкретное и наглядное вызывает в его памяти тоже конкретное и наглядное. Но и по-другому может случиться: наглядный образ способен породить и более отвлеченные представления, с трудом осязаемые, но тоже принадлежащие памяти чувств, а не одного лишь холодного рассудка. Возьмем опять кусочек, на этот раз из романа Марселя Пруста «В поисках за утраченным временем», и про те же старинные деревенские комнаты: «Это были провинциальные комнаты, которые (вроде того, как в некоторых местностях целые участки воздуха или моря бывают озарены или напоены благоуханием мириадов микроскопических животных, для нас невидимых) пленяют нас тысячью запахов, выделяемых добродетелями, рассудительностью, привычками, всей сокровенной, невидимой, избыточной и глубоко нравственной жизнью, которою насыщен в них воздух; запахов еще в достаточной степени природных, подернутых сероватой дымкой, как запахи соседней деревни, но уже жилых, человеческих и свойственных закрытым помещениям,- изысканное и искусно приготовленное прозрачное желе из всевозможных фруктов, перекочевавших из сада в шкаф; запахов меняющихся вместе со сменой времен года, но комнатных и домашних, в которых острый аромат белого желе смягчен духом горячего хлеба; запахов праздных и пунктуальных, как деревенские часы, бесцельно блуждающих и строго упорядоченных, беспечных и предусмотрительных, запахов бельевых, утренних, богомольных, дышащих покоем, приносящим лишь умножение тоскливости, и прозрачностью, являющейся неисчерпаемым кладезем поэзии для того, кто на время погружается в нее, но никогда в ней не жил». Здесь одни запахи, только запахи, они не говорят ни о чем, ни о звуках, ни о зрительных образах, они говорят о вещах отвлеченных – о добродетелях, о рассудительности, о пунктуальности, о предусмотрительности, но за всеми этими отвлеченностями нам видны и обитатели этих провинциальных комнат, и сам автор, находящий кладези поэзии в подробностях неподвижной провинциальной жизни. Когда, говорит он уже в другом месте,- «когда от недавнего прошлого уже ничего не осталось, после смерти живых существ, после разрушения вещей, одни только более хрупкие, но более живучие, более невещественные, более стойкие, более верные, запахи и вкусы долго еще продолжают, словно души, напоминать о себе, ожидать, надеяться, продолжают, среди развалин всего прочего, нести, не изнемогая под его тяжестью, на своей едва ощутимой капельке огромное здание воспоминаний».
Но зачем оно ему это здание, зачем ему эти затхлые запахи провинциальных комнат, эти сладостные ощущения от обмокнутого в чай печенья, которые он тоже вспоминает и не раз, эти дымки каминов – все то, чему посвящены сотни страниц романа, в котором не происходит почти ничего и от которого оторваться невозможно? Затем, чтобы обрести самого себя, ту свою часть, которой когда-то пренебрег он и позабыл, захваченный праздными заботами, ту часть, которая благодаря забвению осталась в глубинах памяти во всей своей неприкосновенности. Затем, чтобы, «когда все слезы, казалось, уже выплаканы, вновь источить их из глаз», вновь пережить свое прошлое и сделать его настоящим, чтобы захватить власть над быстротекущим временем и остановить его. Так или почти так объясняет свою грандиозную затею он сам. В своей предсмертной статье, о Прусте, Луначарский добавил к его объяснениям еще одно: «Несколько мутноватый, медово-коллоидальный, необычайно сладостный и ароматный стиль Пруста – единственный, при помощи которого можно принудить десятки тысяч читателей восторженно переживать с вами вашу не так уж особенно значительную жизнь, признавая за ней какую-то особенную значительность и предаваясь этому растянутому наслаждению с явным восторгом». Вот оно, сопереживание, глубоко человеческая потребность, в пробуждении которой кроется один из секретов магии искусства и сущности эстетических эмоций. Луначарский говорит о стиле, о том, что Пруст явился во французскую литературу как реформатор. Это бесспорно, но ведь не от одного только стиля рождается ощущение значительности. Какое нам в конце концов дело до прустовских запахов, до бузины Иозефа Кнехта, до гоголевских поющих дверей, описанных, кстати, совсем в ином стиле? Может быть, дело еще и в том, что, впитывая вместе со стилем все эти запахи и звуки, мы, подобно писателю, тоже обретаем часть самих себя и, бессознательно вспоминая свои радости и утраты, собственное прошлое тоже превращаем в сегодняшний день, ибо, как справедливо сказал мудрый поэт: «Читать по-настоящему можно только вспоминая».
Но ни Пруст, ни Гоголь, ни Толстой со своей великой автобиографической трилогией, и никто из нас, простых смертных, не может избежать общего закона эмоциональной памяти – могучего воздействия на нее сегодняшних чувств и сегодняшних мыслей. Да, все эти запахи и вкусы, которые Пруст вызвал усилием припоминания, возникли перед его взором во всей своей неприкосновенности. Но отчего они источают слезы у него? Оттого, что они прошли и не вернуть их никогда. Ведь не было слез у него, когда он ощущал их впервые, в детстве, в далеком уже для него Комбре, не было потому, что ощущал он их бессознательно, мельком, мимоходом, не задумываясь над ними и не давая им никакой оценки. Отчего окрашены грустью скрипы гоголевских дверей? Оттого, что Гоголь печалится о невозвратимости этих скрипов, этих сладостных шорохов ночи и соловьиных раскатов. Даже «кровавые мальчики» Бориса это не воспоминание об убийстве Димитрия, а голос совести, это не прошлое, а настоящее царя: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!» Сейчас, сегодня жалок! Вернуть бы тот день, когда отправился в Углич Битяговский, вернуть бы скрипы дверей, запахи каминов, вернуть бы все, когда ты натворил бед, наговорил глупостей, был нечуток, когда по молодости и по неопытности не вглядывался во всю красоту мира, не прислушивался к биению близких тебе сердец! Переписать бы все набело! Ничего не вернешь, потому что никто не в состоянии беспрерывно глядеть на себя со стороны, все предусматривать, оценивать все свои шаги, и никто не может заставить себя и жизнь остановиться. Это теперь мы видим и себя, и свои прежние чувства, но они не совсем прежние, совсем непрежние, от прежних и следа не осталось, кроме одних молчаливых образов. Все окрашено в тона сегодняшних чувств и сегодняшней оценки, которую диктует нам сегодняшняя наша совесть, наш ум и сердце, прошедшие через тысячи других ощущений, поступков и мыслей. Драму любого воспоминания ставит не тогдашний (тогдашнего и не было), а нынешний режиссер. Но мы, режиссеры, актеры и зрители своих воспоминаний, думаем не только о прошлом и живем не только в прошлом: даже искавший утраченное время Пруст не просто вспоминал, а отделывал свой слог, отбирал из сложившегося ко времени свой работы лексикона нужные слова, строил планы будущих глав. Жить прошлым – это выражение нельзя понимать буквально. Никакая память не живет одним прошлым. Мы вспоминаем, чтобы обрести часть самих себя, это так. Но обрести нам себя надо для того, чтобы действовать, жить дальше, жить сегодняшними и завтрашними заботами, чтобы стараться в будущем не повторять прошлых ошибок, а повторять. лишь то, что мы находим достойным повторения. Загляните в себя: чего в вас больше, грусти о невозвратимом или предвкушения новых впечатлений, прошлогоднего снега или обдумывания предстоящего? Для того и дана нам память, чтобы мы могли хотя бы приблизительно представить себе, что случится с нами завтра, через месяц, через год, чтобы не жизнь проходила сквозь нас, а мы шли сквозь нее, к новым впечатлениям и открытиям, предаваясь самому увлекательному из всех занятий, на которое сделала способной нас природа, наделив самым развитым мозгом и самыми утонченными чувствами,- уловлению связи вещей.
ГЕОМЕТРИЯ И ДОБРОДЕТЕЛЬ
Про уловление связи вещей, с оговоркой о том, что это не рефлекс, а образование знаний, сказано было по определенному поводу. Павлов имел в виду известные опыты с шимпанзе, которые проводили Вольфганг Келер и И. Н. Ладыгина-Коте. Обезьяны манипулировали ящиками и палками, стараясь дотянуться до заветных бананов, и проявляли при этом то чудеса сообразительности, то удивительную ограниченность. Опыты эти помогли исследователям составить представление об интеллекте шимпанзе. Это представление вместе с результатами других наблюдений над самыми разнообразными существами, от амебы до человека, легло в основу еще очень далекой от завершения, но уже более или менее стройной системы взглядов на соотношение между врожденным и приобретенным. Эти два слова не раз произносились в предыдущих главах. Но, обращая главное внимание на проявления образной и эмоциональной памяти, мы почти не касались самой проблемы соотношения врожденного и приобретенного. Между тем она заслуживает более обстоятельного рассмотрения. Ведь речь идет об истоках нашей способности накапливать и использовать опыт, о зависящих и независящих от нашей воли условий запоминания и уловления связи вещей и, наконец, о том, что было нами провозглашено, но еще не доказано, – о назначении памяти. Пытаясь понять природу памяти, мы должны бросить беглый взгляд на некоторые стороны эволюции живых существ, посмотреть, с чего все началось и во что превратилось.
Об эволюции написаны тысячи томов и высказано великое множество догадок и гипотез. Все помнят, что учение об атомах восходит к Левкиппу и Демокриту, и отдают должное их проницательности. Но не менее проницателен и их предшественник Гераклит, учивший, что все живое произошло из воды и ила. Беда лишь в том, что гипотезы и догадки в биологии, и особенно в интересующих нас областях, занимают, по сравнению с твердо доказанными фактами, куда более скромное место, чем в той же атомной физике. Как-то швейцарский психолог Жан Пиаже рассказывал Эйнштейну о своих исследованиях детской психики, и Эйнштейн поразился, насколько же психика ребенка сложнее физики. Кажется, именно после того, как Пиаже описал этот разговор, родился популярный афоризм: «Понимание атома – детская игра по сравнению с пониманием детской игры». Наша тема не намного проще детской игры, но у нас не должны опускаться руки. Среди гипотез, которые мы будем рассматривать, немало и правдоподобных; кроме того, ни одна из них не лишена интереса, а это уже взывает прямо к нашему врожденному чувству – к любознательности. Вот вам и первая гипотеза: попробуйте доказать, что мы любознательны от природы, это не так-то просто.
Но любознательность, если она и врождена нам, возникла, по-видимому, позже других свойств, которые появились уже у одноклеточных и положили начало таким неистребимым инстинктам, как инстинкт сохранения вида или инстинкт размножения, и уж во всяком случае позже тех физических условий, благодаря которым существо возникло из вещества и о которых наука строит лишь самые смутные предположения. Ведь простейшие клетки, которые может сегодня изучать биолог, на самом деле необычайно сложны. И дело не только в их структуре или в неразгаданных еще функциях их элементов, но и в том непоправимом обстоятельстве, что это не те клетки, которые родились в воде и иле, или, по-теперешнему, в первичном бульоне, а те, что донес до нас через сотни миллиардов их поколений естественный отбор, не оставивший и следа от первой живой системы. «Жизнь появилась на Земле; но что было перед этим событием, вероятность которого ничтожна?» – риторически спрашивает французский биолог Жак Моно в своей книге «Случайность и необходимость». Неизвестно, ни что было перед этим событием,-ни что очень долго было после него, ни как это случилось- в одном ли месте или в нескольких, сразу или в результате многих попыток. Еще вчера мы читали, что случилось это два миллиарда лет назад, сегодня же говорят о трех миллиардах – разница немалая.
Английскому кибернетику Уильяму Р. Эшби мало и трех миллиардов. Он говорит о пяти, приходящихся едва ли не на всю историю Земли. Существо родилось из вещества, что-нибудь да оно должно было унаследовать от него, кроме одних и тех же химических элементов, и даже не от него, а от основных свойств всего нашего мира. Вспомните, пишет Эшби, как легко решали вы задачи из трехмерной геометрии. Много ли вам знаний понадобилось для этого? Гораздо меньше, чем той информации, которой вы воспользовались бессознательно. У вас был опыт детства, когда вы учились двигаться в трехмерном пространстве и обращаться с трехмерными предметами. Но и это пустяки- у вас за плечами было пять миллиардов лет эволюции, протекавшей в трехмерном мире, эволюции и существ и веществ. С Эшби перекликается и Моно. Ссылаясь на опыты, в которых было доказано, что осьминоги и крысы, не говоря уж об обезьянах или дельфинах, без труда узнают квадрат и треугольник, узнают только пб форме, независимо от размера и цвета, то есть классифицируют объекты и даже связи между ними согласно абстрактным геометрическим категориям, ссылаясь на открытия нейрофизиологов, обнаруживших в сенсорных зонах коры сугубо специализированные нейроны, которые реагируют только на наклонные или только на вертикальные линии, только на острые углы или только на округлые формы, ссылаясь на все это, Моно замечает, что понятия элементарной геометрии «заключены не столько в самом предмете, сколько в сенсорном анализаторе, разлагающем его и заново составляющем из более простых элементов».
Давно уж не удивляясь догадливости Гераклита и Демокрита, мы не удивимся и тому, что обо всем, что говорят сегодня Эшби и Моно и что первый из них назвал предпрограммированием, а мы бы назвали первичными формами памяти, свойственной всем обитателям трехмерного мира, тоже догадывались древние, среди которых прежде всего должен быть упомянут Платон, автор первой теории памяти, даже целых двух теорий. В его диалогах «Менон» и «Федон» Сократ доказывает, что знание абстрактных категорий (и опять-таки в первую очередь геометрических) есть припоминание того, что мы знали всегда, только могли забыть, но ни в коем случае не постигнуть в опыте. В «Федоне», где эта мысль развита в целую систему доказательств, идет рассуждение о таких понятиях, как равенство и неравенство. Сократ говорит, что существует разница между равенством одного бревна другому или одного камня другому и равенством самим по себе, то есть разница между равными вещами и равенством как идеей, которая, будучи заложена в нас задолго до того, как мы начинаем видеть, слышать и вообще чувствовать, и позволяет нам судить о сходстве или несходстве вещей. Доказав своему собеседнику Симмию, что знанием равного мы обладали еще до рождения, Сократ утверждает, что к таким категориям относится «не только равное, большее или меньшее, но и все остальное подобного рода», а именно прекрасное само по себе, доброе само по себе, и справедливое, и священное. Появившись на свет, мы все это можем вспомнить не сразу, но потом, постепенно, с помощью чувств мы восстанавливаем прежние знания, и лучшего слова для этого, чем припоминание, не подберешь.
Симмий, разумеется, соглашается с Сократом. После всего сказанного Моно и Эшби и мы, очевидно, не стали бы возражать против врожденности геометрических категорий, но что нам сказать обо «всем остальном подобного рода», о категориях, например, этических? Да и подобного ли рода эти категории? Оказывается, некоторое подобие во всем этом можно найти, и нашел его не кто иной, как Дарвин. Первый труд Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора»,опубликованный в 1859 г., замечает в связи с этим академик Б. Л.Астауров, сокрушительно покорил мысль, и его ведущая идея- эволюция на основе индивидуального естественного отбора властно овладела умами, определила преимущественные тенденции развития дарвинизма и, конечно, прежде всего обывательские представления о его содержании. Среди адептов дарвинизма нашлось немало и тех, кто был большим роялистом, чем сам король. Яркое выражение «борьба за существование», вместо скрывавшегося за ним широкого и метафорического значения, стало порой употребляться в буквальном смысле. Именно в таком извращенном понимании этот «закон зубов и когтей», перенесенный из биологии в социологию, стал идейной опорой социал-дарвинизма. В том обществе, где индивидуализм, чистоган и «сильные личности» решают успех, такая интерпретация получила широкий резонанс. Между тем спустя двенадцать лет после «Происхождения видов», в 1871 г., вышло в свет другое замечательное произведение Дарвина «Происхождение человека и половой отбор», в котором звучал совсем иной мотив, мотив группового отбора социальных инстинктов, и которое, по мнению Астаурова, «должен прочесть каждый культурный человек, желающий понять, что он собой представляет с естественно-исторической точки зрения».
В этом произведении есть такие строки: «… Едва ли можно спорить против того, что у низших животных моральное чувство инстинктивное, или врожденное, и почему же не быть тому же самому у человека?» И далее; «… Нет сомнения, что симпатия усиливается под влиянием привычки. Но каково бы ни было происхождение этого сложного чувства, оно должно было усилиться путем естественного отбора, потому что представляет громадную важность для всех животных, которые помогают друг другу и защищают одно другого. В самом деле, те общества, которые имели наибольшее число сочувствующих друг другу членов, должны были процветать больше и оставлять после себя многочисленное потомство». Через-девять лет мысль Дарвина подхватил петербургский зоолог К. Ф. Кеслер: в лекции, прочитанной на съезде русских естествоиспытателей и врачей, он провозгласил, что, кроме «закона взаимной борьбы», существует еще и «закон взаимной помощи», берущей свои истоки в родительская заботе о потомстве и играющей первостепенную роль в эволюции. Еще через десять лет в английском журнале «Девятнадцатое столетие» началась публикация статей П. А. Кропоткина, в которых также говорилось о групповом отборе «инстинктов человечности». Полностью свою концепцию Кропоткин разработал в книге «Происхождение и развитие нравственности», напечатанной и 1922 г. Прошло еще десять лет, и защитником точки зрения Кропоткина объявил себя английский генетик и биохимик Джордж Холдейн, который в своей книге «Факторы эволюции» даже рассчитал эффективность отбора по «генам альтруизма». Нетрудно понять, почему оптимистическая идея Дарвина о взаимопомощи и симпатии пришлась по душе ученому-материалисту и революционеру Кропоткину и коммунисту Холдейну: она отвечает мировоззрению тех, кто отвергает принцип «человек человеку волк» и верит в победу справедливости. Но в данном случае речь идет не о вере «самой по себе», а о научной гипотезе, нуждающейся прежде всего в доказательствах. Такие доказательства могли быть получены только в наши дни, на определенной стадии развития этологии (науки о поведении животных), антропологии и эволюционной генетики. Эти доказательства собрал и систематизировал профессор В. П. Эфроимсон; впервые они были опубликованы в его статье «Генетика этики» в 1969 г., а через два года, в расширенном виде, в статье «Родословная альтруизма».
Прекрасно отдавая себе отчет в определяющей роли общественной среды, социальных условий, обучения и воспитания, Эфроимсон обращает наше внимание на те доставшиеся нам от сотен миллионов предшествовавших лет «наследственные компоненты», инстинкты и предрасположения, которые могут быть подавлены средой или, напротив, взращены ею, могут быть искоренены в целых поколениях, но вспыхнуть затем и расцвести в следующих, на все то, что заложено в нас не столько индивидуальным отбором, сколько отбором групповым, который в дополнение к развитию мозга превратил наших предков из стадных животных в животных социальных. Заменяя вульгарную альтернативу «наследственность или среда» разумным союзом «наследственность и среда», Эфроимсон ссылается на высказывание Энгельса о том, что определяющим моментом в истории является производство и воспроизводство самой жизни, имеющее две стороны: производство средств жизни и «производство самого человека, продолжение рода». Обычно помнят лишь первую часть формулы, пишет он, но именно во второй ее части, в закономерностях производства самого человека, таятся среди всей совокупности причин и причины наследственного закрепления тех эмоций человечности, самоотверженности, благородства, жертвенности, непрерывное восстановление которых остается загадкой для тех, кто стоит на позициях вульгарного материализма, еще не угасшего и по сей день.
Поистине они казались и кажутся загадочными и противоестественными, но лишь обывателям, а не свободным мыслителям, вроде Руссо с его концепцией об изначальном добре, над которой иронизируют вот уже двести лет, не ученым или писателям и не просто умным людям, которые сами даже могли быть воплощением подлости и беспринципности, но тем не менее отлично разбирались в людях (что и помогало им в их неметафорической борьбе за существование) и любили цинично говаривать: «Бойтесь первых побуждений – они самые благородные». Почему те, кто находит наивным Руссо, не находит наивным Талейрана, почему никто и никогда не ставил под сомнение этот его афоризм? А задавался ли кто-нибудь вопросом, почему сын Талейрана, Эжен Делакруа, дававший волю первым своим побуждениям, воспел то, чего пуще всего боялся и ненавидел его отец, и создал знаменитую «Свободу на баррикадах»? Когда мы видим бессмысленное зло и варварство, мы говорим о звериных инстинктах, разбуженных тем-то и тем-то, когда мы сталкиваемся с добром и благородством, мы ищем их истоки в одном лишь воспитании и благотворном воздействии среды. Мы клевещем не только на самих себя, но и на зверей, ибо в их стаях, стадах и сообществах альтруизм является такой же нормой, какой мы хотим видеть его у себя и всячески поддерживаем законами, моральными предписаниями и системой воспитания. Иронизируя над Руссо и его последователями в нашумевшей своей книге «Территориальный императив», американский антрополог Роберт Ардри не замечает, что противоречит сам себе, с восхищением говоря о наших предках, выживших «благодаря мужеству, с которым встречали они бедствия, благодаря выносливости, с которой преодолевали лишения… как выжили бабуины, познавшие необходимость друг в друге».
ВОСКОВЫЕ ДОЩЕЧКИ
О бабуинах и упоминает Эфроимсон, рассказывая, как после сигнала тревоги далеко забредшие детеныши этих обезьян бросаются на спину любому из стаи, кто мимо них несется в укрытие. Вот уже и зачатки альтруизма: о потомстве заботятся не одни родители, а вся стая. Он приводит и другой пример, взятый из записок натуралиста Маре, который однажды наблюдал, как злейший враг павианов леопард залег, приготовясь к прыжку, около тропы, по которой торопилось к пещерам обезьянье стадо, и как от стада отделились два самца, потихоньку взобрались на скалу над леопардом и разом прыгнули на него. Один вцепился ему в горло, другой в спину; первому леопард вспорол брюхо, второму переломил кости, но и сам издох от перекушенной вены. Павианы погибли, но стадо было спасено. Это ли не альтруизм, не самое ли настоящее самопожертвование? И у кого? У тех представителей обезьяньего рода, которые символизируют в ходячем мнении один из безнравственных звериных инстинктов.
Подобными примерами полны десятки книг, написанных натуралистами и этологами, которые доказывают, что существует не инстинкт самосохранения, а инстинкт сохранения вида, а это далеко не одно и то же: в первом можно искать источник эгоизма, во втором его найти трудно. Уж если и искать его, то не у животных, а у людей, да и то лишь с тех пор, когда, как представлял себе наивный Руссо, первый из них отгородил себе кусочек земли и сказал: «Это мое!» Но все-таки с чего начался человек и началась человечность? Начались они с подмеченного еще Анаксимандром необычайно долгого, по сравнению с любыми животными, детства и младенческой беспомощности. Еще не всем биологам, правда, ясно, начали ли мы думать оттого, что у нас развился мозг, или мозг развился у нас оттого, что мы начали думать. Не всегда легко решить, что чему предшествует во взаимоотношениях между функцией и органом. С бицепсами, как известно, родился один Геракл, все остальные силачи приобрели их тренировкой, а тренировке предшествовало известное намерение. Иное дело, что для развития физической силы необходимы мышцы, способные укрепляться и расти. Может быть, кое-кто из наших еще общих с гориллой предков и ощущал смутную потребность поумнеть, но природа распорядилась так, что умнеть стала та ветвь, у которой в силу определенных генетических причин начала развиваться емкость черепа и за полмиллиона лет выросла втрое. Дарвин объяснял этот рост появлением речи как своего рода «полуискусства и полуинстинкта». Но как появилась сама речь, что возникло вначале – начатки языка или соответствующие им извилины в мозгу? Как бы там ни было, наш мозг, развивавшийся подобно любой клеточной структуре, чтобы успешнее справляться с требованиями переменчивой среды, пришел в мир как нечто новое, как то, что существовало до него лишь в форме намека, но в этом новом должно было сохраниться немало следов и от прежних эпох.
Независимо от того, были или не были первоначальные импульсы к поумнению (намерениями их, конечно, не назовешь), если стал меняться череп и его содержимое, стало меняться и многое другое. Таков закон: раз установилось основное направление эволюции, она захватила целый комплекс признаков. Когда наш предок перестал ходить на четвереньках и его передние лапы превратились в руки, когда у него прорезалась членораздельная речь и все это вместе взятое стало еще более стимулировать мозг к развитию, ища в нем, как говорят физиологи, «свое представительство», тогда природе уже ничего не оставалось делать, как наполнять непомерно развившийся мозг рефлексами, учить его уловлению связи вещей и готовить его к тому, чтобы когда-нибудь он смог приступить к познанию природы и самого себя. Природе не пришлось изобретать ради этого ничего принципиально нового, ее скачкам всегда предшествует подготовка, намеки, зачатки, тенденции; как учит нас диалектика, антитезис приходит на смену тезису тогда, когда тезис исчерпывает себя, но это исчерпывание и есть намек и тенденция. В распоряжении природы был такой намек, который и сейчас может наблюдать любой биолог, сравнивая поведение детенышей разных животных, оторванных от материнского лона и содержавшихся в условиях, где их никто ничему не обучал. Много лет назад был проведен ставший уже хрестоматийным опыт. Этологи взяли новорожденных детенышей выдры и павиана, вырастили их вдали от их естественных условий и кормили непривычной пищей. Потом их выпустили на волю. Выдра тотчас нырнула в реку и через несколько мгновений поймала рыбу, а павиан, вместо того чтобы кинуться выгребать из-под камней жучков и червячков, совершенно растерялся. Он тыкался носом об деревья и пытался есть волчьи ягоды. Из этого опыта и из множества ему подобных следовало, что, чем больше развит мозг у животного, тем больше требуется ему времени на обучение. И наоборот, чем меньше развит мозг, тем меньше животному надо учиться, тем безошибочнее и быстрее оно следует велениям инстинктов. Обучается животное в детстве, и у павиана оно гораздо длиннее, чем у выдры, но самое длинное детство у нас. Наш ребенок еще не успеет стать на ноги, а его сверстник павиан уже будет прыгать го скалам и добывать себе пищу наравне со взрослыми. Хождение на задних конечностях сузило таз праженщин и лишило их присущей обезьянам способности рожать большеголовых детенышей. Черепу предстояло долго расти и крепнуть, мозгу развиваться, а их обладателю- дремать у матери на руках. Беспомощность полнейшая и, естественно, полнейшая зависимость потомства от взаимопомощи внутри стада, которая должна была стать гораздо крепче, чем взаимопомощь в стадах животных с более коротким детством. Так возник альтруизм. Возникла не просто храбрость, но храбрость жертвенная, считающаяся не с одной личной выгодой, но прежде всего с выгодой племени, привязанность не только к своей семье, но и ко всем детенышам племени, готовность, не раздумывая, бросаться на защиту беременных и кормящих самок. Возник круг инстинктов и безусловных рефлексов, необходимых для сохранения потомства. Упрочился групповой отбор, действовавший не менее властно, чем индивидуальный. Круг этих инстинктов расширился. Он мог распространиться и на почтительное отношение к старикам, от чьей мудрости и знаний судьба племени часто зависела больше, чем от силы неопытных юнцов, Он мог включить в себя отвращение к кровосмесительству и склонность к устойчивым влечениям – то, что поэты назовут потом любовью до гроба. Ведь это тоже способствовало выживанию племен, давая здоровые поколения. В этот круг мог, наконец, войти самый бескорыстный из всех инстинктов – инстинкт любознательности. Для особи, обладавшей им, но принадлежавшей к племени консервативному, его проявление могло стать равносильным самопожертвованию, но само племя оно вело ко благу. Но было ли все именно так? Включал ли естественный отбор этические эмоции в генетический фонд человечества? Не приходится ли все-таки каждый раз начинать все заново, полагаясь на одно воспитание?
Да, воспитание необходимо, полагают генетики-эволюционисты. Но не для формирования этики на пустом месте, а для пробуждения и укрепления этических эмоций, живущих подспудно. Без генетической основы социальная преемственность не была бы такой стойкой и "универсальной. Без нее не могли бы с такой быстротой распространяться среди миллионов людей учения, выступавшие под флагом справедливости. Не будь ее, и злу незачем было бы прикрываться этим флагом: ведь если зло не рядится в одежды добра, на успех ему рассчитывать нечего. Добро, как феникс, возникает из самого ледяного пепла, идет на бой со злом, глядя опасности в глаза, и побеждает. Побеждает потому, что овладевает не только умами, но и сердцами – прежде всего оно обращено к ним. Нет, «естественный отбор не создал и не мог создать самой этики,- резюмирует Эфроимсон.- Но он вызывал такие перестройки наследственности, на основе которых у человека складывалась… способность к созданию и восприятию этических оценок и, более того, потребность в них».
Перед нами, таким образом, еще одна теория эмоций. Она рассматривает только одну их группу, она во многом гипотетична и не лишена противоречий, но таковы все теории эмоций, а выдвинуто их немало. Зато ведущая ее -идея привлекательна. Разве не приятно нам верить в то, что добродетель заложена в нас от рождения, пусть даже в виде предрасположения к ней, разве хуже мы всех прочих созданий эволюции, меньших наших братьев, в чьи "инстинктивные добродетели уже заставили нас поверить натуралисты? Нисколько мы не хуже, и прав был Платон, провозгласивший устами Сократа инстинктивное знание доброго и справедливого «самого по себе». Конечно, Платон не мог знать столько об эволюции и наследственности, сколько знаем мы, а посему в интересах истины, которая нам, как известно, дороже Платона, мы обязаны отметить, в чем он согрешил против нее, а в чем нет. Согрешил он в том, что назвал предрасположение «эйдосом», то есть идеей, или представлением, иными словами, несколько хватил через край, и в том, что все сократовы рассуждения о врожденности «эйдосов» употребил на бесплодное дело – на доказательство бессмертия души. По, критикуя идеалиста Платона, мы не должны забывать, что писал он две с лишним тысячи лет назад, когда даже материалисты, не имея в руках экспериментальных данных, судили о вещах лишь в общих чертах. Не так уж давно наука выяснила, что настоящие атомы мало похожи на атомы Демокрита, да и знаменитое учение Гераклита о том, что все течет, страдает известной ограниченностью: Гераклит считал, что все течет и изменяется 10 800 лет, а потом все начинается сначала. Нелепо ожидать от древних, чтобы они ни в чем не заблуждались. Даже мы и то иногда впадаем в заблуждения.
Оставив в стороне бессмертие души, в котором нас Платон не убедил, и уточнив термины, мы получим первую из всех теорий генетической памяти, или памяти вида, теорию о врожденных задатках, предрасположениях, о том, что подразумевают под словом инстинкт (по латыни-побуждение). Раскрыв же другой диалог, «Теэтет», мы познакомимся со второй, еще более замечательной теорией памяти, на этот раз уже не видовой, а индивидуальной, не наследуемой из поколения в поколение, а врожденной в узком смысле слова, и с понятием более точным, чем «эйдос». Понятие это завладело умами сотен исследователей, породило тысячи экспериментов, послужило поводом для тьмы симпозиумов и, наконец, определило собой название нашей книги.
Сократ и Теэтет пытаются выяснить, каким образом возникают ошибочные представления. Истинны и не подвержены искажениям общие идеи: это воспоминания ду-. ши о том, что она знала всегда. Но, кроме общих идей, есть еще и множество конкретных представлений, складывающихся из образоЕ внешнего мира, ощущений, чувств и мнений. Судьба их переменчива, она зависит от памятливости и от умения соображать, от благоприятного сочетания врожденного и приобретенного, причем врожденным здесь уже является нечто почти физическое и материальное, во всяком случае не имеющее ничего общего с бессмертием и переселением души. Что же то такое?
«Так вот, чтобы понять меня,- говорит Сократ,- вообрази, что в наших душах есть восковая дощечка; у кого она побольше, у кого поменьше, у одного из более чистого воска, у другого из более грязного или из более жесткого, а у некоторых он помягче, но есть у кого и в меру». Теэтет вообразил. Сократ продолжает: «Скажем теперь, что это дар матери муз, Мнемосины, и, подкладывая его под наши ощущения и мысли, мы делаем в нем оттиск того, что хотим запомнить из виденного, слышанного или самими нами придуманного, как бы оставляя на нем отпечатки перстней. И то, что застывает в этом воске, мы помним и знаем, пока сохраняется изображение этого, когда же оно стирается или нет уже места для новых отпечатков, тогда мы забываем и больше уже не знаем».
Но как же возникает «ложное мнение»? Очевидно, из неудачного сопоставления отпечатков, когда известное можно принять за другое известное или же за неизвестное. «…Ложное мнение,- поясняет свою мысль Сократ,- бывает в том случае, когда, зная и тебя, и Феодора, имея на той… восковой дощечке как бы отпечатки ваших перстней, но недостаточно отчетливо видя вас обоих издали, я стараюсь придать каждому его знак в соответствии с моим зрительным ощущением и приспособить его к старому следу, чтобы, таким образом, получилось узнавание. И если мне это не удается, и как, обуваясь, путают башмаки, так же и я зрительное ощущение от каждого из них прикладываю к чужому знаку или, как в зеркале, путаю правое и левое и ошибаюсь, тогда-то и получается… ложное мнение».
О связи мозга с органами чувств древние знали хорошо, но о мозговых процессах даже не догадывались. Поэтому дощечка у Плафона воображаемая, это поэтический образ, но образ в высшей степени наглядный. Точность, гибкость, прочность, богатство памяти – все зависит от свойств дощечки. Даже истинность суждения определяется ими. «Если в чьей-нибудь душе воск глубок, обилен, податлив и достаточно размят, то проникающее сюда через ощущения отпечатывается в этом, как говорил Гомер, сердце души, а сердце (сеаг) у Гомера звучит почти так же, как воск (cers), и возникающие у таких людей знаки бывают чистыми, довольно глубокими и тем самым долговечными. Как раз эти люди лучше всего поддаются обучению и у них же наилучшая память, они не смешивают знаки ощущений и всегда имеют истинное мнение. Ведь отпечатки их четки, свободно расположены, и они быстро распределяют их соответственно существующему… и этих людей зовут мудрецами… Когда же это сердце… космато или когда оно грязно и не из чистого воска и либо слишком рыхло, либо твердо, то у кого оно рыхлое, хоть и понятливы, но оказываются забывчивыми, те же, у кого твердое,- наоборот; у кого же воск негладкий, шершаво-каменистый, смешанный с землей и навозом, у тех получаются неясные отпечатки. Неясны они и у тех, у кого жесткие восковые дощечки, ибо в них нет глубины, и у тех, у кого они чересчур мягки, ибо отпечатки, растекаясь, становятся неразборчивыми. Если же ко всему тому у кого-нибудь еще и маленькая душонка, то, тесно наползая друг на друга, они становятся еще того неразборчивее. Все эти люди бывают склонны к ложному мнению. Ибо когда они что-то видят, слышат или обдумывают, они медлительны, не в силах к каждому быстро отнести ему соответствующее и, распределяя неправильно, по большей части и видят, и слышат, и мыслят превратно. Про таких говорят, что они заблуждаются относительно существующего, и называют их неучами».
В свете достижений современной педагогики нам ясно, что Платон сильно переоценил природную памятливость. Изъяны наших дощечек не столь велики и безнадежны, и чаще всего шершаво-каменистый или чересчур мягким воск не оказывает такого губительного влияния на интеллект. Шершавость, мягкость и даже косматость воска и значительной степени уравновешиваются другими свойствами психики, которые, выражаясь в стиле Сократа, мы получаем в дар от Афины, от Феба, от Гермеса, а то и от самого Зевса и которые благополучно изощряются в процессе обучения и воспитания. Однако в основе своей рассуждения Сократа превосходны. Нам уже известно, что ни одна дощечка не похожа на другую, у каждого своя, и мы можем сказать, что типы памяти и ее свойства Платоном угаданы правильно. Но поразительнее всего сам «эйдос» дощечки, сама теория отпечатков, или следов. Правда, во многих языках есть слово «впечатление», чей корень весьма красноречив и может любого навести на
о
бразы дощечки и отпечатков или следов на ней. Но мало ли что лежит на поверхности, да никто не берет! Тем выше заслуга Платона, что он додумался до следов без этимологических ассоциаций. Теория его благополучно дожила до наших дней. Стоило биологам разобраться в мозговых структурах, как начались бесконечные дискуссии о следах. Как они впечатываются, где хранятся, каким образом воспроизводятся? И что они представляют собой – и они, и воск, и дощечки? Именно дощечки? Вот о них-то нам и следует продолжить разговор.
НА ВЕРЕСКОВОЙ ПУСТОШИ
Разговор этот, в сущности, мы затеяли с самого начала, как только приступили к знакомству с теми, у кого дощечки побольше. У нас с вами они, очевидно, поменьше или в меру: мы чаще жалуемся на плохую память, чем- на невозможность забыть. Но, кроме тех, у кого они побольше и поменьше, есть еще и миллиарды существ, у которых они совсем крошечные или же такие ничтожные, что их обладателям во всем приходится полагаться только на свои «врожденные идеи», то есть на инстинкт. Вот уж кто настоящие неучи! К счастью для них, это их нисколько не беспокоит. Инстинкт их подводит редко, а если вдруг и подведет, они этого не поймут. Выпущенный на волю неучем, павиан нервничал: он силился понять, что же ему следует делать. Выдра же была безмятежна. Она чувствовала, что ломать голову нет смысла – небольшая заминка, и все пойдет как по маслу. Ее дощечка была поменьше, погрязнее и пожестче, чем у павиана.
Хорошая дощечка и хорошо развитый мозг это не совсем одно и то же. Скорее это хорошие мозги. Далеко не всегда удается найти изъян в мозгу у патологического идиота. Это и не просто хорошая память: половина идиотов обладает феноменальной механической памятью. В одном из московских издательств часто появляется старик Л. Кормится он всю жизнь тем, что вылавливает из исторических романов неточности и ошибки. Он помнит, сколько орденов было у Нессельроде, в какой церкви венчалась великая княгиня такая-то, что было надето на Иване IV, когда он уехал в Александрову слободу, и кем приходился Рюрику Шемяка. Если Л. прочитал рукопись, можно головой ручаться за то, что ошибок в ней не осталось. Но хороша ли она, интересна ли, нужна ли кому-нибудь, судить он не в состоянии. Он вообще мало о чем в состоянии судить. Нет, мы должны подразумевать под хорошей дощечкой такую память, которая, обогащаясь сама, обогащает и ум, делая его подвижнее, основательнее, целеустремленнее. Отпечатки могут быть и четки, и «свободно расположены», по ведь надо еще уметь пользоваться ими – распределять их соответственно существующему, как говорил Сократ. А это зависит не только от чистоты, глубины, обилия и податливости воска. Короче говоря, хорошая дощечка это способность учиться в самом широком значении этого слова. Разумеется, эта способность немыслима без хорошей памяти и без развитого мозга. Чем лучше развит мозг, тем потенциально восприимчивее и богаче память его обладателя, тем большему он научится при прочих равных условиях.
Рассмотрим хотя бы бегло спектр дощечек, которыми природа наградила живые существа. Вот перед нами обладательница самой ничтожной дощечки – гусеница Prthesia chrysrrhea. Никто не учил ее искусству вить кокон, она в глаза не видела ни родителей своих, ни сверстниц. Кокон она вьет, повинуясь одному инстинкту-генетически заложенной в ней программе. Программ у псе несколько, и все они совершенно механические. Весной гусеница покидает гнездо и ползет к кустам, где появились первые листочки. Она вовсе не испытывает мук голода: если вы подогреете ее гнездо зимой, она тоже выползет наружу. Из гнезда ее выгоняет не голод, а тепло, и гонит оно ее не к листочкам, а к свету. Но пища ее находится там, где светлее всего. Добравшись до верхушки куста, она съедает положенную ей порцию, программа насыщения выключается, и теперь она может ползти куда угодно. Биологи взяли однажды из гнезд несколько еще не насытившихся гусениц и положили их в стеклянную трубку. Один конец трубки был освещен, а другой нет. И хотя у темного конца гусениц ожидали заветные листочки, они, подобно персонажу известного анекдота, сгрудились там, где было светлее. Они предпочли бы умереть с голоду, только бы не ползти от света.
Так же бестолковы дождевые черви, пауки, мухи, комары, бабочки и мелкие обитатели океанов и морей. Все они наделены механизмами для реакций на сигналы внешней среды. Какой-нибудь асцидии о приближении врага сообщает фотоэлемент: когда на нее падает тень, она сжимается в комочек. Морскому ежу сигнализирует хеморецептор: почуяв в воде вкус врага, он выставляет свои иглы. Но это не проявление разума. Ощетиниваться будет и отрезанный от ежа кусочек с одной иглой. В свое время немало было высказано восторгов по поводу тонкости обоняния у самцов шелкопряда, которые чуют самку за десять верст и мчатся к ней сломя голову. Обнаружилось, что привлекающий самца запах испускают две железки, расположенные на брюшке самки. Жестокие экспериментаторы вырезали у одной самки эти железки, положили рядом с нею и стали ждать, что будет делать самец. Самец кинулся к железкам, не обратив на самку никакого внимания. Потом у него у самого отрезали усики-антенны, которыми он воспринимает запах, и он стал безучастен ко всему на свете. Нечем воспринимать сигналы! А без сигнала сама собой ни одна программа работать не начнет. Но между автоматической реакцией и программой есть разница. Реакция это всего-навсего ответ на физическое раздражение рецепторов, передающееся по нервам к мышцам. Подобные рефлексы свойственны и нам: случайно прикоснувшись к раскаленному утюгу, мы мгновенно отдергиваем руку. Однако если мы заметим утюг вовремя, рука наша и не пошевельнется. Асцидия же будет сжиматься от тени всегда. Раздражители такого рода безлики, и реакция на них не похожа на узнавание: рецептор не может не узнать своего раздражителя. Если асцидия сожмется без видимой причины, это будет означать не то, что она обозналась, а то, что в ее нервных клетках произошел самопроизвольный разряд. Иное дело программа. Это уже не единичная реакция, которая может состояться в любое время или не состояться совсем, если в окружающей среде не произойдет перемен. Это целая цепочка взаимосвязанных действий, целое поведение. Сигнал, запускающий программу, приходит «изнутри», в определенное время, когда завершается подготовка гормональной системы и природа говорит организму: «Пора!» Приказ этот неумолим, не выполнить его нельзя. Выполняется же он в такой строгой последовательности, что, если записать весь ритуал на языке математики, самый искушенный программист примет эту запись за настоящую машинную программу.
Программы поведения роющих ос описаны в десятках книг. Поэтому мы остановимся на них очень коротко. Обойти их молчанием нельзя: осы такой же классический объект для этологов, как дрозофила для генетиков. Дощечки ос – неисчерпаемый кладезь открытий, которым пот уже сто лет не видно конца. Одной из первых в поле зрения натуралистов очутилась оса Sphex. Когда сфексу приходит время откладывать яйца, он роет норку и отправляется на поиски сверчка. Ему нужен только сверчок – ни кузнечик, ни гусеница, ни пчела не годятся. На них охотятся осы другой породы. Сверчок найден, и сфекс наносит ему три своих знаменитых удара – прокалывает жалом три его нервных узла. Сверчок остается жив, он парализован осиным ядом и превращен в живые консервы для будущей личинки сфекса. Сфекс подтаскивает сверчка к норке, оставляет его у входа и скрывается под землей, возможно, для того, чтобы проверить, не заполз ли туда кто-нибудь во время его отсутствия. Через минуту сфекс показывается наружу, хватает сверчка за усики, стаскивает его в норку и откладывает на его брюшко яйцо. Потом сфекс летит за другим сверчком, и вся операция повторяется. Два яйца отложены на двух сверчках. Когда личинки съедят свои консервы, мать их будет давно мертва и, в свою очередь, съедена жучками и муравьями. Личинки превратятся в ос, выберутся из своих норок, которые мать заботливо замуровала песком и мелкими камешками, и полетят за своими сверчками.
Энтомолог Жан-Анри Фабр нарушал эту церемонию на разных ее этапах и смотрел, что из этого выйдет. Выходило одно и то же: сфекс не умеет приспосабливаться к новым обстоятельствам, это не разумное существо, а запрограммированная машина. Фабр обрезал у сверчка усики, и сфекс, вместо того чтобы схватить его за лапку или за брюшко, полетел за новым сверчком. Когда сфекс исчез под землей, оставив сверчка у входа, Фабр отодвинул его в сторонку. Сфекс поискал его, нашел, подтащил к норке и снова нырнул в нее один. Фабр проделал этот опыт сорок раз, и сорок раз сфекс нырял в норку, так и не догадавшись прихватить сверчка с собой. Да и о чем тут догадываться и как можно браться за очередное действие, если предыдущее выполнено небезупречно: пока сверчок подтаскивается, норку могут занять! Не успел сфекс замуровать норку, как Фабр размуровал ее и извлек оттуда сверчка вместе с яйцом. Сфекс еще разгуливал поблизости. Заметив непорядок, он скрылся в норке, потом выполз из нее, замуровал норку и улетел. Неважно, что замуровывать некого, важно замуровать, удостовериться, что сооружение не рухнуло, а если рухнет, починить, и тогда можно улетать. Ни тени разума! Только слепое выполнение запущенной инстинктом программы, которая настолько совпадает с машинной, что даже принцип выполнения у них одинаков: сигналом для запуска каждой последующей подпрограммы служит окончание предыдущей.
Сравнение с программой принадлежит американскому кибернетику Вулдриджу, автору книги «Механизмы мозга», вышедшей в 1963 г. Между тем тот же Фабр упоминает вскользь, что ему попадались осы «с хорошей головой», которые распознавали его хитрости. Фабр описывает также, что происходит, когда сфексу случается промахнуться. Начинается яростная схватка, из которой не всякий сфекс выходит победителем. На этот счет природа не снабжает ос подробными инструкциями, каждая должна действовать в зависимости от обстоятельств. Голландскому этологу Нико Тинбергену удалось найти этому подтверждение в наблюдениях за другими осами, Philantus triangulum Fabr., которых в Голландии зовут «пчелиными волками». Волею случая, пишет Тинберген, «они превратились в моих близких знакомых, чья жизнь и дела стали для меня… предметом самого жгучего личного интереса». Как вы поняли, филантус запрограммирован природой на пчел. Каким же образом он распознает свою жертву среди тысяч насекомых, пирующих на вересковой пустоши в жаркий летний день? Программа охоты оказалась негибкой. Сначала филантус замечал движущийся предмет размером с пчелу, повисал над ним и прннюхивался. Если запах осу не обманывал, предмет попадал в ее объятия, и вслед за обонянием включалось осязание и «уточняющее зрение». Последовательность операций филантус соблюдал так же строго, как и сфекс: обоняние включалось только после окончания работы «общего зрения»; пока филантус не замечал пчелу, почуять ее он не мог, даже если она находилась подле него. Но все преображалось, если пчела решала дорого продать свою жизнь. Движения филантуса, пытающегося повернуть пчелу в удобное для ужаливания положение, были такими же бессистемными, как и у человека, не знакомого с приемами борьбы. В этой вольности крылась своя целесообразность: в ситуации, где действия среды не предугадаешь, машннообразная жесткость была бы для филаитуса гибельной. Филантус, вышедший из схватки победителем, переставал быть неучем. Это был стреляный воробей, с дощечкой, заполненной отчетливыми отпечатками.
Но только ли во время трудной охоты становится гибким поведение осы? Попадались же Фабру сфексы с хорошей головой. Попадались ему и толковые жуки-могильщики. Фабр подвешивал к верхушке прутика мертвого крота, и жуки догадывались перегрызть шнурок, на котором висел крот. Когда же Фабр заменил шнурок проволокой, жуки после тщетных попыток перегрызть ее начинали подкапываться под крота, трясти его, делать все возможное, чтобы перетащить его на удобное, по их мнению, для трапезы место. Фабр, который не придал особого значения сообразительности некоторых ос, истолковал неудачу жуков как результат негибкости инстинкта: крота ведь можно было и никуда не перетаскивать. Однако нельзя же подходить к жукам с человеческой меркой, да и люди часто не в состоянии отказаться от своих привычек и подладиться к обстоятельствам. Нет, жуки сделали все, что было в их силах. Точно так же ведут себя и пчелы, если попадают в неожиданные условия. В своей известной книге «От пчелы до гориллы» Реми Шовен рассказывает, как он и его сотрудники поставили соты не вертикально, а горизонтально, чего пчелы никогда не видывали. Пчелы же продолжали невозмутимо укладывать мед в опрокинутые ячейки. Экспериментаторы не верили глазам своим: жидкий нектар не выливался из ячеек, пчелы «знали» законы поверхностного натяжения жидкостей! Люди разрушали соты – пчелы переделывали их заново, люди совали пчелам вместо сот кусочки дерева-пчелы научились откладывать мед в ямки на этих кусочках. Одну семью пчел, летавшую за нектаром в определенном направлении, сбили с толку, заставив лететь в неурочное время, когда их врожденный ориентир солнце находилось не там, где обычно. Пчелы, хотя и не сразу, сообразили, в чем дело, и переучились. Нет, не может быть, чтобы и осу нельзя было чему-нибудь научить. Что она станет делать, если и ее сбить с толку? Но надо прежде узнать, как она находит дорогу, возвращаясь с добычей к норке, запоминает ли она что-нибудь в нашем, человеческом понимании этого слова.
Тинберген заметил, как филантус, перед тем как отправиться к пустоши, описал над норкой несколько кругов. Может быть, он старался запомнить местность? Филантус улетел, а Тинберген передвинул все камешки и шишки, валявшиеся вокруг норки. Прошло около часа, и филантус появился с добычей. Подлетев почти к самой норке, он замер, а потом заметался в растерянности. Он описывал и описывал круги, но найти норку так и не мог. Тогда он бросил пчелу и вновь принялся за поиски. Вскоре он наткнулся на норку, слетал за пчелой, вернулся и скрылся с ней под землей. Настоящее разумное поведение! Из дальнейших опытов стало ясно, что филантусы действительно запоминают ориентиры вокруг своих норок, причем всем ориентирам предпочитают шишки. Следуя по пятам за филантусами, Тинберген установил, что вся дорога от норок до пустоши усеяна для них ориентирами. Пока филантусы охотились, Тинберген со своими товарищами успевал пересадить с места на место молодые сосенки, росшие по дороге, и филантусам приходилось напрягать весь свой крошечный разум и крошечную память, чтобы сообразить, где находится норка. К их чести, все их поиски завершались успешно. Друзья Тинбер-гена, продолжившие его наблюдения, обнаружили и вовсе неслыханное явление. Наблюдая за поведением ос Атmphila campestris Fur., охотившихся на гусениц, они открыли, что эти осы выкапывают не одну норку, а несколько, причем не все в один день, а постепенно. В одной норке уже живет личинка, в другой еще никого нет, но свежую добычу приходится тащить не в пустую норку, а в первую: прожорливая личинка уже съела гусеницу. Рассказывая об аммофиле, Тинберген не сравнивает ее ни с кем, а просто восхищается этой крошкой, которая хранит в памяти сочетания ориентиров, указывающих на местоположение двух, а то и трех норок, вырытых среди сотен других, и точно знает, каких именно забот требует каждая норка в данный момент. Окажись на месте Тинбергена специалист по проектированию систем «человек и машина», сравнение бы пришло к нему само собой. Да поведение этой крошки как две капли воды похоже на работу того же диспетчера аэропорта, которому надо постоянно держать в памяти местоположение нескольких объектов и тоже знать, каких забот требует от него каждый объект,-в данный момент. Правда, норки, в отличие от самолетов, неподвижны, зато подвижны ориентиры: ведь не только натуралист может передвинуть все шишки, но и ветер, и стадо коров. Оса, как и диспетчер, должна быть готова ко всяким неожиданностям, которые не предусмотришь пи одной инструкцией. И программа ее поведения должна быть устроена так, чтобы в ответственный момент можно было переключиться на гибкий, свободный режим, чтобы вся система могла стать самоорганизующейся, умеющей переучитываться и запоминать все, что нужно.
ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ПРОГРАММЫ
оведение играет ведущую роль в любом эволюционном процессе. Представим себе маленьких грызунов, миллионы лет живших на сочном лугу. Внезапно начал меняться климат. Век за веком засуха жгла траву, превращая луг в бесплодную пустыню. Грызуны должны были приспособиться к новым условиям жизни или погибнуть. Приспособиться значит научиться запасать впрок то, что успевало вырасти на лугу. Те, кто жил сегодняшним днем, были обречены, а те, кто стал делать запасы, выращивали потомство. Так возникла новая схема поведения, а с нею и необходимость в кладовых. Переход к подземному образу жизни сопровождался тем же естественным отбором, благоприятствовавшим зверькам, у которых волею случая лапки были лучше приспособлены к рытью, а меховой покров к жизни под землей. И вот мало-помалу обитатели луга с нежными лапками и мягким мехом превратились is грубошерстных зверюшек с сильными лапками и коготками. Грызун и его нора стали одним целым. Новый образ жизни вызвал глубокие перемены в организме грызуна. Постороннему нечего делать в норе! Проще всего, конечно, встретиться с ним нос к носу и самолично прогнать его. Но тут хозяин норки рискует попасться в когти ястребу. Нет, гораздо лучше, если посторонний даже не приблизится к норке, узнав по запаху, что попал на чужую территорию. И вот отбор проводит очередную дифференциацию внутри вида: выживает потомство тех, чей помет обладает едким запахом или чьи железы выделяют остро пахнущие вещества. Устанавливается и новая схема поведения, указывающая грызуну, каким способом проводить границы вокруг своей территории.
Так вырабатывается и закрепляется в потомстве всякая программа поведения. Мы можем представить себе, под влиянием каких обстоятельств сложились программы у всех существ и почему в одних случаях программа остается жесткой, а в других смягчается и дает возможность ее обладателю почувствовать себя свободнее и -пошевелить мозгами. Заметим в скобках, что слово «свободнее» мы употребляем в переносном смысле: свобода – благо лишь для тех, кто желает ее. С той свободой, о которой идет. речь, сопряжены одни хлопоты. Если бы оса умела говорить, она бы сказала, что ее вовсе не устраивают ни своенравные сверчки, ни движущиеся ориентиры. Она могла бы процитировать известный афоризм Клода Бернара: «Условием свободного существования является постоянство внутренней среды». Если это постоянство нарушается, если, например, становится слишком жарко или t слишком холодно, организм пытается восстановить равновесие и пускается на всевозможные выдумки. Когда улей перегревается, пчелы вентилируют его своими крылышками и окропляют прохладной водой, а когда наступают холода, собираются в большой клубок, внутри которого поддерживается постоянная температура. Этот способ предусмотрен одной из программ их поведения. Но как откладывать нектар в перевернутые ячейки, конечно, ни одна программа не знает. Невозмутимость пчел в этом случае была скорее всего кажущейся; это слово не более, чем наша неизменная дань антропоморфизму. Когда пчела оказывает сопротивление осе, невозмутимой ни ту, ни другую не назовешь. Автоматизм растворяется в активных поисках утраченного равновесия, сопровождающихся, и быть может, выражением самых недвусмысленных эмоций.
Равновесие, которое больше всего устраивает эти создания, есть тот же автоматизм. Подлинная свобода заключена для них в минимуме отклонений от привычного образа жизни. Неожиданные приключения не их стихия. Соединив определенным образом их нервы и мышцы, надев на многих из них панцири и латы, природа закрыла для них путь к совершенствованию мозга и к проявлению индивидуальности. Часть из них, те же пчелы или муравьи, вообще не могут существовать вне гигантских коллективов, а внутри них – преступать пределы своих обязанностей. Муравей не может ни предаться гордому одиночеству, ни отправиться воевать, если ему на роду написано быть фуражиром: воевать будут те, кто родился солдатом. В этом благо муравья и всего муравейника. У большинства насекомых дети не встречаются с родителями. Учиться не у кого и некогда: жизнь коротка, опасностей тьма, а надо и есть, и позаботиться о потомстве. Тут не до приключений, не до свобод и не до развития памяти и разума. Единственное спасение в подробных инструкциях-программах. Все программы передаются по наследству и все выполняются неукоснительно. Иное дело – формы поведения, или подпрограммы. Когда сфекс бросается на сверчка, он действует точно по программе. Но вот он промахнулся, и пошла рукопашная. Программа предоставляет ему право действовать как угодно и даже удрать, но – не переменить объект охоты. У филантуса тоже нет выбора: только медоносные пчелы. Но драться с ними можно как заблагорассудится и запоминать дорогу можно любым способом. У всех у них поведение строится на одном и том же принципе: более жесткие основные программы и менее жесткие подпрограммы, позволяющие приспосабливаться к непостоянной среде – кое-чему учиться и кое-что запоминать.
Птица ткач, лишенная на протяжении четырех поколений привычных условий и строительных материалов, все равно сумеет построить свое затейливое гнездо. Это жесткая программа, не нуждающаяся ни в каком дополнительном опыте. Два вида маленьких морских рыбешек mucus живут в одних и тех же местах. Их внешне ничем не отличишь друг от друга, и однако два вида никогда не смешиваются между собой. Чтобы понять, почему это происходит, американский зоолог Д. Тодд поместил в одно отделение аквариума самца, а в другое впустил сначала самку того же вида, а потом соседнего. В обоих случаях реакция самца была одинакова: завидев самку, он начинал «щеголять» перед нею – выписывал в воде кренделя. Жесткая программа включалась автоматически, хотя в одном случае включаться ей вовсе и не следовало. Тодд предположил, что самец окончательно узнает свою самку не по виду, а по запаху. Так оно и оказалось: когда самца впускали в воду, где только что побывала его самка, он опять начинал щеголять. Этот завершающий штрих в узнавании программа оставляет опыту, не генетической, а индивидуальной памяти. Память же эта у многих животных, хотя и отличается строгой избирательностью, но прочна необыкновенно. Один из сомов в питомнике Тодда перескочил через край своего бассейна и очутился в садке с маленькими рыбками. Спасаясь от преследования, рыбки выпрыгивали из садка и, оказываясь без воды, погибали. Сом был пойман и водворен на место, когда в садке остались всего две рыбки. Каждая выделила себе территорию в разных концах аквариума, но стоило в садок влить воду из бассейна, где жил сом, как они уже метались по садку вместе. Воду меняли, и рыбки уплывали каждая к себе. Химическое вещество, выделяемое сомом, они не могли забыть и через полгода.
Способность дополнять врожденную структуру поведения сведениями, получаемыми из опыта, тоже инстинктивна, тоже предусмотрена генетически. Это и есть дощечка в платоновом и в нашем понимании. Существо рождается с такой способностью и упражняет ее в течение жизни. Эту способность Ардри называет открытым инстинктом, или открытой программой. Начиная с роющих ос и двигаясь к высшим группам животных, мы видим, как закрытые инстинкты уступают место открытым, а открытые пополняются опытом, приобретаемым в процессе обучения. В структуре нашего собственного поведения обучению отведена максимальная роль, а закрытому инстинкту минимальная. Среда испытывала нас жестокими и разнообразными способами. Были такие эпохи, когда целые века проходили без перемен, и время, казалось, стояло на месте. В такие эпохи испытывалась консервативность живых существ: если вы сегодня поступали так же, как вчера, вы выживали скорее, чем ваш менее постоянный собрат. А потом наступали другие эпохи: менялся климат, ледники и морозы переделывали лик континентов, дожди превращали пустыни в леса, а засуха снова превращала их в пески. Через эту панораму коварных времен шли маленькие группки боровшихся за свою жизнь существ, которым суждено было стать людьми. Большинство из них были консервативны; они погибали на берегах высохших и вдруг забурливших рек, они замерзали, когда внезапно налетали снежные бури. Они не были нашими предками. Нашими предками были существа, умевшие распознавать признаки надвигавшихся перемен, включать новую информацию в программы своих инстинктов и обогащать опытом свою структуру поведения, существа разумные и гибкие, понимавшие, что сегодняшний день может быть непохож на вчерашний, а завтрашний на сегодняшний. Они умели предвидеть и развивать эту способность в потомках.
Сама по себе эта способность не человеческая привилегия. Программами наделены все существа, все зависит от степени их «открытости». До недавних пор некоторые этологи не желали замечать, как запоминают осы и пчелы, и чересчур догматически толковали опыт с выдрой и павианом. Они считали, что элементы поведения одних животных либо врождены, либо благоприобретены, третьего же не дано. Конрад Лоренц, Нико Тинберген и их последователи доказали, что альтернативы здесь быть не может. Даже когда поведение содержит в себе элементы, приобретенные опытом, оно все равно следует программе, которая заложена при рождении. Структура программы направляет ход обучения, программа записывается в той форме, которая выработана генетическим фондом вида. Моно говорит иронически, что, если мы не желаем признавать свои собственные инстинкты, нам «из уважения к самому себе не остается ничего другого, как запретить обследование некоторых конструктивных сторон своего образа жизни». К счастью, биологические теории, построенные на эмоциональных запретах и альтернативах, больше не принимаются всерьез, а те, кому не хватает поводов к самоуважению, предпочитают не мешать разумным речам. Речь – вот уж действительно наша привилегия и лучшее основание для самоуважения: речи-то мы главным образом и обязаны той степенью «открытости» и предвидения, которая недоступна никакому животному.
Проблема предвидения начинается с парадокса. Чем жестче программа и детерминированнее поведение, тем ярче видны в нем элементы предвидения. Глупости и оплошности совершают только те, кто наделен развитым мозгом и индивидуальностью. Нет ведь ни беспечных ос, ни ленивых муравьев, попрыгунья-стрекоза поет все лето только в басне. И однако трудолюбивый муравей или запасливая белка – это только антропоморфические символы. За целесообразность поступков естественному отбору заплачено миллионами промежуточных форм и отказом от умения как следует пораскинуть мозгами. Завтрашнего дня, которым учатся жить обладатели мозгов, для закры тых инстинктов не существует. Мы создаем себе представление о завтрашнем дне, сознательно или бессознательно анализируя все, что знаем о вчерашнем. Они же не выходят за пределы сегодняшнего дня, и все их хлопоты о будущем, хотя они и составляют смысл их существования, это повиновение программе, о которой им ничего неизвестно. Они не предвидят, потому что видят не дальше собственного носа, предвидят не они, а за них. Чем больше целесообразности, тем меньше воли и воображения.
Еще раз подчеркнем: здесь нет альтернативы. Меньше – это меньше, и все. Оса, которая кружит над норкой, запоминая расположение шишек, в известной мере предвидит, что ей придется искать норку. Вы можете сказать, что нет ос, которые не успели научиться этому кружению: запоминать велит им инстинкт. Да, но инстинкт велит им запоминать ориентиры, а не шишки. Если вы уберете шишки, оса запомнит камешки. В любом случае она постарается создать образ ситуации, включающий в себя и ориентиры, и намечаемый маршрут, и цель путешествия. Это предвидение, пусть в такой же зачаточной форме, в какой пребывает ее мозг, но предвидение. Если инстинкт чуть-чуть приоткрыт, в него уже входит информация извне, входит затем, чтобы сложиться в модель ситуации и предвидимого будущего и помочь ее обладателю хоть немного, а распорядиться будущим самому. Нет ос, которые не пытались бы запомнить дорогу, но все ли они запоминают ее одинаково? Тем не менее сомнительно, чтобы оса была способна долго обдумывать ситуацию и воспроизводить в уме все последствия своих возможных реакций – вспоминать то, чего еще не было. На это неспособен даже наш ближайший родственник шимпанзе. Обдумывать это значит контролировать свои ощущения и становиться независимым от среды. Мозг шимпанзе порабощен чувствами. Чувства владеют и нами, но нам удается их сдерживать. Мы помним о том, что может случиться, если дать им волю. Это уже настоящее, неметафорическое предвидение.
Предвосхищение и угадывание свойственны всем. Щенок, который радуется при виде хозяина, собирающегося на прогулку, живо воображает, то есть представляет себе «с опережением» приключения, которые его ожидают. Потом он переживет их заново в своих сновидениях. Шимпанзе без всяких «проб и ошибок» догадывается о том, что банан, подвешенный к потолку, можно достать вон той палкой, если влезть на ящик да еще поставить на него вот этот ящик поменьше. В чем же тогда отличне нашего предвидения от предвидения, свойственного собаке и обезьяне? Психологи говорят: для животного нет мира, а есть только окружение. Если расположить банан и палку так, чтобы они не попали одновременно в поле зрения обезьяны, искать палку она не станет: она не имеет о ней представления. Если на ящике будет сидеть одна обезьяна, другая не воспользуется им как подставкой. Для нее этот ящик не подставка, а сиденье. Нам известно, что есть палки вообще и ящики вообще, а обезьяне неизвестно. Собаке тоже. Закат солнца, говорил один психолог, напоминает ей не о гибели богов и героев, а о том, что пора ужинать. Она знает только ассоциации по смежности, но не по сходству. Двойная честь, о которой писал поэт, ей неведома. Воображение может нарисовать перед ней яркую картину предстоящей прогулки или ужина, но оно не нарисует ей картину прогулки, которая состоится через неделю, или прогулки, в которой будет участвовать не она сама. Неведомо ей и то, что хорошую прогулку можно предпочесть званому ужину.
Наше воображение опирается на речь, которая помогает нам давать оценку предстоящим действиям и строить такие модели мира, которые не снились ни одному животному. Самое разумное животное не в состоянии оценить до конца предстоящее и в случае необходимости отказаться от своего намерения. Оно не может отвлечься от собственного опыта и поразмыслить над опытом других. Вспоминая о чем-нибудь или представляя себе, что его ожидает, оно никогда не догадается о том, что предается воспоминаниям или пытается предвосхитить будущее. Эта двойственность, умение думать и одновременно знать, что думаешь, свойственна только человеку. В ней-то и заключено могущество нашего разума, способного освобождаться от оков настоящего момента и уносить нас в любую точку времени, которую мы только можем представить себе.
Тысячи уз связывают нас с животными. Подобно им, мы упражняем и совершенствуем свои навыки, постепенно переводя их в автоматизм. Мы не думаем о тьме вещей, о которых думали вначале: как надо умываться, застегивать пуговицы, держать ложку, спускаться по лестнице, садиться на велосипед. Наша бессознательная двигательная память запомнила это навсегда, освободив нашу голову для восприятия новых вещей и размышления над ними. В известной притче сороконожку спросили, как это она ухитряется ходить всеми своими сорока ногами, и она разучилась ходить. Сороконожка заметила, что у нее есть ноги! Когда нам задают подобный вопрос, мы можем только замедлить шаг, а потом охотно расскажем, как нам удается делать то-то и то-то и кто нас этому научил. Плохо ли, хорошо ли, но мы всегда умеем найти объяснение своим поступкам и намерениям. Здесь узы, связывающие нас с животными, становятся все тоньше и тоньше.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПОСЛАНИЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ
середине прошлого века психология начала выделяться из философии в самостоятельную дисциплину. Этот процесс, естественно, сопровождался попытками дать определение психическим функциям. Одна из таких попыток, вытекавшая еще из самонаблюдения, привела к определению памяти как свойства, основанного на трех процессах- на запоминании, сохранении и воспроизведении следов прошлого опыта. Легко, заметить в этом определении и тавтологию, и недосказанность. Что понимать под воспроизведением? Что представляют собой следы? Определение нуждалось в расшифровке. Психологи, конечно, отдавали себе во всем этом отчет, но ничего лучшего предложить еще не могли. Тем не менее схема оказалась удачной: она акцентировала внимание на тех сторонах проблемы, которые следовало изучать, и это изучение принесло немало интересных сведений.
Приняв за отправную точку три отмеченных психологами процесса, физиологи начали приглядываться ко всему окружающему их миру. Вот амеба, живая клетка. Разве не ведет она себя возле пищи так же уверенно,-как и мы? Амеба знает, что ей делать, а, значит, кое-что помнит, Кроме того, амеба может при определенных обстоятельствах изменить своим привычкам и приобрести новые. Но ведь то же можно сказать и о растениях. Подсолнух тянется за солнцем. Вьюнок распускается на вечерней заре. Мухоловка хватает свою жертву и пожирает ее. У растений есть свое поведение, свои привычки, r которых их тоже можно отучить и приучить их к новым. Мимозу, например, которая закрывается в сумерки и открывается на рассвете, можно при помощи искусственного освещения перевести с двенадцатичасового ритма на шестичасовой. Разве не видно во всем этом запоминания, сохранения и воспроизведения? Но что там амебы или растения, существа самостоятельные и, как любили выражаться немецкие профессора философии, «законченные в самих себе»! Возьмите мышечную ткань. Сила всякого мускула увеличивается по мере его деятельности. Сначала мышца отвечает на раздражения, передаваемые нервами, слабо, потом все сильнее и сильнее. Мышца растет и крепнет. Повторить какое-нибудь движение ей легче, чем сделать его в первый раз: упражнение облегчает воспроизведение. Мышечные клетки учатся, они приобретают новые свойства, сохраняют их и воспроизводят.
Пример с мышечной тканью привел в своем знаменитом докладе австрийский физиолог Эвальд Геринг. Доклад был прочитан 30 мая 1870 г. на сессии Венской академии наук и назывался весьма многозначительно «Память как всеобщая функция организованной материи». Под памятью Геринг подразумевал сохранение любых изменений, полученных от внешних воздействий, после того как эти воздействия уже прекратились. Теми же словами определяет сегодня память нейрофизиолог Е. Н. Соколов в своей книге «Механизмы памяти». Но Соколов пришел к этому определению только в результате опытов над нервными клетками, и только об одних этих клетках он и говорит. Геринг же имел в виду все живое и, более того, рассматривал память не только как свойство психики или организма, но и как объяснительный принцип для самого широкого круга явлений, от выработки навыков до преемственности нравов.
Однако Геринг неспроста называл память функцией не органической, а организованной материи. Эту тонкость быстро уловили его современники. Все на свете, если вдуматься, организовано. Перейти от мира существ к миру веществ оказалось так же просто, как от животных клеток к растительным. Если рассматривать память как последействие всякой стимуляции, то восковыми дощечками, пусть даже в узком значении этого символа, может обладать любой неодушевленный предмет. В своей «Психологии», вышедшей через двадцать лет после доклада Геринга, Уильям Джемс не без иронии говорит о сюртуке, который после употребления запечатлевает в своих формах форму своего владельца, о памяти фотографических пластинок и железа, приобретающего благодаря намагничиванию новые свойства. И вместе с тем в рассуждениях Джемса ощущается некоторая двойственность. Анализируя привычки, одно из самых ярких проявлений памяти, Джемс приходит к заключению, что основа их даже не физиологическая, а физическая, иначе говоря атомно-молекулярная, подобная той, которая обусловливает намагниченность. А что такое законы природы, спрашивает он, как не те же неизменные привычки, которым, воздействуя друг на друга, следуют основные виды материи? Ирония Джемса растворяется в его осторожности: как знать, может быть, некоторые свойства небиологических объектов называть памятью не так уж предосудительно?
Их и называют, называют вот уже четверть века и без всяких кавычек. Память служит обыкновенной технической характеристикой вычислительных машин и основывается на том же самом намагничивании. Впрочем, намагничивание пройденный этап в вычислительной технике: говорят, следующее поколение ЭВМ будет обладать фотохромной памятью. На квадратный сантиметр фото-хромного материала, сделанного из стекла с включенными в него частичками галогенидов серебра, можно лучом лазера нанести в тысячу раз больше информации, чем на магнитную ленту.
Не успели мы привыкнуть к памяти машин, как инженеры уже преподносят нам память просто материалов. Лет семь назад американские инженеры экспериментировали с созданным ими сплавом нитинолом, состоящим из равных атомных количеств никеля и титана. Из нитиноловой проволоки сделали спираль, нагрели ее до 150 градусов и охладили. Потом к спирали подвесили груз, и он полностью растянул ее. Но когда ровную проволоку снова нагрели до 95 градусов, она на глазах у изумленных исследователей свернулась в прежнюю спираль. Опыты повторяли десятки раз и каждый раз с одинаковым результатом. Достаточно было нагреть изделие, охладить его, придать ему любую форму, а потом снова нагреть, но до более низкой температуры, как к новому изделию возвращался прежний облик, неведомым образом сохранявшийся в памяти сплава. По причине этого неведения нитинол пока не решаются использовать для изготовления запоминающих устройств. Но о практическом его применении, конечно, думают. Есть, например, описание, как использовать нитинол для передачи секретных сообщений. Надо скрутить из проволоки зашифрованное сообщение, нагреть ее, охладить, распрямить, смотать в клубок и отослать адресату. Тому останется лишь нагреть клубок до соответствующей температуры и прочесть послание. Менее волнующие, но более полезные предложения касаются применения иитинола в авиационной технике. Очень трудно соединять заклепками обшивку самолетного крыла с каркасом: к конструкции ведь можно подобраться только с одной стороны. Для этой цели изобретают хитроумные заклепки, вплоть до таких, которые взрываются и, деформируясь, скрепляют детали. С нитинолом все получается куда проще. Из него делают заклепку, превращают ее в проволочку, вставляют проволочку в отверстие при низкой температуре, нагревают, и проволока вспоминает, что у нее была головка. Появились нитиноловые антенны для спутников; при запуске они свернуты в клубочки, а в космосе, разогревшись от солнечных лучей, принимают нужную форму. В последнее же время выяснилось, что вспоминать умеет не один нитинол. Подобные свойства обнаружены у сплавов титана и никеля с кобальтом, золота с кадмием, индия с теллуром. В 1972 г. было опубликовано сообщение о памяти, которую сотрудники Института металлургии Академии наук СССР нашли у сплава марганца с медью.
В свое время мы решили, что индивидуальная память связана со способностью учиться; даже видовая память не является чем-то раз и навсегда застывшим: неприметно, из поколения в поколение внутри вида может происходить генетическая перестройка, своего рода переучивание. И вот способность к обучению приписывают не только животным, но и растениям, не только целому, но и его части, не только существам, но и веществам. Где же граница между буквальным и переносным смыслом, да и есть ли она? Может быть, если она есть, она все-таки совпадает с границей между животным и растительным миром? Пусть кое-где она и расплывчата, но случаи эти настолько редки, что их можно и не принимать в расчет.
Размышляя над этим вопросом, Рибо писал, что привычки растений (не говоря уж о свойствах фотографических пластинок) имеют слишком отдаленную аналогию с памятью. В этих свойствах и привычках проявляется лишь одно из ее условий – сохранение приобретенного состояния. Самое же главное условие, по которому и можно судить обо всем остальном, воспроизведение, целиком зависит от постороннего вмешательства, носит несамостоятельный характер. В нем не обнаруживается ни воля, ни намерение, ни инстинкт, ни что-либо способное идти изнутри и тем более развиваться. Это обыкновенная физико-химическая реакция. Современный английский электрофизиолог Грей Уолтер пришел к тому же выводу, используя другой критерий – нервную деятельность. На растительные клетки, говорил он, влияют свет, температура, влажность, гравитация, прикосновения. Но их реакции на эти воздействия не похожи на рефлексы. У растений нервный импульс не передается от клетки к клетке, и это их главное отличие от животных. Когда усик растения прикасается к опоре, он искривляется и постепенно охватывает ее. Получается это только потому, что каждая клетка, приходящая в соприкосновение с опорой, задерживается в своем росте, свободные же клетки продолжают расти. Усик изменит свою форму раз и навсегда, и это принесет ему пользы или вреда не больше, чем железу намагничивание. Можем ли мы, спрашивает Грей Уолтер, настаивать на том, что усик запомнил форму опоры и поэтому научился ее огибать?
Настаивать на этом, конечно, нелепо. С усиком произойдет то же, что и с позвоночником, чей обладатель не пожелает отучиться от привычки сутулиться. Но это будет -привычка не позвоночника, а его обладателя. С привычками же растений раскрываться или цвести в определенное время дело обстоит сложнее. Несмотря на то, что эти явления стоят в прямой зависимости от смены дня и ночи, смены времен года и прочих привычек космического масштаба, они, будучи связаны с физиологией растений самыми тесными узами, сродни уже инстинктивной памяти, генетической программе поведения. Приучить мимозу к новому «сонному ритму» это все равно, что приучить пчелу откладывать нектар в перевернутую дощечку. Но так же, как нельзя отучить пчелу откладывать нектар, нельзя и отменить у мимозы ее циклы. В обоих случаях перед нами жесткая, хотя и чуть-чуть приоткрытая программа. Значит, в известном смысле о памяти растений говорить все-таки можно.
Самое интересное, однако, что этот «известный смысл», очевидно, придется расширить. Свою книгу «Живой мозг», откуда мы взяли рассуждения об усике, Грей Уолтер писал в 1953 г. А лет через десять ученые натолкнулись на явления, которые имеют прямое отношение к критерию, выдвинутому Уолтером, и заставляют признать у растений не только видовую, но и индивидуальную память. Американский исследователь Бэкстер занимался усовершенствованием электронных регистраторов кожно-гальванической реакции (КГР). Реакция эта служит показателем перемен в эмоциональной сфере. Малейшее волнение влияет на работу потовых желез, кожа становится более влажной, и на кривой, которую вычеркивает подключенный к регистратору самописец, появляется соответствующий пик. Как-то Бэкстер поливал в своей лаборатории филодендроны и решил посмотреть, сколько времени вода поднимается от корней до верхних листьев. Удовлетворить любопытство было очень просто. Бзкстер прикрепил к листку миниатюрный регистратор КГР и стал ждать. Через некоторое время кривая, вычерченная самописцем, изменилась: реакция была зарегистрирована, опыт удался. И тут у Бэкстера явилась шальная мысль: а что, если растения способны так же чувствовать, как и мы? Не удастся ли ему вызвать и зарегистрировать у своего цветка настоящую эмоциональную реакцию? Бэкстер решил прижечь листок спичкой. Едва он чиркнул ею, как кривая на записи резко подскочила вверх. Филодендрон закричал, и не от боли, а от страха! Значит, он успел догадаться, что ему будет больно. Значит, он знал, что ему сулит огонь!
экстер приступил к систематическим опытам. В то же время аналогичные опыты уже велись в Москве, на кафедре физиологии растений Тимирязевской академии. Руководил ими профессор И. И. Гунар. Электронные приборы регистрировали электрические импульсы, подобные нервным импульсам животных. Все говорило за то, что у растений есть своя система раздражителей, контролирующая их жизнедеятельность, что сигналы из внешней среды передаются в определенный центр, где после их обработки подготавливается ответная реакция. Этот центр, возможно, находится на шейке корней, которые, подобно нашим сердечным мышцам, сжимаются и разжимаются. Если не принимать в расчет прикованность растения к своему месту, разницы между растением и животным нет.
ЭМОЦИИ ФИЛОДЕНДРОНА
Свидетельствует ли о памяти такая сигнализация? Ведь эволюция могла выработать у растений просто чувствительность ко всякой угрозе и способность откликаться на любое внезапное изменение температуры и других условий среды. Вспомним автоматические реакции асци-дии и морского ежа. Неизвестно, правда, какую пользу может извлечь растение из таких реакций. Но какая-нибудь польза, вроде своевременного сжимания или разжимания «мышц», вполне может и быть. Не исключено, что у растений есть свой язык, подобный сигнальному языку животных, и одно растение, например, в состоянии сообщить другому об опасности, определенным образом меняя электрические потенциалы на своих листьях. Подобные рассуждения побудили исследователей затеять новые опыты, которые привели к удивительным результатам.
Два цветка стояли рядом в пустой комнате, к одному из них были прикреплены регистраторы КГР, соединенные с самописцем, находившимся в помещении, где сидели экспериментаторы. Через комнату, имевшую две двери, проходили люди. Один из них, поравнявшись с цветком, свободным от приборов, как было условлен©, сломал его и прошел мимо. Спустя некоторое время те же люди снова отправились через комнату с цветками. Когда туда вошел тот, кто сломал цветок, оставшийся в живых, как выражаются психологи, «выдал» на кривой, вычерчивавшейся до тех пор без отклонения, такой пик, что двух мнений больше быть не могло: цветок узнал убийцу своего брата.
Все это звучит фантастично – по крайней мере для тех, кто равнодушен к растениям. Те же, кто не равнодушен, вспоминают слова великого селекционера Лютера Бербанка, который всерьез утверждал, что его питомцы узнают и понимают его. Давно известно, что новое это хорошо забытое или, скорее, плохо истолкованное старое. Сегодня московские психологи, «беседующие» с растениями при помощи тех же регистраторов КГР, которыми пользовался и Бэкстер, вспоминают о давних опытах советского биолога А. Гурвича. К одному корешку лука Гурвич приближал другой корешок и всякий раз замечал, что в компании зеленый лук растет быстрее, чем в одиночку. Гурвич пришел к выводу, что луковицы сообщаются между собой ультрафиолетовыми сигналами. И вот теперь, спустя сорок с лишним лет аналогичные опыты решили повторить сотрудники Новосибирского медицинского института и Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения Академии наук СССР. То, что они обнаружили, было официально признано одним из выдающихся открытий 1972 г. В двух камерах были выращены одинаковые клетки живой ткани. Камеры изолировали друг от друга кварцевыми пластинками, пропускающими только ультрафиолетовые лучи. Через эти окна клетки могли «видеть» друг друга. Затем в одну из камер был впущен смертоносный вирус. После непродолжительной борьбы клетки погибли. Но, погибая, они успевали сообщать соседям об этом: сигнал о бедствии – максимальный пик свечения – нарастал в те мгновения, когда вирус начинал проникать внутрь клетки, нарушая в ней обмен веществ. Исследователи провели сотни опытов. Они меняли клетки, меняли вирусы. Но итог не менялся: ультрафиолетовым кодом клетки сообщали о своем состоянии соседям, и те – это и было самое поразительное!- заболевали и погибали, погибали не от вирусов, а от невыносимого для них зрелища. Экспериментаторам удалось установить, что клетки не просто сигнализировали о своей гибели, но всякий раз успевали «описать» врага. Когда введенная в камеру сулема блокировала дыхательные ферменты клеток, те сообщили соседям, что погибают от удушья.
И это всего лишь клетки! Что же говорить о растениях, о целых организмах! Могут ли они, подобно высшим животным, понимать наш язык – если не слова, то хотя бы интонации? Кто может поручиться за то, что в мире растений не обнаружится такая же иерархия программ, которую мы видели и у животных: на одном конце слепой «физико-химический» автоматизм, а на другом своеобразное поведение, структуре которого присущи и элементарное восприятие и первичные эмоции, и условные рефлексы, и пусть не такая уж богатая, но самая настоящая память. Во всяком случае, отказывать в ней растениям сегодня уже не решается ни один серьезный ученый.
Что же касается памяти намагниченного железа, фотохромных элементов, нитинола и прочих неодушевленных предметов, то у нас пока нет оснований отличать ее от памяти усика и придавать ей буквальное значение. Несамостоятельность воспроизведения запечатленных в этих предметах свойств показывает, что термин «память», приложенный к неодушевленной материи, все та же наша обычная дань антропоморфизму, который со времен Фалеса был и остается одним из объяснительных принципов познаваемой нами природы. Внезапное воспоминание о прежней форме, которое проявляется у нитинола, мало чем отличается от воспоминания белого листа бумаги, на котором после глажки проступают симпатические чернила.
Несмотря на то, что объем памяти вычислительных машин достиг внушительных размеров и в ближайшем будущем обещает вырасти в сотни, а может быть, и в тысячи раз, эта память тоже не имеет ничего общего с памятью живых существ. Некоторую аналогию с машинами мы, правда, находили у обладателей закрытых инстинктов, действовавших по жестким программам. Нам могут возразить, что существуют самообучающиеся программы. Но метод самообучения и его границы предусмотрены составителем программы и всегда подчинены определенной задаче, придуманной тем же составителем. Ни научиться чему бы то ни было, ни что-нибудь запомнить сверх того, что заложено в программе машина не имеет права. Если это и случается, то не потому, что у машины появляются особые намерения, а потому, что в ней нарушается режим работы. Когда машины научатся сами себе составлять программы, выбирать себе задачи по вкусу и решать их в зависимости от настроения, мы пересмотрим свою точку зрения. Покуда же этого не произойдет, их память останется не чем иным, как складом закодированных сведений, который наполняет человек для удовлетворения своих «вычислительных потребностей» – своих, а не машины. В отличие от гусеницы и даже от асцидии, у машины никаких потребностей нет.
Чтобы не осталось недоговоренности, завершим наш обзор памятью живых тканей, не выделенных из организма. Движения, которые мышца научилась выполнять, запомнила не она, а нервные центры, управляющие движениями. И хотя благодаря упражнению всякая мышца растет и крепнет и ей действительно все легче становится совершать определенное действие, она, подобно любому механизму, ничего не делает по своей воле. Двигательная память заключена в центральной нервной системе. В дальнейшем нам придется обстоятельно рассматривать все нарушения памяти. Сейчас, пользуясь случаем, мы упомянем о двух из них: они хорошо показывают, на ком лежит ответственность за запоминание движений. Неврологам давно известно явление апраксии (в переводе с греческого – бездеятельность). Человек не может ни написать свое имя, ни застегнуть пуговицу, ни взять ложку со стола. Рука его движется мимо цели, он словно забыл, как все это делается. В прежние времена апраксию и называли потерей памяти на двигательные навыки. Но забывание тут чисто внешнее: больной все прекрасно помнит, и мышцы у него не успели ослабеть. Ослабли не мышцы, а их связь с управляющими центрами. Кровоизлияние поразило либо ту зону коры, где сосредоточен механизм обратной связи, получающий сигналы о положениях двигательных органов и посылающий к органам команды, корректирующие дальнейшее движение, либо соседнюю зону, которая контролирует автоматическую работу двигательных стереотипов вообще. На апраксию похожа двигательная, или моторная, афазия (буквально – онемение). Кровоизлияние или опухоль поражают центры, управляющие движениями мышц гортани, языка, губ и щек – мышц, участвующих в речи. Кажется, что больной забыл все вплоть до междометий. Но он ничего не забыл, и мышцы его ничего не забыли. Если последствия кровоизлияний будут ликвидированы, мышцам учиться всему заново не придется.
Нервным клеткам мы тоже пока вынуждены отказать в самостоятельной памяти, хотя к отпечаткам они имеют самое прямое отношение. Американскому физиологу Дж. Моррелу и советскому физиологу О. С. Виноградовой удалось научить отдельную нервную клетку, нейрон, реагировать на световые вспышки так, что реакция ничем не отличалась от условного рефлекса. Нейрон, правда, быстро забывал урок, но дело было даже не в этом. Сам по себе он так же несамостоятелен, как мышца, усик вьюна или полупроводниковый диод. Это всего лишь одна из многих миллиардов деталей мозга. Нейрофизиологи говорят о его памяти главным образом потому, что при определенных условиях он служит им моделью некоторых механизмов памяти, присущей целому мозгу, или, вернее, его обладателю. Впрочем, поразмыслив над опытами в Новосибирске, мы, пожалуй, воздержимся от категорических утверждений насчет памяти нейрона.
Попытки широкой трактовки памяти, угаснув в конце 20-х годов нашего столетия, вспыхнули вновь в связи с рождением кибернетики и, главное, с дилетантским увлечением ее идеями. Увлечение прошло, но «последействие» осталось, и расстановка всех памятей по своим местам не кажется нам делом запоздалым и неуместным. Вместе с тем на примере растений и клеток нам хотелось показать, что никакая расстановка и классификация не может считаться окончательной. Это всего лишь плод «здравого смысла» определенного этапа. С каких позиций будут судить о памяти в конце столетия, сказать уже трудно. Единственное, что можно утверждать, это то, что основные руководящие начала, и в первую очередь критерий Рибо, останутся в силе.
Провозглашенное кибернетикой тождество некоторых принципов управления в организмах и механизмах легло в основание многих развивающихся биологических и технических дисциплин. Кибернетические аналогии открыли глаза исследователям на оставшиеся в тени стороны давно изучавшихся ими объектов и ввели в поле их зрения новые объекты. Точно так же оказалась в своем роде плодотворной и концепция, ведущая начало от Геринга. Влияние его идей на психологию и физиологию ощущалось более полувека. Те, кого увлекло определение памяти только как последействия любой стимуляции, перебрав все виды организованной материи, зашли в тупик. Зато другие, принявшись за разработку идеи об универсальном объяснительном принципе и беря природу в ее непрерывном развитии, высказали немало проницательных замечаний о памятливости живой и неживой материи, о некоторых важных сторонах эволюции и о зарождении видовой и индивидуальной памяти. Среди ученых этого направления мы должны прежде всего упомянуть немецкого биолога Рихарда Земона и швейцарского психиатра Эйгена Блейлера.
Факты повторяемости и последействия свойственны не только живой, но и неживой природе, писал Земон. Мы обнаруживаем их там, где налицо полная или почти полная повторяемость тех условий, которые их впервые породили. Однако настоящего совпадения тут нет. Приглядевшись к памяти живой природы, мы заметим одну весьма характерную ее особенность. Повторение происходит и тогда, когда первоначальные условия повторяются не целиком. Для выявления «мнемического комплекса» в подавляющем большинстве случаев достаточно гораздо меньшего раздражения, чем первоначальное, то есть уже знакомых нам «слабых стимулов». Принцип памяти, продолжал ту же мысль Блейлер, заключается в том, что последовательность в реализации какой-нибудь функции, однажды осуществившись, будет при повторном раздражении воспроизводиться автоматически. Древнее простейшее существо, достигнув некоторой величины, разделилось потому, что условия дыхания при создавшемся соотношении величины и поверхности стали для него неблагоприятными. В дальнейшем подобные деления воспроизводились уже с большей легкостью и не обязательно по той же причине: не из-за недостатка кислорода, а всего лишь по достижении той же самой «критической» величины. Вот типичный пример проявления принципа памяти. Для Блейлера память неизменный принцип всякого развития и целесообразности любой материи, руководящее начало всех начал. Поисками такого метапринципа занимались мыслители всех эпох. Что может быть соблазнительнее вывести всю эволюцию из единого принципа, единой формулы! Но ничего не может быть и опаснее: на этом пути на смену одной разгаданной загадке тотчас же, как отрубленная голова у дракона, вырастает новая, а метапринцип начинает смахивать на прокрустово ложе.
Воздав должное Блейлеру за то, что в этот метапринцип он возвел именно память и, подобно Катону с его Карфагеном, не уставал повторять, что «все психические явления доступны исследованию, если выводить их из памяти», мы расстанемся с создателями универсальных принципов. Герингу, Земону, Блейлеру и их единомышленникам удалось объяснить при помощи памяти очень многие явления в эволюции природы. Они оказали благотворное воздействие на представителей самых разнообразных наук, например, физики и химии, заставив их взглянуть на вещи пошире и научив смелым и непредвзятым аналогиям. Но одного им не удалось объяснить – сущности самой памяти. Таков удел большинства аналогий: при уподоблении двух явлений друг другу одно неизбежно начинает играть служебную роль и волей-неволей остается в тени. Что узнаем мы о памяти, если согласимся признать ее у сплава? Ничего ровным счетом. Мы скорее поймем секрет этого сплава. Но сплавы нас больше не интересуют.
КОРОЛИ И КАПУСТА
Р
ибо, не избежавший влияния Геринга, сказал, что память это, по существу, биологический факт, а психологическим он стал случайно. Ни одному человеку, знакомому с историей собственного вида, не придет в голову оспаривать это утверждение. И, однако, лишь изучение этой «случайности» приближает исследователей к пониманию как психологической, так и общебиологической сущности памяти, что и блестяще продемонстрировал сам Рибо в своей классической работе «Память в ее нормальном и болезненном состоянии».
Покуда психология не выделилась из философии в самостоятельную науку, упомянутой «случайностью» интересовались действительно от случая к случаю, а главное, редко считали ее достойной пристального внимания. Декарт, например, относился к памяти с недоверием и в решении научных задач советовал полагаться не на нее, а на интуицию, то есть на непосредственное усмотрение. Спиноза, ограничившись афоризмом «память есть намерение», предпочел заняться эмоциями. Недалеко от них ушел и Кант. Будучи человеком педантичным, он, взявшись писать свою «Антропологию», не мог, конечно, обойти в ней память молчанием и даже поделил ее на виды. Однако он был убежден, что память и мышление состоят в весьма отдаленном родстве, а посему, обрушившись с нападками на мнемотехнику, заявил, что ни в грош не ставит тех, кто «хранит в голове груз книг на сто верблюдов», но зато лишен «способности суждения». Однако всех превзошел Мальбранш, заметивший небрежно, что останавливаться на объяснении памяти нет нужды, ибо каждый, кто не поскупится на некоторое усилие ума, может сделать это сам. Чисто французское легкомыслие!
Как нам известно, с должным почтением к памяти отнесся Платон. Но даже для Платона, выдвинувшего гипотезу о следах-отпечатках, память была лишь поводом порассуждать о других вещах. Поэтому первым исследователем памяти, занимавшимся ею ради ее самой, мы обязаны назвать не Платона, а Аристотеля, автора специального трактата «О памяти и воспоминании». Как явствует из названия этого сочинения, Аристотель считал, что память и припоминание это не одно и то же. Первое есть то, что мы вспоминаем, а именно прежнее знание или ощущение, второе же есть возвращение этого знания или ощущения, вызванное усилием нашего разума. Память, таким образом, следует за припоминанием, за движением души. Движениям же свойственно переходить от одного к другому, образуя привычные последовательности, а поэтому «легче всего вспоминать вещи, находящиеся в определенном порядке, как, например, в математике». Так Аристотель стал если и не автором первой теории памяти, то уж во всяком случае основателем учения об ассоциациях – о связях, которые помогают нам вспоминать и могут быть весьма причудливыми. Хуже всего, по мнению Аристотеля, вспоминаются имена, так как они не входят ни в какую последовательность (приказчик из «Лошадиной фамилии» подтвердил бы это положа руку на сердце). Вольное или невольное обращение к ассоциациям и другие способы припоминания делают его рассуждением, силлогизмом. А так как рассуждать умеет только человек, животные, хотя и не лишены памяти, припоминать должны как-нибудь иначе.
После Аристотеля разговоры о памяти умолкают надолго. Для неоплатоников и философов средневековья память служила все тем же доказательством предсуществования души. Проблема памяти возродилась только в XVIII веке, да и то не сама по себе, а в связи с пробудившимся интересом к законам мышления и к природе разума.
XVIII век мало интересовался бессмертием души. XVIII век составлял энциклопедии и писал научные трактаты. Один из них, «Трактат о человеческой природе», мы уже цитировали, теперь нам снова придется обратиться к нему. Как создателя его, Юма, так и всех соратников его по эмпиризму и сенсуализму, в проблеме памяти больше всего занимали законы ассоциаций, на существование которых намекнул им Аристотель. И Юм сформулировал их, сказав, что «качеств, из которых возникают ассоциации и с помощью которых ум переходит от одной идеи к другой, всего три: сходство, совпадение по времени или месту, причина и следствие». Законы эти потом видоизменялись: автор одного трактата сокращал их перечень, автор другого, напротив, удлинял его, добавляя к «первичным» законам «вторичные». Но существо дела от этого не менялось. Будучи условиями лучшего запоминания, или, скорее, «вспоминания», законы эти для их создателей являлись врожденными свойствами психики, чем-то вроде свойств сократова воска. «Очевидно,- писал Юм,- что память стремится сохранить ту первоначальную форму, в которой ей были предъявлены предметы, а если при этом мы, вспоминая что-нибудь, и отклоняемся от нее, то это уже дефект или несовершенство наших способностей».
С идеей сохранения первоначальной формы перекликается и знаменитая мысль Томаса Гоббса: воспоминание- это ослабленное восприятие. Стоявший на уровне всех достижений науки, Гоббс выводил свою концепцию памяти не из чего-нибудь потустороннего и мистического, а из галиллеевой механики. Образ, запечатлевшийся в нашем сознании, постепенно утрачивает свою силу и отчетливость, вроде того, как ослабляется механическое движение после того, как прекращается вызвавшая его причина. Доказать свою гипотезу Гоббс не смог, он просто постулировал ее, но и этого оказалось достаточно, чтобы она прожила целый век. Что касается законов ассоциаций, то они легли в теоретическое основание первых психологических экспериментов и стали знаменем первой крупной школы европейских психологов. Зачинатель этих экспериментов, Герман Эббингхауз, опираясь на законы ассоциаций, дал в 1885 г. следующее определение памяти: «Если какие-либо психологические образования однажды заполняли сознание одновременно или в близкой последовательности, то затем возвращение некоторых членов прежнего переживания вызывает и представление об остальных членах, причем нет нужды в том, чтобы были налицо первоначальные причины… Общую способность души к этому и называют памятью».
На первый взгляд в этой формулировке нет ничего нового. Тут и отмеченная Аристотелем последовательность, и знакомая нам, по Земону, необязательность первоначальных причин, и столь любезная эмпирикам ассоциация по смежности. Но все это, вместе взятое, обнаруживает роковую тенденцию, обусловившую как первоначальный успех ассоциационизма, так и его неудачи. Вспомним теорию ослабленного восприятия и попытаемся сообразить, что мы предпринимаем, когда намереваемся что-нибудь запомнить. Если перед нами, допустим, материал учебного характера, вроде глав из учебника или нескольких брошюр на одну тему, словом, нечто такое, что следует хорошенько запомнить и уметь потом «излагать своими словами», мы, по-видимому, проанализируем сначала весь этот материал, затем сопоставим его части, выделим главное и отодвинем в сторону второстепенное; и вот мало-помалу материал свертывается, сокращается, и в конце концов от него остается самая общая схема – плотный клубок связей, который можно погом размотать и все детали развернуть вновь. Такие клубки можно назвать самыми емкими единицами памяти. Великолепный пример клубка-схемы мы находим в «Лекциях по физике» американского физика Ричарда Фейнмана. «Если бы в результате какой-нибудь мировой катастрофы,- пишет он,- все накопленные научные знания оказались бы уничтоженными и к грядущим поколениям перешла бы только одна фраза, то какое утверждение, составленное из наименьшего количества слов, принесло бы наибольшую информацию? Я считаю, что это атомная гипотеза… Все тела состоят из атомов – маленьких телец, которые находятся в беспрерывном движении, притягиваются на небольшом расстоянии, но отталкиваются, если одно из них плотнее прижать к другому. В одной этой фразе… содержится невероятное количество информации о мире, стоит лишь приложить к ней немного воображения и чуть-чуть сообразительности».
Фейнман, я думаю, нисколько не преувеличивает. И заметьте: он взывает не к вашей памяти, а к вашему воображению и сообразительности. Но если у вас еще и блестящая память и завидное терпение, о котором Фейнман позабыл совершенно напрасно, вам удастся размотать из его фразы целый учебник по физике. Конечно, никто не в состоянии воспроизвести учебник слово в слово. Непосредственная, механическая память может воспроизвести то же самое, что и запомнила, буквально, если ее обладатель эйдетик или если он задавался целью выучить что-нибудь наизусть. Но если ни того, ни другого не было, то память, на сей раз опосредствованная, даст не копию, а смысл, воспроизведет материал «своими словами». В пей закрепляются не чувственные образы, а представления и понятия. Атомы Фейнмана вовсе не копии тех атомов, чьи образы он запоминал, изучая физику: «тельца», о которых он говорит, чистая условность; это образ, который он сконструировал сам, на основе представлений не столько об атомах, сколько о методах популяризации и о неосведомленности тех грядущих поколений, до которых дойдет всего одна атомная гипотеза. Ни представление об атоме, ни представление о любой другой, самой простой вещи, вроде стола или стула, не является «ослабленным» чувственным образом этой вещи. Во всяком представлении мы найдем и фрагменты наглядных образов аналогичных вещей, и понятие об их назначении и свойствах, и намек на их место в их «семействе», и те личные ассоциации, которые вызывает у нас представление о вещи или звучание обозначающего ее слова. Представление опирается на сложную и разветвленную систему ассоциаций. Это маленький синтез связей, образующийся под влиянием множества обстоятельств, куда входят особенности нашего восприятия, воображение и, конечно, весь жизненный опыт.
Итак, не ослабленное впечатление, а сплетение ассоциативных связей. Юм назвал три их вида. Большинство психологов тоже склонялось к трем видам; популярной была, например, такая комбинация: ассоциации по смежности занимали первое место, ассоциации по сходству второе, а на.третье ставились ассоциации по контрасту (одно впечатление вызывает в сознании нечто противоположное). Ассоциации по смежности самые простые; часто у людей они совпадают, что, несомненно, указывает на их шаблонность. Когда Шерлок Холмс развлекается отгадыванием мыслей своего друга Ватсона, он обыкновенно строит цепочку ассоциаций по смежности. Искусство это постичь не так уж трудно. Вы гуляете с приятелем, беседуя о том, о сем; тема исчерпана; вы идете молча, предоставив мыслям течь как им вздумается; но вот ваш приятель возобновляет разговор, вы же с удивлением восклицаете: «Я как раз думал о том же самом! Телепатия!» Увы, опять не она! Когда вам представится подобный случай, попытайтесь сразу же вспомнить, на чем вы прервали беседу и что попадалось вам на пути, и в вашем сознании сразу же оживут звенья ассоциативной цепочки, которая удлинялась и удлинялась себе, пока ваша мысль блуждала без цели, перескакивая с одного на другое.
Ассоциации по сходству сложнее, восстановить их трудно, предсказать почти невозможно. Они субъективны, ~ на них явственно проступает отпечаток личности. Оттого и неповторима и вечно свежа истинная поэзия, что основу ее выразительности составляют ассоциации по неожиданному сходству, которого мы с вами, говоря и думая прозою, не замечаем, но замечает поэт: «Как будто бы железом, обмакнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему». Всему дана двойная честь, но каждый истолковывает ее по-своему, ибо у каждого своя судьба и свое восприятие радостей и горестей жизни. Гейне писал, что в сердце у него зубная боль («Это скверная боль, и от нее очень хорошо исцеляет свинец с тем зубным порошком, который изобретен Бертольдом Шварцем») и что мир раскололся пополам и трещина прошла через сердце поэта. Интересно, по какой ассоциации я вспомнил после пастернаковского нареза сердечные дела Гейне – по смежности или по контрасту? Наверно, по той и по другой вместе. Но отчего, когда мне захотелось привести пример ассоциации по сходству, в моем сердце прозвучал ритм пастернаковского нареза, а не что-нибудь величавое, вроде «Роняет лес багряный свой убор»? Скорее всего оттого, что чай, которого я напился перед тем, как пуститься в рассуждение об ассоциациях, был слишком крепок, и сердце мое перепрыгнуло с пятистопного ямба на трехстопный. Но ведь трехстопный пущен в обиход не Пастернаком, а Пушкиным, Пушкину бы первому и в голову приходить: «Подруга думы праздной, чернильница моя; мой век разнообразный тобой украсил я». Разрешите-ка эту загадку, мистер Холмс! Что же вы молчите и не замечаете даже, что трубка ваша потухла? О, я-то знаю, почему вы молчите. Ассоциации захватили власть и над вами, и вам вспомнилось то единственное поражение, которое вы потерпели, когда попытались спасти честь короля Богемии, потерпели от единственной женщины в мире, которую звали Ирена Адлер. Ах, мистер Холмс, право, не стоит вспоминать об этом, король давно умер, а золотистая пани Ирена вышла замуж за избранника своего сердца, и никто не знает, что с ней сталось потом. «Поговорим лучше о других вещах, о венках невест, о маскарадных балах, о веселье и свадебных пирах»,- как говорит Гейне, заключая свою главу о зубной боли. Кстати, вам не кажется, что эта фраза напоминает кое-что из кэрроловского разговора Моржа и Плотника, который вдохновил ОТенри на «Королей и капусту»? Все на свете что-нибудь да напоминает. Когда я читал «Книгу Ле Гран», меня не покидало ощущение, что Гейне подражает в ней, сам того не замечая, вашему, мистер Холмс, великому соотечественнику Лоренсу Стерну. Вот уж кто был великий знаток ассоциаций, так это его преподобие мистер Стерн. С первых же строк «Тристрама Шенди» он прямо-таки глумится над учением об ассоциациях, над которым так добросовестно трудились Юм и Локк. Я убежден, что профессор Эббингхауз не читал Стерна, по чистой, разумеется, случайности. Иначе он никогда бы не рискнул утверждать, что память проистекает от одних ассоциаций по смежности. Ведь именно их-то и поднимает на смех Стерн, и именно их берет в расчет профессор Эббингхауз и больше никаких других замечать не желает. Говорят, впрочем, что сам-то он их замечал, а не замечать решили его последователи. Так, наверное, и было, потому что так всегда и бывает.
Как бы там ни было, ассоциационистская психология конца XIX – начала XX века все ассоциации, какие есть, стала сводить к ассоциациям по смежности, а к этим последним – все процессы памяти. Ассоциационисты размышляли и о следах-отпечатках, что было не удивительно, так как еще Юм пытался рассуждать о них. Юм говорил, что внешние впечатления должны закрепляться в нервных клетках. Как именно закрепляться, он, конечно, судить не брался. Того же мнения держался спустя сто лет и Рибо. В его время этих клеток насчитывали уже никак не меньше миллиарда, но на Рибо производила впечатление не эта цифра, а то совершенно немыслимое число, которое может получиться из всех возможных сочетаний клеток. Одна клетка подобна букве, говорил он, а из букв надо еще сложить весь наш жизненный текст. Вот он и складывается из связывающихся друг с другом клеток, образующих динамические ансамбли, динамические потому, что они не могут быть чем-то застывшим, они беспрерывно обновляются, меняют свою форму и, оживляясь, преподносят нашему сознанию запечатленные в своих связях образы и идеи. Ассоциационистов эта гипотеза не увлекла. Им физиологический механизм ассоциаций представлялся как проторение нервных путей следами памяти, но то были уже не анатомические, а скорее функциональные следы. Проторение же зависело лишь от числа повторений. Ассоциационисты называли их моторными навыками. Никакой особой беды в гипотезе навыков не было бы, если бы в соединении с гипотезой о существовании только одних ассоциаций по смежности, самых непроизвольных и механических из всех, она оставляла место всему разнообразию психических функций и не вела бы прямехонько к одному только условному рефлексу, сосредоточивая на нем все помыслы психологов и физиологов, интересовавшихся природой памяти. Условный рефлекс был изучен вдоль и поперек, и в том немалая заслуга ассоциационистов. Но не сошелся же свет клином на одном условном рефлексе. В этом смысле клеточные ансамбли Рибо, тоже, конечно, гипотетические, оставляли больше простору для размышления над различными нюансами душевной жизни.
Ассоциационистам возражали. Ассоциации по смежности, говорили им, столь родственные рефлексам, хороши лишь для механической памяти. А где же цели, мотивы, понимание? Многого ли можно добиться одним повторением? Смешно, конечно, отрицать роль ассоциаций: они помогают нам припоминать забытое. Но ведь у нас есть намерения, есть ум. Он комбинирует и выбирает, окончательное решение принадлежит ему. Захотелось нам порассуждать о тех же ассоциациях в манере Генриха Гейне, и ум отвел нам на это удовольствие, которое можно растянуть до бесконечности, две страницы и не разрешил ни на йоту отклониться от темы. Как справедливо сказал А. Н. Леонтьев в своей книге «Развитие памяти», есть принципиальная разница между «мне вспомнилось» и «я вспоминаю». В первом случае наша мысль покорно следует за ассоциациями, во втором ассоциации следуют за мыслью. После долгих дискуссий ассоциации по смежности потеснились и уступили место всем прочим ассоциациям, которые были обнаружены за двести лет. Самое же почетное место было отведено ассоциациям словесно-логическим, смысловым, которые, как решили психологи, и определяют собой специфику человеческого мышления и человеческой памяти, направляя их на уловление связи вещей, разумное предвидение и творческие акты во всех сферах жизни. Перелом этот наметился к началу XX столетия и завершился в 30-х годах. К тому же времени у психологов сложилось и общее представление о процессах воспроизведения,
НЕИЗБЕЖНОСТЬ И КАПРИЗ
О
бнаруживая себя в воспроизведении, память питает наш ум и наши чувства. Мы действуем и думаем, беспрерывно вспоминая – непосредственное ли прошлое, угадываемое ли будущее, чью модель неустанно набрасывает и подправляет мысль,- все равно. Едва появившись на свет, мы начинаем запоминать окружающее, и следы нашей памяти становятся участниками восприятия. Ребенок улыбается матери, тянется к погремушке. Это узнавание- самая простая форма проявления памяти. Узнавание развивается прежде других форм и лет до четырех почти не дает им ходу. Да это и естественно: ведь первой у детей возникает способность к непосредственному и механическому запечатлению образов мира. Только к школе наша память становится относительно независимой от восприятия. Нам уже есть что вспомнить. Правда, впоследствии мы с трудом будем вспоминать свое младенчество. Эпизоды ранних лет мерцают в нашей памяти разрозненными огоньками. Психологи объясняют «младенческую амнезию» тем, что в ту пору в памяти еще не сложились связи, обеспечивающие единство личности (хотя Кант и в грош не ставил память, но эта мысль принадлежит ему). Плохо помним мы и годы созревания, когда наша личность претерпевает перестройку, вызванную перестройкой физиологических аппаратов. Но все это не означает, что наша память хоть на минуту прекращала свою работу. Все перестройки идут плавно и незаметно для сознания.
Бегут годы. Все чаще и чаще от наглядных образов мы переходим к представлениям, от непосредственного запоминания к речевым и логическим связям. Память оттачивается в общении и деятельности – в играх и занятиях, в зрелищах и чтении, наконец, в работе. Переживания становятся острее и глубже, восприятие тоньше; все завоевания ума и чувств делаются достоянием памяти. В детстве ее приобретения прочнее, в зрелости обширнее. Обширнее и сложнее становятся и формы узнавания. Мы идем по привычной дороге, машинально сворачиваем к дому, раскланиваемся со знакомыми – во всем этом, как и в младенческих узнаваниях, нет еще и тени сознательного отождествления нового восприятия с предшествующим. Нет сознательного отождествления и при «ощущении знакомости»: мы убеждены, что знаем этого человека, но откуда? Отождествления еще нет, но сознание уже готово к нему, мысль уже пустилась на поиски, идет акт познания – самая сложная форма узнавания.
Мышление помогает нам познавать мир в его взаимосвязях, ориентироваться в новых условиях и решать возникающие перед нами задачи. Знакомимся ли мы с новым материалом, пытаемся ли припомнить забытое, устанавливаем ли причинно-следственную связь – во всех случаях мы преодолеваем препятствие. Пассивный поток цепляющихся друг за друга ассоциаций, который свойствен непроизвольному воспроизведению, лишенному характера узнавания, замирает, натолкнувшись на это препятствие, автоматика останавливается, пребывавшая в полумраке сцена сознания освещается ярким светом. Начинается работа мысли, поддерживаемая работой памяти, активным воспроизведением следов прошлого опыта – представлений, навыков мышления, тех же ассоциативных связей, но возникающих уже не как им вздумается, а по воле припоминания. И здесь, как и во всех случаях воспроизведения, проявляется неумолимая закономерность – воздействие на прошлый опыт самого процесса воспроизведения. Память дает нам не репродукцию, а реконструкцию. Сматывание и разматывание клубков-схем не проходит даром для нитей, подвергающихся осмысливанию. Представление или наглядный образ извлекаются из прошлого, но оперирует ими наше настоящее. Оно примешивает к ним новые образы, новые связи, новые ощущения и, ставя их в подчинение решаемой задаче, оставляет в тени одно, бросает свет на другое, а третье сгущает до великой правды искусства. Я сомневаюсь, чтобы Гоголь слышал в молодости весь описанный им оркестр поющих дверей. Слышал один какой-нибудь скрип, и вот, когда писались «Старосветские помещики», этот скрип всплыл из глубин памяти и заставил гениальное перо Гоголя изобрести целый сонм поющих дверей, в существование которого он уверовал, может быть, и сам, после того как рассказал о нем. Документального подтверждения этой нашей гипотезе нет, зато есть другое: сохранившиеся черновики работы над «Шинелью», показывающие, как под влиянием тех мыслей и того настроения, в котором Гоголь находился тогда, менялся до неузнаваемости первоначальный факт, рассказанная Гоголю история про чиновника, который уронил в воду ружье, купленное на долго копившиеся деньги, история, кончившаяся вполне счастливо, а поэтому не трагическая, а комическая. Возьмите того же «Хаджи Мурата», о котором мы уже упоминали. В жизни Толстой один раз натолкнулся на сломанный куст «татарина», а в прологе к повести встреча с кустом происходит дважды. От первой встречи рождается только ощущение: какая сила жизни! Вторая уже окрашена болью и гневом, а «татарин» уже живой человек, со сломанной рукой, с выколотым глазом, это уже не репей, а Хаджи Мурат. Две встречи понадобились Толстому-художнику для того, чтобы ярче выразить свое отношение к разрушительности человеческой деятельности, чтобы настроить и себя, и читателя на определенный лад. Репей уже в первый раз напомнил ему Хаджи Мурата, но творческая интуиция потребовала, чтобы это произошло во второй. В противном случае не написался бы пролог, а может быть, и вся повесть. Двух этих историй с «Шинелью» и «Хаджи Муратом» достаточно, чтобы увидеть не только одну из главнейших особенностей искусства, но и трансформирующую роль воспроизведения, определяемого осознаваемой или бессознательной установкой личности.
Подобная трансформация свойственна и научному творчеству, всякой умственной деятельности, в которой когда-то увиденное или пережитое переживается вновь и вновь переосмысливается, а иногда благодаря соприкосновению со словесной формой осмысливается впервые. Две трети нашей душевной жизни, говорит Джемс, состоит из готовых схем, подобных устоявшимся грамматическим конструкциям, вроде «если… то», и мы почти автоматически переходим и в речи своей и в поведении от одной схемы к другой; но живая, неавтоматическая треть существует, и она вступает в свои права, когда мы создаем новое или пытаемся дать оценку тому, что еще не осознано до конца. Тогда происходит сознательный выбор обозначений, а за ним наступает понимание. Размышляя над этим, физик Э. Л. Андроникашвили тоже вспоминает Толстого: разговор Наташи и Пьера. Наташа рассказывает Пьеру о своей любви к князю Андрею и о смерти князя. Она описывает во всех подробностях события и свои переживания и вдруг начинает ощущать несоответствие того, о чем она говорит, своему отношению к Пьеру. И она осознает, что ее чувства к князю Андрею, казавшиеся ей святыми, поколеблены и временем, и этим рассказом, она почти понимает, что уже не любит князя и что в ней просыпается любовь к Пьеру. Но она не в силах еще сказать о ней, потому что для выражения нового чувства у псе еще нет образов и нет слов, слова у нее есть только для старой любви; они уже перестали быть правдой, но она еще не может расстаться с ними. Подсознательная идея не вытеснит сознательную до тех пор, пока для нее не выкристаллизуется словесно-образная форма. Но прежняя идея уже обречена, потому что сознание успело уловить ее фальшь. Не заговори Наташа с Пьером и не прислушайся она к своим словам, она бы еще долго думала, что любит князя. Диалог положил начало рождению формы для неосознанного, сделал его видимым. И это присуще мышлению вообще, говорит Андроникашвили. Часто бывает так, что ученый, не услышав еще мнения собеседника, только еще начавши рассказывать ему о своей идее, уже знает, прав он или ошибся: смутная идея приняла ясные очертания, интуиция увидела все сильные и слабые стороны идеи. Диалог с собеседником, диалог с самим собой, то есть внутренняя речь,- верный способ дать должную оценку тому, что теснится в памяти. Мы все оценим, но то, что ощущалось нами когда-то, что запечатлелось в памяти, утратит черты вчерашнего, станет другим, принадлежностью не столько прошлого, сколько настоящего. Одна встреча с репеем разделится на две, ружье превратится в шинель, любовь к князю Андрею померкнет и сделается достоянием холодного рассудка, гениальная догадка об элементарных частицах станет подробностью, о которой не стоило и говорить; все переменится, кроме одного-кроме нас самих и нашего понимания как неизбежности этих трансформаций, так и их необходимости, ибо благодаря им мы способны улавливать непрестанное обновление мира и обновление самих себя.
Воспроизведение трансформирует наши впечатления не только естественным, но и противоестественным образом. Шутки, которые оно любит сыграть с памятью, иногда комичны, а иногда и трагичны. Самая невинная из них – ложное узнавание: вы бросаетесь на шею незнакомому человеку, а затем, бормоча извинения и мечтая провалиться сквозь землю, ретируетесь. Юристам известны случаи так называемого бессознательного оговора: свидетель искренне божится, что все происходило Так, как он рассказывает, на самом же деле все было иначе. Все это варианты ложного воспоминания, которое встречается и у здоровых, и у больных людей. За псевдореминисценцией сможет скрываться и чистейшая случайность, нормальная ошибка памяти, и обыкновенное волнение, и чрезмерное возбуждение, близкое к истерии, когда человек, рассказывая небылицы, сам начинает верить в них, и, наконец, тяжелое психическое расстройство. От псевдореминисценции принято отличать криптомнезию: образ или представление вдруг лишаются характера воспоминания и воспринимаются, как только что пришедшие на ум. Криптомнезии обязаны своим появлением на свет неумышленные заимствования как у других, так и у самого себя. В патологических случаях больные не видят никакой разницы между тем, что происходит в действительности, во сне и в прочитанной книге.
Но самый распространенный из фокусов, которые показывает воспроизведение, это феномен «уже виденного» (часто его называют по-французски – deja vu). Скажем о нем словами Диккенса из «Давида Копперфильда»: «Мы все испытывали иногда посещающее нас чувство, будто то, что мы говорим и делаем, уже говорилось и делалось когда-то давно – как будто в смутном прошлом нас окружали те же лица, вещи и обстоятельства, как будто мы отлично знаем, что произойдет дальше…» Целое стихотворение посвятил этому феномену А. К. Толстой, стихотворение, оканчивающееся знаменитыми словами: «Все это уж было когда-то, но только не помню когда!». Пифагорейцы усматривали в феномене «уже виденного» не обман памяти, а доказательство переселения душ. Душа попадает в те же обстоятельства, которые окружали ее, когда она была в другой оболочке, и, естественно, узнает их. С течением времени это простое и ясное объяснение перестало удовлетворять ученых, и в XIX веке оно подверглось пересмотру. Пересмотр лишил феномен мистической очевидности, но, к сожалению, вызвал среди философов и психологов некоторые разногласия. Рибо и Джемсу казалось, что объяснение следует искать в нарушении механизма оценки узнаваемого. Когда-то человек действительно переживал нечто подобное нынешнему, и вот в сознании поспешили ожить те черты прошлого, которые более всего похожи на настоящее. Приняв частное сходство за общее, человек ощущает на несколько мгновений тождество двух разных впечатлений, С этой точкой зрения не соглашался философ Анри Бергсон. В молодости Бергсон готовился к занятиям математикой, но разочаровался в пей и занялся философией, что и привело его, как известно, к одному из идеалистических течений – интуитивизму. Но прежде чем это случилось, Бергсон пережил серьезное увлечение психологией и, обобщив огромный экспериментальный материал, написал несколько научно-популярных, как мы сказали бы теперь, работ, в основном по проблеме памяти, оказавших большое влияние на современных ему психологов и клиницистов. В одной из них, солидаризируясь с выдающимся невропатологом Пьером Жане, он утверждал, что сразу же после того, как начинается восприятие объекта, начинается и его воспроизведение в кратковременной, или непосредственной, памяти. Если вдруг наше внимание по какой-нибудь причине ослабнет, мы можем принять начавшееся воспроизведение за воспоминание о прошлом. Мы бессознательно постигаем то, что сознаем некоторое время спустя, и сознательное восприятие становится воспоминанием о бессознательном – «воспоминанием настоящего». Нынешние психологи придерживаются этого взгляда, и как мы убедимся в дальнейшем, не без оснований.
Обманы памяти, объединяемые общим термином парамнезии, свойственны многим психическим заболеваниям. Может быть, последнее обстоятельство и заставило некоторых философов, например Бертрана Рассела, сомневаться в достоверности наших воспоминаний вообще. Нам кажется, что сомнение не должно заходить так далеко. Мнение одного свидетеля всегда можно проверить, проанализировав показания других. Просто мы должны знать, что память, при всех своих достоинствах, особа капризная, а судить о ней мы можем, к сожалению, только по одному процессу – воспроизведению. В самом деле, если вы, например, утверждаете, что вы запомнили то-то и то-то, это, строго говоря, означает, что вы способны воспроизвести, вспомнить то-то и то-то. Как это ни парадоксально, никто никогда не ощущал и не наблюдал заломи» нания (а тем более сохранения запомненного) – ни в жизни, ни в специальных экспериментах. Понятия эти введены исключительно ради удобства, чтобы легче было относить события и ощущения к определенному времени. Но и само представление о времени, связанное с представлениями о памяти, изобилует условностями.
ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Л
ет сто назад один парижский невропатолог внушил под гипнозом своему пациенту, чтобы ровно через 123 дня он вложил лист бумаги в конверт и послал его по известному адресу. Когда пациента разбудили, он, как и полагалось, не вспомнил ничего из того, что было на сеансе. Через 23 дня его усыпили снова и спросили, помнит ли он что-нибудь о прошлом сеансе. Он рассказал о поручении и добавил: «Осталось сто дней». Гипнотизер спросил его, считает ли он дни. «Нет,- последовал ответ,- это делается само собой».
Очевидно, все животные и растения обладают способностью ощущать время; если мы начнем двигаться от низших к высшим, она предстанет перед нами как постепенно открывающийся инстинкт. Связанные с природными ритмами теснейшими узами, биологические часы сообщают своим обладателям, когда им надлежит зацвести, приступить к охоте на сверчков, устроить концерт на крыше, отправиться в теплые края. Ход биологических часов зависит от температуры тела; ее постоянство это тот мостик, по которому индивидуальное время сообщается с внешним, физическим временем. Если температура тела повышается, в клетках ускоряется обмен, часы тикают быстрее, и нам кажется, что внешнее время замедляет свой ход. Когда пчелам вводили химический катализатор обмена, они прилетали к кормушке раньше срока. Анатомический субстрат этих часов пока не обнаружен, понятие это скорее функциональное, чем анатомическое.
Бессознательным ощущением времени, которое дают нам биологические часы, связанные со всей автоматикой организма, мы еще ничем не отличаемся от пчел. Отличие приходит вместе с тиканьем психологических часов – со способностью различать прошлое, настоящее и будущее и судить о времени. Продукт сравнительно позднего этапа эволюции, эта способность не так прочна, как двигательный навык или память чувств. Появляемся мы на свет только с биологическими часами, психологические начинают тикать не сразу. Сначала, как полагают психологи, должно развиться чувство пространства, которое и в эволюции появилось гораздо раньше. В «Естественной философии времени» Дж.Уитроу замечает, что эта последовательность отразилась даже на развитии науки, которая целые века изучала одно пространство и только лет сто как всерьез занимается временем. Разумеется, оба чувства связаны между собой, и восприятие пространства влияет на восприятие времени. Однажды был проделан такой опыт. Перед испытуемым психологи поставили три источника света, зажигавшиеся друг за другом, и попросили его так отрегулировать средний источник, чтобы по времени он зажигался точно между первым и вторым. Испытуемый инстинктивно отвел более короткое время интервалу между той парой источников, которые находились на большем расстоянии друг от друга. То, что было удалено пространственно, он решил сблизить по времени. Кроме восприятия пространства, на наше суждение о времени влияет множество других обстоятельств. Некоторые наркотики вызывают иллюзию огромного расширения времени: людям кажется, что за одну ночь они прожили целый век. Гипнотическое внушение, обращенное к подсознанию, способно заставить психологические часы завладеть всей личностью: пока не настанет срок, человек, сам того не сознавая, будет ходячим хронометром. И в обычной жизни мы найдем немало примеров, показываю щих тонкую чувствительность психологических часов к внешним событиям. Если мы ничем не заняты, время ползет для нас черепашьим шагом; если мы поглощены делом да еще не успеваем к сроку, стрелки часов крутятся прямо на глазах. Отпуск, проведенный в санатории, кончается гораздо быстрее, чем в путешествии: смена впечатлений замедляет ход времени. Если вы начали замечать, как бегут годы и это вас угнетает, единственное, что поможет вам закрыть глаза на бег времени, это приток новых впечатлений. Лучше, правда, устроить так, чтобы этот приток никогда не ослабевал, иначе можно пропустить момент, и рутина, куда более коварная, чем старость, да еще умеющая подкрасться к человеку в расцвете сил, завладеет вашей волей покрепче любого гипнотизера, и вам покажется, что ничего нового и интересного больше не происходит, что вы все уже знаете и так, а чего не знаете, и знать не надо.
Как же возникли у людей психологические часы, как образовалась идея времени? Возможно, начало было положено еще тогда, когда наши предки учились думать, а ум действует при помощи последовательных актов внимания, которое неспособно сосредоточиться на двух событиях одновременно. Осознание последовательности впечатлений создавало первое психологическое ощущение их протяженности во времени. Но до самой идеи времени было еще далеко. По мнению французского философа Жана-Мари Гюйо, автора книги «Происхождение идеи времени», она возникла тогда, когда человек стал сознавать свои реакции на удовольствия и на боль и связал с ними последовательность своих мускульных ощущений. «Когда дитя голодно, оно плачет и протягивает руки к кормилице: вот зародыш идеи будущего,- писал он.- Всякая потребность предполагает возможность ее удовлетворения; совокупность таких возможностей мы обозначаем термином «будущее». Время закрыло бы доступ к себе существу, которое ничего не желало бы и ни к чему не стремилось… Будущее – не то, что идет к нам, но то, к чему мы идем ». Идея времени является человеку как сознательный промежуток между потребностью и ее удовлетворением, расстоянием «между чашей и губами». Биологи и психологи соглашаются с Гюйо в том, что в основу идеи времени легла возникшая из осознания различий между желанием и удовлетворением идея цели. Отсюда, кстати, и связь между представлением о времени и представлением о пространстве. Будущее было тем, что лежало впереди и к чему стремились, прошлое лежало уже позади и больше не рассматривалось. Идея цели была идеей движения вперед, и время стало символом движения.
В рассуждениях Гюйо чувствуется влияние популярной в конце XIX века идеи параллелизма между филогенезом и онтогенезом, то есть между эволюцией вида и развитием отдельного индивидуума, причем не только в биологическом, но и в социальном аспекте. Что касается нашей проблемы, этот параллелизм вполне оправдан. Ребенок улавливает идею будущего раньше, чем идею прошлого. У него все впереди; идея прошлого появится тогда, когда появится само прошлое, вместе с сознательной и опосредствованной памятью. То же было и с первобытным человеком.
По мнению этнографов, одно из первых открытий, которое сделал наш предок в своих представлениях о времени, было осознание неотвратимости смерти. Открытие это наполнило его ужасом, как наполняет оно каждого из нас, когда мы совершаем его в детстве. И подобно тому как мы инстинктивно отгоняем от себя мысль о смерти, и, научившись представлять себе любые парадоксы Вселенной, так никогда и не можем представить себе собственное небытие, первобытный человек стал инстинктивно стремиться к тому, чтобы перехитрить время и покрепче закрыть за него глаза. Сделать это можно было одним способом: увековечить прошлое в ритуалах – в одних и тех же жертвах, приносимых богам в одни и те же дни, в одних и тех же обрядах. Жизнь следовало превратить в непрерывное настоящее. Память нашептывала человеку, что все повторяется: день и ночь, солнце и луна. Вот образец для жизни. Непрерывное повторение стало для него главной заботой. Нет, не так уж страшна смерть! Умирая, человек просто переходит в другой мир, и надо позаботиться о том, чтобы ему там было удобно. Надо положить рядом с умершим оружие, одежду, пищу, даже фигурки, символизирующие материнство: в загробном мире все повторится и будут рождаться дети. Человек еще не придумал богов, но уже придумал бессмертие, а с верой в него. установились и первые обычаи – проявления коллективной памяти человечества. Чтобы соблюдать эти обычаи, надо было научиться измерять время. Искусство измерения времени, связанное с познаниями в астрономии, и поражает нас прежде всего в древних цивилизациях. У некоторых народов это измерение стало даже навязчивой идеей. Таковы, например, майя, воздвигавшие свои алтари и обелиски только затем, чтобы отметить окончание какого-нибудь периода, и изображавшие своих богон в виде носильщиков, чьи ноши символизировали собой определенные промежутки времени. Но эти боги шествовали не вперед, от прошлого к будущему, а по кругу. Идея времени отождествлялась с идеей повторяемости одних и тех же событий. Подобная же философия круговорота воплотилась в древнеегипетских мифах об Озирисе и о боге Луны Тоте. Мотивы круговорота звучат еще в философии досократиков, у ветхозаветных пророков. Постепенно они затухают, и с появлением первых преданий и исторических сочинений люди начинают осознавать свое прошлое не как миф, а как неповторимую реальность.
Вместе с развитием представлений о времени развивается и та память, которую принято называть исторической. Чтобы воспроизведенный образ явился заместителем минувшего оригинала, мы должны отнести его к прошлому, мыслить его в связи с именами и событиями, характеризующими его дату. Такое мышление пришло к человеку не сразу. Миллионы лет ушли на выработку памяти движений и памяти простых эмоций. Тысячелетия длилось господство образной памяти и конкретного мышления. Человек учился запоминать все шорохи леса, все запахи зверей, значение собственных жестов и звуков, приемы охоты, способы изготовления орудий. Путешественников изумляла когда-то механическая память дикарей. Без запинки повторяли они за миссионерами их проповеди, не понимая в них ни единого слова. В их детской, почти эйдетической памяти все отпечатывалось мгновенно, но, к досаде миссионеров, столь же мгновенно начинало выцветать: звуки проповедей и даже с грехом пополам понятый их смысл не имели ничего общего с повседневной жизнью дикарей. Образная память, однако, неудобна для общения, а без общения племя не может существовать. Человеку надо было научиться передавать поручения и толково рассказывать о случившемся. В этих пересказах оттачивалась чисто человеческая, социальная память, которой, как говорил Жане, уже свойственна «реакция на отсутствие», то есть сознательное отнесение события к прошлому, к тому, что «уже позади». На этой стадии, по мысли Леонтьева, копии событий начали сгущаться в словеснообразные экстракты. Совершенствуя свою память, человек изобрел первые средства для запоминания – камешки, узелки, зарубки на палочках, служившие символами отдельных мыслей. В эпоху узелков и зарубок он уже умел отличать прошлое от будущего, а когда развилась настоящая письменность, начал постепенно осознавать, что обладает памятью и что она неразлучна с его представлениями о времени.
Древние греки верили в загробную жизнь, но, судя по жалобам Ахиллеса, которого встретил в подземном царстве Одиссей, жизнь эта была малопривлекательной. Тем, кто был озабочен своею судьбой, пифагорейцы и Платон предлагали взамен более захватывающую теорию переселения душ, чьи земные воплощения были к тому же «ослабленными» копиями вечно живущих прототипов. Тут было над чем поломать голову, а это занятие в Элладе считалось весьма почтенным. У Платона связь памяти со временем, хоть он и не говорит о ней прямо, очевидна. Аристотель же не только говорит о ней, но еще и подчеркивает, что без представления о времени памяти быть не может. Если, пишет он, животные и могут обладать памятью, то лишь те, которые имеют понятие о времени.
Принимаясь за размышления о таких категориях, как время и пространство, древние вообще проявляли удивительную проницательность, которой часто не доставало сенсуалистам и эмпирикам XVIII и XIX веков, все па свете выводившим из чувственного восприятия и опыта. Если бы в нашем мире вдруг перестало существовать пространство, то вместе с ним перестало бы существовать и время. Такими словами Эйнштейн объяснял непосвященным суть своей теории, этого детища XX века и чистого, не привязанного к показаниям чувств, логического размышления. Перефразируя Эйнштейна, можно было бы сказать, что время возникло вместе с пространством. Именно так или почти так думали древнегреческие философы. И именно так думают сегодня и астрофизики, сторонники теории расширяющейся Вселенной, обнаружившие, что у мира было «начало».
Когда такое утверждение исходило от церкви, люди серьезные пожимали плечами. Но когда о начале мира заговорила наука, это произвело настоящую сенсацию. Ватикан даже заявил, что теперь между наукой и церковью нет разногласий. Однако заявление было чересчур поспешным: наука подразумевала под началом мира не акт божественного творения, а чисто физический акт, состоявшийся во Вселенной, чью безграничность в пространстве и времени никто не оспаривал. Речь шла не о мире и не о Вселенной вообще, а о нашей Метагалактике. Астрофизики вычислили, что 15 или 17 миллиардов лет назад вес ее галактики были собраны в правещество и вылетели из него в результате взрыва. Правещество могло родиться от одной единственной элементарной частицы, подвергшейся самопроизвольному распаду. Сама же частица образовалась в так называемой статической Вселенной, где до тех пор не было ни одного события, ни одного направленного процесса, то есть в физическом смысле ни пространства, ни времени. Рождение этой частицы и было рождением мира – нашей Метагалактики. За первой причиной возникло первое следствие – распад следующих частиц. Мир стал жить в одну сторону. В том, что причины не могут появляться у нас после следствий, и обнаруживается направленность времени. Что с возу упало, то пропало – таково наше представление о прошлом; чему быть, того не миновать – таково представление о будущем. Второе менее определенно, чем первое, но это и понятно: о прошлом мы знаем, а о будущем только догадываемся. Как говорил Аристотель, прошлое является объектом нашей памяти, а будущее объектом наших надежд.
Этот простой и ясный взгляд на вещи, тем не менее, смущал многих мыслителей последующих эпох. Как можно говорить о прошедшем и будущем, когда первого уже нет, а второго еще нет? Они, конечно есть, но только в нас самих, когда мы о них думаем. Значит, рассуждали эти мыслители, правильнее было бы говорить: «настоящее прошедшего» и «настоящее будущего». Для «настоящего прошедших предметов» у нас есть память или воспоминание, для «настоящего настоящих предметов» – взгляд, воззрение, созерцание, а для «настоящего будущих»-чаяние, упование, надежда.
НЕУЛОВИМАЯ ГРАНЬ
Способ, которым ученики Аристотеля пытались разрешить свои сомнения, в употребление не вошел: терминами «настоящее прошедшего» и «настоящее будущего» мы не пользуемся. Но из их рассуждений видно, как философия раннего средневековья, «осваивая» античное наследие, утверждает и передает последующим поколениям ту дихотомию, то есть деление надвое, которая, по выражению советского ученого М. С. Роговина, автора книги «Философские проблемы теории памяти» (к которой мы и отсылаем читателя, заинтересующегося этими проблемами), «с фатальной неизбежностью» проходит через всю историю воззрений на память. У Платона мы обнаруживаем два типа памяти – априорную и приобретаемую. Аристотель устанавливает еще одну дихотомию: память и воспоминание. Для их последователей представление, объективно относящееся к прошлому или к будущему, едва начавши оживать в памяти, тотчас приобретает двойственный характер: черты прошлого или будущего смешиваются с чертами настоящего. И это не результат трансформирующей работы воспроизведения, а просто принадлежность к самому акту мышления, которое протекает в настоящем и осознается субъектом в терминах настоящего времени («я думаю», «я вспоминаю»). Оба явления, впрочем, так же близки между собой, как близки два известных принципа, на которых покоится квантовая механика. Первый из этих принципов указывает на неизбежность «возмущения», которое вносит в поведение наблюдаемого объекта сам процесс наблюдения, а второй устанавливает так называемую дополнительность в проявлении свойств объектов, примером чему может служить свет, являющийся одновременно и частицей и волной. В аналогии этой нет никакой натяжки. С легкой руки Нильса Бора, склонного распространять свой принцип дополнительности на самые разнообразные явления, включая явления психики и даже искусства, многие исследователи пытаются рассматривать мозг через призму квантовой механики, и эта тенденция, как мы убедимся впоследствии, более плодотворна, чем позиция тех, кто руководствовался обыкновенной механикой и сравнивал мозг то с телефонной станцией, то с вычислительной машиной. Сомнения древних мыслителей, запечатленные в пожелтевших трактатах, показывают, что уже полторы тысячи лет назад человеческий разум разглядел главные проблемы психологического времени и пытался их разрешить. Вместе с тем эти сомнения великолепно отражают ту двойственность, которой и отличается человеческое мышление, не двойственность даже, а именно дополнительность, обусловленную феноменом сознания. Дополнительность эта лучше всего воплощается в хорошо нам знакомой «словесной бесконечности»: «Я думаю, что я думаю, что я думаю…» Вспоминать что-нибудь это в сущности все равно, что думать о чем-нибудь: я могу вспоминать и тут же могу подумать о том, что я вспоминаю. Вот это-то осознаний и связано у нас с идеей времени: даже не называя даты вспоминаемого, мы уже ясно представляем себе, что это наше прошлое; когда же мы еще и датируем то, что вспоминаем, пусть даже приблизительно, наша идея времени обретает конкретную форму, а наша память, как говорят психологи, становится исторической памятью.
Но тут поистине с фатальной неизбежностью дихотомия поворачивается к нам своей новой стороной. Эта сторона была описана Бергсоном в книге «Материя и память». Если я выучил стихотворение, рассуждал Бергсон, я смогу его повторить. В повторении воплотится память-знание, память-привычка, возможно, связанная с какими-то изменениями в мозгу, но относящаяся к настоящему времени, ибо повторение стихотворения происходит только в настоящем и нисколько не осознается как след прошлого. Здесь на место расплывчатого и уязвимого «взгляда, воззрения и созерцания» ставится определенное действие, которое в момент его совершения нельзя отнести никуда, кроме как к «настоящему настоящих предметов». Повторение стихотворения не относится к тому дню, когда я учил его, день этот я могу и позабыть. Но я могу и сохранить воспоминание об этом дне, позабыв само стихотворение. И это будет уже не память-привычка, а память духа, представление, отнесенное к определенному моменту моей жизни и с мозговыми превращениями не связанное. Это представление Бергсон мыслит как «настоящее прошедшего»: настоящее, потому что представление возникает в настоящем, прошедшего – потому что известно, что оно относится к прошлому.
Во времена Бергсона наука еще ничего не знала об изменениях мозговых структур, но об изменениях этих уже строились предположения. Бергсон, внимательно следивший за всеми новостями физиологии и неврологии, допускает связь этих изменений с памятью, но только с памятью-привычкой. Память духа к ним уже отношения не имеет, это как бы освобожденная от всего материального мысль, которую следует описывать только в терминах времени, но не пространства. Поистине замечательная идея! Замечательная, но, к сожалению, не безупречная: временная терминология не исключает пространственную. Даже ничего не зная о мозговых изменениях, мы не можем согласиться с тем, что само стихотворение оставляет свой отпечаток на восковой дощечке, а представление о дне, когда мы его учили, оставить не может. Иное дело само усилие припоминания, сам процесс оживления отпечатков и соотнесения выученного текста с днем учения. Если это и изменение в мозгу, то изменение иного рода. Но никаких оснований лишать припоминание материальной основы у нас нет. Гораздо убедительнее рассуждал Аристотель, говоривший, что ощущение проистекает от внешних предметов, а припоминание от души, но движение, связанное с припоминанием, тоже оставляет в душе некоторый след. Концепция Бергсона о двух видах памяти безупречна лишь с психологической точки зрения: чтение стихов и воспоминание о дне, когда я их выучил, действительно разные вещи; первое не относится к прошлому, а второе относится непосредственно. Тысячи людей могут выучить наизусть одно и то же стихотворение, но ни у одного из них не останется одинакового воспоминания о дне заучивания и одинакового отношения к выученным стихам. Память духа, память историческая, связана с личностью во сто крат теснее памяти-привычки. Расстройство личности сопровождается нарушениями именно исторической памяти: из сознания выпадают не отдельные сведения, а целые периоды жизни. Человек прочтет вам наизусть всего «Евгения Онегина», но ни за что не вспомнит, когда он его выучил.
Разбираясь в том, что в наших представлениях относится к прошлому, а что к будущему, мы не испытываем особых затруднений. Когда мы представляем себе свое прошлое или просто думаем о тех, кого нет сейчас рядом с нами, мы все это, естественно, переносим в свое настоящее, вместе с тем сознавая, что мы не грезим, а вспоминаем. Прошлое это то, чего уже нет, будущее это то, чего еще нет, а настоящее… что такое настоящее? То, что есть сейчас? Но что значит «есть сейчас»? Где границы этого «сейчас», где оно уже стало прошлым, а где еще не стало? Этот вопрос стал камнем преткновения для психологов. В чем же заключается это настоящее время, если не в том, что оно постоянно стремится к небытию, каждое мгновение переставая существовать? Попробуйте уловить его: оно исчезнет прежде, чем вы сможете схватить его, исчезнет, растает, превратится в прошлое! Ведь восприятие, каким бы мгновенным оно ни было, состоит из неисчислимого множества восстановленных памятью элементов, и, по правде говоря, есть уже воспоминание. На практике мы воспринимаем только прошлое, а чисто настоящее есть неуловимая грань в развитии прошлого, въедающегося в будущее.
Психологи попытались измерить минимальный промежуток времени, который разделяет два события, воспринимаемые нами как следующие друг за другом. Выяснилось, что для зрения все сливается воедино, если промежуток меньше одной десятой секунды, а для слуха и осязания- если меньше одной сотой! Слух и осязание оказываются в десять раз острее зрения, когда им приходится отличать один стимул от другого. Но разве радиотелеграфист, принимающий на слух сообщение, способен одновременно размышлять о том, какая буква уже стала достоянием прошлого, а какая еще нет? Для него все сообщение укладывается в акт единого восприятия, и, только сняв наушники, он, может быть, и отнесет все, что с ним происходило, к прошлому. Много было попыток измерить «настоящий момент», но все они оказались безуспешными. В конце концов психологи пришли к выводу, что речь может идти, только об акте единого восприятия, нерасчлененного понимания событий: все события, уместившиеся в этом акте, относятся к одному психологическому времени, и, покуда акт длится, его можно считать настоящим. Для человека, поглощенного делом, все находится в настоящем времени; даже когда он глядит на часы или слышит позывные «Маяка», которые, как ему кажется, следуют друг за другом не каждые полчаса, а каждые пять минут, в его мозгу всплывает только одна мысль, имеющая отношение к времени: «Не успеваю!» С точки зрения измерителя, стремящегося к строгой точности, настоящего времени, конечно, быть не может. Это действительно неуловимая грань между прошлым и будущим. Но с практической точки зрения настоящее, каким бы иллюзорным оно ни было, существует и в восприятии, не поделенном на условные лабораторные акты, длится ровно столько, сколько заняты им наши помыслы. Жане говорил, что настоящее время имеет не психофизическую природу, а социальную: общество накладывает на человека множество разнообразных забот и заставляет его иметь настоящее. Можно добавить, что человек и сам находит себе заботы, вследствие которых, например, счастливые часов не наблюдают и подолгу живут в настоящем, нисколько этим не тяготясь.
Измерить настоящий момент не удалось, но кое-что психологи все-таки измерили, доказав нам, что некоторые проявления психики обусловлены не тонкими движениями души, а определенными закономерностями как эволюционного, так и анатомического свойства. «Повсюду меня преследует один знак,- писал американский психолог Дж. Миллер.- В течение семи лет это число буквально следует за мной по пятам, я непрерывно сталкиваюсь с ним в своих делах, оно встает передо мной со страниц самых распространенных наших журналов. Это число принимает множество обличий, иногда оно немного больше, а иногда немного меньше, но оно никогда не изменяется настолько, чтобы его нельзя было узнать. Та настойчивость, с которой это число преследует меня, не может объясняться простым совпадением».
Такими словами Миллер начал свою статью «Магическое число семь плюс или минус два», увидевшую свет в 1956 г. То было время, когда измеряли все подряд, и психологи, подобно пифагорейцам, толковали об одних числах. У этого увлечения были свои причины. На сцене появилась теория информации, в которой многие увидели универсальный метод анализа самых разнообразных сторон человеческой деятельности, связанной с передачей и переработкой сообщений. Инженеры, проектировавшие устройства для управления автоматическими системами, обратились к психологам за помощью: человека необходимо было поставить в такие условия, в которых он бы мог перерабатывать информацию наилучшим образом, без ущерба для себя и для систем. Так возникла инженерная психология, принявшаяся исследовать психику оператора. В этих исследованиях без измерений было не обойтись: оператор работал в строгих режимах времени и перерабатывал известное количество информации. Теория информации стала одним из инструментов психологии.
Покуда шли эти необходимые и вполне разумные измерения, воображение специалистов и неспециалистов разыгрывалось. Вычислительные машины работали все быстрее, объем их памяти возрастал не по дням, а по часам. Каждый, кому приходило в голову сопоставить машину и мозг, не удерживался от искушения и выводил па бумаге какую-нибудь грандиозную цифру, означавшую емкость человеческой памяти. У того же Миллера получилось 10**6-10**10 двоичных единиц информации, у Джона фон Неймана 10**16 и так далее. Количество информации, которое человек якобы способен переварить за секунду, перемножалось на количество секунд в средней человеческой жизни, за вычетом приходящейся на сон трети: предполагалось, что во время сна человек переваривает только пищу. Некоторые вычислители брали вместо секунд бодрствования количество нейронов, их сочетаний и, наконец, количество молекул в нейронах. Еще в конце XIX века было высказано предположение о том, что все входящие впечатления оставляют отпечаток на молекулах. Успехи молекулярной биологии н генетики превратили это предположение в уверенность.
Астрономические цифры кочевали из одного научно-популярного сочинения в другое. Эта миграция пошла на убыль только к середине 60-х годов, когда многим стало ясно, что машина устроена иначе, чем мозг, и работает на других принципах, и что мозг, возможно, занят не только переработкой информации. Никто не мог поручиться и за то, что все нейроны и их связи, не говоря уж о молекулах, участвуют в этой переработке и, наконец, что вся эта переработка- привилегия одних нейронов. Однако вычислители не желали складывать оружие. Отзвук этого упорства мы обнаружили недавно в брошюре Л. Куприяновича «Резервы памяти», которую издательство «Наука» выпустило в 1971 г. «Человек обладает поистине огромными резервами не только физических, но и умственных способностей,- пишет Л. Куприянович.- Ресурсы мозга необычайно велики: человек в среднем использует лишь 4 процента общего количества нервных клеток (их в мозгу до 15 миллиардов). 96 процентов остается в резерве. Это значит, что умственные способности человека гораздо больше, чем он обычно использует. Лишь немногие эффективно используют возможности своего мозга (существует мнение, что таких лишь 1 процент)».
Так и написано, черным по белому. И не один простодушный человек, умирая от зависти к счастливым избранникам, ломает, может быть, голову над тем, как бы пустить в ход 96 процентов своих резервов. Спешим уверить читателя, что, кроме 15 миллиардов, все цифры здесь – миф. Ни одному физиологу неизвестно, сколько нервных клеток человек использует, а сколько нет. Чтобы это узнать, пришлось бы регистрировать активность каждой из 15 миллиардов клеток на протяжении всей жизни их обладателя. Но даже если бы такая регистрация и удалась, ни один серьезный ученый не взялся бы утверждать, что пассивность тех нейронов, которые ни в чем не участвовали, равносильна их бесполезности. Большинство деталей станка не участвует в непосредственной обработке металла, но без них станок не был бы станком. И почему именно количество «используемых» нейронов определяет собой степень умственных способностей? Тех, кто серьезно изучает психику и мозг, числа давно уже не завораживают. За многими из них кроется либо очень шаткая гипотеза, либо невежество. Двадцать лет тщательных измерений и обсуждения их результатов оставили в арсенале психологии только те числа, которые характеризуют время психических актов, а также объем непосредственного восприятия, или непосредственной памяти. К ним и относится миллерова магическая семерка.
МАГИЯ ЧИСЕЛ
Ограниченность объема непосредственной, или кратковременной, памяти была известна давно. В трудах английских психологов XIX века мы находим упоминания об опытах, в которых испытуемым предлагалось перечислять предметы, показываемые им перед тем на несколько секунд. Но из полученных результатов, кроме общей констатации факта ограниченности непосредственной памяти, никаких закономерностей выведено не было. В отличие от своих предшественников, Миллер руководствовался практическими задачами: надо было измерить «пропускную способность» оператора и выбрать самый удобный код для предъявления ему информации о работе технических устройств. Проведя опыты, Миллер обнаружил, что человек способен с одного раза удержать в памяти в среднем девять двоичных чисел (7+2), восемь десятичных чисел (7+1), семь букв алфавита и пять односложных слов (7 – 2). Все вертелось вокруг семерки. Но не в одной семерке было дело. По теории информации получалось, что каждая из предъявленных групп обладала неодинаковой информативной ценностью. Девять двоичных чисел равноценны 9 двоичным единицам информации (битам), восемь десятичных – 25. семь букв – 33, а пять слов – 50 единицам. Из этого Миллер заключил, что объем непосредственной памяти ограничен не количеством самой информации, а количеством ее «кусков». Эту память интересует не смысловое содержание информации, а ее чисто внешние, физические характеристики: форма, освещенность, соотношение фигуры и фона и т. п. Смыслом интересуется долговременная память, которой надлежит оценить то, что преподнесет ей память кратковременная, и отобрать для будущего все необходимое. В наш кошелек, говорил Миллер, помещается только семь монет. Доллары это или центы, кратковременной памяти безразлично. Их стоимость оценивает память долговременная.
Миллер натолкнулся на семерку в опытах со зрительным восприятием. Затем семерка всплыла наружу при исследовании восприятия слухового. Обнаружила ее сотрудница ленинградской лаборатории инженерной психологии И. М. Лущихина. Она искала способ помочь авиационным диспетчерам, которые получают информацию от нескольких источников одновременно да еще напрягаются изо всех сил, чтобы отделить ее от помех. Лущихиной надо было узнать, как влияют на восприятие длина и глубина фразы. По правилам структурной лингвистики длину она определяла количеством слов, а глубину – соотношением частей, или ветвей: структура фразы изображалась в виде древа. Каждая ветвь получала номер, номера складывались, и выходила оценка глубины. Вот тут-то и появилась семерка. Ветвь фразы соответствовала куску информации – одной монете. Если кусков было больше семи, авиадиспетчер не мог ни схватить всю фразу целиком, ни восстановить ее части, разрушенные помехами.
Число семь следует по пятам не за одними психологами. Многие люди замечают необычайную распространенность этого числа. «Семь раз примерь, один отрежь». «Семь бед – один ответ». «Семеро с сошкой – один с ложкой». «Семеро одного не ждут». «Было у тещи семеро зятьев». Семь дней творения встречаем мы в Ветхом завете, семь коров тучных и семь тощих, семь смертных грехов… Семь мудрецов было у древних греков и семь чудес света. Когда одно из чудес обращалось в прах, падал Колосс Родосский или сгорала библиотека в Александрии, его место занимало другое, но число чудес не менялось. Судьбами шумеров распоряжалось семь богов и богинь, а когда шумер умирал, он входил через одно из семи врат в подземное царство, где его ожидал один из семи судей. Чем дальше в глубь веков, тем больше семерок. В эпоху палеолита человек, кажется, и шагу не мог ступить без них. Вот перед нами знаменитая бляха со стоянки Мальта, на берегу Ангары. Сложный ее узор из ямок и спиралей построен на ритмическом повторении семерки. Вот фрагмент дротика из Западной Грузии: на двух его плоскостях вырезано по семь стреловидных знаков. Вот женские головки. Одна найдена на Дону, другая на Дунае, и на обеих рисунок из семи деталей. А с фресок пещеры Ласко, во Франции, семерки сыплются как из рога изобилия. Десятки тысяч километров отделяли друг от друга немногочисленные племена охотников на мамонтов. В племенах бытовали разные культурно-этнические традиции, племена принадлежали к разным расам и говорили на разных языках. Но магия у всех была одна, все одинаково почитали семерку. Она и сейчас еще жива у народностей, приобщившихся к цивилизации сравнительно недавно. Кеты, живущие в Восточной Сибири, уже не верят ни в чудеса, ни в богов. Кеты верят в самолеты и в транзисторы. Но говорят они так: «В селении этом живет четыре раза по семь человек и еще трое». Орочский охотник знает, что основателей его рода было семеро, а старуха нганасанка убеждена в том, что существует семь трав, исцеляющих от всех болезней. Те же верования и ту же манеру говорить можно встретить у народностей Южной Америки, Африки, Океании. Анализ этих верований, языка и археологических находок заставляет многих ученых думать, что семерка ровесница не только первобытного искусства, но и самого Ноmо sapiens.
Часть исследователей считает, что магия семерки родилась из наблюдений за движением светил и закрепилась в ту эпоху, когда люди учились считать и измерять время. Семь движущихся светил видно на небе; количество дней, в которое укладываются фазы Луны, делится на семь. Но если с космическими семерками можно связать и семь небес в ойротских и кетских мифах, и семь дней творения в Ветхом завете, и даже семь чудес света, то происхождение других семерок, относящихся к сфере быта, искусства, ремесел, влиянием одной астрономии объяснить трудно. Гораздо правдоподобнее выглядит иное объяснение. В процессе эволюции наряду со многими психофизическими константами, вроде известных порогов чувствительности или минимального времени реакции, у человека выработалась и такая постоянная величина, как объем непосредственной памяти. Тысячелетие за тысячелетием эта константа оказывала свое влияние па выработку жизненного уклада и культурных традиций, начиная с приемов охоты и способов постройки жилищ и кончая языковыми схемами и мифологическими сюжетами. Человеку было удобнее всего думать об однородных вещах, если их число не превышало семи, и он стал инстинктивно стремиться к этому числу. Так уж распорядилась природа, которой для ограничения объема непосредственной памяти надо было что-то выбирать. Выбор был невелик. Десятка и пятерка уже украшали собой конечности; этим числам предназначено было положить начало системе счисления. Тройки и четверки показалось, видно, маловато, шестерка была ни то, ни се… Что же касается самого ограничения, то его причину, по-видимому, следует искать в устройстве нервной системы и в особенностях человеческого мышления. Во всяком случае, его целесообразность не подлежит сомнению. Если бы перед нашим мысленным взором толпилось бесчисленное количество образов и представлений, мы бы просто не могли думать. Мы были бы не в состоянии сравнивать новую информацию со старой, улавливать признаки нового, давать им оценку и превращать медные монеты в серебряные перед тем, как опустить их в копилку нашей долговременной памяти. Благодаря магической семерке процессы запоминания, воспроизведения и мышления идут у нас в оптимальном, а не в критическом режиме.
Бывают, правда, обстоятельства, при которых они переходят на критический режим, и кошелек непосредственной памяти растягивается до фантастических размеров. Получается это благодаря нервному напряжению и мобилизации физиологического аппарата, с которым связано преобладание того или иного типа памяти. В XIX веке английский психолог и физиолог Карпентер описал такой случай. Некий актер, обладавший великолепной зрительной памятью, выручая заболевшего товарища, выучил за ночь его роль, запомнив и все реплики его собеседников, на другой день с блеском выступил в спектакле, но, едва опустился занавес, как все реплики и монологи вылетели у него из головы до единого словечка. С тех пор в аналогичном положении побывали, и не раз, тысячи и тысячи отчаянных студентов, которые проглатывали за ночь целый учебник, а то и два, но, выйдя от экзаменатора, и даже с приличной отметкой, мгновенно позабывали все от корки до корки. Не позабыть проглоченный за ночь учебник едва ли возможно: такая порция не переваривается. Кошелек растягивается благодаря тому, что из сознания устраняется весь предшествующий опыт и подавляются все поползновения осмыслить прочитанное. Но это подавление и лишает прочитанное опоры: не подвергшееся ассимиляции с прошлым опытом и не тронутое мыслью содержимое кошелька исчезает как сон, как утренний туман. Что касается нашей долговременной памяти, то ее объем измерить еще никому не удалось, да и вряд ли удастся. Она способна вместить не поддающееся учету количество информации и хранить ее всю жизнь. И самое замечательное, что наша память хранит все впечатления не только в их первоначальной форме, но и в тех формах, которые они принимали в процессе сгущения и переосмысливания. Как писал Фрейд, отмечая это свойство, любое состояние, в котором когда-либо находился хранящийся в памяти материал, теоретически может быть восстановлено, даже если все отношения, в которых его элементы находились сначала, будут заменены новыми. Фрейд называл это свойство странным, мы же находим его вполне естественным. Если бы мы запоминали только первоначальные формы, наш ум и характер пребывали бы в состоянии полного застоя, а наша историческая память изобиловала бы провалами. Сохранение всех форм – одно из важнейших условий единства нашей личности и возможности ее развития.
Но если объем долговременной памяти и не поддается измерению, то ее «пропускную способность» измерить можно. На XVIII Международном конгрессе психологов харьковский психолог П. Б. Невельский рассказывал о своих исследованиях запоминания. Он пользовался теми же методами, что и Миллер, и у него получилось, что из равных по величине сообщений лучше запоминаются те, в которых содержится меньше новой информации. Сознательная долговременная память весьма чувствительна к перегрузкам. На это обстоятельство, впрочем, не раз указывали классики психологии. Анализ, проведенный Невельским, дал подтверждение к традиционному взгляду на причины, по которым долговременная память охотмо впитывает одно и противится другому: легче всего усваивается то, что связано с прошлым опытом, и труднее то, что не связано.
«Бывают случаи настолько необычные,- замечает Честертон в рассказе «Причуда рыболова»,- что запомнить их именно поэтому просто невозможно. Если событие совершенно выпадает из общего порядка вещей и не имеет ни причин, ни следствий, ничто в дальнейшем не воскрешает его в памяти… Оно ускользает, как забытый сон…» У людей открыты глаза лишь на те стороны явлений, которые они уже научились различать, которые уже пустили корни в их душе. Дарвин рассказывал, что жители острова Фиджи, которых он наблюдал, выказывали изумление при виде маленьких лодок европейцев, но словно бы совсем не замечали больших кораблей. У фиджийцев имелись свои лодки, только другой формы, корабли же были им не то что в диковинку: они никогда не имели с ними дела, и, воспринимая их как грезу; смотрели на них, как на пустое место. «Каждый новый факт мы относим под известную рубрику, обнимающую группу минувших впечатлений, и неохотно перекраиваем установившиеся рубрики в угоду новым фактам,- комментирует Джемс рассказ Дарвина.- Явления, идущие вразрез с привычными рубриками, мы рискуем либо забыть, либо истолковать ошибочно. Но, с другой стороны, ничего не может быть приятнее умения ассимилировать новое и старое, разоблачать загадочность необычного и связывать его с обычным. Победоносное ассимилирование нового со старым есть типичная черта всякого интеллектуального удовольствия. Жажда такого ассимилирования и составляет научную любознательность». Заметьте: не жажда новизны, а жажда ассимилирования! Сопоставьте этот самоанализ ученого с признаниями тех меломанов, которые утверждают, что истинное наслаждение от музыки они получают тогда, ( когда им удается предвосхитить своей интуицией развитие музыкальной темы, и вы получите строгую закономерность. Абсолютная новизна озадачивает и тяготит память, постижение нового только тогда доставляет удовольствие и приносит хорошие плоды, когда его можно сравнивать со старым и хотя бы отчасти угадывать. Для усвоения новизны необходима известная игра ума, игра в узнавание, необходимо, чтоб ум чувствовал свою силу, свою способность распоряжаться этой новизной.
Нет нужды доказывать, насколько губительна умственная лень, которой ничего не стоит укорениться в нашей душе и закрыть окошко, через которое мы дышим свежестью обновления. Стоит нам ослабить свою волю или вообразить, что мы все на свете уже постигли, и пустить свою мысль по проторенной дороге, как наш интеллект и наши чувства начнут покрываться ржавчиной обывательских привычек и предрассудков. Но если стремление к новизне превращается в самоцель, в род охоты, оно становится таким же рутинным стереотипом, как и безразличие к ней. Репетилов стоит Митрофанушки. Наши блуждания между Сциллой равнодушия к новому и Харибдой неумеренного пристрастия к нему доказывают, что мозг наш нуждается в здоровом рационе не меньше, чем желудок, вернее, весь организм, равно страдающий как от недоедания, так и от переедания. Очевидно, оптимальность режима запоминания определяется оптимальностью рациона, которая, в свою очередь, зависит от характера связи новых кушаний с прежними. И каждый из нас, по-видимому, должен придерживаться своего рациона так же неукоснительно, как и врачебных предписаний. К сожалению, количество новизны, необходимой для «победоносной ассимиляции», можно измерить только в лаборатории. Как угадать его в жизни, как определить норму собственной восприимчивости и выписать себе рецепт? Метод такого отгадывания еще не создан, но это не должно нас обескураживать. Статистический анализ обширного материала, проведенный в 1971 – 1972 гг. новосибирскими социологами, применившими надежные коэффициенты и воспользовавшимися услугами быстродействующих ЭВМ «БЭСМ-6» и «Минск-22», показал, что в подавляющем большинстве случаев мы свои нормы пока не выполняем.
ВНАЧАЛЕ БЫЛ ОБРАЗ
Едва мы коснулись экспериментальных исследований, как перед нами возникла новая дихотомия: память разделилась на кратковременную и долговременную. Идея необходимости изучения памяти в терминах времени стала реальностью, как только дело дошло до наблюдения за процессами памяти в их динамике. Утверждение этой новой дихотомии сыграло решающую роль как в психологии, так и в физиологии памяти. Благодаря ей психологи нашли ключ к пониманию внутренней связи между восприятием, памятью и мышлением, а физиологи – к пониманию механизмов формирования отпечатков. Мы могли бы, конечно, сразу заняться физиологией, но без знакомства со всеми основными взглядами психологов на природу памяти и с результатами неврологических исследований нам не удастся как следует оценить поиски и находки физиологов. Продолжим поэтому исследование новой дихотомии.
Отделив память духа от памяти-привычки, Бергсон возвел первую в ранг истинной памяти, а вторую, обращенную в настоящее, отождествил с восприятием. Дальше он стал тщательно анализировать память и восприятие, подчеркивая, что основу последнего составляет непрерывное действие, активное вглядывание в мир, связанное с решением практических задач. Так возродилась Концепция биологической активности, находившаяся в забвении со времен Аристотеля, который все проявления памяти связывал с движением. Акцент на действие ставили Бергсону в заслугу все последующие исследователи, от Жане до Леонтьева. Однако этой идее суждено было приобрести всеобщее признание не сразу, а лишь к середине нашего столетия, когда был окончательно изжит бихевиоризм, отказывавший мышлению и сознанию не только в активности, но и в самом праве на существование. Для удобства анализа Бергсон оперировал понятиями «чистая память» и «чистое восприятие». Однако закончив анализ, он заметил, что такое разделение условно: ни в одном психическом акте чистую память и чистое восприятие встретить невозможно. Едва только восприятие включается в работу, как следом за ним в работу включается и память, без которой немыслимо ни установить признаки попадающих в поле зрения объектов, ни дать им оценку. Более того, память, обладающая представлением о цели действия, руководит восприятием и направляет его работу. То, что мы воспринимаем и запоминаем, в значительной степени определяется тем, что мы вспоминаем. К сожалению, эта простая и очевидная истина была обречена на долгое забвение: в силу различных обстоятельств восприятию стали отводить второстепенную роль и, сводя его чуть ли не к простому ощущению, все дальше и дальше отрывали от памяти. Это продолжалось до тех пор, пока нынешнее поколение психологов не заинтересовалось по-настоящему, что происходит с информацией после того, как она попадает на сетчатку глаза.
Наблюдая за деятельностью операторов, психологи уяснили себе сначала, как взаимодействуют в реальных обстоятельствах кратковременная и долговременная память. Анализ этого взаимодействия привел к тому, что классическая дихотомия стала расплываться, и к двум разновидностям памяти добавилась третья – оперативная память. Что это такое, мы поймем сразу, если представим себе, что делает типичный оператор – тот же авиационный диспетчер. Диспетчер занят переработкой информации. Она поступает к нему от приближающихся и готовящихся к взлету самолетов, от метеослужбы, от соседних аэропортов и попадает в его кратковременную память, которая обязана некоторое время удерживать все самое важное перед его мысленным взором. Туда же непрерывным и большей частью неосознаваемым потоком поступают необходимые сведения из долговременной памяти. Расчленяя этот поток на элементы, мы обнаружим в нем и автоматические навыки обращения с приборами, и затверженные правила, диктующие диспетчеру, как поступать в тех или иных обстоятельствах, и фрагменты ситуаций, встречавшихся прежде, и образы известных ему пилотов, даже их характеры. Точно так же взаимодействуют кратковременная и долговременная память и у самих пилотов, у космонавтов, у штурманов, – у всех, кто занят переработкой информации. Психологи нашли аналогию между шахматной игрой и деятельностью оператора. Каждый ход меняет расположение фигур, которое должна удерживать кратковременная память, обращаясь в то же время к долговременной за сведениями о сходных партиях. Читая эти строки, вы тоже вовлекаете в игру обе памяти: одна удерживает перед вами смысл прочитанного, а другая сопоставляет новые сведения с известными, отсеивает лишнее и в соответствии с вашими интересами отбирает себе то, что достойно длительного хранения. И получается, что как только мы начинаем решать какую-нибудь задачу, связанную с переработкой даже небольшого количества информации, деление памяти на кратковременную и долговременную становится не менее искусственным, чем делением памяти на чистое восприятие и чистую память. Обладая разными характерами, разными объемами и разными задачами, они все равно работают сообща; из этого взаимодействия рождается динамический ансамбль образов. Часть образов приходит из кратковременной памяти, часть из долговременной, но, вступая в контакт, и те и другие теряют свою индивидуальность, забывают свое происхождение и превращаются в оперативные единицы информации. Кратковременная же память, питающаяся восприятием и долговременной памятью, превращается по сути дела в память оперативную. Дальнейшую судьбу оперативных единиц нетрудно угадать. Покуда продолжается действие, их ансамбль будет в пределах магической семерки непрерывно менять свои очертания, стараясь поспеть за переменами в реальной обстановке и моделируя ее. Вот почему психологи часто говорят не об оперативной памяти, а об оперативной информационной модели, или даже об оперативной образно-концептуальной модели (ООКМ), то есть слагающейся как из чувственных образов, так и из представлений. Когда действие прекращается, модель, естественно, распадается. Часть ее элементов, которая может пригодиться для, дальнейшего, попадает в долговременную память, а часть забывается навсегда. Эти обреченные на забвение единицы можно сравнить с промежуточными результатами, которые получаются в процессе решения математической задачи и уходят со сцены, как только задача решена.
Под влиянием этих наблюдений дихотомическая тенденция чуть было не стала увядать: часть исследователей определенно склонялась к тому, чтобы признать в качестве единственной реальности только оперативную память. И это, конечно, справедливо, если рассматривать психику такой, какой она предстает перед нами не в опыте, а в жизни. Однако новые факты заставили психологов не только вернуться к дихотомии, но и заняться изучением целой гаммы маленьких памятей, выросших из анализа восприятия и наблюдения за путешествием информации от сетчатки до ООКМ. Психологов давно интересовало, запоминает ли что-нибудь глаз во время так называемых коротких экспозиций, мгновенных предъявлений сигналов- цифр, букв или геометрических фигур. После опытов американского психолога Дж. Сперлинга стало ясно, что такая сверхкратковременная зрительная память действительно существует. Экспозиция закончилась, а человек еще продолжает видеть буквы или цифры и успевает назвать их, причем заметно больше, чем вмещает миллеровский кошелек. Профессор В. П. Зинченко вместе со своими сотрудниками продолжал опыты над сверхкратковременной памятью. Испытуемые, которым показывали таблицу с 36 цифрами, в каждом отчете называли 10-12 цифр. Оказалось, что объем этой мимолетной памяти ограничен не психическими условиями, а физическими – разрешающей способностью сетчатки и явлениями иррадиации. Некоторое время сетчатка хранит всю предъявленную ей информацию, сколько бы ее ни было. Перед опытом к глазам испытуемых прикрепляли присоски с микроскопическими датчиками. Каждое перемещение глаза регистрировал осциллограф; анализируя записи движений глаз, психологи видели, как восприятие, направляемое долговременной памятью, старается преодолеть избыток информации, отобрать из нее ту, которую следует удержать, и как эта полезная информация попадает в оперативную память. Движения глаз были очень похожи на те, которыми сопровождается решение интеллектуальных задач, когда восприятие отбирает в оперативную память необходимую информацию из памяти долговременной. Это был настоящий творческий процесс, с элементами фантазии и внезапными озарениями интуиции. Творчество начинается у самого порога восприятия. Такой вывод сдедал Зинченко из своих опытов и приступил к дальнейшим исследованиям. Первым их итогам была посвящена вечерняя лекция, прочитанная Владимиром Петровичем на IV съезде Всесоюзного общества психологов СССР, который состоялся в июне 1971 г. в Тбилиси.
Многие поколения исследований задавались вопросом о том, как мы видим вещи такими, какими они есть на самом деле, говорил Зинченко. Было предложено немало гипотез, сформулированных в терминах философии, психологии, физиологии, биофизики, математики, искусствоведения. История науки о зрении отметит, как под влиянием бихевиоризма, чересчур широкого толкования условного рефлекса и, наконец, кибернетических идей в психологии резко упал интерес к образным явлениям. Он сохранялся только в психиатрии, где игнорировать образные феномены было просто невозможно. Теперь образы возвращаются из изгнания, обязанные своей реабилитацией как внутренней логике исследований восприятия, так и новым дисциплинам – инженерной психологии, дизайну.
Инженерная психология все чаще и чаще обращается к теории искусства, которой известно, что глаз способен не только воспринимать, но и структурировать мир, видеть его в новых формах и что историю изобразительных средств живописи можно рассматривать как историю овладения арсеналом иллюзий восприятия. Зрительные иллюзии возникают и у операторов. Восприятие превращается в арену борьбы между действительностью и иллюзией, между реальностью и фантазией, и это. делает анализ образования форм одной из главных задач психологии. Причем речь идет не только о проблеме формирования образа данного объекта, но и о проблеме рождения образа нового объекта – о творческом процессе.
При формировании образа реального объекта воспринимающие системы подстраиваются к средствам воздействия: в движении руки, ощупывающей предмет, в движении глаза, обегающего контур, в движениях гортани, воспроизводящей звук, создается копия, сопоставляемая с оригиналом. Сигналы рассогласования, поступая в нервную систему, корректируют работу моторных механизмов. Перед нами типичная обратная связь. Но подчинение восприятия объекту – лишь одна из функций обратной связи. Объект может не претерпевать никаких изменений, а субъективно воспринимаемый образ будет меняться; как говорят психологи, между оптическим полем и феноменальным полем нет однозначного соответствия. Феноменальное поле зависит не только от внешних стимулов, но и от внутренних манипуляций зрительной системы, необходимых для сопоставления образа с эталоном, который предлагает восприятию долговременная память. Образ трансформируется до тех пор, пока соответствие не будет достигнуто. И тут механизм обратной связи уже иной. В первом случае обратная связь направлена от образа к объекту, а во втором от задачи к образу. Встречаются эти потоки как раз в кратковременной памяти. Зрительные манипуляции выполняют у нас ту же роль, что и действия с предметами у начинающего познавать мир ребенка, чьи исходные мыслительные операции формируются сначала не на словесной, а на чувственной основе. Среди всех образов зрительные требуются мышлению больше всего. Они гораздо шире охватывают ситуацию, по сравнению со слуховыми или с двигательными, и, главное, охватывают ее сразу, в один момент. Субъективная одномоментность зрительного представления помогает нам мгновенно проникать в суть явления. Вот почему Зинченко выбрал для исследования именно зрительное восприятие и связанную с ним кратковременную память.
Попадая в кратковременную память, информация подвергается преобразованиям, которые психологи изображают в виде условной блок-схемы. Попытаемся эту блок-схему изложить словами. Прежде всего объект должен быть отражен настолько полно, насколько позволяет разрешающая способность воспринимающей системы. Эту функцию выполняет блок сенсорной памяти, которую мы ненаучно называли мимолетной. Содержание этой памяти целиком зависит от интенсивности, контрастности и других физических свойств стимулов. Так как сенсорная память должна все время освобождаться для приема новой информации, отражение объекта хранится там не больше 300 микросекунд, а потом в виде следа стимула попадает в центральную часть зрительной системы. Американский исследователь У. Нейсер назвал этот след иконой, отчего и блок его хранения получил название иконической памяти. Там след может храниться уже 1000 микросекунд. После того как были обнаружены эти блоки, психологам удалось, наконец, объяснить стабильность воспринимаемого мира. Почему весь мир не дрожит у нас перед глазами, если сами глаза ни на миг не прекращают своих движений и дрожаний? Его стабилизирует иконическая память.
Информация, хранящаяся в иконической памяти, подвергается обработке в блоке сканирования: сканирующий механизм исследует и передает ее дальше, в буферную память опознания. В этом блоке, испытывающем на себе воздействие оперативных гипотез, начинается выделение информативных признаков, оценка информации, ее перевод на язык оперативных единиц восприятия и ее отбор, обусловленный нашими задачами и личными установками. Все ненужное оставляется за бортом. Теперь информации необходимо придать форму, пригодную для использования в речи или в других ответных реакциях. Этим занимается блок формирования программ моторных инструкций, где информация превращается в настоящий образ, моторные же инструкции реализуются в блоке повторения, который завершает всю цепь. Однако измерения скорости, работы блоков показали, что программа моторных инструкций создается раз в десять быстрее, чем выполняется. Не объясняется ли это тем, что от человека часто вовсе не требуется воспроизвести увиденное, а требуется только узнать объект, оценить его и сделать соответствующий выбор? При этом информация, признанная бесполезной для данной задачи, не теряется безвозвратно, а может быть использована в дальнейшем. Но если это так, значит здесь уже полным ходом идет сравнение новых объектов с эталонами памяти. Так оно и оказалось. Психологи провели целую серию опытов: в блоке опознания хранились эталоны, представляющие собой потенциальные программы моторных инструкций, которых, таким образом, не надо было специально формировать. Задача испытуемого заключалась в том, чтобы «зачеркнуть» потенциальные и избыточные программы. Он хранил в памяти определенный набор цифр, и от него требовалось узнать, какую цифру из этого набора не предъявили ему в новом наборе, то есть определить отсутствующий элемент. Поскольку цифры предъявляли в случайном порядке, делать это механически было нельзя: с программами приходилось совершать упорядочивающие манипуляции. А это означало, что между блоком формирования моторных инструкций и блоком повторения надо ввести еще один блок-блок-манипулятор. Этот блок манипулирует не принявшими словесную форму программами моторных инструкций, или оперативными единицами восприятия и памяти.
Вот тут мы подходим к самому главному. Возможно ли преобразование одних оперативных единиц в другие, превращение медных монет в серебряные, которое так же, как и манипуляции с программами моторных инструкций, осуществлялось бы еще до блока повторения? Способна ли кратковременная память заниматься перекодированием или это удел только долговременной памяти? Зинченко провел опыт с двумя группами испытуемых. В одну вошли опытные операторы, владеющие двоичной и восьмеричной системой счисления, а в другую, контрольную, люди, не знающие этих систем. Испытуемым предъявляли по 18 двоичных цифр, причем время предъявления было так мало, что обработать информацию в блоке повторения было невозможно. И однако испытуемые, владеющие навыком перекодирования, очень хорошо воспроизводили ее. Такие же результаты были получены и у художников, которые применили другой способ обработки информации. Они видели нули как фон, а единицы как фигуры, и это помогло им уменьшить число объектов запоминания. Зинченко ввел в схему еще один блок – блок семантической обработки информации. У людей, имеющих известный навык, он находится перед блоком повторения, а у неопытных после него. А это значит, что у опытного человека в блок повторения и соответственно в слуховую память попадает не исходная информация, данная в зрительной форме, а только извлеченный из ситуации смысл. Оценка ситуации может происходить сразу, без расчлененного восприятия и запоминания ее элементов. В этом-то и заключается сущность интуиции. Вот почему, когда квалифицированным шахматистам предъявляют на короткое время сложные позиции и просят потом их воспроизвести, они не могут вспомнить расположения фигур, но зато безошибочно оценивают соотношение сил. Блок-манипулятор и блок семантической обработки, имеющие дело не только с поступающей информацией, но и с эталонами, со сформировавшимися ранее оперативными единицами, ответственны за то, что сформированный образ может благодаря субъективным оценкам оказаться непохожим на реальной объект. Чтобы реальность не искажалась, человек должен иметь перед внутренним взором стабильный контрольный образец. Таким образцом служит непреобразованная информация, находящаяся в иконической памяти. Для этого-то она и хранится в ней так долго.
Теперь нам становится яснее формирование и работа оперативной образно-концептуальной модели. В нее может поступать информация от разных блоков зрительной и слуховой системы, причем как в форме первичного отображения реальности, то есть из иконической памяти, так и в форме вторичного и «многоричного» отображения. Модель представляет собой многомерное отображение реальности, описанное на разных языках. Но первым из этих языков является язык зрительного образа. Почти весь период узнавания протекает при наибольшей активности зрительной системы, и лишь к концу этого периода в работу вступает артикуляционный аппарат. Только после сличения и выбора соответствующего зрительного эталона изображениям присваивается наименование. Работа памяти, как и работа мышления, начинается с образа.
ДРАМА НА ДОРОГЕ РЕКОЛЕ
Спешу поздравить читателя с новой дихотомией. Принявшись за исследование своей «пропускной способности», мы в сущности вступили в обширную область разнообразных условий, влияющих на прочность памяти. Среди этих условий одно из первых мест занимает повторение. «Repetitia est mater studiorum» (повторение – мать учения),- говаривали еще древние римляне, которым тоже хотелось внести свой вклад в решение проблемы памяти. Наши педагоги следовали этому правилу неукоснительно. Что касается дихотомии, то она заключается в разделении запоминания (для удобства исследования берется первый этап памяти) на произвольное, или преднамеренное, и непроизвольное. Первое-то и зиждется чаще всего на повторении.
Надо отдать должное Эббингхаузу, после его классических исследований повторения психологам прибавить к этому было уже почти нечего. В лучших традициях науки Эббингхауз экспериментировал на самом себе. Он брал ряды бессмысленных слогов, состоящих из двух согласных и одного гласного, и выучивал их наизусть. Отсутствие смысла должно было исключить возникновение ассоциаций и позволить исследовать механическое запоминание в чистом виде, без вспомогательных приемов. Через час после заучивания Эббингхауз настолько позабыл свои слоги, что для полного их воспроизведения вынужден был выучить половину слогов заново. Через восемь часов он забыл две трети выученного. Сразу же после заучивания материал стремится улетучиться, удержать его можно только немедленным повторением. Но если материал сложен и для его заучивания требуется много повторений, то выгоднее не разделаться с ними сразу, а растянуть их. Эббингхауз взял ряд из 12 слогов и выучил его наизусть, повторив 68 раз. На другой день он попытался его воспроизвести. Часть слогов позабылась, и для нового заучивания понадобилось 7 повторений. Тогда он распределил повторения на три дня и перед началом каждого заучивания один раз прочитывал слоги. На четвертый день для воспроизведения ему потребовались те же 7 повторений, но зато предшествовало им уже не 68 повторений, а только 38. Разумное распределение повторений экономит почти половину сил.
Человек, которому предъявляют ряд слов, может через несколько часов воспроизвести больше слов, чем сразу же после прочтения. Это явление психологи называют реминисценцией; чаще всего она проявляется, когда материал обширен и его не требуется выучить наизусть. Реминисценция хорошо нам знакома: часто мы прерываем занятия, чтобы дать выученному отлежаться. Понимаем мы и в чем тут дело: от усиленной работы мозг переутомился (физиолог скажет, что корковые центры охвачены торможением), ему стало трудно воспроизводить выученное, он отдохнет, и все пойдет гладко. Такому торможению обязан еще один феномен, который называется фактором края. Слова, которые находятся в начале и в конце ряда, запоминаются и воспроизводятся лучше тех, которые находятся в середине. Феномен этот легко пронаблюдать на самом себе: попробуйте выучить, а потом воспроизвести стихотворение, и первыми в вашем сознании возникнут рифмующиеся слова, за ними слова, с которых начинаются строки, и уж потом слова, находящиеся посередине. Переход к следующему слову тормозит следы предыдущее, а стремление запомнить или припомнить предшествующее мешает операции с последующим. В первом случае происходит ретроактивное, то есть «действующее назад», торможение, а во втором проактивное, то есть «действующее вперед». Слова, стоящие с краю, такого двойного торможения не испытывают, а потому и проявляются первыми. С ретроактивным торможением во многом совпадает еще одно явление, которое психологи считают одной из главных причин забывания. По аналогии с известным явлением в оптике оно называется интерференцией. Тот, кто учил психологию по учебнику Теплова, помнит, возможно, рекомендацию: «Если вам предстоит готовить уроки по алгебре, истории и литературе, то порядок «1) история, 2) алгебра, 3) литература» будет много продуктивнее порядка «1) история, 2) литература, 3) алгебра». Чем больше новый материал похож на старый, тем хуже этот старый запоминается. Физиологии объясняют это тем, что сходными раздражителями начинают заниматься те же самые мозговые клетки, и новые раздражители, накладываясь на старые, как бы не дают им ходу. Но тепловская рекомендация хороша лишь в том случае, если все виды материала обладают для нас одинаковой трудностью. Не будучи силен в математике, я бы, например, всегда начинал с нее, чтобы голова была свежей и не было бы никакого в ней предыдущего материала. Впрочем, часто самое трудное мы откладываем на самый конец: самое трудное ведь самое противное, и при одной мысли о нем мозг охватывает торможение, Которое физиологи метко окрестили охранительным. Но подобные случаи уже относятся к проблеме воли, а волей психология, на наше счастье, не занимается уже лет пятьдесят, и мы последуем ее примеру.
Повторение, однако, повторением, но никогда мы ничего не выучим, если у нас не будет намерения запомнить. Когда-то среди психологов был популярен рассказ о сербском психологе Радоссавлевиче и об его испытуемом. Испытуемому был предложен ряд из восьми слогов, он прочитал его двадцать раз, прочитал тридцать, прочитал сорок – никакого толку. Наконец, Радоссавлевич остановил его и, не надеясь на успех, спросил, может ли тот повторить слоги наизусть. «А разве я должен был их учить наизусть?» – изумился тот, повергнув экспериментатора, забывшего, оказывается, предупредить его об этом, в смущение, повторил слоги еще несколько раз и без запинки прочитал их наизусть. Этот случай заставил Радоссавлевича сравнить с этим испытуемым и самого себя, и своих коллег. Сколько раз во время опытов экспериментаторам приходится читать одни и те же ряды слогов или цифр, но заставьте их повторить хоть что-нибудь наизусть. Тщетно: они же сами не намеревались ничего запоминать. На прочность запоминания влияет, кроме того, и «временная установка»: одно дело сказать себе, что выучить надо к определенному дню, и другое – выучить навсегда. После того как срок пройдет, выученное быстро начнет забываться.
Нет нужды доказывать, что бессмысленный материал запомнить и удержать в памяти в тысячу раз труднее, чем осмысленный. Несмотря на намерение и установки, механическая память спешит сдать свои позиции смысловой памяти и инстинктивно начинает искать опору в ассоциациях. Опыты, проведенные в 20-30 годах гештальпсихологами, яростными противниками ассоциационистов, показали, что человек, затвердивший ряд "бессмысленных слогов, сохраняет их в памяти лишь потому, что ему удалось придать им искусственный смысл и организовать их в структуру (по-немецки «гештальт».) Повторяя про себя бессмысленные слоги или слова, он неожиданно обнаруживает звуковое сходство между ними и известными словами и именами, и перед его мысленным взором выстраивается наглядная картина с определенным сюжетом, часто нелепым и комическим, но благодаря этой нелепости прекрасно запоминающаяся. Мнемонический прием формирует образ, и образ становится надежной опорой памяти. Как это происходит, мы видели на примере Ш., превращавшего вполне бессмысленные для него итальянские стихи в столь же бессмысленную для нас, но полную для него картину, где «selva» была Сильвой, под которой ломались подмостки. Вот почему, чем человек старше, тем, как это ни парадоксально, он лучше заучивает бессмысленный материал. Свежая и сильная механическая память ребенка пасует перед изобретательной памятью взрослого; у ребенка, чьи знания и словарный запас меньше, не возникает необходимого количества ассоциации, чтобы удержать бессмысленный текст. По той же причине, как полагают психологи, дети предпочитают держаться поближе к тексту и не любят рассказывать его «своими словами». У них еще мало «своих слов». Но это вовсе не значит, что ребенок не понимает текста и не способен уловить в нем главное. Он все прекрасно понимает, он просто думает, что «так надо», и ленится отойти от готовой формы, потому что еще не приобрел навыка?
Стремление улавливать главное возникает само собой и очень рано становится определяющим фактором во всякой переработке информации. Когда начались первые споры с ассоциационистами, Бинэ продиктовал младшим школьникам короткий рассказ: «Старая крестьянка, 64 лет, вдова Мепс, жившая в маленьком доме на пустынной дороге Реколе, повела свое стадо в поле. Пока она собирала траву для своих животных, змея, спрятавшаяся в хворосте, бросилась на нее и укусила ее несколько раз в кисть руки. Бедная женщина от этого умерла». Двадцать пять школьников из сорока не воспроизвели ни дом, ни пустынную дорогу, пятнадцать забыли имя и возраст женщины и собирание травы, десять не запомнили, что змея сперва бросилась. Никто не забыл ни «старую крестьянку» (фактор края!), ни укус змеи, ни стадо (драма произошла в заботах о стаде). Забылось только второстепенное. Из опыта следовало, что внимание детей, не говоря уже о взрослых, стремится сосредоточиться на главном, что случайные ассоциации в работе мысли играют подчиненную роль, а смысловые связи первостепенную.
В своей книге «Проблемы психологии памяти» А. А. Смирнов приводит рассказ одного известного актера МХАТа о том, как он работает над ролью. Ни зрительная, ни слуховая, ни двигательная память, говорил актер, не служат ему опорой при запоминании роли. Он учит не текст, а роль и хочет знать не что он будет говорить, а что играть: как войти, как поздороваться, какие тут уместны эмоции, как развивается мысль в монологе… Вызубрить на слух можно, но лучше этого не делать: выработается неверная интонация, а для роли это гибель. Сначала интонация, слова придут потом. Действие – в первую голову. Действие и понимание, тогда все запомнится само собой и как надо. Намерение запомнить, или мнемическая установка, существует, но оно пока отодвинуто в сторонку. Сначала всем ходом событий распоряжается установка на понимание.
Обе установки при произвольном, преднамеренном запоминании могут и помогать, и мешать друг другу. Смирнов описывает десятки случаев, в которых проявляются их сложные, иногда запутанные взаимоотношения. Часто приходилось ему слышать сетования испытуемых на то, что они ничего не запомнили, потому что не успели понять, или потому, что все внимание было поглощено пониманием. А иногда, напротив, испытуемые признавались, что в попытках запомнить детали теряли смысл, и все шло прахом. В первом случае оказывалось, что материал был сложен и все силы ушли на то, чтобы разобраться в нем, а во втором понимание еще не успело начаться, а человек уже бросился запоминать. Им овладела «иллюзия понимания», и установка на понимание была парализована установкой на запоминание. Многое зависит и от самого материала. Если это насыщенный деталями описательный текст, мнемическая установка может расцвести преждевременно, но это нестрашно: материал несложен, и понимание не заставит себя ждать. Хуже, если запоминание захватит ключевые позиции при усвоении объяснительного, например, учебного текста: воспроизведение будет состоять из нелепо сочетающихся фрагментов разнородных формулировок. Механизмы понимания и запоминания не совпадают. Чем точнее и полнее мы намерены усвоить материал, тем отчетливее видна разница между ними. Ум наш не в состоянии делать два дела зараз. Какой же установке принадлежит право первенства? Если вам требуется сдать экзамен завтра в полдень, а к учебнику вы еще не прикасались, то тут ничего не попишешь: придется совершить насилие над своей оперативной памятью. Но я уверен, что вам, дорогой читатель, незнакомо ни битье баклуш, ни точение ляс, и вы никогда не попадаете в подобные критические положения. Так что, как сказал поэт, во всем будем сначала «доходить до самой сути», а все, что надо, запомнится само собой. Классические опыты А. А. Смирнова и П. И. Зинченко с непроизвольным запоминанием не оставляют в этом никаких сомнений.
Однажды, еще во время войны, Смирнов проделал эксперимент над своими собственными коллегами по Институту психологии. Собрав их в своем кабинете, он предложил каждому рассказать, что произошло с ними по дороге на работу. Первый вспомнил, как в метро все досадовал на то, что сел в последний вагон и не удастся теперь раньше всех добежать до эскалатора… Какие-то люди регулировали потоки пассажиров… Когда выходил из дому, спохватился, что забыл книжечку билетов… Хотел было стать в очередь за газетой, но передумал. Больше не запомнилось ничего. Второй тоже начал свой рассказ с того, что мешало идти: с толпы около ГУМа, с потока машин. К счастью, Манежная площадь не была завалена снегом, и ее удалось пересечь по диагонали. По пути пи о чем не думал, кроме как о последней кинокомедии, да и то, может быть, это было дома. Третий столкнулся в метро со знакомым. Они потолковали о событиях на фронте и попытались прочесть сводку Совинформбюро, заглядывая через плечо к пассажирам, читавшим газеты. У четвертого оборвался на ботинке шнурок, и в рассказе появился чистильщик, у которого были куплены шнурки, и гражданин в каракулевой шапке, задававший чистильщику какой-то вопрос. Были в рассказе еще кое-какие детали, но все вертелось вокруг шнурков, все мысли были о них. Что же запомнилось людям, не заботившимся о том, чтобы запомнить? Только то, что мешало или что помогало решать главную задачу, а задача была одна – не опоздать на работу. У людей была одна установка, и память целиком подчинялась ей. Все вылетело из головы, кроме вех, отмечавших этапы решения задачи – толпы на углу улицы, чистильщика, регулировщиков. Как выразился Смирнов, «люди не думали и шли, а шли и думали». Выйди все они пораньше, у них не возникла бы установка на то, чтобы не опоздать, и они, может быть, вспомнили бы что-нибудь позначительнее. Они не шли бы думая, а думали бы идя.
Петр Иванович Зинченко построил свои эксперименты по строгой системе. Сначала он предложил нескольким испытуемым 15 картинок. На каждой картинке было крупно написано число. Испытуемые должны были разбить картинки на группы по общему признаку. Когда все было готово, Зинченко спросил, какие были нарисованы предметы на картинках и какие числа написаны. Предметы вспомнили, а цифр даже и не заметили. Но, может быть, предметы вообще запоминаются лучше цифр? Другой группе было предложено разложить картинки так, чтобы числа на них образовали восходящий ряд, а три последних числа надо было еще сложить и сумму сказать экспериментатору. Когда после того, как все было сделано, Зинченко вдруг потребовал назвать все предметы и все числа, из 15 предметов не вспомнили и двух, зато числа воспроизвели прекрасно. Лучше всего запоминаются не числа или картинки, а то, что служит объектом деятельности. И не просто объектом, а объектом, входящим в цель деятельности. Человек, решивший арифметическую задачу, часто не помнит исходных чисел, хотя они и были объектами его деятельности, но они входили не в цель, а в способы ее достижения. Попросите его самого придумать эти исходные числа, и, решив задачу, он назовет их не задумываясь. Опыты Смирнова, в которых испытуемые оперировали готовыми фразами, устанавливая, по какому грамматическому правилу они составлены, и с фразами, которые требовалось придумать по заданному правилу, подтвердили эту закономерность. Придуманные вспоминались в три раза лучше готовых. Цель организует работу мысли и расставляет по важности все, чему следует запомниться. Чем активнее работает ум, тем скорее наши действия приобретают целеустремленность, и на все, что попадает в поле нашего внимания, накладывается отпечаток цели. Гораздо сильнее намерения может оказаться характер нашей деятельности. В опытах Смирнова испытуемые писали слова под диктовку, подыскивали к ним случайные ассоциативные пары, оценивали смысл фраз, отмечали в них ошибки. Потом от них неожиданно требовали все слова и фразы воспроизвести. В другой серии опытов их предупреждали, что слова и фразы придется запомнить. И оказалось, что чем проще была задача, отыскать, например, ошибку или произнести первое пришедшее на ум слово, тем хуже работало непроизвольное запоминание и лучше произвольное, а чем сложнее, тем меньше плодов приносило намерение запомнить и больше – активная деятельность.
В 1971 г. в Харькове состоялась всесоюзная конференция психологов, посвященная памяти П. И. Зинченко. Развивая его мысли о ведущей роли непроизвольного запоминания в жизни, П. Я. Гальперин говорил, что оно должно занять такое же место и в обучении. Гальперин рассказывал о своей методике поэтапного формирования умственных действий и понятий, которая позволяет педагогу управлять непроизвольным запоминанием учеников. Без всякого заучивания они усваивают новые знания прямо в процессе решения задач и усваивают гораздо лучше, чем при традиционных методах обучения. Преобладание «запоминания в действии» лишит школьное обучение искусственности, поможет привить детям навыки самостоятельного мышления и, сделав их память гибкой, закрепит в ней все, чего требует самая насыщенная программа. Слушая Гальперина, я вспомнил размышления Джемса о тайне хорошей памяти. Возможно, говорил он, что поразительная память, которую Дарвин и Спенсер обнаруживают в своих сочинениях, вполне совместима со средней физиологической восприимчивостью их мозга. Если человек с ранней юности задастся целью обосновать теорию эволюции, то соответствующий материал будет накапливаться у него быстро и задерживаться прочно. «Тайна хорошей памяти заключается в искусстве образовывать многочисленные и разнородные связи со всяким фактом, который мы желаем удержать в памяти… Из двух людей с одним и тем же опытом и одинаковой природной восприимчивостью у того окажется лучшая память, кто упорно размышляет над своими впечатлениями».
НЕОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА
Тайна хорошей памяти в наших руках. И однако, несмотря на твердое намерение запомнить, на привычку размышлять над каждым фактом, мы забываем – забываем то, что, казалось бы, просто невозможно забыть. Мы пишем на календаре, что нужно сделать завтра, а потом забываем взглянуть на календарь, а если и взглянем, все равно забываем. Мы завязываем на платке узелок, а потом никак не можем сообразить, зачем завязали. Помните, как один из гоголевских героев собирался заехать к своему знакомому за нужной ему рукописью, да так и не заехал? «Прошлый год случилось проезжать через Годяч; нарочно еще, не доезжая до города, завязал узелок, чтобы не забыть попросить об этом Степана Ивановича. Этого мало: взял обещание с самого себя, как только чихну в городе, то чтобы при этом вспомнить об этом. Все напрасно. Проехал через город и чихнул и высморкался в платок, а все позабыл».
Отчего же мы забываем? И зачем?
На второй вопрос отцы психологии устами Рибо отвечали решительно и единодушно. Забывание это бесценный дар. Благодаря ему мы расчищаем место для новых впечатлений и даем памяти, освобожденной от груза ненужных деталей, полную возможность служить нашему мышлению. Лишись мы этого волшебного дара, мы бы очутились в положении бедняги Ш. и, чего доброго, вслед за забыванием лишились бы еще и рассудка. На первый же вопрос существует много ответов, и они вовсе не противоречат друг другу, а друг друга дополняют: у забывания много причин. Первый ответ самый простой. Возьмем все условия хорошего запоминания, подставим к ним отрицательный знак, и ответ получится сам собой.
В конце 20-х годов забывание изучал немецкий психолог Курт Левин. Вместе со своей сотрудницей Б. В. Зейгарник, ныне профессором Московского университета, они доказали, что прерванные действия сохраняются в памяти прочнее, чем законченные. Левин объяснял это тем, что незавершенное действие оставляет у нас подсознательное напряжение, и сосредоточиться на другом нам трудно. Добавим от себя, что часто это другое даже проскальзывает мимо нашего сознания. Представьте себе, что вы идете с приятелем по улице, и вам надо опустить письмо. Вы высматриваете на домах почтовые ящики, письмо не выходит у вас из головы, и все, что ни говорит вам приятель, проходит у вас мимо ушей. Вот и ящик, вы опускаете письмо, действие закончено, напряжение спадает, вы мгновенно забываете о письме и обращаетесь к приятелю с вопросом: «Так о чем ты говорил?» Но действия бывают разные. Простая монотонная работа, вроде вязания, говорит Левин, не может быть прервана – она может быть только остановлена. В ней участвуют одни руки, память дремлет, и остановка не вызывает никакого напряжения. Вот если от вас потребуют связать свитер к определенному сроку, то, прервав работу, вы о ней уже не забудете. Память качнет сопоставлять оставшийся рукав и оставшееся время. Еще один, более тонкий случай разбирает Дж. Миллер вместе с К. Прибрамом и Е. Галантером в своей книге «Планы и структура поведения». Человек пишет письма пяти адресатам, и его прерывают в середине работы. Будет ли разница в напряжении, если работа прервалась между двумя письмами и если в середине письма? Очевидно, будет. В первом случае помнить почти нечего, у каждого письма своя «система напряжения», и человек может даже забыть, что он не дописал писем; во втором разрывается сама «система», и человек стремится вернуться к незавершенному занятию.
И лучше бы он в инстинктивном стремлении освободиться от напряжения не обращался бы к «внешней памяти» – не записывал свою прерванную мысль на бумажке, даже если она будет лежать на видном месте. Он будет глядеть на бумажку и не понимать, что за чепуха там написана. Он уподобится гоголевскому герою, про чей узелок А. Н. Леонтьев сказал, что в нем сосредоточилось все ушедшее из памяти напряжение, отчего он и остался неузнанным. Нет ничего коварнее внешней, памяти, выражающейся в искусственно создаваемых ассоциациях по смежности: психическая разрядка часто оказывается сильнее их. К разрядке добавляется переход к выполнению новых планов, оперативная память обновляется без остатка, и то, что исчерпано, утратило актуальность, подвергается забвению. Эту, закономерность за сто лет до гештальт-психологии сформулировал Фамусов: «Подписано, так с плеч долой».
Случай с почтовым ящиком можно рассматривать как проявление проактивного торможения. Многие годы этот феномен, так же как и интерференцию, считали закономерностью, проявляющуюся у всех людей одинаково. Но в последнее время, после исследования типов нервной системы, проведенных Б. М. Тепловым и В. Д. Небылицыным, торможение стали рассматривать дифференцированно. Так, например, сотрудники Харьковского университета С. П. Бочарова и А. Н. Лактионов обнаружили, что при определенных обстоятельствах люди, обладающие так называемым инертным типом, более чувствительны к проактивному торможению, вызываемому частой стимуляцией, чем люди с лабильной, то есть гибкой, нервной системой. Быстрая смена процессов возбуждения и торможения облегчает лабильным переход от одного стимула к другому. В опытах же московского психолога Э. А. Голубевой была установлена связь между типами нервной системы, с одной стороны, и характером материала и типом запоминания – с другой. Лабильные быстрее осваивают осмысленный материал и медленнее бессмысленный, в непроизвольном запоминании они сильнее инертных. Зато если дается много бессмысленного материала, инертные воспроизводят его несравнимо лучше лабильных: последние иногда отличаются, у них не хватает терпения. Одним словом, свойства памяти зависят не только от всевозможных количественных «параметров», но и от особенностей личности, от сочетания характера, типа нервной системы, склада ума. Классифицировать такие сочетания очень Трудно, предсказать, что именно запомнят, а что забудут люди с одинаковой предварительной информированностью иногда невозможно. Пример склада ума на восприимчивость к новому приводит Эшби. Он пишет, что Ньютон всегда представлял себе любые явления как бы непрерывно протекающими в чем-то другом, и естественно, что именно он открыл дифференциальное исчисление, основанное на принципах непрерывности. В начале же XX века физика буквально требовала человека, способного представлять себе все явления в виде прерывистых порций – квантов. Таким человеком явился Макс Планк, заложивший основы квантовой теории. Имей Ньютон несчастье родиться около 1900 г., он не был бы Ньютоном, он даже мог бы и не понять квантовой теории, что и случилось со многими современниками Планка. Гейне, который преклонялся перед Наполеоном за его способность к широчайшему интуитивному охвату событий, находит в его складе ума непростительный и роковой изъян: «Наполеон обладал проницательностью для понимания настоящего или оценки прошедшего и был совершенно слеп, когда дело шло о каком-нибудь явлении, в котором возвещало себя будущее. Он стоял на балконе своего замка в Сен-Клу, когда мимо этого места плыл по Сене первый пароход, – и ни на волос не понял преобразовательного мирового значения этого феномена». Тут можно сказать, что Наполеон, уподобившийся аборигенами Фиджи, не только не заметил парохода, не придав ему никакого значения, но и просто-напросто забыл о нем! Забывание и восприимчивость связаны самыми тесными узами.
Физиологи и неврологи различают два вида поступающей в мозг информации. Один поток содержит в себе так называемую специфическую информацию-сведения об объективных, «физических» свойствах раздражителей, а другой – о субъективных, биологических свойствах, имеющих значение для личности в данной ситуации. Первый поток идет в основном в те зоны коры, где происходит обработка сигналов по их чувственным признакам; вторым завладевают эмоционально-оценочные центры, которым безразлична физическая характеристика стимула: им важно установить его значение. В одних случаях человеку требуется точный анализ всех внешних обстоятельств, независимо от их субъективной важности, в других, наоборот, анализ будет служить только помехой для энергичных действий или для понимания происходящего. Когда хирург делает операцию под артиллерийским обстрелом, он не анализирует перелеты и недолеты: либо анализ, либо операция. Хирург не слышит обстрела и как бы забывает о нем. Для него существует только та часть специфической информации, которая необходима для решения задачи. Центральная нервная система, с ее способностью к целенаправленному торможению и возбуждению, сосредоточивает его внимание на самом главном. Обо всем этом, как обычно, были прекрасно осведомлены классики. Вспомним уже знакомую нам сцену: «Пьер слушал ее с раскрытым ртом и не спускал с нее своих глаз, полных слезами. Слушая ее, он не думал ни о князе Андрее, ни о смерти, ни о том, что она рассказывала. Он слушал ее и только жалел ее за то страдание, которое она испытывала теперь, рассказывая». Пьеру здесь нет дела до содержания рассказа Наташи. Он воспринимает только его эмоциональную сторону. Совсем иначе ведет себя Каренин, затворивший свое сердце для Анны: «Ему было слишком страшно понять свое настоящее положение, и он в душе своей закрыл, запер и запечатал тот ящик, в котором у него находились его чувства к семье… Она спрашивала его о здоровье и занятиях, уговаривала отдохнуть и переехать к ней. Все это она говорила весело, быстро и с особенным блеском в глазах; но Алексей Александрович теперь не приписывал этому тону ее никакого значения. Он слышал только ее слова и придавал им только тот прямой смысл, который они имели».
Физиологи сухо констатируют, что в условиях, наиболее благоприятных для поступления информации одного вида, другой вид автоматически затормаживается, и эта особенность является одним из универсальных принципов работы центральной нервной системы. Более того, способность к преимущественному восприятию информации одного вида может быть не только временной, но и постоянной. Тогда она определяет собой характер. Человек, склонный к специфической информации, точно и холодно воспринимает окружающее. Мыслит он строго и логично; он любит все раскладывать по полочкам; оценки его постоянны; он верен принятым решениям; рационалист до мозга костей, он и в других ищет те же черты. Однако постоянное обдумывание при некоторой слабости воли заставляет его колебаться. В стабильных обстоятельствах он незаменим, но если обстановка резко меняется и на размышление времени нет, он может легко попасть впросак. Крайним выражением этого типа является психастеник. Тот же, кто более восприимчив к неспецифической, субъективной информации – полная противоположность первому. Восприятие его сугубо избирательно, ассоциации возникают у него не по смежности, а по сходству, он импульсивен и решения принимает не раздумывая. Это человек действия, не желающий замечать ничего, что противоречит линии его поведения. Он способен быстро оценить непредвиденную случайность и выйти из самого запутанного положения. Но при чрезмерной эмоциональности, при ослаблении задерживающих центров этот тип способен, увы, превратиться в натуру истеричную. Такова схема; несмотря на сгущение красок, в принципе она верна. Размышляя о том, почему один человек не обращает внимания на то, что должно броситься в глаза, и почему он забывает то, что никак не возможно забыть, мы с вами не должны упускать из виду и подобные типы личности.
Джемс отметил одну характерную черту Дарвина, которой тот был обязан своей поразительной памятью. Однако памятливый Дарвин признавался сам, что, схватывая на лету все, что подтверждало его теорию, он в то же время тщательно записывал все факты, ей противоречившие. Дарвин заметил, что они с необыкновенной быстротой улетучиваются из его памяти. Память не желает удерживать в сознании то, что противоречит установкам личности! Такова в общих чертах концепция забывания, которую разработал Зигмунд Фрейд. Если человек пережил острый конфликт или неприятное аффективное состояние, говорил он, охранительное торможение, вызванное личностной установкой и инстинктом самосохранения, подавит саму мысль об этом состоянии и вытеснит ее в сферу подсознательного. Следы неприятного, «аффективные комплексы», не исчезнут, они могут лишь исказиться, принять причудливую форму и иногда в самое неподходящее время вырваться наружу. Фрейд рассказывает об одном своем пациенте, который, отправляясь на почту, забыл письмо дома. В другой раз он взял письмо, но забыл написать на конверте адрес. В третий раз на конверте не оказалось марки. И тут только он осознал, что забывчивость его имеет под собой почву – ему втайне не хотелось отправлять это письмо! Другой пациент не мог удержать в памяти имя одного своего знакомого. Выяснилось, что давным-давно некто, носивший то же имя, причинил ему огорчение. Память отказывалась хранить ненавистное имя.
Фрейд не щадит и себя. Как-то раз, просматривая свою врачебную книгу, он наткнулся на имя одного из пациентов, и, хотя пациент был недавний, он никак не мог сообразить, кто это. После мучительного припоминания его осенило: этому пациенту он поставил неточный диагноз. Самолюбие одержало верх над памятью. Если память дает осечку, ищите скрытый мотив. Одна дама не узнает на улице собственного мужа. Другая в самом начале свадебного путешествия теряет кольцо. Фрейд предсказывает, что оба брака будут недолговечны, и его предсказание сбывается. Наши потери, утверждает он, символичны, наши неузнавания красноречивы, наши обмолвки полны значения. Иногда в обмолвках проглядывает нетерпение, иногда затаенное желание, противоположное тому, о чем мы говорим, иногда и невинный мотив, но всегда мотив, а не случайность. Сколько встречается нам людей, про которых мы говорим, что на них нельзя положиться. Они не выполняют обещанного, заставляют себя ждать, перепутывают поручения. Часто они обаятельны, им все прощают и ни в чем не отказывают: таковы уж они от природы. Да, таковы, но за всей их забывчивостью и беспечностью кроется и немалая доля пренебрежения к людям. Фрейд не отрицает, что наряду с мотивированным забыванием бывает и немотивированное и что сплошь да рядом людям не удается отделаться от тягостных воспоминаний. Тенденция к вытеснению, относящаяся к «низшей психической инстанции» парализуется «высшей» – совестью, нравственными установками, чувством долга. Но она все равно существует и, если ей не удается захватить сам тягостный факт, она может устранить из памяти что-нибудь иное, связанное с ним по смежности и менее подвластное высшим силам.
С учением Фрейда о вытеснении аффективных следов соглашались Павлов и Ухтомский. Согласны с ним и наши психологи. С Фрейдом, но не с фрейдистами, которые придают его теории универсальный характер и нередко доводят ее до абсурда.
У забывания тысячи причин. Фрейд указывает нам на одну из них, психологи, исследующие свойства характера,- на другую, специалисты по стрессу – на третью… Каждая причина связана с особыми обстоятельствами, со свойствами и состоянием личности, а сколько в жизни этих обстоятельств, свойств и состояний! «Меня часто спрашивают, почему мы забываем,- сказал мне как-то А. Р. Лурия.- Интерференция, торможение, вытеснение… Все это так… Забываем, потому что забываем!» И когда меня по привычке тянет все разложить по полочкам и втиснуть в прокрустовы ложа, я всегда «вспоминаю эти «ненаучные» слова, вырвавшиеся в сердцах у строгого ученого. Забываем, потому что забываем! Ничего не поделаешь – не машины.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЩЕРБИНКИ НА КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ
В последней четверти XIX века, когда психологи только начинали первые свои опыты над забыванием, невропатологи и психиатры уже доискивались до причин нарушения памяти. Нарушения эти сопровождались таким удивительным забыванием, что по сравнению с ним «экспериментальное» забывание, зависящее от распределения повторений или от интерференции, выглядело таким же малоинтересным пустяком, как насморк. В трудах по психиатрии и невропатологии обсуждался, например, случай, описанный доктором Люйе-Виллермэ, чей пациент, находясь со своей женой, вообразил, что он сидит у другой дамы, и все время повторял: «Сударыня, я не могу быть у вас дольше, мне пора возвращаться к жене и детям». Шарко рассказывал о художнике, который внезапно перестал узнавать форму и цвет и близких своих узнавал только по голосу. По свидетельству Рибо, секретарь одного дипломата не поверил своим ушам, когда тот, перед тем как представиться царственной особе, спросил его шепотом: «Как меня зовут?» Один ученый, когда ему перевалило за семьдесят, забыл, как называется Королевское общество и Британский музей, и называл их: «Это публичное место». Другой же утратил память на имена и про какого-нибудь своего коллегу говорил: «Мой собрат, сделавший такое-то открытие». Кроме забывания лиц и имен, описаны были многочисленные случаи забывания целых событий и периодов. Широкую известность приобрел, например, случай с пациентом английского врача Аберкромби, тоже врачом, который, упав с лошади и разбив себе голову, забыл, что у него есть жена и дети, но отдавал безукоризненные распоряжения насчет своего лечения. С другой больной, француженкой, во время родов сделался продолжительный обморок, после которого она утратила всякое воспоминание о своей супружеской жизни. С ужасом она отталкивала от себя мужа и ребенка. Родители и друзья кое-как убедили ее в том, что ей легче будет считать себя утратившей память о целом годе, чем признать своих близких обманщиками. Совершенно противоположное произошло с одним корабельным механиком. Поскользнувшись, он упал, ударился затылком, потерял сознание, но вскоре пришел в себя, вспомнил все, что было с ним до падения, но утратил способность запоминать текущие события. Добравшись до больницы, он не мог припомнить, как ехал, а, покинув больницу, забывал, что был там. Ни о дне, ни о часе, ни вообще о времени он не имел представления.
Все эти случаи амнезии, то есть беспамятства, нуждались в классификации и объяснении. Ученым казалось, что понимание причин нарушений памяти даст им в руки ключ к пониманию механизмов самой памяти, к таинственной восковой табличке и следам-отпечаткам. Первую такую классификацию, сопровождаемую глубокими замечаниями о причинах и закономерностях амнезий, удалось сделать Рибо, чья небольшая книга «Память в ее нормальном и болезненном состоянии» выдержала десятки изданий на всех языках и не утратила своего значения до сих пор. Рассказывая дальше об амнезиях, мы будем придерживаться схемы Рибо, дополняя его толкования более современными и точными.
В свое время мы упомянули апраксию и моторную афазию как заболевания, которые расстройством памяти можно назвать лишь отчасти. К этой группе ненастоящих амнезий относят и агнозию (неузнавание), которая приключилась с пациентами Шарко и Люйе-Виллермэ. Считается, что у людей, которые вдруг перестают узнавать привычные формы, нарушена не память, а восприятие. Агнозия вызывается опухолью или кровоизлиянием во вторичных зрительных зонах коры, где синтеризуются в единый образ фрагменты поступающей по зрительным каналам специфической информации. Сложнее обстоит дело с амнестической афазией, или амнезией знаков, как называли ее во времена Рибо. Изучение афазии привело к одному из самых замечательных открытий XX века и к ряду принципиальных соображений о работе мозга и психики. Под знаками Рибо подразумевал не только слова, но любые символы, в которые облекаются наши мысли и чувства. Когда мы ссылались на мнение Э. Л. Андроникашвили о роли диалога, мы говорили не просто о словесной, а о словесно-образной форме. Есть люди, которые мыслят одними словами и даже видят их при этом напечатанными (Рибо относил их к «типографскому типу»). Но еще больше встречается тех, кто мыслит только наглядными образами; к такому типу относили себя Эйнштейн, математик Адамар, биолог Моно. Есть и множество промежуточных типов. Винер говорил, например, что он мыслит то словами, то образами. Когда мы читаем у Шопенгауэра, что «мысли умирают в тот момент, когда они превращаются в слова», или слышим тютчевское «Мысль изреченная есть ложь», мы понимаем, что они хотели сказать: все оттенки мысли и чувства выразить словами невозможно. Слово выражает лишь одну сторону предмета. Если я думаю о доме, говорил Рибо, то в моем представлении возникает и зрительный образ дома, и звуковой его знак (звучание слова «дом»), и графический знак, который, если я пишу, может временно вытеснить из сознания другие знаки, и, наконец, те же знаки из иностранных языков. Вокруг одной идеи группируется несколько ее символов. Вот они-то поодиночке или все вместе начинают выпадать из памяти при амнестической афазии, в то время как сама идея остается неприкосновенной. И человек вместо «Британского музея» говорит «публичное место», вместо слова «нож» – «то, чем режут», а вместо слова «карандаш» – «то, чем пишут». Но покажите афазику «то, чем пишут» и назовите это вилкой – он сделает протестующий жест. Ни звуковой знак, ни графический не исчезают у него из памяти. Некоторые больные, разучившись говорить произвольно, могут без усилий читать вслух. Что же тогда забывается? Может быть, здесь происходит не забывание, а ослабление следов голосовых движений, необходимых для произнесения слова? Но отчего же тогда при прогрессирующей афазии речевая память разрушается по этажам, следуя строгому порядку? Первыми исчезают из нее имена собственные, за ними существительные, за существительными – прилагательные и глаголы. Что означает эта закономерность? Вспомним, как объяснял Аристотель, почему мы легче всего забываем имена: они не связаны ни с какой последовательностью. Та же мысль и у Рибо. Наше представление о лицах и вещах гораздо меньше связано сих названиями, чем с их свойствами. Чувственный образ лиц и предметов нам важнее, чем их символ. Чем конкретнее понятие, тем слабее оно держится в памяти, тем легче заменить его нам образом. Иное дело понятия отвлеченные, обозначающие качества, действия и способы существования предметов. Их мы усваиваем только при помощи слов, помогающих им приобрести в сознании необходимую устойчивость. Слова эти – прилагательные, глаголы, наречия, местоимения, предлоги и союзы – находятся в более тесном общении с мыслью. Их связи в памяти обширнее, а значит, и прочнее. Давно известно, что первые корни в языках обозначали действия, качества и взаимные отношения вещей. Но еще до этих корней образовались междометия, эти полуслова-полужесты, обозначающие не отношения вещей, а наше отношение к вещам. Имена же собственные в большинстве своем сложились из причастий, то есть из прилагательных отглагольного происхождения, и прибавленных к ним существительных. Больные, утратившие связную речь, могут еще употреблять междометия и обрывки фраз, выражающие аффективные состояния – гнев, досаду, страдание. Развитие афазии дает точную картину обратного развития речи и языка. Когда из памяти исчезают и междометия, у больного остаются одни жесты и… ругательства, которые, как известно, не несут буквального значения и представляют собой самую хлесткую форму для выражения эмоциональных оценок. Ри-бо формулирует свое правило: разрушение речевой памяти идет от частного к общему, от менее организованного к более организованному, от сложного к простому, от произвольного к автоматическому. При выздоровлении сохраняется обратный порядок: за жестами появляются междометия, за междометиями глаголы и указательные местоимения, потом прилагательные, существительные и, наконец, имена собственные. За устной речью восстанавливается письменная. Все происходит так, как происходило в истории человечества.
Но если эта картина верна, значит, афазия не разрушает никаких следов, а только затрудняет их воспроизведение. С другой стороны, правило Рибо не исключает и того, что следы где-нибудь да хранятся. Именно такой точки зрения придерживался канадский нейрохирург Уилдер Пенфилд, экспериментируя над больными в своей клинике в Монреале. Больные Пенфилда страдали очаговой эпилепсией, которая вызывается патологическими процессами в височных долях мозговой коры. Удаляя под местным наркозом пораженный участок у больного, Пенфилд, пользуясь случаем, удовлетворял свою любознательность. По соседству с эпилепто-генным участком находятся зоны, управляющие речью; их поражение и вызывает афазию. Пенфилда интересовало, где проходит точная граница этих зон и как будет влиять на речь электростимуляция, и он прикладывал к разным участкам коры электрод, пропуская через него слабый ток. Однажды, когда он подвел электрод к одному участку височной доли доминантного, то есть ведущего, полушария (у левшей правого, а у правшей левого), больная, находившаяся в полном сознании и ничего не чувствовавшая, вскрикнула, а потом заулыбалась. Она внезапно увидела себя маленькой, и снова пережила испугавшее ее в детстве событие. Стимуляция того же участка перенесла другую больную на двадцать лет назад, и она увидела себя с новорожденным ребенком на руках. Третья услышала голос своего маленького сына, доносившийся. со двора вместе с криками ребят, лаем собак и гудками автомобилей; четвертая прослезилась от умиления, очутившись в своей родной церкви в Утрехте во время рождественского песнопения.
Изумленный не меньше своих пациентов Пенфилд продолжал опыты. А как будет вести себя другое, субдоминантное полушарие? На задней границе его височной доли обнаружилась зона, функции которой до тех пор были никому не известны и которую Пенфилд назвал «сравнительно-истолковывающей корой». Раздражение этой зоны вызывало в сознании больного оценку переживаемых им ощущений как знакомых или незнакомых, приятных или неприятных. Пенфилд предположил, что эта зона управляет отбором и активацией отрывков прошлой жизни. Но интересней всего были особенности этой активации. «Когда электрод нейрохирурга случайно активирует запись прошлого,- пишет Пенфилд,- это прошлое развертывается последовательно, мгновение за мгновением. Это напоминает работу магнитофона или демонстрацию кинофильма…» Время в этом фильме всегда идет вперед со своей собственной неизменной скоростью. Оно не останавливается, не поворачивает вспять и не перескакивает на другие периоды, как в настоящих фильмах. Скорее это похоже на экранизацию классической пьесы, автор которой ревностно придерживался принципа трех единств. Если убрать электрод, фильм обрывается, но, поднеся электрод к той же точке, фильм можно продолжить. При этом целый эпизод может быть показан повторно. Но если электрод попадет в другую точку, на экране сознания могут вспыхнуть кадры другого фильма – сцены другого периода жизни.
Открытие Пенфилда всколыхнуло весь ученый мир. Невропатологам- и психиатрам не могли не вспомниться удивительные случаи гипермнезии, или усиления памяти. Гипермнезия проявляется при разнообразных, но всегда чрезвычайных обстоятельствах. В то время, когда Пенфилд прокручивал свои фильмы, его коллега Г. Джаспер рассказывал на одном из психологических конгрессов о каменщике, который описал под гипнозом все щербинки и неровности в кирпичной стене, которую он возводил за двадцать лет до гипнотического сеанса. Случай с каменщиком был далеко не единственным в своем роде. На конгрессе вспоминали и другие обстоятельства, вызывающие сверхпамять. Спасенные от гибели моряки и пассажиры кораблей, терпевших крушение, рассказывали, что, погружаясь на дно, они, перед тем как потерять сознание, видели всю свою жизнь, которая проносилась перед их глазами отдельными кадрами, начиная с последних мгновений и кончая далеким детством. Вспоминали и знаменитую воспитанницу одного немецкого пастора и столь же знаменитого камердинера испанского посла в Париже. Первая жила в XVIII веке. Однажды эта молодая неграмотная женщина заболела лихорадкой и в бреду заговорила по-гречески, по-латыни и по-древнееврейски. Врач, лечивший ее, установил, что пастор, у которого она жила девочкой, любил расхаживать по дому и читать вслух свои книги. Врач даже – разыскал эти книги и нашел в них те места, которые в бреду цитировала его больная. Когда она выздоровела, она не могла вспомнить из них ни одного слова. Точно так же и камердинер произносил в горячечном бреду дипломатические речи, которые репетировал его хозяин, а, выздоровев, он не мог вспомнить ни одного слова из них. Наконец, тот же доктор Аберкромби описал больного, который впал в беспамятство после ушиба головы, а когда пришел в себя, заговорил на языке, которого никто в больнице не знал. Оказалось, что это был валлийский язык. Больной был уроженцем Уэльса, но вот уже тридцать лет валлийского языка не употреблял. Выздоравливая, он постепенно забывал его и в конце концов опять перешел на английский.
Случай с этим валлийцем навел Рибо на простое объяснение гипермнезии. Гипермнезия компенсирует амнезию, утрата памяти на одно вызывает усиление памяти на другое. Только так и можно истолковать старческую гипермнезию – оживление следов далекого прошлого на фоне беспрерывного забывания происходящего. Рибо приводит в пример случаи, описанные доктором Решем. Некий итальянец приехал из Франции в Америку и захворал желтой лихорадкой. В начале болезни он говорил по-английски, затем по-французски, а в день смерти он перешел на родной итальянский. Как это похоже на фильмы утопающих, где время так же бежит назад, и как это, оказывается, распространено: один пастор рассказывал Решу, что его прихожане, выходцы из Германии и Швеции, перед смертью молились на немецком и на шведском языках, хотя не говорили на этих языках более полувека. В последние месяцы своей жизни Стравинский предпочитал говорить только по-русски. Амнезия, возникающая в результате болезни или старческого склероза, пишет Рибо, начинает свою разрушительную деятельность с самых свежих приобретений памяти и постепенно добирается до старых следов. Прежде чем погасить эти следы, она на время выставляет их перед сознанием.
Виновница гипермнезии – амнезия. Если мы возьмем маниакально-депрессивный психоз, то в его маниакальной фазе будет наблюдаться необычайное усиление памяти, но зато в депрессивной – резкое ее ослабление. Если мы обратимся к гипнозу, то увидим, что человек, вспоминая щербинки двадцатилетней давности, не вспомнит в этот момент ни о чем другом, пока экспериментатор не потребует от него перенестись в другой период; кроме того, он забудет после сеанса обо всем, что во время его творилось. Утопающие начинали видеть свои фильмы только тогда, когда переставали помнить о настоящем и о будущем и стремиться к спасению. Гипермнезии у пасторской воспитанницы и камердинера предшествовало беспамятство. Пациент доктора Аберкромби, заговорив по-валлийски, забыл английский. Если в некоторых случаях называть амнезию виновницей гипермнезии было бы натяжкой (в конце концов первопричиной является болезнь, возбуждение или особое мозговое состояние), то уж спутницей ее можно называть смело. А это лишний раз наводит на мысль о том, что мозг и психика противятся форсированным и критическим режимам: усиление в одном должно повлечь за собой ослабление в другом. Даже необратимое и закономерное ослабление тщится хоть в чем-нибудь да уравновеситься усилением.
В ПРИХОЖЕЙ СОЗНАНИЯ
Фильмы Пенфилда, однако, не сопровождаются никаким беспамятством. То, что вызывать их можно только у эпилептиков, а эпилептические припадки состоят из перемежающихся состояний амнезии и ясновидения, похожего на гипермнезию утопающих, пожалуй, не имеет значения: во время электростимуляции пациент находится в полном сознании, а после нее не забывает о том, что ему показывал электрод. Но зато пациент и не воспринимает свое видение как воспоминание. Он понимает, что оно явилось к нему по чужой воле, сознает, что находится на операционном столе и, отвечая на вопросы хирурга, еще более отчуждается от своего видения. С гипермнезией эти фильмы роднит другое. Рассказывая о них в своей книге «Эпилепсия и функциональная анатомия головного мозга», написанной вместе с Джаспером, Пенфилд подчеркивает, что в них не найти обобщений, характерных для сознательной памяти: это не воспоминания, а «вспышки прошлого». В них никогда не встречаются образы, связанные с выполнением квалифицированной работы, с принятием решений, с сильными эмоциями- со всем тем, к чему сознание могло хоть раз вернуться и на что повлиять при воспроизведении. Это не сгущенные представления, а фон, который окружает человека в обыденной жизни, не вызывая особых душевных и интеллектуальных реакций. Это та часть нашей жизни, которая проходит мимо сознания и которую имел в виду Пруст, говоря, что благодаря забвению она сохраняется во всей своей неприкосновенности. Если бы женщина, которая увидела себя в утрехтской церкви, не была родом из Утрехта или, больше того, присутствовала на церковных песнопениях не как прихожанка, а как туристка или любительница музыки, это утрехтское песнопение не вошло бы в фильм. Вызвав у нее сильное чувство и размышление, оно стало бы достоянием сознательной памяти и, даже будучи забытым, выплыло бы на свет при обычном воспоминании с помощью ассоциаций. Разумеется, многое из того, что видели пациенты Пенфилда, не совсем было им безразлично: видения сопровождались мыслями и чувствами, которые, как утверждали пациенты, испытывались и в прошлом. Психика полна неуловимых переходов. Может быть, абсолютно безразличное не откладывается в памяти или вообще не существует. Оценивая эти фильмы, можно говорить лишь о той степени безразличия, которая заставляет сознание больше не возвращаться к воспринятому и предохраняет следы впечатлений от переработки. Что касается обычной гипермнезии, то ее материал такого же рода. Ни воспитанница пастора, ни камердинер не задерживали своего внимания на древнегреческих текстах и дипломатических речах: они откладывались в памяти сами собой. Картины, которые проносились перед взором утопающих, были, по их свидетельствам, тем же забытым и никогда не вспоминавшимся фоном. Вряд ли и каменщик вспоминал когда-нибудь свои щербинки. Наконец, языки, возвращавшиеся из прошлого, принадлежали уже не сознательной памяти, а бессознательной, автоматической памяти-привычке. Родной язык в своем обиходном объеме усваивается нами так же автоматически и бессознательно, как и тысячи двигательных навыков; в школе мы ведь учим не его, а грамматику – то, что мы думаем о языке. Английский вылетел у валлийца из головы потому, что он его учил. Гипермнезия оживляет по преимуществу все тот же безразличный фон.
Как бы то ни было, фильмы Пенфилда и явления гипермнезии доказывают нам, что наша память хранит во много раз больше того, что мы воспроизводим в обычной жизни. Может быть, она вообще хранит все, что попадалось нам на глаза и задерживалось хоть на тысячу микросекунд, все, что хотя бы косвенно и незначительно влияло на наше поведение. Условия хорошего запоминания распространяются на сознательную память, для бессознательной же никакие законы не писаны и время над ней не властно. Но если это так, то зачем нашей памяти хранить весь этот законсервированный фон? Даже при чрезвычайных обстоятельствах, когда мозг охвачен горячечным возбуждением или частичным торможением, от всплывающих из глубин образов нет никакого проку. Па этот счет у психологов есть две гипотезы, которые, к счастью, не противоречат друг другу, а друг друга дополняют; весьма возможно, что в будущей теории памяти мы найдем в качестве фрагментов и ту и другую.
Первую гипотезу можно назвать биологической или гипотезой приспособления. Появилась она сравнительно недавно, когда психологи вернулись к проблеме бессознательного и, очищая его от фрейдистских наслоений, стали рассматривать бессознательное с позиций всего того, что накопила наука к середине XX века. Из опытов В. П. Зинченко мы знаем, что бессознательное является непременным участником восприятия новой информации: сравнение новых образов с эталонами памяти происходит большей частью автоматически. Эти факты были поставлены в связь с идеями французских невропатологов, замечавших, как бессознательное умеет опережать сознание. Успевая воспринять новый факт, например появление, вдали знакомого лица, оно преподносит этот факт сознанию как бы изнутри. «Я только что думал о вас -. легки на помине!» – восклицаем мы, встретив знакомого, и не подозреваем о том, что заметили его мигом раньше, но не успели еще это осознать. К ряду этих феноменов была отнесена и хорошо известная дихотомия – существование у нас центрального и периферического зрения. Когда мы останавливаем свой взгляд на каком-нибудь предмете, он становится для нас фигурой, а все, что его окружает, фоном. Внимание наше в моменты сосредоточенности на фигуре фоном совсем не занято. Тем не менее фон мы воспринимаем и на все перемены в нем откликаемся. Эксперименты показали, что периферическое зрение, фиксирующее фон, гораздо острее и тоньше центрального, устремленного на фигуру. Почему же более острое зрение предназначается второстепенным предметам, о которых мы даже не думаем? Именно потому, что не думаем! Таково мнение профессора В. Н. Пушкина. Ведь эти предметы второстепенны только в данный момент, а в следующий они могут приобрести первостепенную важность. Наши предки никогда бы не выжили среди хищников, если бы не умели краешком глаза следить за тем, что делается вокруг. И этот краешек, эта периферия должна быть острее центра, чей объект перед носом, и реакция на тревожный сигнал должна быть бессознательной и автоматической, потому что бежать или нападать надо не раздумывая. Как говорит Пушкин, «в этом двойном отражении среды заложен, глубокий приспособительный смысл». Отсюда понятно, почему бессознательное может опережать сознание и почему оно всегда участвует в восприятии. Если наше сознание дремлет и внимание рассеяно, мы все равно автоматически воспринимаем среду, и ее образы автоматически откладываются в бессознательном. Это двойное отражение среды отнюдь не атавизм; чтобы выделить фигуру из фона, нужно быстро оценить сам фон: бессознательное, храпя в себе бесчисленные образы среды, превращает их в эталоны и этим оказывает несомненную услугу сознанию. Когда же мы отвлекаемся от внешних фигур и занимаемся внутренними или ничем не занимаемся, бессознательное все равно работает не напрасно; оно поддерживает нашу связь с внешним миром, прежде всего со временем, и дает нам необходимое ощущение непрерывности и устойчивости. Не так уж мало собирается доводов в пользу того, что наша память в процессе эволюции могла научиться заносить в свою приходную книгу все без исключения. И это вовсе не патологическое скопидомство Плюшкина, а хозяйственная предусмотрительность Осипа: «И веревочка в дороге пригодится».
Несколько лет назад физиологи проделали такой опыт. Кошке вживили электроды в центр мозгового ствола, где сигналы, поступающие от органов чувств, делятся на два потока. Один поток направляется для анализа и синтеза объективных характеристик объектов в сенсорные зоны коры, а. другой в так называемую ретикулярную формацию, которая вместе с центрами эмоций оценивает сигналы по их значимости и посылает добавочные энергетические импульсы в те зоны коры, которым надлежит активизироваться. Приборчик, стоявший около клетки с кошкой, издавал щелчки с регулярными интервалами, и такая же регулярная серия пиков возникала на кривой, вычерчиваемой самописцем регистратора биотоков. Неожиданно экспериментатор показывал кошке мышку или вдувал в клетку воздух с запахом рыбы. Кошка проявляла интерес к новому раздражителю, и в тот же миг амплитуда пиковых потенциалов, вызывавшихся щелчками, резко снижалась. Ретикулярная формация, получив сигнал о мышке, перераспределяла потоки своих активирующих импульсов. Поток, направлявшийся в слуховые зоны, ослабевал, а поток, следовавший к зрительным, обонятельным и двигательным зонам, усиливался. Но амплитуда пиков не исчезала, мозг продолжал регистрировать щелчки, или, другими словами, все тот же фон, фон для мышки и для рыбного запаха. Вот точная модель того самого запоминания, которое, минуя порог сознания, оставляло на восковой табличке отпечатки щербинок, звуки рождественских песнопений и дипломатические речи.
Но кошка кошкой, а человек человеком. Нужны ли ему все щелчки и щербинки фона? Еще больше, чем кошке, утверждает другая гипотеза, которую можно назвать гипотезой избытка. Ее придерживаются индийские психологи. Самое важное различие между животным и человеком, говорят они, сводится к тому, что животное крайне стеснено границами своих потребностей; почти все, что оно получает от жизни, уходит на сохранение себя и своего вида. Человек же получает много больше того, чем тратит, и этот переизбыток позволяет ему не считаться во всем с одними насущными потребностями. И животное и человек должны для поддержания жизни обладать известным знанием. Но, кроме удовлетворения нужд, человеку хватает знаний и на удовлетворение любопытства, на наслаждение знанием. На основе этого избытка процветают его наука и философия. У животных выражение эмоций едва-едва переходит границы полезного; в человеке же всегда есть запас эмоциональной энергии, который не тратится целиком на самосохранение, а ищет себе выхода в творчестве. Этот избыток интеллектуальных и эмоциональных сил должен питаться образами всего мира: ученому, философу, художнику и их сопереживающей аудитории мало одних «фигур», которые без фона будут лишены жизненной правды и сочности, им нужен весь мир, со всеми его красками, звуками и запахами, вся переливчатая картина бытия.
«В существовании бессознательного не больше таинственного, чем в существовании любой мысли, всякого умственного процесса…- замечает Жак Адамар в своей книге «Исследование психологии изобретения в области математики».- Когда я произношу фразу, где находится следующая? Очевидно, не в области моего сознания, которое занято фразой № 1; я о ней не думаю, и тем не менее она готова появиться через мгновение, чего не могло бы произойти, если бы я о ней не думал бессознательно». Здесь Адамар имеет в виду такие бессознательные процессы, которые очень близки к сознанию и находятся в его непосредственном распоряжении. Он приводит описание «прихожей сознания», сделанное английским психологом Френсисом Гальтоном. Во время размышления ум похож на некий зал для приемов, где сознанию представляют одновременно две-три идеи, а тем временем в прихожей толпятся все прочие идеи, более или менее подходящие для такого случая. Они прибывают в зал, будучи ассоциативно связаны друг с другом, и по очереди получают аудиенцию. Такое подсознание Джемс называл «краевым сознанием» (почти краевое зрение!), а великий математик Анри Пуанкаре, один из главных героев книги Адамара, утверждал, что в моменты творческого озарения ему удавалось ощущать совместную работу сознания и подсознания, причем, судя по всему, подсознанию, теснее связанному с эмоциональной сферой, принадлежала решающая роль в выборе тех математических комбинаций, которые более всего удовлетворяли эстетическому критерию. Однако сфера бессознательного не ограничивается «прихожей», а простирается далеко вширь от ярко освещенной рампы сознания, захватывая и не готовые к высказыванию мысли, и все фигуры, которые оживут тогда, когда наступит их черед, и все те навыки, которыми мы автоматически пользуемся, облекая мысли в устные или письменные высказывания. «Что касается вопроса, «выше» или «ниже» бессознательное мышление сознательного,- говорит Адамар,- то я считаю, что такой вопрос не имеет ни малейшего смысла. Вопрос превосходства не является научным вопросом. Когда вы едете верхом, лошадь выше или ниже вас? Она сильнее и может бежать быстрее вас; тем не менее вы ее заставляете делать то, что вы хотите… И правая нога не «выше» левой: при ходьбе они действуют совместно. То же делают сознательное и бессознательное мышление». То же, добавим мы, делают память сознательная и бессознательная, верные союзники и нерасторжимые части нашей личности. Нерасторжимые- до тех пор, пока их союз не омрачается вмешательством болезни. Тогда личность в своих страданиях доходит до полного раздвоения, а любознательные исследователи получают обширный материал для новых гипотез о восковых дощечках.
ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОФЕССОРА ДЖЕМСА
4 марта 1887 г. жители одного из домов американского городка Норристауна были разбужены отчаянными криками своего соседа, который метался по двору, умолял всех сказать, где он находится, клялся, что понятия не имеет о Норристауне и что он никакой не мистер Браун, как его называют, а мистер Берн, проповедник из Грина. За полтора месяца до этого человек этот прибыл в Норристаун, отрекомендовался Брауном, купил магазин, наполнил его писчебумажными товарами и открыл торговлю. Жители Норристауна быстро привыкли к этому приветливому, но малоразговорчивому человеку. Известно было, что жил он в задних комнатах своего магазина, сам себе готовил еду, регулярно ходил в церковь и несколько раз ездил в Филадельфию за товаром. И вот теперь он утверждает, что знать не знает ни Норристауна, ни норристаунцев, ни даже самого себя! Полиция, а потом и его собственная жена, прибывшая из Грина и бросившаяся к нему в объятия, подтвердили, что он не кто иной, как мистер Берн, внезапно исчезнувший из Грина 17 января. Что он делал между 17 января и 1 февраля и каким образом превратился в Брауна, он объяснить не мог. До тех пор он не проявлял ни малейшей склонности к торговле. Он вернулся к своей жене и проповедям и стал уже забывать о своем приключении, но на его беду о нем прослышал знаменитый профессор Джемс. Профессор явился к Берну и уговорил его подвергнуться гипнозу, чтобы посмотреть, как он сам писал впоследствии, «не вернется ли в гипнотическом трансе его брауновская память. Она вернулась и утвердилась так прочно, что изгнать ее было невозможно». Браун не признал жену Берна своей женой, сказал, что о Берне вообще-то слышал, но не уверен, видел ли его когда-нибудь, и рассказал во всех подробностях, не только что, он делал в Норристауне, но и где странствовал в течение первых двух недель. О дальнейшей его судьбе история умалчивает. Вправе ли мы осуждать Джемса за его легкомыслие? Опыты его коллег, американских и французских, начавших применять гипноз для лечения и ди- агностики психических расстройств, сопровождавшихся амнезиями, в большинстве случаев приводили к успеху. Незадолго перед этим, например, американскому психиатру, доктору Сидису, удалось с помощью гипноза извлечь из глубин подсознания личность одного юноши, которому падение из кареты отшибло всю память, вплоть до условных рефлексов, и которого пришлось учить всему заново. Юноша быстро выучился навыкам цивилизованного человека, познакомился со своими родными, обнаружил способности к наукам, но это был другой человек, знавший о себе прежнем только по рассказам. Свою прежнюю жизнь он видел лишь во сне. Вот за это то и ухватился Сидис. Погружая юношу в легкий сон и умело чередуя состояния его сна и бодрствования, он постепенно соединил обе его личности в одну.
Искусству этому невропатологи и психиатры научились, конечно, не сразу. До 70-80-х годов, пока Шарко и его ученики не поставили гипноз на научную основу, им занимались от случая к случаю, без всякой системы, и пациенты доморощенных гипнотизеров получали вместо исцеления еще более расшатанную нервную систему. Об одной из таких жертв рассказывает Жане, ставший к началу 90-х годов одним из ведущих врачей в известной парижской психиатрической больнице – Сальпетриере. То была Леония Б., которая с трехлетнего возраста отличалась сомнамбулическими припадками, то есть ходила по ночам во сне с закрытыми глазами («сомнус» по-латыни – сон, а «амбуло» – хожу). С шестнадцати лет ее постоянно кто-нибудь гипнотизировал. Когда Жане увидел ее, ей было 45 лет. Это была бедная крестьянка, грустная, застенчивая и замкнутая. Но стоило подвергнуть ее гипнозу, как все ее поведение преображалось. Глаза ее были закрыты, но слух, обоняние и осязание сделались необыкновенно чуткими; она была подвижна, весела, шумна, ее остроумие было неистощимым. Когда гости расходились после сеанса, она отпускала по их адресу едкие замечания и про каждого рассказывала целую историю. Жане удавалось угомонить ее только тогда, когда она возвращалась в прежнее состояние.
Во втором состоянии она называла себя не Леонией, а Леонтиной. О Леонии она знала и относилась к ней то снисходительно, то с раздражением: «Эта добрая женщина – не я: она слишком глупа». Граница между ними была очень хрупкой, и подобно тому, как Берн без постороннего вмешательства превратился в Брауна, Леония сама иногда превращалась в Леонтину. Однажды Жане получил письмо, написанное сразу ими обеими. На первой странице было короткое послание, написанное серьезно и почтительно. Леония сообщала, что в последние дни чувствует себя неважно. Подписалась она своим настоящим именем: Леония Б. Письмо на другой странице было совсем в ином стиле. Леонтина жаловалась на то, что Леония мешает ей спать, надоедает ей и что она намерена ее погубить. Леония ничего не знала о Леонтине, Леонтина знала о Леонии все. Себе она приписывала все переживавшееся ею в состоянии сомнамбулизма, соединяя все части в связную историю, а «глупой» Леонии – все, что происходило в часы бодрствования. Единственная несообразность была в том, что Леонтина, признавая, что у нее есть дети, мужа приписывала одной Леонии, Леония же признавала их всех. Жане разобрался в этом не без труда: Своим раздроблением семейство было обязано легкомыслию гипнотизеров, которые, как пишет Жане, «со смелостью, достойной нашей эпохи», превратили Леонию в Леонтину перед родами, но забыли представить Леонтине ее мужа. Леонтину можно было не только разбудить и превратить в Леонию, но и «усыпить дальше». Тогда появлялась Леония № 3, как называл ее Жане, характером похожая на Леонию. Она знала каждую из своих предшественниц, но свое тождество с ними отрицала: первая была по-прежнему глупа, а вторая чересчур взбалмошна. Избавиться от Леонии № 3, натуры несформировавшейся, было легко, но соединить Леонию с Леоитиной так и не удалось. Аналогичный случай «растроения» личности произошел в конце XIX века в США, но события протекали иначе. К восемнадцати годам Альму 3., отличавшуюся хорошим физическим и умственным развитием, стали мучить головные боли, которые врачи приписали переутомлению. Однажды она заснула, а, проснувшись, предстала перед своими родными в образе бойкого, жизнерадостного существа, больше всего интересовавшегося не науками и искусством, как первая, а домашним хозяйством. Она знала, что появилась вместо Альмы, жалела ее и считала, что ее собственное назначение заключается в том, чтобы дать той отдохнуть. Когда она превращалась в Альму, та подобно Леонии ничего не знала о своем двойнике, но домашние рассказали ей об ее втором «я». Оба «я» сообщались друг с другом при помощи писем: вторая писала первой, какое ей следует принять лекарство, а первая благодарила вторую за заботу. Врачи лечили Альму, головные боли стали редкими, реже появлялась и Альма № 2. Когда же Альма вышла замуж, визиты Альмы № 2 участились. Однажды она сообщила, что больше не появится, а вместо нее прибудет новое существо. Тотчас последовал долгий обморок (почти все самопроизвольные превращения личности происходят после сна или обморока); когда же он кончился, на свет явилось существо, уверявшее, что оно мальчик и просившее так его и называть. Мальчик быстро привык к обязанностям жены, матери и хозяйки. Так же как и Леония № 3, он был ближе к первой личности, но не обладал ее познаниями. Однако он интересовался новой литературой и в особенности театром. О своих предшественницах Мальчик знал все и относился к ним с уважением. И у Мальчика, и у Альмы № 2 было много общего с Леонтиной: та же живость и остроумие, и та же обостренность чувств. Как пишет доктор Мэзон, лечивший Альму, проницательность Альмы № 2 доходила до ясновидения, и домашние раскаивались, если не слушались ее советов. Мальчик временами лишался слуха, но зато по движениям губ собеседников воспринимал все, что ему говорилось: сила и острота его зрения в эти моменты удесятерялись. Такую же чувствительность, граничащую с болезненностью, отмечали врачи и у других людей, когда их личность становилась другой. Пациента доктора Сидиса буквально тошнило от негармоничных сочетаний красок и звуков и от дурных запахов, а одна француженка, которую после сильного испуга, вызванного падением в реку, постигла сходная судьба, отличалась необычайным осязанием.
Классики психологии и невропатологии много размышляли о причинах появления новых личностей. Рибо, квалифицировав подобные случаи как «периодические амнезии», говорил, что основой нашего «я» является «общее жизненное чувство», слагающееся из всех наших внешних и внутренних ощущений, связанное согласованной работой нервной системы и поддерживаемое непрерывной памятью. Это чувство есть «способ нашего индивидуального бытия, который, повторяясь беспрерывно, так же незаметен для нас, как любая привычка». У каждого из нас под влиянием разных причин в этом общем чувстве происходят перемены, обычно незаметные и быстро исчезающие, но если они становятся ощутимыми и задерживаются надолго, тогда между самочувствием и сознательной памятью наступает разлад. Вокруг задержавшегося нового состояния начинают образовываться новые ассоциации, создавая новую память – память второго «я».
Отчего же происходят перемены в этом общем жизненном чувстве? «Маленькой задержки в желчном протоке, приема слабительного, чашки крепкого кофе в известную минуту достаточно, чтобы совершенно изменить взгляды человека на жизнь,- утверждал Джемс со свойственной ему иногда категоричностью.- Наши решения больше зависят от нашего кровообращения, чем от логических оснований». Если это и преувеличение, то не такое уж большое: в здоровом теле здоровый дух, как говорили те же римляне, а в больном, следовательно, больной. Лучшим подтверждением этому служит поведение человека, находящегося в сильном опьянении, которое есть не что иное, как сильное отравление. Захватывая власть над волей, эмоциями, вниманием и интеллектом, алкоголь создает такие «взгляды на жизнь», о которых человек и не подозревал, опровергая поговорку «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». «Взгляды» опьяневшего могут и не таиться в его подсознании, они рождаются из хаоса психофизиологических состояний, вызванного вторжением яда. Восприятие новых впечатлений и связанных с ними прежних ассоциаций, попадающих в фокус колеблющегося внимания, становится искаженным, из комбинаций свежих и старых обрывков создается поток причудливых образов и ощущений. В тяжелых случаях он выражается горячечным бредом, а в легких – хвастовством, псевдореминисценциями, подозрительностью, агрессивностью и жалостью к самому себе. Протрезвев, человек может не вспомнить и половину того, что с ним происходило, а при алкогольном психозе – особой форме опьянения, которое у натур с определенными свойствами нервной системы вызывается одной рюмкой, в памяти не остается и следа. Если выпивки входят в привычку, привычным становится и сопровождающий их «поток сознания». В одном из фильмов Чаплина богач, напиваясь, питает к герою нежные чувства, трезвея же, перестает его узнавать. Можно предположить, что в некоторых случаях раздвоение личности обязано своим появлением нарушению химического равновесия в организме, накоплению каких-нибудь ядов, вызванных непосильной мозговой работой. Такое объяснение напрашивается, например, в случае с Альмой.
Подтверждение этой точке зрения мы находим в опытах, которые недавно проделали на крысах сотрудники лаборатории проблем памяти Института, биофизики АН СССР А. И. Черкашин и А. А. Азарашвили. Они обучили крыс бегать только в правую сторону лабиринта, затем ввели им пенобарбитал, который снижает возбудимость нервной системы, угнетая ретикулярную формацию. После введения пенобарбитала крысы забыли выработанный навык, и их обучили бегать только в левую сторону. Когда действие пенобарбитала прошло, крысы побежали, как и прежде, направо, а когда им снова ввели пенобарбитал,- налево. Две памяти были налицо. Затем экспериментаторы применили аминазин, который тоже угнетает ретикулярную формацию, но иным образом, и выработали третий навык – третью память. Подводя итоги своим опытам, Черкашин и Азарашвили пишут, что припоминание может происходить только при тех же химических условиях функционирования нервной системы, при которых происходило и запоминание. Следы, записанные в одном состоянии, не воспроизводятся в другом. Данные о зависимости обучения животных от таких внутренних факторов, как уровень сахара в крови, содержание половых гормонов и т. п., могут быть приложимы и к объяснению забывания у человека. Известно, что резкие эмоциональные сдвиги сопровождаются усиленной выработкой биогенных аминов, кортикостероидов и некоторых других веществ. То, что запоминалось в спокойном состоянии, с трудом воспроизводится на фоне этой усиленной выработки, чем и объясняется внезапное помрачение памяти, например, при «экзаменационном стрессе». И наоборот, события, воспринимавшиеся в сильном шоке, могут в спокойном состоянии оказаться недоступными для воспроизведения.
При опьянении химические перемены служат причиной перехода в иное эмоциональное состояние; при шоке или стрессе, наоборот, сильное возбуждение влечет за собой химические перемены. Равновесие нарушается надолго, подкрепляется образующимися ассоциациями, и новая память не хочет уступать место старой. Химические перемены поддерживаются мощным аппаратом привычки – стойкими условнорефлекторными связями. Вот общая схема как «периодических амнезий», или двойного сознания, так и распада личности хронического алкоголика. К алкоголику или наркоману прежняя личность, именуемая в просторечии человеческим обликом, может вернуться лишь при том условии, если он ее не потерял окончательно.
ОТСТАЮЩАЯ ПАМЯТЬ
Но в этой схеме не хватает одного важного звена, без которого трудно понять многие случаи амнезий, близких к периодическим, и подобраться к восковой дощечке, которая, оказывается, может состоять из нескольких слоев: один слой можно читать при одном состоянии, другой при другом. В большинстве случаев второе «я» прекрасно осведомлено о жизни первого, в то время как первое знает о втором только понаслышке. Это показывает неодинаковую ориентированность разных уровней сознания. Уровень, где обитает первое, сознательное «я», больше обращен к интересам внешнего мира, а уровень, где формируется второе, подсознательное «я», замыкается в основном на интересах мира внутреннего. На первый взгляд эта мысль кажется парадоксальной: и Альма № 2, и Леонтина не в пример общительнее своих первых «я». Но общительность, живость и непосредственность – любимая одежда эгоизма и эгоцентризма. Леонтине нравится быть в центре внимания; занимаясь другими, она в сущности настолько поглощена собой, что не замечает свое! навязчивости. Альма № 2 говорит, что приходит затем, чтобы дать отдохнуть Альме № 1, то; есть самой себе. Эгоистичное второе «я» это порождение психической разрядки, убежище, куда устремляется нервная система, спасаясь от невроза. Подобно двум Альмам, мистер Берн и мистер Браун тоже антиподы: один проповедник, другой торговец. В своей книге «Психология внушения» доктор Сидис цитирует по этому поводу знаменитые строки о двух душах Фауста: «Из них одной мила земля, и здесь ей любо в этом мире, другой – небесные поля, где духи носятся в эфире». Второму «я» любо только в земном мире. Ему нравится сплетничать, передразнивать гостей, торговать, хозяйничать, оно обожает зрелища. Интеллект его всегда ниже, чем у первого «я»; его память может быть превосходной, но это память ребенка – образная, непосредственная, продукт чистой восприимчивости, но не размышления. В связи с этой памятью и эмоциональным строем второго «я» находится и обостренность его чувств. Психологи рассматривают эту особенность как проснувшееся наследие тех эпох, когда мы еще мало отличались от своих собратьев по эволюции, и на этом основании усматривают родство второго «я» с досоциальными инстинктами.
При раздвоении личности происходит, как говорят психиатры, полная диссоциация сознания. Что же касается частичной диссоциации, то ее мы можем наблюдать на самом себе, если устроим себе отпуск в соответствии с требованиями медицины. Когда уставший от умственных занятий и нервного перенапряжения человек вырывается из города на лоно природы, он ведет себя так же, как и большинство вторых «я»: интеллект его дремлет, он часто своенравен и капризен. Он занят собой и только собой, до всего остального ему нет дела. Возвращаясь к характеристике патологического второго «я», подчеркнем еще раз, что, будучи экстрактом лишь определенных сторон цельной личности и находясь в основном во власти эмоций, оно, строго говоря, не является самостоятельной личностью, обладающей необходимым комплексом интеллектуальных и эмоциональных черт и прежде всего социальной и нравственной ответственностью. Вот почему в борьбе с первым «я», ослабевшим только от переутомления или шока, а не от мозговой травмы, оно оказывается побежденным. Если не считать тех, кто самолично противится вытравлению из себя второго «я», соединение двух душ в гармоничное целое не представляет неразрешимой задачи.
Разумеется, наша критика второго «я» относится только к патологическим случаям диссоциации сознания, а не к той обширной сфере бессознательного, которую мы обсуждали выше. Сфера эта, будучи неотъемлемой частью нашей личности и памяти, служит сознанию верой и правдой. Но при патологии источником причудливых ассоциаций и мотивов становится, конечно, она: другого источника просто нет. Она питает собою и сновидения, состоящие в близком родстве с тем вторым «я», которое имеет своей причиной стремление к психической разрядке. Отдых, которому предается во сне нервная системе, носит весьма активный характер, причем, некоторые отделы мозга возбуждаются во сне больше, чем во время бодрствования, а в мозгу бушуют «эмоциональные бури», отражающиеся в пиках электроэнцефалограмм. Норберт Винер отождествил сон с «непатологическим очищением». «Часто наилучший способ избавиться от тяжкого беспокойства или от умственной путаницы – переспать их»,- сказал он. По мнению физиологов, сны защищают пас от перенапряжения и перевозбуждения. Есть тысячи смутных и неразрешенных вопросов, неосознаваемых, но тревожащих эмоций, накапливающихся за день и за более долгий срок. Нервной системе нужно выпустить пар, и пар выходит через сны, играющие роль разрядки, двойника на час. Недаром личность во сне не знает никаких ограничений. Вы заметили, что во сне мы не удивляемся никаким чудесам? Так и должно быть: во сне мы видим только самих себя, а своим собственным поступкам мы никогда не удивляемся. Фрагменты воспоминаний прошлого, переплетаясь с фрагментами впечатлений дня и шорохами ночи, складываются в причудливый узор, движением которого руководит внутренняя установка личности, требующая разрядки и решения своих проблем. Утро должно быть мудренее вечера!
Но утро может и не стать мудренее вечера и сновидения не выполнят своего очистительного назначения, возвращаясь и возвращаясь все в одних и тех же комбинациях, если у человека сложится навязчивая идея, своего рода второе «я», только совершенно противоположного характера тягостная, мучительная и всепоглощающая идея. Причиной ее может стать все тот же шок, эмоциональное потрясение; опередив и подавив стремление к разрядке, которое по разным причинам не успеет или не сможет найти свое русло, эта идея завладеет психикой и вызовет уже не периодическую, а непрерывную амнезию. Самый яркий случай такого рода описан Пьером Жане в книге «Неврозы и фиксированные идеи».
28 августа 1891 г. госпожа Д., жительница маленького городка, женщина скромная, суеверная и робкая, сидела у себя в комнате и шила. Вдруг какой-то человек вбежал к ней и воскликнул: «Ваш муж умер, его несут, готовьте постель!» Соседи, сбежавшиеся- на ее крики, стали уверять ее, что это глупая шутка, что с мужем ее ничего не случилось, да вот и он сам. При последних словах она вообразила, что несут его труп, и забилась в судорогах, которые продолжались двое суток. Наконец, она уснула. Когда она проснулась, рассудок ее был помутнен, а вскоре врачи обнаружили у нее ретроградную (идущую назад) амнезию на все события от 28 августа до 15 июля (праздник 14 июля и все, что ему предшествовало, она помнила). Ее отправили в путешествие, чтобы рассеяться, и тут обнаружилось, что, кроме ретроградной, у нее еще и антероградная, то есть идущая вперед, амнезия: она тут же забывает, что ей говорят и что она видит. По пути ее укусила собака, ей сделали прижигание, потом Пастер сделал ей прививку – она ничего не помнила. Ее привезли в Сальпетриер, и она попала в руки к Жане. Она охотно отвечала на расспросы о своей жизни до IS июля, но рассуждать предпочитала лишь о. простых вещах, а считать могла только с карандашом. Месяцы она угадывала по состоянию листвы на деревьях, а днями не интересовалась. Мужа своего она не признавала. Она понимала, что лишилась памяти, но это ее не беспокоило: она завела себе книжечку, куда вписывала основные факты своей нехитрой жизни и разные правила: «Я в Сальпетриере», «Я уже позавтракала», «Сегодня у меня был г. Шарко», «Чтобы пройти из кабинета доктора Жане в палату, надо сначала идти прямо, а потом повернуть налево». Жане обнаружил, что кое-что из пропавшего для нее периода она помнит: когда она видела собаку, она закрывала лицо и начинала дрожать. От мужа он узнал, что прежде она собак не боялась. Соседки по палате рассказали ему, что по ночам она кричит и упоминает собаку, врачей и Пастера. Она ничего не забыла! Она просто не в состоянии вспоминать. Жане без труда загипнотизировал ее, и она рассказала ему все, что происходило с ней после 14 июля, а в Сальпетриере описала каждый уголок. Когда ее разбудили, она снова все забыла. Жане подверг ее постгипнотическому внушению: он приказал ей выйти на другой день ровно в полдень из палаты и прийти к нему в кабинет. Точно в полдень, не взглянув на часы и не открыв свою книжку, она встала с постели и пришла к Жане.
Причиной ее состояния была навязчивая идея idee fixe. Под гипнозом она рассказала Жане, что, как только она начинает засыпать, перед ее глазами появляется испугавший ее мужчина и произносит роковые слова. Больше заснуть она не может. Жане решает подавить эту идею, но не сразу, а постепенно. Сначала надо превратить страшного мужчину в кого-нибудь еще, ну, хотя бы в самого Жане. Теперь по ночам к ней является доктор Жане, говорит ей фразу, по форме похожую на прежнюю, но по смыслу иную, успокоительную. Д. уже немного спит, а днем кое-что припоминает. Но лечение не идет гладко, навязчивая идея сопротивляется, принимает другое обличье: едва исчез страшный мужчина, как Д. стали мучить головные боли и обмороки, а потом появилось желание покончить с собой. Жане терпеливо устранил и эту идею, к Д. стали возвращаться воспоминания- об июле, потом об августе, о сентябре… Если воспоминание волновало ее, ее мучила головная боль, и амнезия снова захватывала часть отвоеванного памятью времени. Весной 1895 г. ему пришлось расстаться с ней; в это время память ее запаздывала месяца на четыре: Д. готовилась к встрече Нового года. Через год, как сообщили Жане врачи Сальпетриера, амнезия сократилась до трех недель. Антероградная тоже потускнела. Единственное, чего не удалось добиться врачам, это сохранения воспоминаний о прошедшем дне. Д. вечером прекрасно помнила весь минувший день, но наутро все забывала. Но события забытого дня присоединялись через три недели к восстанавливающемуся прошлому и больше уже не забывались.
Чтобы понять механизм подобной амнезии, не обязательно быть знатоком психиатрии или разбираться в мозговых структурах: навязчивые идеи, в их непатологической форме, бывают у каждого и называются одержимостью или поглощенностью. Когда ученый или изобретатель поглощен решением своей задачи его внимание отгораживается от доброй половины сигналов внешней среды, которым открыт доступ только в подсознание. Адамар рассказывает о химике Типле, который однажды заметил, что уже полчаса размышляет над вопросом, не отдавая себе в этом отчета. За эти полчаса он успел принять ванну и теперь погружался в нее вторично. Идея способна захватить и сознание и подсознание; человек может быть поглощен ею и в состоянии бодрствования, и во сне. По свидетельству Менделеева, таблица элементов в своем окончательном виде предстала ему именно во сне; во сне приходили к поэтам целые строфы стихов. Рассказами о такой поглощенности, сочетавшейся с внешней рассеянностью, полна история науки и искусства. Психологи, исследующие процессы творчества, говорят о том, что модель проблемной ситуации заполняет в таких случаях весь ум и все чувства человека. Беспрерывно изменяясь и уточняясь, она бессознательно притягивает к себе все те внешние раздражители, которые могут помочь решению задачи, и отталкивает от себя все, что может послужить помехой. Так она угадывает в падающих яблоках и в раскинутых пасьянсах (предварительное решение менделеевской задачи) мировые законы и заставляет человека дважды садиться в ванну. В. Н. Пушкин думает, что эта модель тождественна доминанте, под которой физиолог А. А. Ухтомский подразумевал обладающее повышенной возбудимостью сочетание нервных центров, мощный очаг активности, гаснущий лишь тогда, когда задача решена. Теория доминанты не видит различия между захватывающим все помыслы стремлением найти решение научной задачи и ни перед чем не останавливающейся жаждой власти, к которой рвется Ричард III, между любовью Ромео и Джульетты, не желающих считаться с враждой своих семейств, и неукротимой жаждой свободы, терзавшей Мцыри. Во всех случаях – «одной лишь думы власть, одна, но пламенная страсть», одно и то же психофизиологическое состояние.
Навязчивая идея о смерти мужа не дает госпоже Д. ни сосредоточиться, ни заснуть; мысли ее настолько порабощены, что она смотрит на мужа и не видит его. Пламя очага, вспыхнувшего от шока и разгоревшегося во время обморока, не дает свежим впечатлениям пробиться в оперативную память. От бессонницы и отсутствия очистительных сновидений нервная система еще более истощается, сил на сосредоточенность и на припоминание взять просто негде. А очаг полыхает, и сознательная память все дальше и дальше отрывается от личности: малейший вопрос приводит Д. в такое же мучительное оцепенение, как и сороконожку из притчи. Выход только один – погасить очаг. Та же картина и при многих раздвоениях личности. Эмоциональная перегрузка повергает человека в забытье, в котором вспыхивает доминанта, новое сочетание возбужденных нервных центров, по необходимости прямо противоположное прежним. Возвращение второго «я» свидетельствует о стойкости этих новых доминант, которые продолжают существовать под порогом сознания, дожидаясь своего часа. И при аффективных комплексах, загнанных в глубину подсознания, но не дающих человеку покоя, картина та же. У этих комплексов Ухтомский находил все признаки доминанты. С этой точки зрения некоторые исследователи объясняют, например, трагическую судьбу Бальзака. Многие годы ему казалось, что он любит Эвелину Ганскую, но она была замужем, и соединиться им было невозможно. Когда же муж ее умер, и она позвала его к себе в Россию, чтобы обвенчаться с ним, он пришел в отчаяние. Все хуже и хуже чувствовал он себя в пути, и, выехав из Парижа цветущим здоровяком, прибыл к Ганской развалиной. «Я, кажется, умру, прежде, чем дам вам свое имя», – прошептал он, идя под венец. И он вскоре умер. Он и не подозревал о том, что был порабощен доминантой – паническим страхом перед потерей свободы. Страх этот был так велик, что, когда она, еще замужняя, приезжала в Швейцарию и приглашала его приехать к ней, он не поехал; он писал ей нежные письма и клялся в вечной любви, но увидеться с ней было выше его сил. Главную роль во всех подобных историях играет аффективное состояние – испуг, отчаяние, угнетенность. Оно сдвигает уровни сна и бодрствования, устраивает из нервных центров костры, ставит преграду между долговременной и кратковременной памятью, не давая им соединиться в мерцающем фокусе внимания, искажает химический режим нервной системы и, как говорит Жане, сносит, подобно буре, те части строящегося, здания памяти, которые образовались позже всех. Bот отчего при ретроградной амнезии человек забывает не самое далекое, а самое близкое: близкое еще не окрепло, не устоялось, не обросло прочными связями. Если мозг поражен патологическим процессом, надеяться не на что. Все пойдет по закону Рибо, который справедлив не только при афазиях: сначала будут забываться свежие факты, потом все события вообще, потом приобретения ума, за ними чувства и привязанности и, наконец, привычки. Но если мозговые структуры целы и все коренится в эмоциональном хаосе, в искажении уровней бодрствования и сознания, в чисто психической причине, тогда дело поправимо: врач может сделать так, чтобы ретроградная амнезия съежилась в неприметный комок, а доминанта, мешающая жить, превратилась в доминанту, ведущую к новым приобретениям ума и памяти.
МОЗГОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Есть еще один вид доминант, которые можно было бы обсудить здесь, но мы прибережем их для заключительной главы. А сейчас нам следует познакомиться с пациентами неврологической клиники. Их мозг поражен опухолью, травмой или кровоизлиянием; все до одного они жалуются на ухудшение памяти. Первый из пациентов давние события помнит неплохо, новые же удержать не в состоянии. Врачам прежде всего важно узнать, когда он забывает их – сразу или немного погодя. Ему показывают десять картинок, смешивают их с другими и просят разложить всю колоду так, чтобы знакомые легли слева, а незнакомые справа. Слева не оказывается ни одной картинки. Первый диагноз: никудышнее непосредственное воспроизведение. Следующий текст – «корректорский»: больному дают страничку текста и предлагают зачеркнуть в ней все буквы «к» и «р». Он пропускает половину «к» и «р», зачеркивает совсем другие буквы, а под конец засыпает. Ко всем этим играм у него нет ни малейшего интереса. Но все меняется как по мановению волшебной палочки, если перед опытом ему дают стимулятор фенамин: и картинки узнаются, и ошибок вдвое меньше. Диагноз уточнен. У больного нет собственно нарушения памяти, у него снижен уровень бодрствования и внимания, а также подавлены эмоции. Патологический процесс следует искать в тех мозговых центрах, откуда идут активирующие импульсы в кору, и в связанных с ними центрах эмоций – в ретикулярной формации и гипоталамусе.
Следующий больной ведет себя иначе. Те же жалобы на плохую память, то же безразличие, но сонливости нет, да и безразличие неровное: то апатия, то приступы беспричинного страха. Непосредственное воспроизведение не нарушено – все картинки узнал; значит, не нарушено и внимание. Но отсроченное воспроизведение никуда не годится: через час забыл не только картинки, но и экспериментаторов. Фенамин не оказал никакого влияния, влияние оказал элениум – успокаивающее лекарство. Диагноз тоже ясен: поломка в центрах эмоций (не обязательно в гипоталамусе, центров несколько; в данном случае это было кровоизлияние в области гиппокампа). У третьего пациента плохо и с отсроченным воспроизведением, и с непосредственным, и ему не помогают никакие лекарства. У него и уровень бодрствования смещен, и эмоции бушуют, и место поломки надо долго искать, применяя для этого препараты направленного действия, сложные психологические тесты и глубинные электроэнцефалограммы. То ли дело открытая черепная травма, да еще с обширной ретроградной амнезией. Но и тут найти главный из пораженных участков иногда очень трудно. Ведь поломка в одном отделе нарушает работу всего мозга. Оттого-то при поражении центров бодрствования и внимания страдают эмоции, при поражении центров эмоций ухудшается бодрствование и внимание, а память страдает и от того, и от другого. Одного больного, страдавшего паркинсонизмом, непрерывным дрожанием головы и рук, решили вылечить радикальным способом- разрушить те мозговые клетки, чья исказившаяся работа и вызывала дрожание. Но, расставшись со своим недугом, пациент расстался и со значигельнон долей памяти, хотя клетки эти непосредственного отношения к памяти никогда не имели. Все в мозгу связано друг с другом, и связь эту предсказать нельзя, ибо степень ее зависит и от характера болезни, и от состояния нервной системы, и от всевозможных предрасположений, и от доминант, которые полыхают и тлеют в самых неожиданных местах. Вот почему неврологи предпочитают говорить не об анатомических центрах, а о функциональных, да еще прибавляют к этому слово «динамический». Перед тем как приступить к знакомству с ними, запомним тот вывод, к которому пришли исследователи, испытав пациентов неврологической клиники. Существуют три типа общих расстройств памяти. Расстройство первого типа проистекает от нарушения уровня бодрствования и внимания, второе – от эмоциональных неполадок, а третье – от того и другого сразу. Во всех этих случаях утрата или ослабление памяти – явление вторичное. Человеку трудно сосредоточиться, трудно активизироваться, и все. Вот почему и структуры, с повреждениями которых связаны подобные амнезии, называют вторичными, или неспецифическими, ибо ведают они, строго говоря, вовсе не памятью. И самое замечательное заключается в том, что в эту классификацию укладывается девять десятых всех амнезий. Только одна десятая обязана своим происхождением первичным структурам. Таково мнение неврологов А. М. Вейна и Б. И. Каменецкой.
Мозг можно описывать по-разному. Нас с вами интересует сущность восковой дощечки, хранилище памяти и ее механизмы, а для этого самым подходящим будет схема, предложенная А. Р. Лурией. Лурия делит мозг на три главных блока. В первый блок входят верхние отделы ствола и отчасти древняя кора, поддерживающие тот уровень бодрствования и активного внимания, без которого невозможна мозговая деятельность. Если опухоль или кровоизлияние затронут этот блок, у человека в принципе не нарушатся ни восприятие, ни речь, ни мышление, они нарушатся лишь постольку, поскольку пострадает бодрствование, рассеется внимание, исказится сфера эмоций. Безразличный ко всему на свете или, наоборот, вечно встревоженный, человек будет то засыпать, то метаться, и от этого никогда не успеет ни сосредоточиться, ни как следует подумать. Естественно, что ему будет очень трудно вспоминать что-нибудь и запоминать новое. Когда у человека складываются патологические очаги возбуждения, уравновешиваемые очагами торможения, они черпают свою силу в структурах этого блока, который Лурия называет энергетическим. У всех обладателей двух «я» амнезии были так или иначе связаны с нарушением режима работы энергетического блока, хотя в нем и не было ни опухолей, ни травм. Два отдела этого -блока таламус (бугор) и гипоталамус (подбугорье) попали в поле зрения исследователей после 1924 г., когда швейцарский физиолог Гесс разработал методику раздражения глубоких структур тонкими электродами. За полвека микроэлектродная техника достигла необычайного совершенства. И животным, и людям вживляют в мозг по нескольку десятков электродов; реакции мозга на стимуляцию регистрируют приборы, соединенные с вычислительными машинами; карта мозга становится все точнее, а ученые и врачи, раскрывая основное назначение структур, научаются воздействием на них избавлять людей от тяжелых недугов.
Человек был ранен на войне, и ему отрезали левую руку. Он бы приспособился к жизни, как тысячи ему подобных, кабы не болела беспрерывно и мучительно отсутствующая левая рука. Врачи это называют фантомной болью. Она не только болела, он еще ощущал ее всю, до кончиков пальцев, и знал, когда пальцы вытянуты, когда скрючены, а когда как бы сцеплены друг с другом. Жизнь была невыносима. За двадцать восемь лет человек перенес тринадцать операций и все без толку: хирурги рассекали нервы в культе, а дело-то было не в культе, а в стойком патологическом очаге, гнездящемся в мозгу. И вот он лег на четырнадцатую операцию, только это была не хирургическая операция, а нейрофизиологическая: никто ему не собирался ничего рассекать.
Ленинградский нейрофизиолог В. М. Смирнов ввел ему в мозг электроды, и начались сеансы электростимуляции. Фантом от сеанса к сеансу тускнел и наконец изгладился из памяти навсегда. Человек вернулся к жизни. Расставшись с доминантой фантома, он стал спокойным, доброжелательным и общительным. Смирнов объясняет это исцеление в терминах памяти: благодаря стимуляции, говорит он, произошло переучивание нейронных ансамблей.
Гесса, как мы сказали, привлек энергетический блок и прежде всего гипоталамус. Известно было, что он контролирует температуру тела, участвует в регуляции эндокринной системы и, что самое важное, ведает ощущениями голода и насыщения. Что должен делать хищник, ощутив голод? Отправиться на охоту. Так рассуждал Гесс и не удивился, обнаружив в гипоталамусе участок,:при раздражении которого,: животное принимало агрессивную позу. Впоследствии, многим физиологам удавалось тем же способом вызывать у животных ярость или испуг. А в 1953 г. физиолог Джемс Олдс открыл поблизости от гипоталамуса знаменитые центры удовольствия. Вживив электрод в первый центр, он научил крысу нажатием на рычаг включать слабый раздражающий ток. Оторвать крысу от этого занятия было невозможно. Она могла нажимать на рычаг по пять тысяч раз в час в течение двух суток, пока не падала от изнеможения. Неподалеку от центров удовольствия обнаружились и центры наказания; раздражая их у обезьян, экспериментатор рисковал быть растерзанным. Гипоталамус был тем участком, где рождались грубые эмоции. Отмечая у своих пациентов нарушения в эмоциональной сфере, неврологи знали теперь, где может гнездиться патологический процесс, откуда можно начинать поиски.
Рядом с гипоталамусом находится ретикулярная формация, огромная сеть нейронов, растянутая по мозговому стволу. Все сигналы, которые получает мозг, проходят, через нее. Поток импульсов, в котором закодирован, например, зрительный сигнал, отправляется на обработку в зрительные зоны коры, расположенные в затылочных долях. Но, проходя через ствол, часть этого потока сворачивает в сторону и по особым ответвлениям, колла тсралям, попадает в ретикулярную формацию. Оценив сигнал по его значимости для организма, ретикулярная формация посылает дополнительные импульсы в те отделы мозга, которым надлежит на этот сигнал реагировать. Назначение этих импульсов открыли в 1949 г. нейрофизиологи Мэгуп и Моруцци. Вживив кошке электрод в верхнюю часть ретикулярной формации, они дождались, пока она не заснула, и послали ей в мозг волны характерные для электроэнцефалограммы бодрствования. Кошка проснулась. Волны, свойственные «ну, кошку; усыпили вновь. Ретикулярная формация командовала уровнем бодрствования. Мэгун и Моруцци разрушали все пути, по которым в мозг направляются сигналы от органов чувств, и оставляли только связи ретикулярной формации с корой. Уровень бодрствования у животного сохранился неизменным. Когда же все пути между органами чувств и корой оставались целыми, а связи ретикулярной формации с корой разрывались, животное засыпало. Импульсы из ретикулярной формации в кору идут всегда, всегда сохраняется уровень «фоновой активности», позволяющий нам подсознательно регистрировать происходящее. Когда же сигнал приобретает особое значение, поток импульсов возрастает: кошка чует мышку, обезьяна тянется к банану, человек силится припомнить забытое имя. Нетрудно представить себе, что произойдет с памятью, если ослабить поток активирующих импульсов, идущих от ретикулярной формации к коре, или поток информационных сигналов, идущих от органов чувств к ретикулярной формации. Человек будет пребывать в полусне и в непрерывной амнезии. Без ретикулярной формации память работать не может. Но как она решает, когда ей подкреплять корковую активность, а когда нет? Ведь чтобы кинуться на мышку, кошка должна узнать ее, то есть сличить ее облик с эталоном. А где хранится этот эталон?
Присмотримся к следующему блоку, третьему, по, классификации Лурии. Это лобные доли, лежащие впереди слуховых и двигательных зон коры и занимающие у человека около трети больших полушарий. В ходе развития от низших животных к высшим ни один отдел мозга не увеличился в такой степени, как лобные доли. Им человек и обязан своим высоким лбом. Ученые долго не могли понять, каково назначение этого органа: были случаи, когда повреждение лобных долей не вносило никаких заметных перемен ни в поведение, ни в мышление, а уж на памяти и вовсе не отражалось. Однако. незаметные перемены все-таки происходили, а когда Португальский нейрохирург Эгац Мониц изобрел фронтальную лоботомию, назначение лобных долей стало проясняться. У безнадежных психических больных он рассек связи между лобными долями и эмоциональными. центрами, и буйные существа превратились в кротких, туповатых созданий. Долгие годы в Институте нейрохирургии имени Бурденко лобные доли изучал Лурия. На международных конгрессах 1968-1969 гг. Лурия рассказывал о нескольких типичных случаях двусторонних поражений в лобных долях. Одну женщину застали как-то за странным занятием: она мешала дрова в плите метлой, а в кастрюле у нее варилась мочалка. Другой больной начал строгать доску, исстрогал ее всю до конца, а потом так же монотонно принялся строгать верстак. В архиве нейрохирургической клиники хранится письмо, которое одна пациентка писала Н. Н. Бурденко. «Дорогой профессор,- начиналось это письмо,- я хочу вам сказать, что я хочу вам сказать, что я хочу вам сказать…» Четыре страницы были заполнены инертным повторением этого стереотипа. Нейропсихолог предлагает больному нарисовать квадрат. Тот «строгает доску до конца» – рисует три маленьких квадрата и еще один большой. В этот момент нейропсихолог шепотом спрашивает: «Вы слышали о заключении пакта между такими-то странами?» Тотчас больной вписывает в квадрат; «Акт №…» «Это похоже на факты, полученные в опытах с животными»,- говорит экспериментатор врачу, и больной дописывает: «Акт № 1 о животноводстве».
Стереотип – вот самое главное в поведении тех, у кого поражены лобные доли. Они лишены стратегии и взгляда в будущее, они «сами не знают, чего хотят». Разучившись формировать свои планы, они либо начинают воспроизводить упрочившиеся навыки, не замечая разницы между лапшой и мочалкой и не умея остановиться на одном квадрате, либо поддаются импульсивным порывам, давая просачиваться в свое поведение любым внешним сигналам. Ни для того, ни для другого у них больше нет задерживающих центров. Дети, имевшие несчастье перенести травму лобных долей, теряют способность к обучению. Самая интенсивная умственная деятельность приходится у нас на детские годы, когда мы только и делаем, что усваиваем новую информацию. То, что снижение умственной деятельности обнаруживали у взрослых с пораженными лобными долями не сразу, нейропсихологи объясняют тем, что немногие взрослые занимаются напряженной умственной работой. Чаще всего наша деятельность течет по руслу стереотипов, нуждающихся лишь в незначительной регулировке.
Грей Уолтер давал своим испытуемым задачи, вызывающие состояние ожидания: например, в ответ на такой-то сигнал надо было нажать такую-то кнопку. С помощью электроэнцефалографа он наблюдал, как в лобных долях возникают особые волны и как они исчезают, когда ожидать больше нечего. Электроэнцефалографию открыл в 1924 г. австрийский физиолог Ганс Бергер. Он приклеил к голове своего испытуемого металлические пластинки, соединил их с гальванометром и увидел на шкале колеблющиеся потенциалы в тысячные доли вольта. Затем гальванометр был соединен с самописцем, и ученые получили возможность наблюдать изменения биопотенциалов во времени. К концу 30-х годов были разработаны высокочувствительные усилители, и началась классификация мозговых волн, или ритмов. Альфа-ритм отражает состояние спокойного бодрствования, когда человек ни на чем не сосредоточен и мысли его предоставлены самим себе. Мысли сконцентрировались, и альфа-ритм уступил место частому и стремительному бета-ритму. Эмоциям затруднения и беспокойства свойствен тета-ритм, сну без сновидений – спокойный дельта-ритм, а по смеси бета- и тета-ритмов видно, что человеку снится сон, да еще ясно какой – тревожный или приятный. Волны, которые обнаружил Грей Уолтер, имели особый рисунок; они получили название Е-ритмов, или волн ожидания. Е-волна возникает при ожидании или внезапном появлении стимула и затухает после того, как решение принято. Встречаются люди, у которых она затухать не желает. Грей Уолтер характеризует их как психастеников: они никак не могут принять решение, они сомневаются во всем и из каждой мухи готовы сделать слона. А есть люди, у которых Е-волны совсем не бывает. Это натуры беспечные и поверхностные, не желающие ни о чем задумываться всерьез. Они грешат, каются в своих грехах и тут же забывают о своих клятвах. Врожденный дефект в лобных долях? Во всяком случае короткая память.
Изучение связей лобных долей с энергетическим блоком и волн ожидания привело исследователей к мысли, что доли эти активизируются, только когда человек сталкивается с определенной задачей, и что возникающее в них возбуждение служит регулятором общей активности мозга. У здорового человека в ответ на новый раздражитель возникает ориентировочный рефлекс, который очень легко обнаружить по кожногальванической реакции. Раздражитель утратил новизну – реакция угасает. Но если сказать человеку, чтобы он следил за переменами в поступающих сигналах-раздражителях, реакция восстанавливается: человек ждет новизны; ЭЭГ регистрирует Е-волну. У больного с поврежденными лобными долями ничего этого не происходит. Если у него и пробуждается в первый, раз ориентировочный рефлекс, то во второй раз вызвать его уже невозможно. Трудно решать задачи тому, у кого, повреждены лобные доли: все варианты кажутся ему равновероятными, внимание его рассеивается, ибо активирующие импульсы поступают от энергетического блока как попало; отвлечься от второстепенных деталей и стереотипных ассоциаций нет сил. Удача человека не радует, а неудача не огорчает. Мысль работает то вяло, то хаотично, а если кошелек оперативной памяти наполняется монетами, человек даже не интересуется, серебро это или медь. Словом, лобные доли это регуляторы, сложных форм поведения, помогающие человеку организовывать свои мысли и действия для достижения намеченных целей, сличать эти действия с исходными намерениями, обнаруживать ошибки и исправлять их. Никаких отпечатков прошлого в них не хранится: больной в состоянии вспомнить все, что от него потребуется. Неполадки в этой системе ухудшают только оперативную память: больной забывает не слова и не события, а собственные намерения, если только им удастся сформироваться. Но утверждать, что лобные доли не ответственны за память, мы не можем. Ведь память служит не самой себе, а мышлению и действию. Она бесплодна, если человек не может ею пользоваться. Каждый свой минувший шаг здоровый человек связывает с шагом предстоящим: он помнит, чего он хочет. Тот же, у кого повреждены лобные доли, этого не помнит, не помнит самого главного, чего ни в одном справочнике не найдешь. Он живет в непрерывном настоящем, ибо прошлое его не реализуется, а будущего у него нет. Но лобные доли – не хранилище следов; следы надо искать в другом месте, во втором блоке, который так и называют- блок приема, переработки и хранения информации.
В ПОИСКАХ СЛЕДОВ
Поломка в этом блоке, куда входят затылочные, теменные и височные доли коры, выглядит совсем иначе. Жизненный тонус высок, эмоции не нарушены, внимание концентрируется, когда нужно, но с переработкой информации и ее хранением творится неладное. Человек может разучиться говорить и писать, различать зрительные формы, узнавать предметы на ощупь. Если уж искать следы, то только здесь! Но прежде нам следует познакомиться с работой нейронов. Из них-то и складывается «серое вещество». Есть еще и белое вещество, это дендриты, отростки нейронов. По самому главному и самому длинному отростку, аксону, нервный импульс передается от одного нейрона к другому. Кончик аксона разветвляется на множество мелких волоконцев. То место, где они приближаются к телу соседнего нейрона или к его дендритам, английский физиолог Чарльз Шеррингтон назвал синапсом. Импульс передается благодаря изменению электрического потенциала аксона. В этом процессе участвуют ионы калия и натрия, путешествующие сквозь мембрану, которая отделяет протоплазму аксона от окружающей среды. Когда импульс достигает конца аксона, там высвобождается химическое вещество, называемое медиатором, то есть посредником. Медиатор переплывает синаптический промежуток, возбуждает соседний нейрон, в нем меняется соотношение ионов калия и натрия, от этого меняется потенциал, и импульс бежит дальше. Такова схема нейронной импульсации, побудившая Шеррингтона сравнить мозг с чудесным ткацким станком, «на котором миллионы сверкающих челноков ткут мимолетный узор, непрестанно меняющийся, но всегда полный значения».
Нейрофизиологам удалось выделить три основные группы нейронов и установить их соотношение в каждом блоке. К первой группе принадлежат нейроны новизны. Они безучастны к тому, какой перед ними раздражитель- зрительный, слуховой или вкусовой. Их интересует только одно: нов он или не нов. Если поток сигналов неизменен, они молчат, но стоит ему измениться, стоит звуковому сигналу стать на четверть тона повыше, как начинается реакция: нейрон выдает разряд. Очевидно, что такие нейроны участвуют не в хранении следов-отпечатков, а в сличении новых впечатлений со следами-эталонами, в мобилизации оценочно-эмоционального аппарата, бодрствования и внимания. И мы не ошибемся, если предположим, что больше всего этих нейронов в первом, энергетическом блоке и меньше всего во втором, информационном. Нейроны, которые преобладают во втором блоке, зовут специализированными. Среди них есть нейроны, которые реагируют только на острый угол или только на прямой, только на движение справа налево и только на движение слева направо и так далее. Они дробят образ на элементы, чтобы придать ему форму, удобную для анализа. Бок о бок с ними работают нейроны-универсалы, реагирующие на любые раздражители. Их назначение -завершить синтезом анализ, проделанный нейронами-специалистами. Каждый отдел блока состоит из трех надстроенных друг над другом зон. Сначала идет первичная, или проекционная зона, куда приходят аксоны от органов чувств и где преобладают специализированные нейроны. Если у вас поражена эта вона, например, в зрительной коре, ваше зрение просто станет менее острым, а если вам будут раздражать ее электродом, перед глазами у вас замелькают блики и пятна. В следующей зоне преобладают нейроны-универсалы, готовящие элементы к обобщению; возбуждение разливается там широко, и раздражение вызывает уже не блики, а осмысленные образы. При поражении этой зоны острота зрения сохранится, но сложить детали в цельную картину вы не сможете.
Образ предмета складывается из разнообразных признаков, и зрительных, и слуховых, и осязательных. Их интеграцию осуществляют нейроны-универсалы третичной зоны. Человек, у которого поражена эта зона, часто не может оценить пространственное отношение между предметами, его мышление становится более конкретным, чем прежде. Свое открытие Пенфилд сделал случайно: он искал границы речевых зон. Раздражая участок за участком, Пенфилд вызывал у своих пациентов искусственную афазию. Один из них, когда его попросили назвать изображенный на картинке предмет, воскликнул: «Это то, на что надевают ботинок!» После удаления электрода, пациент радостно добавил: «Нога». Следовало ли из этого, что Пенфилд раздражал тот самый нейрон, в котором хранился отпечаток слова «нога»? «Тот самый нейрон» и много еще нейронов вокруг него можно умертвить, а человек вспомнит потом и «ногу» и все другие слова, которые электрод заставил его «позабыть». Покажите ему ботинок, и он скажет: «Это то, что надевают на ногу». Неврологам было ясно, что человек забывает название не оттого, что у него стирается след этого названия, а оттого, что нарушается механизм, связывающий назначение вещи с его названием, конкретное с абстрактным. Не случайно больной афазией такого типа напоминает ребенка, который еще только учится обращению с вещами и, говорит, «Нож – это, чтобы резать, а карандаш – это, чтобы писать». Суть не в «ноге» и не в «ботинке», а в «чтобы». Мы можем представить себе группу нейронов, в которых зашифрован символ ноги и ботинка, но как вообразить такое же дифференцированное хранилище грамматических или логических отношений?
Каждому типу афазии присущ свой механизм. Л. С. Цветкова из Московского университета исследовала процесс называния предмета и его нарушение. Она прежде всего подчеркивает, что механизм называния отличается от механизмов порождения фразы. При порождении фразы поиски нужного слова – явление вторичное, оно подчинено основному процессу – структурированию фразы и организации речевого акта. Когда же вам предлагают найти слово-наименование («Как это называется?»), вы не строите фразу, а ищете слово, выбираете его из ряда других, связанных не грамматически, а только семантически. И тут уж слова всплывают в сознании не последовательно, как в первом случае, а все сразу, и независимо от предыдущих и последующих слов. Все нарушения в назывании предметов происходят при поражении задних (теменно-височно-затылочных) отделов мозга, которые-то и обеспечивают выбор слов. Организация речевого акта, создание замысла и программирование устного высказывания связано с передними отделами (задне-лобными областями). Как мы видим, и механизм иной, и участок иной. Цветкова предположила, что нарушение «актуализации», то есть «вспоминания» нужного слова вызывается утратой различения конкретных и характерных признаков слова. Опыты подтвердили это предположение. Восьми больным предъявляли сто картинок, на которых были изображены предметы обихода, явления природы, действия и качества предметов (цвет, вкус, форма). Каждому больному картинки показывали десять раз, и экспериментатор отмечал время актуализации. После подсчета оказалось, что актуализация слов-наименований требовала в шесть раз больше времени, чем слов, отражающих абстрактные явления-качества, и в полтора раза больше, чем слов-действий. «Ногу» и «ботинок» вспомнить было не в пример труднее, чем «бег» или «синеву». Ни один след не исчезает из памяти, все они оживляются, об этом свидетельствуем стратегия актуализации: больной перебирает слова. Дефект заключается в выборе эталона, соответствующего показанному образу. Здоровый человек выбирает его автоматически и одномоментно, больной – осознанно (как сороконожка) и развернуто во времени. Амнестическая афазия это осложнение выбора, при котором человек инстинктивно идет по самому легкому пути. Путь от абстрактного к конкретному затуманен, и он предпочитает обратный: «Это то, чем пишут», «то, на что надевают ботинок». Поражение одних зон вызывает расстройство речи, поражение других – письма, третьих – счета. Височные отделы коры обладают высокой специализацией. Но хотя причины афазии коренятся именно там, ни один невролог не возьмется утверждать, что вот в этой зоне хранятся слуховые символы слов, а в этой – графические. Разрушение какой-нибудь зоны означает для него лишь утрату деталей в механизме, управляющем речью или письмом. Невролог скажет, что височные отделы, поражение которых вызывает афазию, ответственны не столько за хранение следов-эталонов, сколько за их воспроизведение. Вот почему неврологи и нейропсихологи предпочитают говорить не о следах и не об их хранилищах, а о механизмах и о совместно работающих функциональных отделах. Человек может забыть и слова и лица, но кровоизлияние стирает не следы, а, как говорит Лурия, условия для их употребления.
Да и не одна афазия приводит к этому заключению. В 1874 г. доктор Мене опубликовал отчет о своих наблюдениях за сержантом французской армии Ф., который был ранен пулей в левую теменную кость. В течение четырех лет жизнь Ф. делилась на продолжительные периоды нормального состояния и кратковременные ненормального. Впадая в ненормальное, он становился живым автоматом. Он вставал и ложился в привычные часы, курил, гулял, но не чувствовал ни уколов булавки, ни запахов, ни шума, ни яркого света. Только осязание, связанное с движениями, становилось у него острее и тоньше. Когда-то сержант, имевший приятный голос, певал в кофейнях. Во время одного из припадков заметили, что он напевает какую-то мелодию. Затем он пошел в свою комнату, оделся старательно и стал перебирать журналы, как бы что-то отыскивая. Доктор Мене, угадав, что он ищет ноты, свернул один журнал в трубку и вложил ему в руку. Сержант вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице. Тут солнечный свет упал на него через окно и словно вызвал в нем воспоминание о свете рампы. Он остановился, развернул журнал, стал в позу певца и пропел три романса. Но самым интересным был случай с письмом. Во время одного из своих сомнамбулических припадков он взял перо и стал писать письмо своему генералу, прося у него медали в награду за усердную службу и храбрость. Доктору Мене захотелось удостовериться, насколько участвовало в этом акте писания зрение сержанта. Он поставил между глазами и рукой сержанта ширму; тот продолжал еще писать немного, но потом остановился, не обнаружив, впрочем, никакого неудовольствия. Когда ширму отняли, он снова начал писать с того места, где остановился. Мене заменил чернила водой; сержант замер, посмотрел на перо, вытер его о сюртук и продолжил писание. В другой раз он начал писать на верхнем из десяти листов, лежавших один на другом. Дав ему написать две строки, Мене осторожно выдернул первый лист. Сержант несколько удивился, но продолжал третью строку на новом листе. Мене удалось повторить свой прием пять раз, на пятом листе была только подпись сержанта. Тем не менее, когда он подписал письмо, глаза его обратились к верхушке пустого листа, и он стал читать про себя то, что написал, сопровождая чтение движением губ. Он даже сделал пером несколько поправок на пустой странице. Если бы все пять листов были бы прозрачны, пишет Мене, они при наложении друг на друга, составили бы целое письмо, написанное совершенно связно и правильно. На основании этого и других подобных опытов Мене заключил, что чувство зрения сохранялось у Ф. для всех предметов, с которыми он соприкасался через осязание, и исчезало для тех, которые он осязать не мог. Комментируя этот случай в своей лекции о Декарте, Томас Гексли сравнивает зрение сержанта со зрением лягушки, которая, как известно, видит только движущиеся предметы и не замечает неподвижных. Гексли обращает внимание на животный, рефлекторный автоматизм больного. Сержант не замечал, что пишет не чернилами, а водой, что перед ним не ноты, а журнал, не письмо, а чистый лист. Но это было не угасание следов, а затмение сознания, он не столько забывал, сколько не соображал. Поставьте-ка себя в его положение и попытайтесь написать таким же образом письмо на пяти страницах, да еще внесите поправки в чистый лист. Никогда у вас этого не получится, ибо вы будете действовать сознательно, а сознательной памяти, отягощенной контролем и сомнениями в успехе, нечего и тягаться с памятью бессознательной. Утешимся тем фактом, что гипермнезия сержанта компенсировалась амнезией: о своих подвигах на поприще экспериментальной психологии он ничего потом не помнил. Но к следам и к их хранилищу эта амнезия никакого отношения не имеет. Где же они тогда хранятся в конце концов?
Вопрос этот задавали себе и физиологи. Удаляя один за другим большие участки коры у крыс и обезьян, Карл Лэшли смотрел, насколько у них ослабнет память. Память ослабевала, но весьма незначительно. Когда у одной крысы удалили почти все клетки зрительной зоны, она все равно узнала то, что от нее требовал экспериментатор. Лэшли заключил, что кора вряд ли может претендовать на роль хранилища следов, она просто участвует в процессах памяти. Роджер Сперри из Калифорнийского университета, не разделявший мнения Лэшли, решил узнать, где у кошки хранятся те образы, благодаря которым ей удается различать геометрические формы. Различить форму без участия зрительных зон невозможно, без них можно только отличить свет от мрака. Может быть, следы хранятся все-таки в этих зонах? Сперри завязал кошке один глаз и научил ее узнавать квадрат и круг. Потом он завязал ей другой глаз. Результат был тот же: «необученный» глаз вел себя так же, как и «обученный». Волокна, идущие от сетчатки каждого глаза, разделяются на два пучка и оканчиваются в затылочных долях обоих полушарий. По пути зрительные нервы обоих глаз сходятся, образуя так называемый перекрест, или хиазму. Потом часть волокон, идущих от левого глаза, направляется к коре левого полушария, а часть – к коре правого. То же происходит и с волокнами правого глаза. Все ясно! Надо перерезать хиазму. Тогда волокна от левого глаза дойдут только до левого полушария, а от правого – только до правого. Когда ранка зажила, кошке снова завязали один глаз, а другой научили различать фигуры. Если следы хранятся в зрительной коре, то теперь они будут формироваться только в одном полушарии, в том, куда идут волокна, а необученный глаз так и останется необученным. Не тут-то было! Необученный глаз по-прежнему узнавал фигуры. Значит, следы хранятся не в коре? Нет, не значит. Следы могли перейти из одного полушария в другое через мозолистое тело – пучок аксонов, соединяющих нейроны обоих полушарий. Когда кошке перерезали мозолистое тело, необученный глаз так и остался необученным. Больше того, его можно было научить избегать не квадрата, а круга: в одном полушарии хранился один навык, а в другом – другой. Сперри перешел от кошек к обезьянам. У одной обезьяны рассекли мозолистое тело, а в одном полушарии сделали лоботомию. Потом ей поочередно завязывали глаза и показывали змею. Когда змею увидел глаз, связанный с целым полушарием, обезьяна пустилась наутек, а когда другой, обезьяна взглянула на змею благодушно и зевнула. Кошки и обезьяны Сперри стали обладателями двух «личностей»!
Получалось, что следы все-таки хранятся в коре. Чешский физиолог Ян Буреш пришел к такому же выводу. Он обнажал у крысы мозг, смачивал одно полушарие раствором хлористого калия, полушарие на несколько часов «засыпало», а тем временем другое полушарие обучалось какому-нибудь навыку. На другой день Буреш усыплял другое полушарие и заставлял крысу решать ту же задачу: у крысы ничего не выходило. Но почему же следы не перешли из одного полушария в другое? Ведь Буреш ничего не перерезал. Оказывается, они не могут переходить во время бездействия, они переходят только в процессе обучения. Но главное, конечно, что они существуют и хранятся в коре. Физиологи даже нашли, где именно. Один участок коры Буреш защитил от усыпления, смочив его хлористым магнием, затем усыпил одно полушарие, обучил крысу нажимать на рычаг, подождал, пока спавшее полушарие не проснется, и усыпил обученное. На обученном, в той же сенсомоторной зоне, оставался бодрствовать островок, смоченный хлористым магнием, и этот островок вспомнил все, что надо. Островок принадлежал сенсомоторной зоне.
Итак, следы, связанные с сенсорным различением – с работой органов чувств, образной памяти и мышления, хранятся в коре, во втором блоке; причем мозолистое тело обеспечивает запись следов сразу в двух полушариях. Но в одной ли коре хранятся они? Одной обезьяне с раздвоенным мозгом предложили научиться сложной комбинации из зрительного и осязательного различения. При виде круга она должна была потянуть на себя гладкий рычаг, а при виде квадрата – шероховатый. Обычно обезьяны решают такие задачи легко. Но Сперри потребовал от нее, чтобы она тянула за рычаг не той рукой, которая управлялась полушарием, получавшим зрительные сигналы, а другой, управлявшейся полушарием, отрезанным от зрительных каналов. И обезьяна решила эту задачу. Очевидно, результаты осязательного и зрительного распознавания сопоставлялись в подкорковых отделах, и там же принималось решение, на какой рычаг нажимать. Решение это результат работы не одной толь- ко коры. Но самое главное даже не в этом. Кроме следов, необходимых для различения, память хранит и массу следов другого типа, из которых складывается опыт. Где хранятся они? Как они интегрируются в единое воспоминание, обладающее той же временной последовательностью, которая была свойственна запомнившемуся событию? Да, второй блок называют блоком хранения, но лишь потому, что лучшего слова не нашлось. Есть в слове «хранение» оттенок статичности, как и в слове «след» и в слове «отпечаток». Аристотель думал, что память локализуется в сердце, Декарт помещал ее в шишковидную железу. Остальные мыслители, начиная с Парменида и Гиппократа, придерживались более современных взглядов. Но каковы же эти взгляды? Одни физиологи признают второй блок хранилищем памяти, другие говорят об иерархии уровней хранения: деталями ведает кора, а значение, придаваемое этим деталям, хранится в структурах первого блока. Но как может «храниться» значение? Что касается неврологов, то, говоря о процессах сравнения с эталонами, они и вовсе избегают слова «хранение». Так что же, сравниваемые образы возникают только в процессе сравнения? А как быть с теми же пенфилдовскими фильмами, с гипермнезиями? Не распутает ли клубок этих противоречий анализ корсаковского синдрома, который считается истинным, или первичным, нарушением?
КОРСАКОВСКИЙ СИНДРОМ
Кроме божьего дара, или, по-научному, интуиции, кроме обширных познаний и выдающегося профессионального мастерства, великий врач отличается от врача обыкновенного пристальным интересом к личности больного, ко всей его жизни, которую он стремится пронаблюдать во всех подробностях и описать так, чтобы ни одна из этих подробностей не ускользнула от анализа. Во время этих наблюдений и описаний рождаются счастливые мысли и совершаются великие открытия; история болезни, которой врач обыкновенный посвящает страничку, превращается у великого врача в философский роман, где потомки, независимо от своих прямых интересов, не устают находить все новые и новые крупицы мудрости. Таким врачом был Сергей Сергеевич Корсаков.
Более всего Корсакова занимали амнезии. Предоставив своим французским коллегам изучение сомнамбул и жертв шока, Корсаков занялся жертвами зеленого змия. Одним из первых в его руки попал тридцатисемилетний писатель, привыкший много пить и доведший себя до состояния, в котором память его, слабевшая день ото дня, отказалась ему служить. Он не мог ответить, ел он сегодня или нет, был у него кто-нибудь сегодня или не был. Все, что случалось с ним задолго до болезненного состояния, он знал, но то, что приближалось к этому состоянию, потускнело. Он начал писать повесть и помнил об этом, но чем она должна была кончиться, забыл. У писателя началась непрерывная амнезия. Писателя спасти не удалось, у него развился паралич конечностей, и он умер. Многие такие больные страдали параличом конечностей, и Корсаков, предположив, что имеет дело с болезнью всей нервной системы, назвал ее множественным невритом. Впоследствии, на Международном съезде врачей, ее назвали корсаковским психозом – в честь ее первооткрывателя. А еще позже корсаковский психоз стали считать частным случаем корсаковского синдрома – целого комплекса симптомов, встречающихся и у тех, чей мозг отравился алкоголем или другими ядовитыми веществами, например продуктами нарушенного обмена, и у тех, у кого в мозгу произошло кровоизлияние или развилась опухоль, вызвавшие те же последствия, а именно – непрерывную амнезию. Утрата памяти на происходящее – первое, что бросается в глаза при корсаковском индроме, и ни фенамин, ни элениум ничего с ней поделать не могут.
Корсаков часто играл со своими больными в шахматы, и, бывало, больные обыгрывали его. Что-что, а оперативная память у них была в отличном состоянии: видя перед собой доску с фигурами, они удерживали в памяти и их расположение, и свои собственные замыслы, и предполагаемые ходы противника. Но стоило больному отвернуться от доски, как он тут же забывал не только расположение фигур, но и то, что он вообще играл. Впрочем, это его не обескураживало: он садился, приглядывался к партии и продолжал ее как ни в чем не бывало. И все-таки эта способность к комбинационному мышлению, пожалуй, не более, чем сохранившийся в неприкосновенности навык. Ни одному больному не удается научиться игре, в которую он прежде играть не умел. Читать больные не любят, круг их интересов ничтожен: «поесть, попить, поспать, покурить». Нет, они вовсе не так уж отличаются от тех, у кого поражены лобные доли. «Одно и то же впечатление у него вызывает стереотипную фразу, которая произносится таким тоном, точно больной только что эту фразу придумал»,- пишет Корсаков о писателе. Охотнее всего они употребляют поговорки, избитые словосочетания; даже из старого опыта, который остался у них, они образуют только рутинные комбинации. И такая же прилипчивость к внешним воздействиям, с той только разницей, что больной с пораженными лобными долями как бы раскрыт навстречу наружным импульсам, даже ищет их, а пациент Корсакова пассивен, но «начнут с ним говорить – он начинает говорить; увидит вещь – сделает свое замечание:». Он тоже живет как бы в одном растянутом настоящем, и его личность претерпевает такие же серьезные изменения. Он то раздражителен и упрям, то покорен и вял. И в том, и в другом случае ясно видно, как тесно связана память с мышлением и характером; искажается одно, искажается и все остальное, вся личность претерпевает деформацию. Ярчайшим примером такой деформации, или даже распада личности служит история с адвокатом, столь же знаменитая, как история госпожи Д. или Берна Брауна.
Начало истории банально: пристрастие к водке, паралич ног, потом, правда, прошедший, и такое же, как всех, расстройство памяти. Его выписывают из больницы, но к адвокатской практике он решительно не способен. О водке давно забыто, но память не восстанавливается, бывший адвокат работает корректором. Чтобы не читать все время одну строчку, он делает против про читанной отметку карандашом и медленно двигается о одной строчки к другой. Газету, где он служит, закрывают, для него наступают тяжелые времена, о которых он, впрочем, мало что помнит. Года через четыре он все-таки пытается устроиться адвокатом. Но на какие ухищрения ему приходится пускаться, чтобы никто не заметил его слабости! Чтобы не попасть в неловкое положение в суде, он должен читать свою речь по конспекту и избегать подробностей, отделываясь общими местами. Все силы уходят на то, чтобы ставить себя в условия, благоприятные для воспоминания – окружать себя предметами, которые могут напомнить о том-то и о том-то. Если он встречается с приятелями, с которыми виделся вчера, и они вызывают его на незаконченный разговор, он ловко препоручает им ведение разговора. Благодаря всем этим хитростям он становится общительнее и перестает избегать встреч с людьми. Но прежней личности нет и в помине. «Прежде он был горячий, энергичный человек, возмущавшийся горячо несправедливостями,- пишет Корсаков,- теперь… в нем какое-то особенное хладнокровие, но не вследствие силы, не вследствие особенной высоты миросозерцания, а вследствие слабости жизненных порывов». Какая уж там высота миросозерцания! Много раз Корсаков просил адвоката описать свое состояние, тот все отнекивался, но, наконец, уступил, и вот какое письмо получил Корсаков: «Очевидно, стало быть, я на каком-то перепутье или, вернее, в столбняке со стихом: сердце пусто, празден ум… притом же решительно затрудняюсь, что выбрать для (начинки?) заселения этих необходимых для жизни территорий (разумея ум и сердце без сказуемых). Искренне желаю, чтоб трагедия и водевиль отсутствовали, а был бы лишь простой, но величавый эпос. Это я постараюсь положить в основу новой жизни, не определяя заранее ни того, что она (жизнь) сама в себе, ни того, что именно пригоднее для нее… Таким образом, для меня вовсе не представляется странным, если в данное время жизни я признаю себя лишь формой для личности, но не совсем личностью…дальше адвокат признает, что сейчас он не более как посредственность, он не теряет надежды на исцеление «мне, уже достаточно искусившемуся, продолжение рисуется более лучшим»), но попытки анализа своего состояния тонут в поверхностном резонерстве, в безграмотной выспренности, в стилистической беспомощности, которая всегда спешит замаскироваться псевдозначительным оборотом, заключенным в скобках. Прочитав длинное и тягостное письмо адвоката, Корсаков сказал кратко и недвусмысленно: «Снижение умственных способностей». Адвокат пишет, что волнуют его теперь не серьезные происшествия, а «события крупного ничтожества». Мало проку в том, что он не утратил способности это сознавать – надо ведь действовать, надо всей душой болеть за справедливость и откликаться на ее попирание так, как откликались лучшие из его коллег, чьи речи в защиту народовольцев потрясали основы самодержавия. Но изъязвленный алкоголем мозг откликается только на ничтожные заботы. Самодержцы знали это еще со времен Владимира Красное Солнышко, любившего потолковать о том, что веселие Руси есть пити. Но ведь не пьет больше адвокат, сама мысль о водке противна ему, отчего же не восстанавливается его память и не возвращается прежняя личность? Может быть, яд разрушил какой-то важный орган в мозгу, от которого это все и зависит, некий первичный отдел памяти?
Наблюдая за своими пациентами, Корсаков заметил, что кое-что они все-таки не забывают. «Вы уже видели меня сегодня?» – спрашивал он то одного, то другого, в десятый раз входя к ним в палату. Одни отвечали отрицательно, другие молчали. Они, без сомнения, узнавали его, но смутно, неуверенно. Писатель, например, узнавал: хоть и утверждал он, что видит его впервые, но все оттенки обращения к Корсакову, вся доверчивая симпатия, которой озарялось лицо писателя, говорили за то, что он чувствует, кто перед ним. Другому больному был неприятен сеанс гальванизации; когда он видел аппарат, лицо его искажалось гримасой тревоги и отвращения. Однако он уверял, что и понятия не имеет о назначении аппарата. Размышляя об этом, Корсаков пришел к выводу, что «память чувства сохраняется несколько более, чем память образов». И еще одна интересная особенность болезни обнаружилась в его наблюдениях – реминисценции, внезапные воспоминания, осеняющие больного через месяц или через год после случившегося, независимо от того, начал он выздоравливать или нет.
Закономерности корсаковской амнезии очень похожи на закономерности, установленные Рибо. Меньше всего страдают у больных условные рефлексы – память движений и навыков. Без всяких усилий больные находят свою койку, свою палату, столовую, процедурные кабинеты. За условнорефлекторной памятью идет память чувств, способность к запоминанию не столько самого объекта, сколько его значения. У писателя, как отмечал Корсаков, она «более сохранялась, чем память времени, места и формы». У того, кто боялся гальванического аппарата, тоже. На третьем месте – память на места и формы. Выздоравливающий адвокат «узнает сразу дом, где уже был… узнает всех новых знакомых; но разговора, который он вел с этими знакомыми, он решительно не помнит…» Пространственное восприятие у него уже почти восстановилось, а память на события, на изменения во времени еще нет. Память времени, способность фиксировать внешние и внутренние процессы, события и динамику мысли, первой страдает и последней излечивается. Легко обнаружить совпадение этой иерархии с гипотезой о филогенезе памяти, выдвинутой П. П. Блонским. Мысль и способность осознавать себя во времени появилась в филогенезе позже всего, а онтогенез, как было сказано не раз, во многом повторяет филогенез. Уязвимость памяти на время – одно из самых убедительных доказательств позднего ее происхождения и ее принадлежности к основным чертам человеческого интеллекта. Не оттого ли утрата этой хрупкой способности и ведет к снижению умственных способностей?
Возможно, это так и есть, но чисто психологическая постановка вопроса не дает нам ответа ни о первичной структуре, ни о следах. К счастью, корсаковским синдромом занимаются физиологи и неврологи, в чьем ведении находятся мозговые структуры. И отталкиваются они как раз от представлений о времени, а именно о долговременной и кратковременной памяти. Под первой они подразумевают хранение следов, а под второй – их подготовку к хранению. Подготовка эта и сама делится на несколько этапов. Восприятие зрительного стимула начинается в органах зрения и в первичных зонах коры. Тут мозг еще имеет дело со всем, что ему «попадается на глаза». И хотя уже на этом этапе ощущается воздействие долговременной памяти, проявляющееся в узнавании или в неузнавании и в определенной концентрации внимания, этап этот ближе еще к чистому восприятию. Работа восприятия непрерывна, но память пользуется ее плодами выборочно. В психологических условных блоках и в реальных корковых зонах идет отсев лишнего, и командует этим отсевом при сознательном восприятии внимание. Если мы не сделаем усилия запомнить имя того, с кем нас знакомят, оно тут же вылетит из головы. Физиологи считают, что этот этап длится несколько секунд – столько, сколько требуется мозгу для оценки стимула. Неврологи с этим согласны. Им известно, что после аварии воспоминания водителя кончаются на том участке пути, который находился за пять-шесть секунд до места происшествия.
Этот этап не кратковременная память, а только ее преддверье, или псевдопамять, как говорят иногда физиологи. Сама кратковременная память, на стадии которой идет первичная сортировка информации, длится около часа. За час корсаковский больной успевает забыть любое событие дня. Может быть, он и вспомнит это событие когда-нибудь, но пока оно блуждает у него где-то под порогом сознания, не находя щелочек в запертых воротах долговременной памяти. Гипотеза о двух памятях как о стадии подготовки следов к хранению, или их консолидации, и стадии самого хранения была высказана еще в 1900 г. С развитием автомобильного транспорта неврологи получили обширный экспериментальный материал для подтверждения указанной гипотезы. Было замечено, что и эпилептики, подобно жертвам катастроф, ничего не помнят из того, что непосредственно предшествует судорогам, а электроэнцефалограммы продемонстрировали врачам целые бури, которые разыгрывались в мозгу во время этих судорог. Жане сравнивал шок с бурей, которая сносит верхушку памяти. ЭЭГ эпилептиков навели психиатров на ту же мысль, и они попробовали лечить электрошоком психические заболевания, надеясь на то, что буря снесет «ненормальные ассоциации» и обнажит нормальные. Увы, ненормальные связи возвращались так же неуклонно, как возвращалась память к госпоже Д. Более плодотворными оказались опыты с электрошоком над здоровыми испытуемыми? они-то, собственно, и показали, что стадия кратковременной памяти продолжается час. Материал, выученный за час до опыта, в памяти оставался, а выученный за сорок или за двадцать минут, из головы вылетал. Отсюда был сделан еще один важный вывод: кратковременная и долговременная память обладают разными физиологическими механизмами.
Начались опыты и с животными. У крыс вырабатывали рефлекс избегания – отучали бегать по лабиринту, где вздумается. Когда крыса уже твердо знала, где ей будет больно, а где нет, ей устраивали электрошок – подносили к глазам электроды, и она в судорогах теряла сознание. Если рефлекс был выработан раньше, чем за час до шока, крыса, придя в себя, вспоминала, какие места в лабиринте опасны, а если рефлекс вырабатывался перед самым шоком, забывала все. Подобно шоку, действовал па свежие следы и наркоз, и гипоксия – кислородное голодание в барокамере, и гипотермия – охлаждение до температуры домашнего холодильника. Великого искусства во всех этих опытах достиг тот же Ян Буреш. Действие тока он объяснял так. У судорог, которые вызывает электрошок, и у кратковременной памяти, очевидно, одна природа – электрическая; оттого-то шок и действует на нее. Электрические импульсы, в которых закодирован след, движутся по нейронным цепям, и след постепенно, в течение часа, записывается в мозгу. В 1938 г. испанский физиолог Лоренте де Но обнаружил, что нейроны образуют замкнутые цепи, по которым, как он предположил, циркулируют импульсы определенного значения. Позже его американский коллега Верцеано ввел в таламус электрод, состоящий из трех проволочек, и записал электрическую активность трех нейронов, в которые уткнулись проволочки. И эти нейроны оказались звеньями одной цепочки: запись показала последовательно повторяющиеся циклы разрядов. Скорее всего циркуляция импульсов по замкнутым цепям и есть механизм кратковременной памяти: циркулируя, следы консолидируются и переходят в долговременное хранилище. В эту циркуляцию шок и вносит хаос. Судороги, как писал Буреш, заливают мозг «хаотическими волнами импульсной активности», и получается нечто вроде интерференции. Что касается гипотермии или гипоксии, то они просто замораживают циркуляцию. На укоренившиеся же следы ничто уже не влияет, ибо их хранение, очевидно, не связано с электрической активностью.
СЛЕДЫ СПЕШАТ НА СВИДАНИЕ
Когда физиологи отвели кратковременной памяти час, они имели в виду среднюю величину. Консолидация следов, как показывают корсаковские реминисценции, может длиться месяцами. Откладывая учебник в сторону, чтобы дать выученному отлежаться, мы, с точки зрения нейрофизиолога, растягиваем консолидацию следов на несколько часов. С другой стороны, есть вещи, которые запоминаются мгновенно. Вместе с оценкой новизны объекта начинается оценка его важности. На ЭЭГ физиологи видят: объект заведомо нов, а ориентировочной реакции нет – объект неинтересен. А раз нет ориентировочной реакции, объект может миновать и подсознание. Оценка, как мы видим, процесс сложный, и у нее, по мнению физиолога Л. П. Латаша, тоже могут быть свои стадии – предварительная, основная, детализирующая. В зависимости от общей оценки и устанавливается режим циркуляции импульсов. Если объект не так уж нов, его признаки быстро встретятся со своими эталонами, если он очень важен – переход в долговременную память тоже будет скор. Ученые XIX века, вслед за Гербертом Спенсером, думали, что молниеносное запоминание вызывается усиленным кровообращением в мозгу, а то, в свою очередь, сильной эмоциональной встряской. Соглашаясь с этим, ученые XX века искали ответ на вопрос, циркулируют ли заведенные сильной эмоцией импульсы быстрее или дольше. Большинство склоняется к тому, что дольше. Оттого-то яркое впечатление глубже врезается в память. Именно такие впечатления и составляют содержание реминисценций.
Размышляя над феноменом реминисценции, над удивительными фактами воспоминаний о сценах, относящихся к периоду обострения болезни, Корсаков склонялся к мнению, что ни один след не пропадает безвозвратно. Чтобы там ни происходило в мозгу, а «все-таки они вертятся». Следы, как говорил Корсаков, живут частной жизнью в бессознательном, потихоньку укрепляются и становятся все доступнее для извлечения. У выздоравливающих они уже у самого порога сознания, и, чувствуя это, адвокат цепляется за каждую ассоциацию, чтобы вытащить воспоминание на свет. Забывания, строго говоря, не существует, существует лишь невозможность вспомнить. Опыты физиолога Р. И. Кругликова подтверждают гипотезу Корсакова. Несколько лет в своей лаборатории, в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, Роман Ильич экспериментировал над мышами, вызывая у них ретроградную амнезию электрошоком. Вначале ему казалось, что шоковая буря действительно сносит верхушку памяти и стирает свежие следы, но постепенно его все больше и больше охватывало сомнение. Слишком многое свидетельствовало об обратном. И Кругликов провел новую серию опытов. Он вырабатывал у мышей рефлекс избегания на основе однократного подкрепления, то есть с одного раза, в течение минуты проверял, усвоили ли они навык, оглушал их электрошоком, а лотом, приведя в чувство, проводил с ними «процедуру напоминания» – ставил их, как ставил сам себя адвокат, в условия, похожие на те, которые должны были у них вылетать из головы. И мыши «по ассоциации» вспоминали свой рефлекс. Из этого Кругликов сделал заключение, что следы долговременной памяти, не подвластные шоку, формируются очень быстро, и забывание связано не с тем, что следы не успели сформироваться, а с тем, что они не подготовились еще к проявлению. Рассказывая о своих опытах на Всесоюзной конференции по проблемам памяти, он выразился еще определеннее: «Ретроградная амнезия от электрошока означает не разрушение рефлекса, а либо повреждение аппаратов его воспроизведения, либо перевод следа в подпороговое состояние». Следы не стираются, они живут своей частной жизнью, они ждут своего часа. Забывания не существует! Память лучше сравнить не со строящимся зданием, а с растущим деревом. Тогда можно сказать, что буря не сносит, а пригибает верхушку. Английский невролог Рассел объяснял когда-то реминисценцию гипотезой самоусиления следов. Нейроны дают иногда самопроизвольные разряды без всякого стимула, и токи, пробегая прежде всего по цепям с пониженным сопротивлением, укрепляют следы памяти. Самоусиление выполняет ту же роль, что и сознательное повторение. Всем жертвам амнезий приходится полагаться на самоусиление, на медленную, неуязвимую и непрерывную консолидацию, которая постепенно распрямляет согнутые верхушки, и прошлое укрывается перед выздоравливающим. Конечно, само собой это может и не произойти: в одних случаях нужно снять сначала idee fixe, в других – провести лечение процедурами напоминания, а в третьих починить сам мозг, потому что шок это шок, это буря, которая, утихнув, оставит берег каким он и был, а алкоголь, опухоль или кровоизлияние могут разъесть и берег – просто-напросто сожрать необходимые для воспроизведения следов, мозговые структуры. Как их чинить, пока неизвестно: о них самих разузнали толком всего лет пять или шесть назад.
Догадывались об их существовании, конечно, раньше, с тех пор как было решено, что эмоция это оценка. К догадке вела и морфофизиологическая гипотеза памяти, высказанная еще Рамоном-и-Кахалом. Развивая взгляды ассоциационистов о том, что память основана на проторении путей в мозгу, Рамон-и-Кахал предположил, что от повторного прохождения импульсов одного и того же типа синапсы претерпевают изменения, благодаря которым понижается сопротивление нейронных цепей. В первый раз поток импульсов перескакивает с одного нейрона на другой с трудом, во второй легче, в третий еще легче и так далее. Происходит проторение нервных путей и укрепление нервных связей соответствующего типа – морфофизиологических аналогов ассоциаций. Синапсы превращаются в пропускные пункты, отдающие предпочтение знакомым импульсам, а группа нейронов, соединенная такими синапсами, становится носителем определенного следа. Приняв эту гипотезу, мы легко представили себе не только самоусиление следов, но и всякое воспоминание. Желая припомнить что-нибудь, мы возбуждаем в мозгу электрическую активность; сначала она носит общий характер, затем импульсы находят свои цепи, и в сознании оживают требуемые следы. Пути, которые проторяют себе новые импульсы, могут лежать поблизости от путей, проторенных сходными импульсами; от активности одних путей активизируются соседние, и сознание получает искомое в сопровождении следов-спутников, которые могут даже опередить искомое. Тогда вместо фамилии Овсов нам в голову приходят другие лошадиные фамилии, и мы терпеливо ждем, пока Овсов не прорвется через них. Но раз так, раз цепей с близким сопротивлением оказывается много и на свидание с новым символом могут, как это случается при афазии или при общем возбуждении явиться десятки эталонов, значит должен существовать оценочный механизм, который управляет сравнением следов. Получая сигналы от возбудившихся зон, от следов готовых ожить в памяти, он должен оценить их, погасить ненужные, а нужные направить в фокус сознания. Не па него ли натолкнулся однажды Пенфилд, когда, раздражая электродом в глубине височной доли один участок, вызвал у пациента «сравнивающе-истолковывающие» мысли?
К тому времени, когда это случилось, внимание физиологов уже было приковано к структуре, которая примыкает непосредственно к височным долям и называется гиппокампом. Анатомы относят его к древней коре, над которой у нас выросла новая; подобно ей он тоже состоит из двух половинок. По нашей классификации мы должны отнести его к энергетическому блоку: он ближайший сосед гипоталамуса и ретикулярной формации. Первыми о гиппокампе узнали неврологи; прежде всего им стала известна разница между двусторонним поражением гиппокампа и односторонним. При одностороннем у человека нарушается отсроченное воспроизведение и возникают неполадки в сфере эмоций; если же патологический процесс захватывает обе половинки, у него наблюдаются все признаки корсаковского синдрома, а у многих наступает и ретроградная амнезия. Ретроградную амнезию обнаружил все тот же Пенфилд. Он исследовал одного больного с очаговой эпилепсией и по ЭЭГ нашел источник его страданий – рубец около левой половинки гиппокампа. Очевидно, это был след кровоизлияния, вызванного акушерскими щипцами. Пенфилд перерезал половинку, удалил очаг эпилепсии, припадки прекратились, но пациент нежданно-негаданно приобрел ретроградную амнезию длиной в четыре года и антероградную в придачу. Потом ретроградная съежилась, следы «самоусилились», а антероградная так и осталась. В чем же было дело? Оказывается, правая половинка из-за внутренних кровоизлияний давно вышла из строя. Случай редкий, но он многое объяснил неврологам. Применительно к процессам памяти, решили они, нет смысла говорить о гиппокампе – правильнее будет говорить о гиппокамповом круге. Ни один орган в мозгу не работает изолированно, а отделы первого блока в особенности связаны друг с другом. Тем же уровнем бодрствования управляет не одна ретикулярная формация, а целая система, захватывающая, кроме нее, и гипоталамус, и таламус, и пути к коре, и саму кору. Когда же происходит двустороннее поражение гиппокампа, то разрывается круг, включающий в себя, кроме половинок гиппокампа, и ядра таламуса, и части лобных долей, и своды, и поясную извилину, и маммилярные тела, и гипоталамус. И все это связано с ретикулярной формацией и с корой. Оживленный перекресток магистралей, или, лучше сказать, диспетчерский пункт. Не там ли принимается решение о начале консолидации, о запуске импульсов по нейронным цепям, не по этому ли кругу они и циркулируют? Но ведь должна еще быть циркуляция между этим кругом и отделами, откуда поступают сигналы о новых впечатлениях и символы эталонов. Откуда-то должны приходить и сведения о важности новой информации. Как все это происходит? И какие функции несут отдельные звенья круга? Алкоголь чаще всего разрушает не сам гиппокамп, а маммилярные тела, крошечные сосковидные отростки, примыкающие к гипоталамусу. Но среди больных корсаковским синдромом есть и такие, у кого разрушен только таламус. Нет, неврологи и анатомы о звеньях пока судить не берутся, они говорят только об одном гиппокамповом круге. Физиологи, изучающие условные рефлексы, тоже. Да, кролик, у которого поврежден гиппокамп, обучается с трудом. Но, как справедливо замечает нейрофизиолог Ольга Сергеевна Виноградова, гиппокамп связан с эмоциями не меньше, чем с самой памятью, да, кроме того, он ближайший сосед гипоталамуса, который, как известно, регулирует ощущения сытости и голода. Вот и решайте, отчего кролик с поврежденным гиппокампом. равнодушно взирает на любимую свою морковку: оттого, что он забыл урок, оттого, что у него пропал аппетит, или оттого, что ему вообще стало все на свете безразлично? Виноградова считает, что условные рефлексы дают физиологам не больше десяти процентов достоверной информации, а если вы хотите получить хотя бы двадцать, исследуйте не замутненное противоречивыми мотивами поведение, а нейронную активность. Она предлагает убедительную гипотезу о гиппокампе, родившуюся из опытов над теми же кроликами, которым вживляли электроды в гиппокамп и записывали реакции его нейронов на световые вспышки и всевозможные звуки.
В гиппокампе преобладают нейроны новизны, а посему на все сигналы он реагирует одинаково: идут одни и те же сигналы – реакция мало-помалу угасает, чуть-чуть меняется сигнал – возникает вновь. Это естественно, парадоксально другое: при появлении нового сигнала большинство нейронов замолкает и не дает никаких разрядов. Умолкание и есть их реакция, а обычная «фоновая» активность – ее отсутствие. Как объяснить этот парадокс и не кроется ли в нем ключ к пониманию роли гиппокамиа? Виноградова решает посмотреть, чем занимаются во время молчания гиппокампа его соседи. Оказывается, в это время просыпаются нейроны ретикулярной формации и посылают свои импульсы в кору. Идет ориентировочная реакция, мозг изучает новый сигнал. Сигнал изучен, начинается консолидация следов, и гиппокамп оживает: его нейроны затормаживают работу ретикулярной формации, гасят ее. Выходит, гиппокамп регулирует ее активность, он решает, что стоит запоминать, а чего не стоит. Он – аппарат оценки сигналов, сравнивающее устройство. По схеме Виноградовой, сравнение происходит так. На вытянутые в цепочку нейроны гиппокампа поступают с двух сторон два потока импульсов – один несет информацию о новом сигнале, другой об эталонах. Сигналы встречаются, гиппокамп их сравнивает: если разницы нет, гиппокамп продолжает тормозить ретикулярную формацию своей активностью, если разница есть – умолкает, и ретикулярная формация активизирует запоминающие механизмы. Содержание сигнала его не интересует, только разница. В записях, отражающих его активность, нет и намека на структуру сигнала; такой намек можно увидеть у нейронов-специалистов, преобладающих в сенсорных зонах, и у нейронов маммилярных тел. Не эти ли тела ведают консолидацией, посылая по нейронным кругам такие импульсы, в которых кодируется рисунок следа? Все возможно. К сожалению, ничего больше о гиппокампе разузнать пока не удалось и о маммилярных телах тоже. И откуда приходит к нему информация о важности сигнала, тоже неясно. Завеса таинственности, окутывавшая гиппокамп, только начинает приоткрываться, но главное уже сомнению не подлежит: это важнейший механизм памяти, от которого воспроизведение следов зависит в первую голову. Остается узнать, наконец, что же представляют собой сами следы.
МЕТАМОРФОЗЫ МУЧНЫХ ХРУЩАКОВ
Как вы помните, уже в XIX веке психологи и физиологи были убеждены, что следы памяти связаны с изменениями в молекулах мозгового вещества. Однако идея, высказанная в столь общей форме, немногим отличалась от идеи восковой дощечки и за неимением более точных данных подробно не обсуждалась. Открыв и исследовав нейрон, физиология увлеклась им надолго; этому увлечению способствовало сходство в поведении нейронов и элементов вычислительных машин, на которое настойчиво указывали первые кибернетики. Мак-Каллох и Питтс разработали абстрактную модель нейрона, рассматривая его как автомат, имеющий конечное число дискретных (прерывистых) внутренних состояний. У нейрона получилось два возможных состояния – возбужденное и невозбужденное. Объединив нейроны в сеть, Мак-Каллох и Питтс получили первую модель нервной системы. Вслед за этим наступила эпоха дискуссий о том, является ли мозг машиной или не является, можно ли построить машину, которая мыслила бы, как мозг, могут ли машины мыслить и т. д. и т. п. Несмотря на замечание Джона фон Неймана насчет того, что элементы машин действуют последовательно, а элементы мозга параллельно, дискуссия длилась едва ли не четверть века. Тем временем ученые, не принимавшие участия в дискуссии, обнаружили, что с нейронной активностью связаны лишь процессы кратковременной памяти, а долговременная, сравнительно безразлично относившаяся к электрошоку, должна иметь иную природу. Какую же? Взоры исследователей обратились к молекулам, о которых к тому времени было уже известно гораздо больше, чем в конце XIX века.
В том же 1943 г., когда Мак-Каллох и Питтс выпустили из кувшина демона моделирования, чья тень все еще будоражит умы, шведский гистохимик Холдер Хиден обнаружил, что во время возбуждения нервной системы в нейронах усиливается синтез нуклеиновых кислот и белков. В самом этом факте не было ничего удивительного, Будь жив Геринг, он сказал бы, что то же самое происходит и в упражняющейся мышце. Но Хиден уже не мог удовлетвориться таким объяснением. На его глазах молекулярная биология двигалась к расшифровке кода наследственности, нуклеиновые кислоты, ДНК и РНК, становились героями дня. Если в них записаны все наши инстинкты и безусловные рефлексы, то почему бы им не послужить дощечкой для записи повседневного опыта? Какой же из кислот отдать предпочтение? ДНК хранит наследственную информацию. Значит, РНК? Недаром же за несколько минут количество РНК в работающем нейроне увеличивается на целую треть. Очевидно, циркулирующие по нейронным цепям импульсы нарушают равновесие ионов в молекуле РНК, ее звенья, нуклеотиды, делаются неустойчивыми и перестраиваются в такой последовательности, какую диктует им частотная характеристика импульса. Информация, записанная в этой характеристике, перекодируется на молекулу РНК, а оттуда на синтезируемый ею белок и хранится теперь вечно, повторяясь в конфигурации обновляющихся белков автоматически. Молекула белка становится чувствительной к «своим» импульсам, узнает их и сообщает об этом высвобождением медиаторов, которые и переносят «импульсы узнавания» с нейрона на нейрон при новой циркуляции, сопровождающей воспроизведение. Такая схема сложилась у Хидена к началу 60-х годов, и он принялся за проверку своей гипотезы. Методика опытов была проста. Хиден натягивает проволоку по диагонали; на полу сидит крыса, наверху, где кончается проволока, на дощечке лежит пища. Крыса бежит к пище и попутно учится балансировать. Затем Хиден умерщвляет ее и сравнивает нуклеотидный состав нейронов ее двигательных зон с таким же составом у необученной крысы. Соотношение нуклеотидов в нейронах после обучения меняется, и Хиден убежден, что в этом изменении и зашифрован навык балансировки. Новый опыт. Хиден обучает крысу стучать правой лапой, а потом переучивает ее: дает пищу, только когда она застучит левой. Дальше обучение идет в обратном порядке: от левой к правой. И всякий раз у нейронной РНК в двигательной коре меняется расположение и состав нуклеотидов.
Исследования Хидена произвели сильное впечатление на всех, кто интересовался субстратом памяти. В самом деле, если не нуклеотиды, то что же еще? И вот уже психолог из Мичиганского университета Джемс Мак-Конелл получает сведения о связи РНК с памятью планарий – плоских реснисчатых червей, живущих под камнями у берегов рек и озер и, подобно многим своим собратьям, способных к регенерации. Планария обладает крошечным скоплением нервных клеток, ганглием, а посему способна дня на три усвоить простейший навык – оборонительный рефлекс. Мак-Конелл обучал планарий реагировать на свет как на условный раздражитель, подкрепляя его безусловным – электрическим током. Когда планария запоминала, что от света надо уползать, как от тока, начиналось самое главное. Мак-Конелл разрезал планарию пополам, а через месяц из этих половинок вырастали две новые планарии. И обе половинки обучались реагировать на свет уже не после ста пятидесяти, как прежде, а всего лишь после сорока сочетаний условного рефлекса с безусловным. Хвост помнил то, что запомнила голова с ганглием, и передал память новой голове. Мак-Конелл отрезал у необученной планарий хвост и обучил голову, не вдожидаясь, пока у нее вырастет хвост. Когда хвост вырос, он его тоже отрезал и подождал, пока у него не вырастет голова. Новая голова оказалась сообразительной; что-то передалось от первой головы хвосту, а от него второй голове. Сам хвост был туп, но если у него прежде была голова и эту голову учили, хвост получал от нее какие-то крохи знаний и передавал их новой голове. С чем же передавались эти крохи? Снова Ман-Конелл обучил планарию реагировать на свет, снова разрезал ее и поместил половинки не в воду, а в раствор рибонуклеазы – фермента, расщепляющего РНК. Если дело в РНК, воспоминания вылетят у планарий и из головы и из хвоста. Воспоминания вылетели, но только из хвоста. То ли дело было не в РНК, то ли голова была лучше защищена от РНК-азы, чем хвост. Тут из госпиталя в Олбани поступило сенсационное сообщение о «сайлерт-эффекте». Доктор Юэн Камерон стал кормить своих пациентов, дошедших из-за прогрессирующего склероза до полного слабоумия, пилюлями сайлерта, вещества, стимулирующего синтез РНК, и пациенты стали и соображать и кое-что вспоминать. Идея! Ведь планарии, кроме регенерации, славятся еще и каннибализмом: перед спариванием они приходят в такой экстаз, что начинают пожирать друг друга. И вот уже каннибалы, съевшие обученных планарий, становятся гораздо сообразительнее тех, кто сожрал необученных, а Мак-Конелл получает прозвище Мак-Каннибала. Па Международном конгрессе психологов 1966 г., рассказывая о своих опытах, он заявляет, что те древние племена, которые поедали своих мудрецов, руководствовались верным чутьем, и что всех сидящих в этом зале, не исключая и его самого, надо когда-нибудь превратить в пилюли и прописывать студентам. Мак-Конеллу возражают: молекулы РНК и белков должны при пищеварении расщепляться. Мак-Конелл парирует: как раз планарии всасывают РНК без расщепления. Люди – другое дело, по Камерон и не рассматривал сайлерт как информационное вещество, он просто думал, что раз в умственных процессах активизируется синтез РНК, то надо одряхлевшему мозгу помочь с этим синтезом.
Опыты Мак-Конелла решили повторить на кафедре высшей нервной деятельности Московского университетета. После рибонуклеазы планарии забывали все. Но как действует рибонуклеаза, неужели прямо просачивается через кожу? Хорошо бы ввести ее прямо в ганглий и посмотреть, что из этого выйдет. Московские планарии слишком малы для такой операции, и москвичи отправились экспериментировать на Байкал, где живут планарии длиной в сорок сантиметров. После введения РНК-азы в ганглий байкальские вели себя не лучше московских. Нина Александровна Тушмалова выяснила также, что РНК-аза мешает выработке нового рефлекса, а старый только тормозит. Через некоторое время после РНК-азы планарии вспоминают то, чему их прежде учили. Выходит, следы содержатся не в РНК, и Хиден неправ. Но где же они содержатся? Тем временем в Пущине тоже начали экспериментировать над планариями, но по иной методике: кусочки обученных планарий пересаживали необученным, и кусочки не только приживались, но и передавали свои знания новым хозяевам. От планарий перешли к мучному хрущаку, который принадлежит к особям не регенерирующим, а метаморфозирующим – проходит стадии превращения яйца в личинку, личинки в куколку и куколки в насекомое. В процессе метаморфоза у хрущака перестраивается все тело, но часть нервных клеток, регулирующих перестройку, сохраняется на всех стадиях в неприкосновенности. Хрущака и его личинку научили оборонительному рефлексу, движению по лабиринту в нужном направлении и оставили в покое до тех пор, пока личинка не превратилась в жука, а жук не достиг зрелости. Пожилой жук успел подзабыть свой рефлекс, зато юный сдал экзамен на отлично. Опыт, полученный от личинки, так врезался в его ганглий, что его невозможно было даже научить ничему новому, и исследователи решили, что метаморфоз сыграл в его жизни роль самоусилителя следов: сохранившиеся от личинки нервные клетки создали новые клетки по своему образу и подобию. Что касается образа и подобия, то кто же мог их нарисовать, как не нуклеиновые кислоты? Но отчего же тогда планарии вспоминали свой опыт после РНК-азы? Ах, да причем тут планарии, твердили энтузиасты нуклеинового кодирования, когда уж дело дошло до крыс, этого классического объекта современной психологии, так сказать психологических дрозофил. Профессор Аллан Джекобсон из Калифорнийского университета обучал крыс бегать по звуку трещотки к кормушке, потом брал у них из мозга РНК и вводил необученным. После этой операции необученные крысы при первых же щелчках бросались к кормушке, бросались даже те, кому вводили РНК, взятую не от крыс, а от обученных хомяков, их двоюродные братьев. А вы говорите – планарии!
Да, именно планарии, возражали Джекобсону скептики. Неспроста каннибалы становились сообразительными даже тогда, когда их жертв ничему не учили, а просто подвергали действию света или тока. РНК это не переносчик навыка, а стимулятор обучения. Журнал «Science» напечатал заявление представителей шести институтов, которым не удалось получить те же результаты, что и Джекобсону. Не получили их и биологи из МГУ, усомнившиеся в джекобсоновской сенсации. Бесспорными остались два факта – улучшение памяти у пациентов Камерона и тормозящее влияние РНК-азы на выработку рефлексов у планарий. Что же именно разрушает РНК-аза? Выяснить это решено на кроликах и крысах. Для контроля РНК-азу ввели в зрительную и двигательную кору: кролики продолжали исправно дергать зубами за кольцо, за что и получали в награду морковку или одуванчик. А теперь – в гиппокамп! Так и есть: кролики в полном смятении. РНК-аза – аналог электрошока: препятствуя синтезу РНК, она препятствует и консолидации следов.
Опыты варьируются и так и этак, вывод же из них напрашивается только один: РНК это катализатор нервного процесса, не больше. Она повышает клеточную возбудимость и облегчает циркуляцию импульсов. Все рефлексы в конце концов восстанавливаются, а это значит, что следы записываются не на РНК.
Хорошо, но ведь доказал же Хиден, что после обучения в молекулах РЫК меняется соотношение нуклеотидов. Это не меняет дела, утверждает профессор Ф. 3. Меерсон. Такую же перестройку можно наблюдать не только в РНК мозговых клеток, но и в молекулах других органов, например в сердце, если заставить работать его с усиленной нагрузкой. Все это неспецифический, вторичный эффект. Под влиянием подобных возражений и собственных размышлений Хиден больше не настаивает на РНК. У Хидена возникает новая схема: запись начинается все-таки с ДНК: хоть она и занята передачей наследственной информации, в ее молекулах найдется место и для индивидуального опыта. Остается решить, где скапливается тот белок, который будет хранить запись, узнавать свои импульсы и запускать циркуляцию при воспроизведении. Возможно, его место в постсинаптической мембране – в той части нейрона, куда сигнал приходит вместе с медиатором от соседнего нейрона.
Но почему речь должна идти только о нейронах и их молекулах? Ведь нейронные цепи окружены глиальными клетками, которых раз в десять больше, чем самих нейронов. А что, если глия тоже участвует в записи следов? Такую гипотезу еще до каннибалических сенсаций выдвинул американский нейрофизиолог Роберт Галамбос. Было известно, что глия поставляет нейронам материал для РНК. Галамбос же стал доказывать, что не только поставляет, но и программирует работу нейронов, сообщает им, в какой последовательности им следует работать. Профессор Эйди, тоже американец, обнаружил, что глиальные клетки, вплотную прилегающие к нейронам, долго сохраняют изменения в своей способности проводить ток. Может быть, говорил он на конференции по биокибернетике в 1971 г., в Ростове-на-Дону, изменения в глие влияют на нейронные импульсы, и это влияние не лишено информативного содержания. Пущинские биологи измерили, сколько же времени глня хранит следы активности нейрона. Оказалось, десятки часов: может быть, Эйди и прав. Но Cамое, пожалуй, интересное удалось открыть члену-корреспонденту АН СССР А. И. Ройтбаку. Прямо в микроскоп Ройтбак наблюдал, как под действием медиаторов отростки глиальных клеток вытягиваются к месту выделения медиатора. Это был самый настоящий таксис, автоматический рефлекс, который мы наблюдали у асцидий и гусениц. Всякий таксис, как и обновление состава РНК, это зачаточная, или донервная, память, это всего лишь «изменение от употребления», подобное изменению в мышцах. Ф. 3. Меерсон считает, что лучшего определения памяти вообще, чем «изменение от употребления», в наши дни не придумаешь: кратко и исчерпывающе. Но если миллиарды наших «асцидий» будут реагировать все вместе, да еще согласованно и непрерывно, не сложится ли из этих квинтиллионов таксисов гигантское, многоуровневое и динамичное хранилище следов, которое будет уже не донервным, а вполне нервным, не механическим, а полным глубокого значения?
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ
Вытягивание глиальных клеток внесло приятное оживление в среду сторонников гипотезы проторения, наблюдавших за поисками внутримолекулярного кода с известным недоверием. Гипотеза проторения привлекала многих ученых – Рамона-и-Кахала, Павлова, а в наши дни Хебба, Экклза, Конорского. Последние воочию видели структурные изменения в клетках, причем не только в глиальных, но и в нервных. Если какой-нибудь аксон будет поврежден, связь нейрона с соседями не прервется: через некоторое время ствол аксона покроется ветвями терминалями, терминали начнут совершать движения, напоминающие движения амебы, их кончики будут становиться все тоньше и вытягиваться все дальше и, наконец, придут в соприкосновение с другими нейронами. Образуются новые синапсы. Наблюдая за ростом аксонов и глиальных клеток, нетрудно представить себе действие электрошока или рибонуклеазы и весь процесс консолидации следов. Достаточно только согласиться с тем, что след кодируется благодаря структурному сдвигу в клетке, приводящему к образованию новой связи в клеточном ансамбле. Волокно аксона или глии растет, вдруг мозг, охватывают судороги, кончик волокна сокращается, и теперь надо будет подождать, пока он не наберет силу и не начнет расти снова. Образ бури, пригибающей ветви, лишается своего переносного смысла. В этой картине разгадка и самоусиления следов, и амнезий, и всей необъятности нашей памяти. Один нейрон может установить десятки контактов со своими соседями, и даже если к старости у нас перемрет половина нейронов, самоусиление и тренировка сохранят нам все связи для воспроизведения заслуживающих того впечатлений.
РНК – участница синтеза белка, из которого состоят ветви. Ради этого синтеза и начинается в нейронах бурное образование РНК. Как хорошо показал Ф. 3. Меерсон в своей книге «Пластическое обеспечение функций организма» (где глава о памяти написана вместе с Р. И. Кругликовым), усиленная импульсация, вызываемая умственным напряжением, быстрее изнашивает белки, и они распадаются. В клетках образуются продукты распада – метаболиты изнашивания. Система белкового синтеза работает на принципе обратной связи. Образование метаболитов служит сигналом к восстановлению нарушенного равновесия – к началу нового синтеза РНК и белков. По мнению Меерсона, эти метаболиты, а не сама РНК, и делали крыс Джекобсона сообразительнее. Получив кусочки обученного мозга или даже ганглия, а с ним метаболиты, необученный мозг начинал активно синтезировать новый белок и воспринимал навык «с одного сочетания». Физиологов, экспериментировавших с рибонуклеазой, сначала удивляло, почему она не влияет на самую первую реакцию после обучения навыку. Объяснение простое: на первых порах нейронам хватает старого запаса РНК. Когда они истощаются, рефлекс угасает. С тех же позиций можно объяснить и перестановку нуклеотидов в молекулах. Новые ветви строятся из нового белка, а новому белку нужна новая и в структурном отношении РНК. Мириады связей охватывают весь мозг, вот почему никому не удалось найти хранилище следов в одном каком-нибудь месте и с помощью электрода навсегда изъять оттуда образ ноги или ботинка. Помнит весь мозг, помнит и умеет сливать все образы в единый процесс воспоминания. Возможно, следы записываются на многих уровнях и во многих отделах мозга: разрушен один, где запечатлены подробности, остается другой, где подробностей меньше, но зато отчетливо записано значение события или предмета. Природа склонна к иерархии. Сторонники гипотезы проторения и образования ансамблей не отрицают молекулярного кода. Они, подобно Лапласу, просто не нуждаются в гипотезе кода, но, если Хиден окажется прав, они готовы согласиться с ним. Лет пять об РНК не было ни слуху, ни духу, но вот в 1971 г. в Будапеште, на III конференции Международного нейрохимического общества группа американских исследователей во главе с Г. Унгаром сообщила об идентификации «фактора», с помощью которого навык переходил из мозга в мозг. Группу мышей приучали бояться темноты. Такая же боязнь возникала и у второй группы, когда им вводили экстракт из мозга первой. Ученым удалось выделить активное начало, содержащееся в виде комплекса с РНК. Это был пептид из 15 аминокислот, который биохимики назвали «скотофобином», то есть «мракострахом». Через несколько месяцев другая группа исследователей, синтезировав скотофобин, ввела его золотым рыбкам, и рыбки стали бояться темноты. Пометив его радиоактивным йодом, экспериментаторы определили, в каких долях мозга он концентрируется у рыбок. Что ж, все это может и иметь отношение к памяти – к одному из ее уровней. Сторонники гипотезы проторения не утверждают, что структурные связи это и есть следы. Ведь это тоже код, такое же вторичное, а не первичное явление, как и последовательность из 15 аминокислот скотофобина. Никто не может сказать заранее, какой должна быть структура пептида, вызывающего боязнь света, да и существует ли такой пептид. Точно так же ни один нейрофизиолог не найдет те конкретные синапсы, которые образуются после запоминания того или иного навыка. Может наступить тот день, когда нейрофизиологические и биохимические гипотезы сольются в одну. Но все равно единая гипотеза так и останется гипотезой, а не теорией, ибо никто пока не представляет себе кодирования ни на уровне пептида, ни на уровне аксонной ветви. Как психологический образ обретает структурный символ? Как происходит декодирование, обратное превращению? Перстень оставляет отпечаток, но отпечаток, увы, не зеркальное изображение перстня, а неведомый символ. А может быть, и нет никаких символов, нет отпечатков, может быть, вообще все происходит иначе?
Попытки примирить две главные гипотезы следов можно найти у американского нейропсихолога Карла Прибрама. «Молекулярное кодирование,- говорил он,- может быть предназначено для одних нужд, например, для немедленного узнавания, а синаптическое для других, например, для припоминания целых событий, развернутых во времени». В этих словах отражена самая главная из нынешних тенденций в подходе к следам, родившаяся задолго до их поисков, но завладевшая умами только в последнее десятилетие. Истоки этой тенденции мы видели уже у Аристотеля, который думал, что важнее всего не след, а его интерпретация – усилие души, носящее временной характер. «Нельзя приписывать пространственного отношения тому, что определено только во времени»,- заметил через много веков Кант, и Шеррингтон, сравнивший мозг с ткацким станком, с удовольствием процитировал Канта в одной из своих лекций. С Кантом соглашался Бергсон, настаивавший на том, что обсуждение работы мозга и психики следует вести в терминах времени, а не пространства. Окончательно формулируя эту тенденцию, Грей Уолтер сказал, что след памяти это «не вещь, а процесс, не монета, лежащая на столе, а свеча, горящая на алтаре». Не вещь, а процесс – вот в чем суть! В отрыве памяти от усилия припоминания, дощечки от считывания с нее, в подмене пламени и ткущегося узора монетой, лежащей на столе или в кошельке, кроется недолговечность и изъяны всех моделей, авторы которых сводили след к статичному отпечатку, имеющему точное местоположение. Дощечка с вдавленными раз и навсегда отпечатками настолько заворожила исследователей, что даже, говоря о связи памяти со временем, они придавали этой связи лишь гносеологический смысл, но как только дело доходило до обсуждения субстрата, замыкались в пространственных структурах. Хранение следов само собой превращалось в хранилище, в то, что можно было прощупать инструментом.
Рассматривая гипотезы о взаимодействии ума и мозга, в том числе гипотезу английского психолога Дж. Смайтиса, предположившего, что ум и мозг занимают различные трехмерные пространства некоего гиперпространства, Дж. Уитроу справедливо замечает, что нам незачем говорить о пространственной протяженности ума: мозг в силу своей материальности существует как в трехмерном пространстве, так и во времени, а ум существует только во времени. Это тоже процесс, а не вещь. Как же должно происходить взаимодействие ума и мозга? Подобно взаимодействию звука (в уме) с партитурой (на бумаге). Уитроу говорит, что ум, память и время являются самоотносящимися понятиями, и, анализируя их, мы пытаемся себя самих поднять за волосы. Но трудность эта преодолима, если мы согласимся с тем, что ум подобен мелодии. Это процесс интеграции тождества личности, имеющего протяжение и локализацию во времени, но не в пространстве, хотя он и имеет область влияния, наиболее сильного в окрестностях данного мозга. Заканчивается это рассуждение указанием на ту физическую аналогию, которая, видимо, уже приходит в голову читателя: «В атомной физике мы стали использовать идею неопределенности пространственной локализации материальных объектов. Возможно, что в случае ума мы сталкиваемся с чем-то подобным… Как бы то ни было… недостающее звено между психологическими и физиологическими аспектами деятельности мозга и тождества личности следует искать не в каком-то гипотетическом гиперпространстве, но скорее во временном измерении». Так оно и случилось: вчитайтесь еще раз в слова Прибрама: он говорит о памяти в терминах времени. Конференция о проблемах памяти, на которой Р. И. Кругликов говорил о сущности ретроградной амнезии, называлась «Конференцией о следовых процессах», не о следах, а о процессах, и это новшество академик М. Н. Ливанов специально подчеркнул в своем заключительном слове.
О принципе неопределенности, на который ссылается Уитроу, о том, почему Бор и Гейзенберг запретили совместное существование координаты и скорости, можно прочесть и в специальных и в популярных сочинениях, но для данного случая лучше всего обратиться к статье профессора А. С. Компанейца «Физика и психика», напечатанной в журнале «Наука и жизнь» (1971, № 7). Компанеец вспоминает, как Бор сравнивал процесс измерения в квантовой системе с воздействием воли на сознание. Слово влияет на мысль, отделяя ее от сопровождающих ее неясных ассоциаций и оттенков. Он вспоминает «Улисса», где «поток сознания» производит тягостное впечатление, потому что в нем по необходимости все выражено словами и в этом смысле, на какие бы ухищрения ни пускался Джойс, нереалистично. По мнению Бора, поиски словесного эквивалента мысли подобны действию измерения на квантовый прибор: прибор всегда грубее объекта, подвергающегося измерению. Желая что-нибудь вспомнить или заставить вспомнить другого, мы действуем на психику неконтролируемым образом. Извлекая информацию из ЭВМ, мы знаем, в каком состоянии была и осталась ее память; действие машины подчиняется принципу определенности, за ним можно следить, не нарушая его. Применительно к психике все наоборот: извлекая из нее сведения, мы вносим нарушение в ее работу и не знаем, что в ней переменилось. Не означает ли это, что закономерности мышления можно формулировать только на языке квантовой теории? Дать окончательный ответ на вопрос пока невозможно, но можно рассмотреть некоторые физические явления, изучение которых способно приблизить нас к разгадке природы памяти и мышления.
В 1911 г. Каммерлинг-Онесс обнаружил, что некоторые металлы при температуре в несколько градусов выше абсолютного нуля теряют электрическое сопротивление. Всем было ясно, что сверхпроводимость должна объясняться квантово-механическими законами, но объяснение было найдено только в 1956 г., когда удалось привлечь к нему новые факты и методы квантовой теории поля. Все электроны сверхпроводника объединены в коллективном состоянии, поэтому причины, воздействующие на отдельный электрон и приводящие к затуханию тока в обычном металле, этого состояния нарушить не могут. Физик Литтл попытался представить себе, какое строение могли бы иметь такие сверхпроводящие тела при комнатной температуре. Они должны состоять из длинных полимерных молекул, построенных в виде хребтов с боковыми привесками, подобными листьям на стебле. В хребте должны чередоваться простые и двойные химические связи, что и создает металлическую проводимость вдоль хребта; боковые же привески должны легко поляризоваться, то есть допускать быстрое смещение заряда с одного конца молекулы на другой. Поляризация привесков способна привести к особому взаимодействию между электронами, движущимися вдоль хребта, взаимодействию, которое и объединит их в коллективное состояние. Может быть, думает Литтл, длинные полимерные молекулы в клетках мозга находятся в квантовых состояниях, напоминающих сверхпроводящие. Если это так, то память основана на незатухающих токах в этих клетках: все, что мы помним, обязано сложнейшему коллективному состоянию мозговых молекул. Гипотеза эта кажется привлекательной Компанейцу. К сожалению, поведение столь сложных неавтономных систем не имеет еще надлежащего описания в аппарате квантовой теории, но квантовая теория отнюдь не перестала развиваться, и количество ее объектов далеко не исчерпано. О геометрически локализуемых клетках не может быть и речи, о гиперпространстве тоже. Нет, речь может идти о «пространстве квантовых состояний», которое неизмеримо богаче геометрического: даже в случае одного атома оно бесконечномерное. Вот как выглядит восковая дощечка Платона в глазах физика середины двадцатого столетия.
Неполадки в какой-нибудь части мозга, с этой точки зрения, не могут уничтожить квантовых состояний. Компанеец вспоминает еще одно физическое явление, на которое указал тот же Прибрам и в котором он увидел объяснение самой удивительной загадке узнавания – молниеносному восстановлению образа по ничтожной доле информации. В оптике начал развиваться новый метод фотографирования предметов – голография (от греческого «голос»- весь). Само явление было открыто в 1948 г. английским физиком Д. Габором. Габор обнаружил, что при сложении светового поля, прошедшего через прозрачный объект, и поля, рассеянного им, на фотопластинке можно зафиксировать интерференционную картину, которая после проявления и просвечивания лучом из того же источника дает отчетливое объемное изображение предмета. Ю. Н. Денисюк доказал, что для просвечивания голограмм не обязательно пользоваться монохроматическим излучением фиксированной частоты, как считалось прежде, можно употреблять и обычный белый свет: голограмма «сама выберет» из него то излучение, которым пользовались при ее записи. Если пластинку с голограммой разбить на куски, то при освещении каждого из них по-прежнему получится объемное изображение всего предмета, хотя и худшего качества, а не его части, как это было бы с обычной фотопластинкой. Каждый участок голограммы несет информацию о целом объекте. На одной, пластинке можно записать десятки разных голограмм и даже получить на ней движущееся изображение; при считывании луч последовательно воспроизведет все эти этапы с заданной скоростью.
По мнению профессора С. Н. Брайнеса, память это набор голограмм, связанных между собой логическими отношениями. Подобно тому как кусочек голограммы сохраняет образ всего объекта, так и каждый нейрон способен сохранять информацию обо всех состояниях своих соседей по «коллективу» и обо всех переменах в мозговой активности. Проделайте простой опыт. Опустите в чашку с водой предмет, направьте на него ультразвуковые волны; на поверхности воды возникнет волнение, узор голограммы предмета, снимок отраженного от него фронта волны. Переведите язык колебаний поверхности воды на язык световых волн, осветив поверхность лазером, перенесите узор на фотопластинку, и предмет, скрытый на дне чашки, станет видимым. Нервные окончания дендритов создают на мембране нейрона узор электрического поля, меняющийся во времени. Узор, в свою очередь, меняет состояние электрохимической среды, в которой живут наши нервные клетки; перемены записываются в перестройках молекул; молекулярные перестройки вызывают формирование нового узора. Тысячи состояний записываются на поверхности одного нейрона в условиях, где электрохимическая среда играет роль чашки, электрическое поле, которое генерируют нейроны,- роль света, а изменения в структуре молекул – роль структурной основы голограмм. Голографический подход допускает в качестве механизма образования следов любые изменения субстрата, в котором хранится интерференционная картина. Память рассматривается как динамический процесс, происходящий не в структуре с жесткими связями, а в гибкой среде, где нейронные сети служат лишь каркасом, а каждая точка среды является не хранилищем единицы информации, а лишь участницей процесса хранения и воспроизведения. Говорить о следах, а лучше всего о следовых процессах, можно лишь, имея в виду результат действия статистических законов. Так биоголография перекликается с квантовой теорией, а восковая дощечка превращается в непрерывно ткущийся узор на поверхности «коллективных состояний» и голограмм. Нам трудно представить себе это, но отчего же не смущает нас то, что мы не представляем себе зрительно собственной мысли, самого процесса воспоминания? Декарт говорил например:
«
Я знаю себя как мысль, но я, безусловно, не знаю себя как мозг». Все дело в привычке. Не так уж много времени прошло с тех пор, как тот же Декарт, описывая гипотетические поры, которые, то сжимаясь, то расширяясь, дают дорогу «жизненным духам», заложил основы для гипотезы проторения и построил первую модель синапса.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ (окончание)
Но можно ли познать себя и как мысль, и как мозг и связать это знание воедино? Уитроу не единственный, кому приходил на ум образ человека, пытающегося поднять самого себя за волосы. После того как Гедель доказал свою знаменитую теорему о невозможности описания всех состояний системы на языке самой системы, идея, выраженная в подобных поговорках, стала предметом серьезного обсуждения. Не тщетны ли все эти эксперименты и гипотезы, от которых кошелек оперативной памяти у читателя давно лопнул по швам?
Нет, не тщетны. Геделя оспорить трудно, и, видимо, до конца мы не познаем себя и как мысль и как мозг. Однако на этот счет есть немало обнадеживающих соображений. Доказано же, что нам никогда не добраться до соседних галактик, но разве это умеряет наш восторг по поводу посадки автоматической станции на Марс и разве не хочется нам ступить ногой на эту планету? Жак Моно замечает, что мы еще так мало знаем о мозге, даже о мозге лягушки, что «проблема Геделя» станет злободневной еще очень нескоро. Не окажется ли геделевская теорема не абсолютным ограничением, а всего-навсего серьезным препятствием, которое просто надо научиться обходить? Приближаться к истине можно без конца, и когда ученые будут встречать XXI век, никто уже не повторит ошибки лорда Кельвина и не скажет, что все самое главное уже открыто и впереди остались одни доделки.
Но в чем же, спросите вы, приблизились к истине ученые нашего времени? Намного ли больше узнали они о памяти, чем Платон, Аристотель, Декарт? Ведь восковая дощечка так и осталась метафорой, а следы-отпечатки, превратившись в «следовые процессы», не сделались от этого более осязаемыми.
Прежде чем ответить на эти вопросы и подвести итог нашему повествованию, расскажем о самых последних событиях и исследованиях в области, лежащей на грани между экспериментальной психологией и педагогикой. Это поможет нам и правильно оценить то, что сделано и отчетливее разглядеть перспективу, а, возможно, и угадать те направления, по которым пойдут дальнейшие изыскания.
В июне 1971 г. в Варне проходил первый международный симпозиум по проблемам суггестологии, в котором участвовали около 150 ученых из 12 стран. Организовали симпозиум болгарские психологи во главе с Георгием Лозановым, директором Института суггестологии в Софии. Перед симпозиумом он выступал с сообщением на семинаре в Институте методов обучения Академии педагогических наук СССР. А после семинара и симпозиума редакция журнала «Знание-сила» пригласила их участников за «круглый стол». В числе прочих за «круглым столом» выступали и бывшие испытуемые Лозанова. Они рассказывали об его экспериментах поразительные вещи. Несколько лет назад Лозанов собрал группу из двенадцати лиц, абсолютно незнакомых с французским языком, и преподаватель института Алеко Новаков начал учить их французскому. Новаков предупредил, что слова учить не надо, домашних заданий не будет, экзаменов тоже не будет. «С первых минут он безраздельно завладел нашим вниманием,- рассказывал один из членов этой группы И. С. Гольдин.- Вплетая в свою речь французские фразы, он кружился вокруг кресел, придумывая нам французские биографии. В комнате появились мадам Аннгс Виньер, журналистка, мосье Пьер Шарпантье, рабочий, мосье Поль Бютор, состоятельный бездельник и спортсмен, и так далее. Затем Новаков прочитал французский текст, в котором разыгрывалась церемония знакомства, объяснил прочитанное и попросил каждого повторить слова. После перерыва он спрашивал, кого как зовут, кто где живет, в ответ на наше мычание кивал, смеялся, отвечал сам. Постепенно нагнеталась какая-то удивительная атмосфера, создавалась иллюзия, будто мы разговариваем по-французски. И мы действительно заговорили на третий день, раздирая косноязычные рты, отдаваясь чувству раскрепощенности и свободы. Но уже тогда, в первый раз, нам казалось, что мы говорим. Тем временем Длеко прочел весь текст урока трижды, в трех особых интонациях, обычной повествовательной, патетической и вкрадчиво-таинственной, потом вдруг запел французскую песенку, приглашая жестами подпевать ему, и все начали подпевать, потом он сказал: «Я еще раз прочту текст, устройтесь поудобнее, чувствуйте себя как на концерте». Тут из динамиков полилась старинная французская музыка. «Благодарю вас, вы знаете сто восемьдесят слов!» – сказал Новаков и вышел. И мы их действительно знали! Так начали всплывать откуда-то изнутри скрытые в нас возможности, усиливалось ощущение непринужденности, в коллективе установилась атмосфера дружбы, взаимного доверия, с каждым днем росла наша привязанность к учителю, и в этом сказочном состоянии мы за несколько недель выучили то, на что обычно уходят годы».
Трудно поверить в то, что за один день можно выучить двести слов и без всяких повторений воспроизвести их. Но бывало и больше, бывала и тысяча двести. И безупречное произношение. И необычайная уверенность в себе. Удивительные вещи. Удивительные до тех пор, пока мы не вдумаемся в них и в то, о чем говорят нам испытуемые, сам Лозанов и его советские коллеги. В своей «Великой дидактике» Ян Амос Коменский требовал, чтобы процесс обучения был «кратким, приятным и основательным». Этого-то впервые за пятьсот лет, прошедших с тех пор, как появились печатные учебники, и удалось добиться болгарским педагогам. Дети не знают, что у взрослых существует «проблема памяти» и поглощают за день такое количество информации, перед которым в панике отступит любой взрослый, если предупредить его, что вот сегодня ему предстоит узнать и запомнить то-то и то-то. Представление об ограниченных возможностях нашей памяти внушила нам традиционная педагогика, считает Лозанов. Искони учебный процесс опирался на мнение, что запоминание материала это трудная работа, что только прилежание должно быть вознаграждено, и «мерой инерции» учебного процесса стала память. «Раньше у нас в Болгарии при обучении иностранному языку существовала норма: двадцать – тридцать слов в день,- говорит Лозанов.- С первого класса такие нормы сопровождают человека, и постепенно у всех создается убежденность в ограниченных возможностях нашей психики. Все учебники в мире разбиты на параграфы и главы. На чем основана их дозировка, не знает никто. Так принято! А вот у нас в экспериментальных группах физику проходят не за сто часов, растянутых на год, а за пятьдесят, растянутых всего на десять дней. Четыре часа в день школьник учит только физику – четыре часа занятий в группе и час на домашнее задание. Потом идет алгебра, потом литература… Школьник не тратит времени и сил па психологическую адаптацию, неизбежную при одновременном усвоении далеких друг от друга дисциплин. В конце курса мы проводим сеансы запоминания, во время которых ученики просто сидят и слушают и, освобожденные от всех ограничений, пребывая в состоянии концертной псевдопассивности все отлично запоминают».
Суггестология, которой занимаются в институте у Лозанова, это наука об использовании внушаемости (от английского suggest – внушать) в нормальном состоянии бодрствования. Лозанов, по профессии психотерапевт и гипнолог, пришел к выводу, что проявление гипермнезии в исключительных обстоятельствах еще не свидетельствует об исключительности самой гиперамнезии. Сверхпамять кажется нам чудом лишь потому, что мы «засуггестированы» искусственными представлениями об ограниченности наших возможностей. Когда не было еще учебников, никто не заботился об этих возможностях, и древнеиндийские учителя, например, да и ученики их тоже, считали сверхпамять нормальным психическим состоянием, а «просто память» – как бы недоразвитой сверхпамятью. У них была своя система «нормализации» памяти, связанная с мнемотехникой: текст ведь учили наизусть. Лозанов выработал иную систему, основанную на особых контактах между учеником и учителем и на апелляции к тому подсознанию, которое, как нам уже известно, в состоянии бодрствования впитывает все сигналы среды и помогает сознанию ориентироваться в окружающем мире.
Такое восприятие играет важную роль во всех человеческих отношениях, писал Лозанов в своей докторской диссертации, которую он защищал в СССР. Содержание слова попадает в центр сознания, где подвергается логической обработке. Но мы реагируем не на одно слово, а на весь комплекс сопровождающих его «раздражителей»,- на контекст, на мимику, выражение глаз, на жест, интонацию. Эти раздражители остаются на периферии сознания, но потом выясняется, что-достаточно нам услышать знакомую интонацию или увидеть тот же жест, как в памяти всплывают целые гирлянды слов и фраз, которые сопровождались когда-то той же интонацией и тем же жестом. Не оттого ли многие важные вещи со временем уходят из нашей сознательной памяти, а какая-нибудь заведомая банальность, выразительно поданная, всегда готова выплыть наружу? Эта особенность психики широко используется в лозановской методике обучения, и за три недели слушатели овладевают двумя тысячами слов незнакомого им языка. Обучение проходит в обстановке полного раскрепощения и не только не вызывает никакого утомления, но, напротив, порождает ощущение отдыха и избытка сил. И это вполне объяснимо: доверительная, приятная обстановка в сочетании с продуманной техникой общения преподавателя с учениками устраняет у них все внушенные средой и ими самими представления о нормах и о собственной неполноценности, выражающиеся в опасении не запомнить, гасит эти существующие во всех нас доминанты, ломает эти барьеры и расчищает место для нового, благоприятного и ненавязчивого внушения, благодаря которому возникает ощущение полноценности, собственной силы, уверенности в себе и в преподавателе, возникает то, что известно под именем вдохновения, когда сознание и подсознание делают свою работу дружно и сообща, и психика работает не в критическом режиме, нуждающемся в компенсации, в торможении или в амнезии, а в режиме оптимальном, до которого, оказывается, было далеко.
Возможность такого содружества никогда не приходила в голову Фрейду и его последователям. Они исследовали все темные уголки бессознательного, но эти уголки предоставлялись им действительно темными, находящимися в антагонизме с разумом и пользовавшимися каждым удобным случаем, чтобы набросить на разум свою тень. Все это не так, все шиворот-навыворот: сознание и подсознание не враги, а друзья, и дружба их способна творить чудеса без насилия над личностью, способна вытащить на свет грандиозные резервы психики, дремлющие под спудом внушенных самому себе доминант. Классические психиатры и психотерапевты европейской школы пользовались методами, при которых врач знал о больном кое-что, а больной о себе не знал ничего. Метаязык психиатрии был для него тайной. Фрейд разрушил этот метаязыковый барьер, чтобы создать такую сферу жизни, где больной и врач пользовались бы одним и тем же языком. Но тут терапия впала в другую крайность: новый язык сам внушал пациенту, а иногда и врачу то, что якобы происходило в жизни больного; отсюда возникали многочисленные «побочные эффекты» психоанализа, близкие к тем, которые порождает у нас чтение популярной медицинской литературы. Пациенты и просто поклонники психоанализа находили у себя все на свете «комплексы». Во многих европейских и американских психотерапевтических методиках можно обнаружить подобного рода изъяны, мешающие успеху терапевтического внушения. Лозановская же суггестология, более близкая по духу к древнеиндийской психологии и терапии, сознательно ничего не говорит «пациенту», не обращается ни к его воле, ни к его критическому мышлению: это не нужно ни учителю, ни ученику. Она хлопочет лишь о том, чтобы создать ситуацию оптимальной внушаемости в состоянии абсолютного бодрствования и поместить в нее «пациента». Расслаблены оба, и учитель, и ученик, но эта расслабленность кажущаяся, это псевдопассивность, за которой кроется мобилизация всех интеллектуальных и эмоциональных сил. Это требует особой техники, но она не так уж сложна и нисколько не обременительна ни той, ни другой стороне, даже приятна: музыка, цвет, ритм, изящные формы, предупредительный жест, ободряющая улыбка. Под ее воздействием с человека спадает груз предубеждений и предрассудков, а вместо этого груза вырастают крылья вдохновения. Человек со снятыми барьерами, с эмоциональной сферой, измененной в сторону резкого преобладания позитивных установок, начинает обнаруживать все свои дарования и прежде всего удивительную способность к непроизвольному воспроизведению воспринятого материала. «Древнеиндийская» и «новоболгарская» суггестология в своих основных принципах оказывается необычайно близкой тому направлению в советской педагогической психологии, которое вслед за П. И. Зинченко, А. А. Смирновым и П. Я. Гальпериным возлагает основные свои надежды на непроизвольное запоминание и воспроизведение в процессе активной деятельности.
Благодаря пробуждению непринужденной сверхпамятливости, память перестает быть мерой одаренности, каким-то особым свойством, которому завидуют или которое, как это делал Кант, противопоставляют способности суждения. Заблуждение это рассеивается в лозановских. экспериментах. На симпозиуме в Варне было особо подчеркнуто, что после суггестологических занятий резко снижается «фоновая внушаемость», та самая дурная внушаемость, которая и направляет легковерных на проторенные пути, лишая их критического мышления. Вместе с расцветом восприимчивости расцветает и способность суждения, расцветает оттого, что все делается с воодушевлением, без боязни ошибиться, не вспомнить, не сообразить, что «коллективное состояние» служит тем микроклиматом, в котором с максимальной полнотой проявляется индивидуальность. Человек не думает о своей памяти и о своем мышлении – он просто вспоминает и мыслит, как личность творческая, не утратившая непосредственности ребенка, но обогатившаяся зрелым умом взрослого. И недаром советские психологи и педагоги, занимающиеся усовершенствованием способов обучения и воспитания, -главное свое внимание обратили именно на эту сторону лозановской методики. Лучшие и бесспорные ее элементы, как сообщалось осенью 1972 г. в «Правде», уже включены в практику преподавания, причем, что весьма знаменательно и разумно, в тех учебных заведениях, где готовят будущих педагогов. Этим было положено начало преемственности в передаче новых методов от поколения к поколению и обеспечена их длительная отработка в самых разнообразных условиях, начиная со студенческой аудитории и кончая сельской школой.
Знакомясь с работами Лозанова, с теоретическими обоснованиями его экспериментов, сделанными им самим и его советскими друзьями, я часто возвращался мыслями к мнемонисту Ш., с которого началась эта книга. Как знать, не была ли его сверхпамять реализовавшейся нормальной памятью? Не стала ли она ему в тягость лишь после того, как он начал размышлять о ней, развивая в себе под влиянием укоренившихся предрассудков излишнее мудрствование, и в особенности после того, как он сделал ее объектом экспериментов, источником заработка, вытащил ее всем напоказ, внушая себе, будто она мешает ему думать, поверил в это безоговорочно и, наконец, воспринял ее как проклятие судьбы? Конечно, помехи, которыми у него сопровожалось восприятие, были, но ведь не придавал же он им особого значения, пока работал репортером, да и не все запоминал он одинаково: слова – идеально, а лица – весьма посредственно. Щ. давно умер, и нам никогда не узнать, могла ли его жизнь стать иной. Но я убежден в том, что его мучительная раздвоенность не была заложена в нем от рождения, а выросла, питаясь наслаивавшимися в нем представлениями о парадоксальной своей неполноценности. Как бы то ни было, я уверен в том, что судьба Ш. останется единственной в своем роде судьбой и что каждый человек сможет выработать в себе такую же памятливость, какой обладал Ш., но памятливость, освобожденную от сопряженных с нею тягот и разочарований. В этом ему поможет педагогика, нашедшая способы снимать оковы неуверенности и создавать условия для реализации не только всех резервов памяти, но и вместе с ними – всех резервов личности, r обыкновенной «способности суждения» до творческой интуиции. В этом ему поможет и пример выдающихся людей, писателей, ученых, художников, изобретателей, общественных деятелей, сумевших выработать в себе превосходную, даже феноменальную память упорным размышлением о поставленных перед собой смолоду задачах. Вот теперь мы можем ответить на вопросы, поставленные в начале главы, и подвести итоги нашему повествованию. Конечно, намного больше знает сегодня о памяти человечество, чем знало оно во времена Платона и Аристотеля, чем во времена Локка и Юма и даже чем во времена Дарвина и Сеченова. Много веков пыталось оно истолковать сущность и назначение памяти, понять ее природу и работу ее механизмов. На этом извилистом и тернистом пути создавались казавшиеся поначалу стройными и безупречными философские концепции. Но проходило время, и они рушились и обращались в прах, и прежде всего рушились те, в основе которых лежал субъективный идеализм, неизбежно приводивший их творцов к солипсизму, к убеждению в непознаваемости объекта исследования. Эта участь постигла, например, едва ли не все здание, возведенное Давидом Юмом. Разбором подобных концепций мы не занимались, ибо писали не историю философии и даже не историю философских проблем памяти, которой посвящены специальные труды и в первую очередь уже упоминавшаяся нами книга М. С. Роговина. Нас интересовала естественнонаучная сторона этой проблемы – психология, физиология, биохимия памяти. Поэтому из философских трудов мы выбрали лишь те фрагменты, которые выбрала для себя сама наука: не методологию, не мировоззрение Платона или Аристотеля, Юма или Бергсона, а те меткие и верные психологические наблюдения над процессами мышления и памяти, которые наука считает достойными обсуждения, проверки и включения в свой опыт. Главным образом это касалось учения об ассоциациях, берущего свои истоки в работах Аристотеля и ставшего одной из теоретических основ условнорефлекторной теории, а также наблюдений над активностью восприятия и неразрывной его связью с памятью, о чем твердили интуитивисты и что подтвердилось в нынешних опытах со зрительным восприятием. Вместе с тем мы не согласились с теми же интуитивистами, которые считали мозг лишь «инструментом духа», но, как ни тщились, доказать этого не смогли. Эта идея рухнула и рухнула безвозвратно, ибо то, что остается бесспорным и входит в сокровищницу науки, достигается лишь благодаря бескомпромиссной материалистической методологии.
Проанализировав все теоретические построения философов прошлого, ученые нашего времени отбросили все ложное, взяли все истинное и, выработав подлинно научные методы, научились задавать природе правильные вопросы. Никто уж давно не обсуждает проблему переселения душ, «вспоминающих», что было с ними в прежней жизни, но отпечатки на восковой дощечке, при всем их переносном смысле, служат предметом обсуждения. Сколько ценнейших сведений о психике и о мозге было получено, пока шли поиски этих отпечатков-следов и пока следы не превратились в «следовые процессы»! Этими сведениями обогатилась и психология, и нейрофизиология, и неврология, и клиническая медицина. Эти сведения помогли ученым избавиться от традиционных схем и метафизических методов. Ученые говорят теперь не только о клетке, но и о клеточных ансамблях, не только о локальном изменении в структуре синапса, но и о целой динамике квантово-механических «коллективных состояний». Они воздают должное любой гипотезе, будь то рефлекс, проторение пути, аффективный комплекс, содружество сознания и подсознания, перестановка нуклеотидов – все, что угодно, лишь бы эта гипотеза была материалистической в своей основе и не противоречивой с точки зрения научной логики, логики диалектической, логики поливалентной, как называют ее иногда физики, логики, в которой память может быть и локализована и нелокализована одновременно, подобно тому как свет может быть и частицей и волной. Такой подход, отличающийся непредвзятостью, готовностью к принятию любых разумных идей, возвещает наступление новой эры в исследованиях психики и мозга, эры, когда быстрые разумом Платоны и Невтоны объединят свои усилия в создании фундаментальной теории памяти, которая послужит, грядущим поколениям таким же руководящим принципом, каким поколениям минувшим служила теория отпечатков, чьи поиски многому научили всех, кто их искал, кто верил в них и даже кто не верил.
Да, память еще осталась загадкой и механизмы ее не нащупаны. Но принципы их действия стали гораздо яснее, как стала гораздо яснее и их связь с механизмами восприятия, мышления, эмоций. Стало очевидно, что следы не складываются в одно место и что забывания не существует. С этим принципиальным открытием связано уточнение наших знаний о роли основных отделов мозга, связаны успехи нейропсихологии, нейрохирургии, невропатологии, научившихся вскрывать причины многих мозговых и душевных болезней и избавлять от них тысячи людей. Ничего этого не знали и не умели в прошлые века. Исследование мозга и всех его отделов продолжается все интенсивнее, техника исследования становится все изощреннее, на помощь врачу приходят сложнейшие приборы и вычислительные машины, и никто не сомневается в том, что ближайшее будущее принесет науке о мозге новые ценнейшие сведения, а медицине – новые победы над недугами, вызванными нарушениями в мозгу. А все это, взятое вместе, поможет ученым продвинуться еще дальше по пути к разгадке памяти.
Понимание всей сложности работы мозга убедило ученых в том, что построить машину, которая бы работала, как мозг, и думала, как человек, невозможно. Это тоже имеет огромное теоретическое и практическое значение, и прежде всего для разумного распределения функций между человеком и машиной в системах управления, да и для разумного распределения интеллектуальных сил общества. Сами кибернетики говорят о «кризисе искусственного интеллекта» и говорят небезосновательно. Однако если нейрофизиологам или биохимикам удается добыть принципиально новые данные о «следовых процессах», кризис может миновать, и кибернетики сконструируют такие машины, которые будут обладать неизмеримо большей способностью к самоорганизации и самообучению и большим числом степеней свободы, чем теперь. А это, в свою очередь, окажет благотворное влияние на все сферы жизни, которые нуждаются в автоматизации, от систем управления до технологии, от медицинской диагностики до бытовых услуг. Человеческий мозг еще больше освободится от механической и рутинной работы и получит новые возможности для решения творческих задач. Кибернетику и медицину, психологию и физиологию – все науки, причастные к исследованию психики и мозга, ожидают новые открытия и новые победы, и мы пожелаем им успеха в их трудном проникновении к тайнам природы, в их неудержимом стремлении к истине, и пожелаем не из одного лишь уважения к их достойной восхищения устремленности и упорству. Мы знаем, что в нашем обществе наука, вдохновленная гуманистическими идеалами коммунизма, стремится к постижению истины прежде всего ради того, чтобы каждое открытие, большое или малое, служило общественной пользе и расцвету человеческой личности.
|