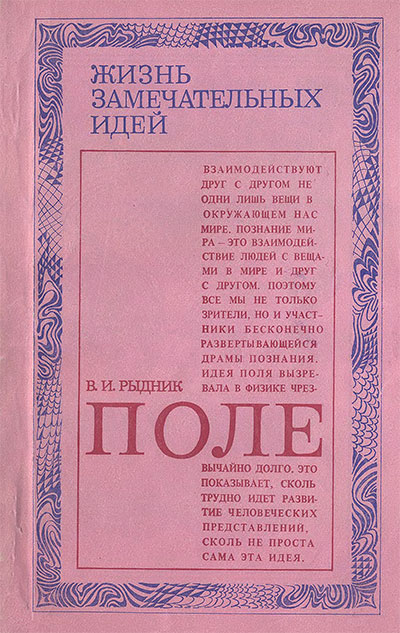Эта книга — о поле, о возникновении и развитии одной из наиболее замечательных и глубоких физических идей. Понятие о физическом поле родилось чуть более века назад, но к нему вела многотысячелетняя история развития человеческих представлений о сущности вещей и явлений. Эти представления касаются самых фундаментальных основ мира.
Как всякое действительно великое открытие, понятие поля не только дало ответы на старые вопросы, но и поставило многие новые. Новые вопросы оказались настолько же сложнее старых, насколько теория относительности Эйнштейна сложнее механики Ньютона, фотон сложнее ньютоновой частицы света. Изучение полей сейчас составляет передний край физики и философии естествознания.
«Драма идей!» — так чрезвычайно верно и образно охарактеризовал познание Альберт Эйнштейн. «В драме бытия мы являемся одновременно зрителями и актерами», — это сказал другой великий преобразователь естествознания Нильс Бор.
Взаимодействуют друг с другом не одни лишь вещи в окружающем нас мире. Познание мира — это взаимодействие людей с вещами в мире и друг с другом. Поэтому все мы не только зрители, но и участники бесконечно развертывающейся драмы познания.
ПРОБЛЕМА ДВИЖЕНИЯ
Время действия: античность. Действующие лица: Демокрит, Эпикур, Лукреций, Аристотель и многие другие философы.
Из чего состоит окружающий мир?
Таков первый предмет размышления ученых древности. Земля, вода, воздух, огонь — эта четверка стихий присутствует в качестве составных элементов во многих тогдашних «моделях» мира. Столь же основополагающее начало, которое вносится в эти стихии, — движение. Землетрясения меняют облик гор, вода низвергается с небес или мирно течет в реках, дуют ветры, вздымая пыль и раскачивая кроны деревьев, пламя очага рвется ввысь, постоянно меняя свои очертания.
Нет неподвижности в стихиях. Нет состояния вечного покоя ни на земле, ни в небесах. Перемещаются люди, повозки, животные, летит копье охотника, вращается амфора в руках гончара, ударяет таран о крепостную стену, со звоном бьют дротики о щиты неприятельского войска, летят в облаках пыли сверкающие колесницы. А высоко над этим беспокойным и неразумным миром величественно водят хоровод Солнце и планеты, плавно перемещаясь среди мириад неподвижных звезд.
Движение... Механическое перемещение, как сказали бы мы сегодня. Мир есть стихии плюс их движение. Такое утверждение, пожалуй, можно назвать первым физическим постулатом. Вслед за формулировкой — а ее вне всякого сомнения можно назвать величайшим достижением человеческого знания — неизбежно должно следовать ее развитие, конкретизация. Из чего состоят сами стихии, какие существуют виды их движения?
Стихии — нецрерывны. Каждая из них сплошь заполняет Вселенную в пределах отведенной ей области.
Нет, стихии состоят из отдельных невидимых и вообще неощутимых порознь частичек, уже более неделимых на еще более мелкие, — атомов. В промежутках между атомами нет ничего — там пустота.
Две эти полярно противоположные точки зрения возникают в близкие исторически периоды времени — примерно в середине первого тысячелетия до нашей эры.
Непрерывен воздух, непрерывна вода, непрерывен огонь, непрерывно, наконец, движение светил — разве мало свидетельств поставляет природа умозрению в пользу непрерывности стихий и их движения? А есть ли хотя бы одно природное свидетельство в пользу умозрительного атомизма, дискретности строения стихий и их движения? Нет. И не будет до девятнадцатого века, когда появятся непреложные экспериментальные доказательства существования атомов вещества, и двадцатого века, когда появятся столь же неоспоримые доказательства существования «атомов», квантов движения.
Двадцать пять веков отделяют гениальную догадку древнегреческих философов Левкиппа и Демокрита об атомах от ее экспериментального подтверждения! Рождались и гибли народы и могущественные империи, возникали и исчезали в пепле пожаров и пыли разрушения целые пласты человеческого знания, но где-то в этом пепле тлел все эти бесчисленные годы огонек атомизма.
Все вещи в мире рождаются, живут и гибнут как результат движений и бесчисленно разнообразных сочетаний ограниченного числа типов разнородных атомов. Эти сочетания во всем их многообразии возможны благодаря свободе перемещений атомов. Она обусловливается существованием свободного пространства между атомами — пустоты.
Что можно сказать о самих атомах? Они более неделимы, следовательно, взаимно непроницаемы. Их несколько родов, возможно, столько же, каково число стихий. Каково общее число атомов в мире? Может быть, как песчинок на дне морском — бесконечно; а может быть, и не бесконечно, как считает древнегреческий мыслитель Эпикур.
Как же из сочетаний этих атомов образуются все вещи в окружающем мире? Вот он, кардинальный вопрос всей физики! Он требует для ответа уже конкретных представлений о взаимодействии частиц. Идея непрерывности стихий тоже сталкивается с этим вопросом, но в значительно
ослабленном виде — на уровне движения стихий в целом, где можно обойтись более неопределенным ответом. (Например: огонь испаряет воду, превращая ее в воздух.)
Первое представление о взаимодействии атомов тоже рождается из повседневного опыта. Атомы «слипаются» в тела во взаимных столкновениях при их движении в пустоте. От силы сцепления атомов зависит, какая получится стихия: самое тесное сцепление дает землю, самое непрочное — огонь. Как же происходит сцепление атомов? Они что — с зазубринками, клейкие или с «ручками»?
Мы требуем слишком многого от древних атомистов! Умозрительный подход не может снисходить до таких малосущественных деталей. В те времена важен, да и возможен только подход в целом: взаимодействие и сочетание атомов в тела происходит при столкновениях атомов. Можно еще добавить к ударам тяготение: более тяжелые атомы стремятся к центрам их скоплений, а более легкие располагаются по краям.
Не очень понятно? Так это же сетования сегодняшнего ума, который, как правило, удовлетворяется не общими расплывчатыми представлениями, а лишь конкретными деталями. Ученых античности такие мелочи не занимали. Вселенная есть тела и пространство. Атомы и пустота суть причины движений и вообще существования стихий и тел.
Мало? Очень много! Как говорил Гегель, «естествознание в атомистике впервые чувствует себя освобожденным от необходимости указать основание существования мира». Теперь не нужно апеллировать к божественным силам, недоступным пониманию смертных. Впервые мир объясняется из себя самого.
Этот пока еще наивный материализм чрезвычайно важен. В своей многовековой истории физике предстоит пережить и преодолеть немало кризисов. Мысль ученых в поисках выхода из глубочайших тупиков будет не раз пасовать и сбиваться на дорогу идеалистических воззрений. Но физика в целом отныне становится и впредь уже пребудет на материалистическом пути, сколь он ни был порою нелегким.
Материализм античной науки означает первую важнейшую победу ее над религией. Вот какими вдохновенными строками характеризует научный подвиг греческого фило-софа-материалиста Эпикура его последователь Лукреций Кар в своей поэме «О природе вещей»:
В те времена, как у всех на глазах безобразно влачилась
Жизнь людей на земле под религии тягостным гнетом,
С областей неба главу являвшей, взирая оттуда
Ликом ужасным своим на смертных, поверженных долу,
Эллин впервые один осмелился смертные взоры
Претив нее обратить и осмелился выступить против.
И ни молва о богах, ни молньи, ни рокотом грозным
Небо его запугать не могли, но, напротив, сильнее
Духа решимость его побуждали к тому, чтобы крепких
Врат природы затвор он первым сломать устремился.
Силою духа живой одержал он победу, и вышел
Он далеко за пределы ограды огненной мира,
По бесконечным пройдя своей мыслью и духом пространствам.
Как победитель, он нам сообщает оттуда, что может
Происходить, что не может, какая конечная сила
Каждой вещи дана и какой ей предел установлен.
Так в свою очередь днесь религия нашей пятою
Попрана, нас же самих победа возносит до неба.
И далее в своей поэме Лукреций рисует обширную картину мира в материалистической греческой философии. Мы заимствуем из нее еще строки, непосредственно относящиеся к теме нашего повествования:
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно...
Также и времени нет самого по себе, но предметы
Сами ведут к ощущенью того, что в веках совершилось,
Что происходит теперь, и что воспоследует позже.
И неизбежно признать, что никем ощущаться не может
Время само по себе, вне движения тел и покоя...
Знай же: идет от начал всеобщее это блужданье;
Первоначала вещей сначала движутся сами,
Следом за ними тела из малейшего их сочетанья,
Близкие, как бы сказать, по силам к началам первичным,
Скрыто от них получая толчки, начинают стремиться
Сами к движенью затем, понуждая тела покрупнее...
Эти предвидения древней науки не перестают поражать нас. Одной силой ума постичь изначально чувственный, «экспериментальный» характер таких величайших абстракций познания, как понятия пространства и времени! А ведь уже в восемнадцатом веке немецкий философ Иммануил Кант учил, что эти понятия самоочевидны, заложены в нас от природы, а вовсе не являются результатом опыта человеческой деятельности. Впрочем, стоит ли удивляться? Наука дает нам множество примеров того, какими зигзагами, кругами взбирается человеческий разум на гору знания, какое «возвратно-поступательное» движение он совершает.
Итак, все сущее — это атомы и пустота. Но повседневный опыт свидетельствует еще об одном круге подлежащих объяснению явлений. Тела падают на Землю, потертый янтарь притягивает кусочки ткани, магнитный железняк притягивает к себе железные предметы. Конечно, явления электрического и магнитного притяжения не так уж повседневны в жизни древнего человека. Но они все же известны ученым и наталкивают их на размышления.
Как же осуществляется притяжение одних тел другими? Через пустоту? Для мыслителей-материалистов такое представление непереносимо. Мысль о чем-то передающемся от одного тела к другому «без ничего», без какого бы то ни было материального носителя вызывает и у нас сильное внутреннее сопротивление. Без сомнения, столь же велико было это сопротивление у многих мыслителей древности.
Тогда-то и появилось представление о некоей промежуточной среде, заполняющей пространство между телами. Автора этого представления назвать нельзя, оно высказывалось многими античными учеными и даже еще до них. Эта среда впоследствии получила название эфира. Все взаимодействия между частицами должны передаваться через посредство этой среды. Вам должен понравиться следующий «набросок» картины мирового устройства, созданный по крайней мере тридцать веков назад безымянными творцами древнеиндийского учения ньяи-вайшешики: «Мир состоит из мельчайших разнородных частиц воды, земли, воздуха и огня, заключенных в эфире, времени и пространстве»!
Представление об эфире просуществовало в физике вплоть до начала нашего века. Оно прожило бурную историю, пережило поздний расцвет в прошлом веке и было погребено лишь теорией относительности. Эта история, будучи, в сущности, историей развития физических представлений о взаимодействии тел, чрезвычайно драматична и поучительна. Мы посвятим ей не одну страницу книги.
Так выглядит строение стихий в наиболее «прогрессивных» античных моделях. Как же объясняется движение тел? Точка зрения эпикурейской школы, которую мы привели в цитированном отрывке из поэмы Лукреция, конечно, не была в те времена общепринятой. Замечательное предвидение, что движение атомов может сообщаться более крупным телам, получило свое экспериментальное
подтверждение только в девятнадцатом веке и было названо броуновским движением. Вместо него на многие века возобладало другое представление, принадлежащее Аристотелю.
В отличие от атомистов Аристотель считал, что стихии (или, как он их называл, субстанции) непрерывны. К четверке стихий земных Аристотель добавил пятую — небесную субстанцию. Никакой пустоты не существует, все пространство непрерывно заполнено материей. Но материя сама по себе неощутима, она лишь возможность, потенция вещей. Чтобы она стала действительностью, наблюдаемой и ощущаемой, в нее необходимо внести активное начало — форму. Внесение формы в материю и есть движение.
Что же, мысль, несмотря на ее неправильность, чрезвычайно интересная и глубокая. Важнейший ее аспект сохраняется и в современной философии в качестве проблемы взаимоотношения формы и содержания. Вместе с тем мысль Аристотеля выглядит безупречно логичной. Стихии, субстанции непрерывны, неразложимы на составные элементы и в этом смысле бесформенны. Бесформенное, в свою очередь, неощутимо. С другой стороны, все наблюдаемые предметы в мире имеют каждый свою форму; причем они не обязательно изменяют ее, форма может и сохраняться. Но придать форму вещам из аморфной массы так, как, например, гончар формует сосуд из бесформенной глины, это требует определенных операций, движений. Наглядное механическое движение гончарного станка, рук каменщиков, складывающих дом из аморфного строительного материала, рождает в учении Аристотеля абстрактное понятие движения вообще как придания формы дотоле бесформенной материи.
Но, будучи созданы из материи, вещи не всегда остаются в покое. Взгляд Аристотеля видит отчетливую разницу между двумя обширными классами движений. Движения одного из этих классов совершаются как бы самопроизвольно: движутся светила по небосводу, камень падает вниз, пламя рвется вверх. Аристотель называет такие движения естественными, как бы изначально присущими самим этим телам. Другой класс образуют движения принудительные: например, лошадь тащит повозку по дороге, гончар вращает круг, на котором формует сосуд.
Затем Аристотель делает следующий шаг. Он вводит центр мира. Естественное движение отдельных частей
Земли — к ним относятся и камни, и огонь — направлено к центру мира или от него. Вот почему центром мира является сама Земля. Далее, легким именуется то, что стремится двигаться вверх, а тяжелым — то, что стремится двигаться вниз без какого-либо внешнего вмешательства. Поэтому огонь легок, а камень тяжел, огонь стремится к периферии, а камень — к центру мира. Причем камень должен падать тем быстрее, чем он тяжелее.
Почему же в таком случае Солнце и планеты не падают подобно камню на Землю в своем стремлении к центру мира? А они состоят не из земной, но из особой невесомой небесной субстанции, «плены» (прозрачная, разреженнее воздуха, она, по существу, есть аристотелев эфир!). Для них естественное движение — это вращение вокруг центра мира, то есть Земли. Все естественные движения тел абсолютны, телц движутся не относительно друг друга, а лишь относительно единого центра мира.
Падение камня происходит по прямой, но с непостоянной скоростью. Вращение светил вокруг Земли кажется равномерным, но происходит не но прямой линии. Отсюда Аристотель заключает, что движение по прямой с постоянной скоростью не является естественным движением. Чтобы такое движение совершала, скажем, повозка, лошадь должна все время напрягаться и тянуть за постромки. Стоит отсоединить лошадь от повозки, как повозка спустя непродолжительное время останавливается. Естественное движение же без вмешательства извне должно совершаться вечно.
Итак, у Аристотеля впервые появляется отчетливое представление о силе как причине, нарушающей естественное движение тел. Но он еще ничего не знает ни об инерции, ни о трении. Это знание придет лишь много веков спустя. Пока оно появится, науке предстоит еще избавиться от тяжкого груза представлений о центре мира и о том, что этот центр располагается на уникальной планете — Земле. (Вот где ученые мужи христианства ухватились за физику Аристотеля! Стремление церкви «научно обосновать» догматы христианской веры, как мы видим, имеет довольно длинную историю: вера верой, а подкрепить ее наукой, особенно среди еретиков-инакомыслящих, никогда не мешает.)
Физику Аристотеля с большим основанием можно было бы назвать геометрией. Все тела (или даже субстанции) в ней различались скорее не по материальному содержа-
нию, а по характеру своих естественных движений и по тем местам, которые они стремились занимать в пространстве. Разумеется, такое воззрение было шагом назад по сравнению с представлениями атомистов, объяснявших строение и движение материи исходя из нее самой, без выдумывания естественных движений к некоему центру мира. (Пройдет более двадцати веков, и на очередном витке восходящей спирали человеческого знания наука снова придет к геометризации физики, но уже на неизмеримо более высоком уровне — в общей теории относительности Эйнштейна.)
Физика Аристотеля далеко не безоговорочно принималась его учеными коллегами в античном мире или даже после ее канонизации христианской церковью учеными средневековья. Еще Лукреций Кар в своей поэме позволил себе крайне непочтительно отозваться об аргументации Аристотеля против существования пустоты. В четырнадцатом веке крупнейший французский философ Никола Оресм подверг сомнению абсолютный характер движения тел в аристотелевой физике. Он говорил: «Я полагаю, что локальное движение можно обнаружить только в том случае, когда одно тело изменяет свое положение относительно другого... Точно так же, как человеку, сидящему в движущейся лодке, представляется, что деревья перемещаются мимо него».
Признание относительности движения тел непосредственно вело к изгнанию центра мира из физики. Оставалось изгнать его из космологии. Эта задача выпала на долю Коперника в шестнадцатом веке. Достаточно было отказаться от представления о центральной роли Земли: даже будучи перемещен на Солнце, центр мира уже переставал иметь абсолютное значение для всех земных движений, сохраняя его на какое-то время лишь для движений планет. А там и телескоп Галилея обнаружил пятна на небесной субстанции — страшно даже подумать: совершеннейшей из всего сущего!
Так наступал закат естественных абсолютных движений, они приобретали в умах ученых все более относительный характер. Но полное торжество относительности, релятивизма движений наступило лишь в начале нашего века. К нему вел еще длительный и сложный процесс развития физических представлений. На этом пути должны были произойти и возрождение эфира, и торжество его, и поучительная смерть.
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Действующие лица: Галилей, Декарт, Ньютон, Бршкович и другие ученые.
Время действия: XVII - XVIII века.
Семнадцатый век — это конец эпохи Возрождения в искусстве и начало эпохи Возрождения в науке. В семнадцатом веке завершается период идеологического застоя, в котором наука коченела добрые (хотя какие они добрые!) десять столетий средневековья.
Обращаясь к проблеме взаимодействия, мы застаем ее почти в том виде, в каком оставила ее античная наука. Те же атомы, тот же эфир — расплывчатые, неопределенные. Но античным догадкам атомистов, пролежавшим все эти столетия без движения, предстоит в семнадцатом веке прорасти на ниве знания. Как безводная и, казалось бы, безжизненная степь неожиданно зеленеет от первого дождя, так и живительная влага пробудила от долгого сна чуть было не погибшие зародыши знания. Имя этой влаги — опыт.
После долгих веков схоластических богословских упражнений великие философы англичанин Френсис Бэкон и француз Рене Декарт возвещают новый принцип научного познания мира: прежде всего экспериментирование над природой, затем научная гипотеза для объяснения явлений и, наконец, общие принципы, на основе которых строится теория, охватывающая целый круг явлений и позволяющая предсказывать новые явления. И проверка опытом, проверка на каждом шагу, особенно проверка выводов теории. Критерием истинности теории становится не логическая ее правильность, а соответствие ее объяснений и предсказаний опытным фактам. Опыт — верховный судья теории.
С обширных и точных опытов начинает и провозвестник новой физики Галилео Галилей. Вместо чисто умозрительных заключений — строгие экспериментальные доказательства: «В природе нет ничего древнее движения, и о нем философы написали томов немало и немалых. Однако я излагаю многие присущие ему и достойные изучения свойства, которые до сих пор не были замечены либо не были доказаны... Так, например, говорят, что естественное движение тяжелого падающего тела непрерывно ускоряется. Однако в каком отношении происходит ускорение, до сих пор не было доказано; насколько я знаю, никто еще не доказал, что пространства, проходимые падающим телом в одинаковые промежутки времени, относятся между собою как последовательные нечетные числа. Было замечено также, что бросаемые тела или снаряды описывают некоторую кривую линию; но того, что линия эта является параболой, никто не указал».
Так физика начинает становиться количественной наукой, в которой зерно эксперимента перемалывается жерновами математики и выходит в виде добротной муки точных физических законов.
Вряд ли стоит излагать здесь опыты Галилея с движением падающих и бросаемых тел, они общеизвестны. Для нас гораздо важнее другое: в трактате Галилея «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки», отрывок из которого мы только что привели, впервые дается строгое определение ускорения тел, а также вводятся основополагающие понятия силы и инерции. Начиная с Галилея, после стольких веков засилья аристотелевой физики, естественным становится движение по горизонтали (по прямой) с постоянной скоростью — равномерное движение. Галилей еще не знает, что за сила вызывает падение тяжелых тел, но уже уверен, что падение тел происходит под действием некоей силы, оно принудительно.
Впрочем, в своем трактате он по традиции осторожно называет его естественным движением. Галилей вообще был чрезвычайно осторожным в своих высказываниях ученым. Но что делать, обнаруженные им факты и объясняющие эти факты воззрения были такой нестерпимой ересью для католической церкви, что лишь формальное отречение от них спасло Галилея от костра инквизиции.
Галилей в своих экспериментах по скольжению тел на наклонных плоскостях смог установить, что сила тяжести пропорциональна ускорению падающих тел. Экспериментальные закономерности падения тел через несколько десятков лет лягут краеугольным каменем в здание физики Исаака Ньютона в качестве его знаменитого второго закона движения.
Это здание чрезвычайно обширно. В физике Ньютона впервые совершился синтез представлений древних атомистов и воззрений его непосредственных предшественников и современников в науке. Ньютон — ортодоксальный атомист: весь мир состоит из «твердых, весомых, непроницаемых, подвижных частиц... Первичные частицы абсолютно тверды; они неизмеримо более тверды, чем тела, которые из них состоят; настолько тверды, что они никогда не изнашиваются и не разбиваются вдребезги».
Атомы и слагающиеся из них тела движутся в бесконечном и однородном пространстве — пустоте. В этом пространстве нет каких-либо точек или направлений с особыми свойствами, все они равноправны. Пространство — это вместилище всей движущейся материи. Пространство, пустота, естественно, не находятся ни в какой связи с вмещаемой ими материей: «Абсолютное пространство по
самой своей сущности безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным».
Если в этом неподвижном пространстве выделить некий центр, то все движения тел можно относить к этому центру, который, конечно, занимает постоянное положение в пространстве, покоится. Тогда, казалось бы, движение опять становится абсолютным, привязанным к этому центру. Однако нет, Ньютон пишет: «Совершенно невозможно ни видеть, ни как-нибудь еще иначе различить при помощи наших органов чувств отдельные части этого пространства одну от другой, и вместо них приходится обращаться к измерениям, доступным чувствам. По положениям и расстояниям предметов от какого-либо тела, принимаемого за неподвижное, определяем места вообще, затем и о всех движениях судим по отношению к этим местам, рассматривая тела лишь как переносящиеся по ним. Таким образом вместо абсолютных мест и движений пользуются относительными».
Так в физике появляются неподвижные тела, относительно которых отсчитывается движение; впоследствии их назовут системами отсчета, или телами отсчета. Так оказывается, что если даже и существует центр Вселенной, то безразлично, куда поместить его — на Землю, на Солнце или куда-нибудь еще. Равным образом для ньютоновой теории движения тел безразлично, покоится ли этот центр или движется равномерно. Эта особая точка пространства не имеет физического смысла, а с нею утрачивает смысл и различение покоя или равномерного прямолинейного движения. Такое движение и есть естественное движение новой физики. Раз безразлично, покоится или равномерно движется этот центр вселенной, то тем более безразлично, покоятся или движутся равномерно тела, по которым отсчитывается относительное движение. Относительными оказываются не только положение, но и скорость равномерного движения тел.
Но вот ускорение тел уже не относительно, а абсолютно. Ускорение вызывается силами, а сам факт их действия имеет абсолютный характер: если сила действует в одной системе отсчета, то она обязана присутствовать и в любой другой системе. Мерилом величины силы становится произведение массы тела на ускорение под действием силы.
В результате на сцену выходит новое важнейшее понятие физики — масса. Естественное движение не требует действия силы, но зато тела с большей или меньшей неохотой выходят из этого состояния, либо меняют его на другое естественное движение, т. е. на движение с иной скоростью. Это нежелание менять свое движение было названо инерцией, а характеристика степени такого нежелания — инертной массой.
Здесь уместно сделать небольшое отступление. Перед любой наукой в любой момент времени ее развития встают два рода вопросов. Один из них — «как», другой — «почему». Иными словами, любая наука должна отвечать на вопросы о том, как протекают «подведомственные» ей события, явления, процессы в окружающем нас мире и в нас самих, и на вопросы о том, каковы глубинные причины этих явлений. Ответы на «как» бывают чаще количественными, в виде математических уравнений и соотношений, а на «почему» — качественными, выраженными словами. Но это вовсе не обязательно. Математика при этом преследует лишь цель краткости и наглядности записи того, что в принципе можно было бы выразить и словами, но более длинно и не так очевидно.
Ответ на вопрос «почему» — почему приложение силы вызывает изменение скорости движения тела или выводит его из состояния покоя и почему при прекращении действия силы тело опять движется равномерно, — этот ответ выходит за рамки ньютоновской механики. Ответ, если даже он вообще возможен, не может быть получен в пределах ее системы понятий. Он требует дальнейшего развития физики, расширения системы ее понятий и в конечном итоге — выхода за рамки механики в значительно более широкий круг явлений природы.
Нам еще представится случай вернуться к вопросу о происхождении инерции тел. Окончательного ответа на него нет и сегодня. Уже то, что инерция присуща всем материальным телам и даже мельчайшим частицам, из которых они слагаются, — всем электронам, протонам, нейтронам безотносительно к тому, из какого «вещества» они вылеплены природой, — уже эта универсальность инерции показывает, что в глубине ее должна лежать какая-то чрезвычайно широкая и мощная закономерность. Во всяком случае закономерность, чрезвычайно далеко выходящая за рамки классической, ньютоновой механики.
Можно ли и нужно ли ставить вопрос о природе этой закономерности? Вопросы, как известно, бывают умные и глупые. По-видимому, основное различие между ними состоит в том, что на первые можно получить ответ, а на вторые — нет. Здесь уместно маленькое «но»: когда можно получить ответ? Если сегодня, в рамках сегодняшнего знания, современной системы научных понятий ответ получить невозможно, потому что вопрос выходит за пределы этих рамок, то каков же вопрос — умный он или глупый?
Увы, заранее это неизвестно, только история покажет. И еще хорошо, если свой печальный приговор история произнесет не при жизни ученого: каково ему узнать этот приговор? Впрочем, истинные ученые стоически воспринимают любые приговоры природы: они знают цену и будничным разочарованиям, и редким успехам.
С вопросами «как» все много проще. Ученые в подавляющем своем большинстве посвящают себя поискам ответов именно на такие вопросы, так сказать, ближнему поиску. Здесь меньше и вероятность того, что заданный вопрос окажется глупым, и неудача не так чувствительна в смысле затрат времени и труда на решение неверно поставленной задачи.
На решение же больших вопросов «почему» (скажем, почему существует инерция, почему протон и электрон имеют одинаковые по абсолютной величине электрические заряды, почему существует спин у элементарных частиц и тому подобные) отваживаются только очень крупные ученые и... дилетанты от науки. Последних, любящих пофилософствовать о наиболее сложных и трудных глобальных проблемах мироздания, всегда было и есть намного больше, нежели крупных ученых. Различие в уровне образования и в мощи интеллекта — даже не самое существенное среди столь разделяющих их различий. Гораздо важнее главные побудительные мотивы их деятельности; любознательность — у ученого, тщеславие — у дилетанта. Это различие мотивов ярко проявляется и в различии методов, которыми оба они пользуются.
Ученый ищет ответа на вполне конкретные, порою в глазах его современников даже слишком узкие, специальные вопросы (например, почему скорость света в опыте Майкельсона не складывается со скоростью движения Земли по орбите, или, скажем, что следует из экспериментально установленного равенства инертной и гравитационной масс тел). Дилетант же пытается решать исключительно глобальные вопросы (что такое заряд электрона, имела ли начало вся Вселенная, почему существует всемирное тяготение и т. п.).
Ученый стремится как можно дольше оставаться в рамках той системы понятий, в которой работали его предшественники и работают его современники, в которой он сам воспитан. Ученый вводит новые понятия осторожно, даже неохотно, порой и со смущенной улыбкой, как бы прося прощения за то, что ему больше ничего не остается. Дилетант же с самого начала широким жестом смахивает со стола привычную и устоявшуюся картину мироздания, он щедрой рукой рассыпает на страницах своего творения новые понятия, представления, термины, причем сплошь да рядом забывает дать им строгие определения через традиционные понятия (какая мелочь!). Разумеется, новые «понятия», надерганные из отрывков полузнания, у дилетанта никогда не образуют сколько-нибудь стройной системы, столь жизненно присущей любой уважающей себя науке.
Но вернемся к Ньютону. Мы упомянули пока лишь первые два из сформулированных им законов движения тела. Теперь назовем третий: всякому действию отвечает равное и направленное противоположно ему противодействие. Этот закон ничуть не более очевиден, чем первые два. Лошадь тянет телегу, сила ее мышц передается через постромки телеге и приводит телегу в движение. Это довольно «очевидно». Но кто видел, чтобы телега действовала на лошадь? Книга действует своим весом на стол, груз растягивает пружину, на которой он подвешен, но заметно ли действие стола на книгу, пружины на груз?
Нужны особые обстоятельства, специальные условия опытов, чтобы противодействие (выступало столь же явно, как и действие. Одно из таких обстоятельств — ощущение возросшей «тяжести» шарика, вращаемого рукой на веревке. Другое — более наглядное — столкновение двух шаров., в результате которого они разлетаются в разные стороны. Здесь в момент удара явно и биток, и чужой шар осуществляют действие друг на друга, взаимодействие.
Вот оно — новое понятие, вошедшее сначала в обиход физики, а затем и всей многообразной науки и человеческой деятельности. Ключевое слово в той теме, которой посвящена наша книга. Не существует «однонаправленных» действий, всякая акция имеет в точности равную ей по величине реакцию. А если и кажется, что реакция слабее (или изредка сильнее) акции, то, значит, акция рассеялась по дороге к объекту воздействия и до него дошла только часть, с которой объект и подействовал, в свою очередь, на «возмутителя спокойствия». Когда реакция слабее акции, это служит указанием на некие скрытые до поры до времени причины «рассеяния силы» и толкает ученых на поиски этих причин. Такие поиски со временем привели к открытию не более не менее как закона сохранения энергии.
Столкновения шаров... Именно опыты со сталкивающимися шарами привели Ньютона к мысли о третьем законе движения, и он же тщательно повторил их, чтобы убедиться в правильности этого закона. Но что находилось «за кадром»? Потребности века? Возможно. Нарождающаяся в те годы промышленность уже испытывала потребность в ударных механизмах, скажем, в копре для забивки свай. Проблемой удара занимались и Галилей, и Гюйгенс, и ряд других ученых того времени.
Но вместе с тем сталкивающиеся шары были, так сказать, моделью для самой физики, равно как и вращение шарика на натянутой веревке. Вряд ли задача о столкновении шаров имела и потребительское приложение к искусству игры в бильярд, а задача о вращении шарика — к умению играть в рулетку. Разумеется, тут все было го-раздо глубже. Задача о вращающемся шарике напрямую выходила на всемирное тяготение, а проблема сталкивающихся шаров — на взаимодействие атомов.
Разделявшиеся Ньютоном взгляды античных атомистов, согласно которым атомы движутся в пустоте и меняют направления своего движения лишь при столкновениях друг с другом, в семнадцатом веке уже более не могли оставаться лишь качественными и притом расплывчатыми представлениями. Под них требовалось подвести количественную и притом экспериментальную основу. Ньютон разделяет мнение, что атомы — бесконечно твердые, непроницаемые друг для друга частички. Рядом, вполне возможно, оказывается наглядный житейский образ — бильярдные шары. Эти шары и поныне служат для отчетливой демонстрации законов столкновения тел и даже не только тел, но и упругих соударений любых частиц, в том числе и атомов, при которых не происходит «рассеяния силы» и механическое действие равно по величине механическому же противодействию.
Перенесение законов механического удара на столкновения атомов — конечно же, довольно наивный с сегодняшних позиций науки, но неизбежный для семнадцатого века прием. Истинно лишь опытное знание, а опыт того времени — в основном опыт механический. Разумеется, ученые той поры много и разносторонне исследуют и поведение газов, и теплоту, и электрические и магнитные явления. Но эти исследования находятся как бы на периферии тогдашней науки, время настоящего их расцвета еще не пришло.
В семнадцатом веке надолго воцаряется механистическое воззрение, провозглашенное впервые Рене Декартом и получившее свое выражение в сформулированном им критерии истинности: «Я заключил, что можно взять за общее правило следующее: все, что мы представляем себе вполне ясно и отчетливо, — все истинно». Как раз таких «ясных и отчетливых» представлений о сущности электрических и магнитных явлений не существовало во времена Ньютона, и, конечно же, он не мог позволить себе привлекать такие представления к объяснению явлений, происходящих при столкновениях атомов.
Можно было постулировать взаимную непроницаемость атомов. Это означало, что в момент соударения между ними возникают гигантские силы, отбрасывающие их прочь друг от друга. Но о сущности этих сил механике Ньютона сказать было нечего. Разумеется, такая позиция характерна не только при описании столкновений шаров, но и для всей ньютоновой механики в целом. Она позволяет ответить на миллионы вопросов «как», но ни на один «почему». Рассчитывая с великой точностью движения и силы, Ньютон почти нигде словом не обмолвился о происхождении самих сил.
«Гипотез не измышляю!» — сердито писал Ньютон уже на склоне своей жизни в Поучении ко второму изданию «Математических начал натуральной философии» — великого труда, в котором он впервые в цельном виде воздвиг здание классической механики. Не следует никогда смешивать домыслы с достоверным знанием, временных гипотез с вечными принципами — вот что завещал Ньютон. Конечно, сам Ньютон придумал немало гипотез, но всегда в духе Бэкона четко отделял их от основных принципов и построенных на них теорий. Все, что можно было бы сказать в те времена о взаимодействии атомов, могло быть отнесено только к разряду весьма шатких и ничем не обоснованных гипотез. Таких гипотез немало придумали и современники Ньютона, и его последователи, но ни одна из них не связана с именем Ньютона.
И все же идея атомов, носящихся в безразличной ко всем ним пустоте и время от времени сталкивающихся и даже, быть может, слипающихся при этом друг с другом, таила в себе для многих физиков семнадцатого века, как и для античных мыслителей-материалистов, нечто неприятное, беспокоящее и даже вовсе неприемлемое. Торжество абсолютного пространства и абсолютного времени ньютоновой физики — этих бесстрастных, бесконечно протяженных линеек и навечно заведенных часов, мерно и бестрепетно регистрирующих в книге бытия бесчисленные по своему многообразию события жизни красочного и пестрого мира, — оно вызывало резкий протест уже у современников Ньютона.
Еще при жизни Ньютона его соотечественник философ Толанд писал: «Понятие пустоты предполагает мертвенность или бездеятельность материи; я не могу поверить в абсолютное пространство, отличное от материи и вмещающее ее в себе, как не могу поверить и тому, что есть абсолютное время, отличное от вещей, о деятельности которых идет речь». Должно было протечь немало времени,
пока это негативное чувство протеста смогло превратиться в позитивные утверждения теории относительности.
Но и сам Ньютон ощущал определенное беспокойство. С одной стороны, твердая и обоснованная, казалось бы, позиция «гипотез не измышляю!», а с другой — еще какая величайшая гипотеза о том, что Луна падает на Землю по тому же закону, что и брошенный камень! С одной стороны, многочисленные и порой удивительно прозорливые рассуждения о сущности взаимодействия частиц, даже довольно детальные мысли о возможных свойствах эфира, а с другой — зачеркивание этих мыслей, изъятие даже упоминания о них при повторных изданиях своих трудов. Мучительная драма враждования необходимых гипотез с «вечными», монолитными, как скала, но, увы, вовсе не всемогущими принципами!
Так что, возможно, не только легендарное яблоко, но и размышления о силах, действующих между атомами, заставили молодого Ньютона обратиться к проблеме тяготения. Яблоко могло быть лишь «спусковой пружиной» для довольно непродолжительных — видимо, примерно двухлетних — размышлений и расчетов закона тяготения. Расчеты были верными, но окончательный результат не совпал с данными наблюдений за движением Луны из-за ошибки в известном Ньютону значении радиуса Земли. Когда спустя двадцать лет было определено верное значение этой величины, Ньютон, подставив его в свое уравнение, получил вполне удовлетворительное совпадение с опытом. Тогда же он и опубликовал свою теорию тяготения в первом издании «Начал натуральной философии», увидевшем свет в 1687 году.
О триумфальном шествии ньютоновой теории тяготения, увенчавшей сорок веков развития астрономии, позволившей в последующем открыть новые планеты, лежащей и по сей день в основе точнейших расчетов орбит планет и вместе с тем орбит искусственных спутников Земли, можно рассказывать много, не жалея при этом самых возвышенных слов. Для нас сейчас, однако, важно другое.
Ньютонова теория тяготения выглядит как теория действия через пустоту, действия на расстоянии или, как еще называют ее, теория дальнодействия. Откуда Луна знает, что ее должна притягивать Земля, и в соответствии с этим так регулирует свою скорость на орбите, чтобы не упасть на Землю? В никакие потусторонние переносчики взаимодействия между Землей и Луной, равно как между Землей и любыми другими падающими на нее телами материалист Ньютон, естественно, не верит. И вместе с тем объяснить сущность тяготения Ньютон бессилен, если не прибегать (проклятье!) к гипотезам.
В одном письме (Бентли) Ньютон раздраженно пишет: «Предполагать, что тяготение является существенным и врожденным свойством материи, так что тело может действовать на другое на любом расстоянии в пустом пространстве, без посредства чего-либо передавая действие и силу, — это, по-моему, такой абсурд, который немыслим ни для кого, умеющего разбираться в философских предметах. Тяготение должно вызываться агентом, постоянно действующим по определенным законам. Является ли, однако, этот агент материальным или нематериальным, решать это я предоставил своим читателям».
В другом письме (Роберту Бойлю, с именем которого связано открытие первого газового закона): «Дело идет о причине тяжести. Для сего я предполагаю эфир состоящим из частей, непрерывно отличающихся друг от друга по тонкости. В порах тел меньше грубого эфира, чем тонкого, по сравнению с открытым пространством. Следовательно, в большом теле Земли значительно меньше грубого эфира, чем тонкого, по сравнению с воздушными областями. Грубый эфир воздуха действует на верхние области Земли, а тонкий эфир Земли на нижние области воздуха таким образом, что от верхних слоев воздуха к Земле и от поверхности Земли к центру эфир становится все тоньше и тоньше. Вообразите теперь какое-нибудь тело висящим в воздухе или лежащим на Земле. Поскольку, по гипотезе, эфир грубее ее в порах тела наверху, чем в нижних частях, и грубый эфир менее способен находиться в своих порах, чем тонкий в своих, он будет выходить и давать путь тонкому эфиру снизу, что не может происходить, если только тело не будет опускаться, освобождая место для выхода грубого эфира».
Итак, гипотеза. Да еще какая: модельная и даже по-луколичественная, как сказали бы мы сегодня. И все же — гипотеза, по бэконовой терминологии, как недоказанная и, возможно, вовсе недоказуемая прямым опытом.
Итак, эфир. Со всеми своими эфирными атрибутами — чрезвычайной разреженностью («тонкостью»), безграничной протяженностью, присутствием как вокруг тел, так и в них самих, подвижный, текучий. Почти что не газ, но все же и не пустота. (Этот ньютонов эфир по своим свойствам чрезвычайно похож на эфир нашего великого химика Менделеева. К слову сказать, Менделеев даже вначале указывал место эфира в периодической системе химических элементов и называл его ныотонием!)
И еще одно важное свойство ньютонова эфира — его непрерывность. Она кажется почти очевидной, хотя на самом деле за нею стоит весьма существенное обстоятельство: если объявить эфир не непрерывным, а дискретным, то это неизбежно приведет к частицам эфира и к наличию пустоты между ними. И тогда опять встанет проблема взаимодействия, только теперь уже между самими эфирными частицами. Конечно, пустоту между ними можно, в свою очередь, населить еще более тонким эфиром, но почему бы и тонкому эфиру не состоять тогда из частиц? Иерархия все более тонких эфиров может продолжаться до самой дурной бесконечности!
Так проблема прерывного и непрерывного получает в классической физике отчетливое материальное оформление: прерывны первочастицы — атомы и составленные из них тела; непрерывен эфир — среда, передающая взаимодействия как между мельчайшими атомами, так и большими телами (например, взаимное притяжение тел). Естественно, классическая физика в семнадцатом веке конкретно не знает, как происходит это взаимодействие, хотя и строит свои гипотезы на этот счет (одну из них — гипотезу двух эфиров, тяжелого и легкого, мы уже цитировали). Но сомнений в таком взаимодействии (притяжении атомов) уже, по-видимому, нет.
Ньютон пишет в «Оптике» — труде, подводящем итоги почти сорокалетней его деятельности в области изучения световых явлений и касающемся многих отнюдь не оптических проблем: «Мельчайшие частицы материи могут сцепляться посредством сильнейших притяжений, составляя большие частицы, но более слабые; многие из них могут также сцепляться и составлять еще большие частицы с еще более слабой силой — и так в ряде последовательностей, пока прогрессия не закончится самыми большими частицами, от которых зависят химические действия и цвета природных тел». Вполне лукрецианский взгляд на строение вещества и, можно сказать, за исключением некоторых частных неточностей, вполне современный взгляд, особенно на иерархию слабостей сил сцепления, действующих между все более крупными частицами вещества.
Разрабатывал представление об эфире и Декарт. Его эфир чрезвычайно сложен. Он заполняет все пространство, а не только поры в телах или ближайшие окрестности тел, как у Ньютона. Эфир у Декарта — синоним пространства: пустоты не существует.
Как же тогда могут двигаться тела? А так, что место, освобожденное одной частицей, тут же занимается следующей за ней, в свою очередь, это место заполняется последующей частицей и так далее, чем-то напоминая игру в «пятнадцать» или движение отдельных людей в толпе. Это сходство еще более усиливается циклическим, круговращательным движением декартовых частиц, в результате которого возникают эфирные вихри с центрами в каждом скоплении частиц («водовороты» в толпе!). Именно благодаря вихрям возникли, по Декарту, все наблюдаемые звездные и планетные миры и вообще все тела во Вселенной.
Взаимное движение частиц по своему действию напоминает шаровую мельницу: непрерывное трение шлифует частицы и дробит их на еще более мелкие. Крупные отшлифованные частицы образуют в результате небесную субстанцию, а более мелкие выпираются вихрями на периферию, где образуют субстанцию огня, из которой и состоят звезды.
Очень сложно и туманно, вопреки философскому учению самого же Декарта, требующему выводить устройство мира из немногих очевидных принципов. Это противоречие отмечали и современники Декарта. Они говорили, что философия Декарта куда более привлекательна, чем его физика, большая часть которой неверна или весьма сомнительна, согласно тем же правилам построения научных теорий, которые он сам отстаивал. Слишком много неочевидных гипотез!
Уже в те годы сложность объяснения явлений, избыточная многочисленность гипотез отпугивали ученых. Задолго до описываемого времени был высказан и завоевал признание философский принцип, известный под названием «бритвы Окама»: то объяснение явления ближе к истинному, которое основывается на меньшем числе гипотез; наилучшим можно считать объяснение как можно более широкого круга явлений с помощью как можно меньшего числа гипотез. Этот принцип остается в силе и по сей день, и наибольшим уважением пользуются теории, полно ему удовлетворяющие. К их числу, несомненно, относятся обе теории относительности, специальная и общая, а также квантовая теория.
Дело здесь не в какой-то вымышленной «экономии мысли» или в стремлении к внешней красоте, элегантности теорий. Просто возможность построить такие теории говорит о том, что в их основу положен счастливо найденный чрезвычайно общий и широкий закон природы, тогда как обилие гипотез говорит о том, что такой закон может находиться и где-то «недалеко», но еще не схвачен, не открыт.
Между последователями учения Ньютона и учения Декарта не мог не разгореться жаркий спор. Ныотониан-цы обвиняли Декарта и его последователей — картезианцев в «измышлении гипотез», которые они именовали сплошным вымыслом и баснями. (Тонкий намек на то, что осторожный Декарт изложил свои идеи об устройстве Вселенной в литературной форме фабльо — сказки, вымысла, чтобы избежать прямых преследований церкви.) Картезианцы не оставались в долгу. Мир сугубо материален, в нем нет и не может быть никакой ньютоновой пустоты, в которой загадочные надматериальные силы осуществляют взаимодействие между телами, в том числе, конечно, и всемирное тяготение. Движение может порождаться только движением же.
Впоследствии Вольтер очень остроумно охарактеризовал предмет спора ньютонианцев и картезианцев: «Если француз приедет в Лондон, то найдет здесь большое различие в философии, так же как и во многих других вещах. В Париже он оставил мир полным вещества, здесь находит его пустым. В Париже Вселенная наполнена эфирными вихрями, тогда как здесь в том же пространстве действуют невидимые силы... У картезианцев все делается через давление, что, по правде сказать, не совсем ясно; у ньютонианцев все объясняется притяжением, что, впрочем, не намного яснее».
Сказано не только весело, но и метко. Ньютонова сила имеет исторически вполне материальное, более того, «человеческое» происхождение, издревле связанное с мускульным усилием сначала людей, а потом и животных при выполнении какой-либо работы. Можно сказать, что это контактная сила, когда между предметами (одушевленными или неодушевленными), прикладывающими силу и испытывающими ее действие, нет зазора, нет пустоты. Здесь как будто все ясно и очевидно. Но когда понятие «близкодействующей» силы Ньютон переносит на явно «дальнодействующую» ситуацию с взаимно притягивающимися планетами, между которыми явно никакой материальной среды не обнаруживается, все сразу становится «не совсем ясно».
«Голая математика!» — возможно, фыркали в адрес количественного закона тяготения Ньютона некоторые из его ученых коллег. Причем не обязательно картезианцы. Сам Декарт уже отлично понимал могущество приложения математики к естественным наукам, ввел алгебраические методы в геометрию, создав новую важную науку — аналитическую геометрию, и, более того, попытался даже математически описать все наблюдаемые в природе явления, используя лишь законы механики.
В самом деле, что стоит за законами Ньютона? Гипотез о природе сил ни Ньютон, ни ньютонианцы не «измышляют»; быть может, эти законы — чистая выдумка человеческого ума, оперирующего одними лишь математическими понятиями, за которыми в природе ничего нет? Вопрос о «математической схоластике», о «жонглировании символами и уравнениями», являвшийся в совсем недавнем прошлом предметом весьма жаркой полемики и основой упреков в адрес физиков-теоретиков, споров, не утихших еще и поныне, — этот вопрос имеет длинную историю.
Мы можем только еще раз повторить: за понятием силы в ньютоновой механике в самом деле ничего не стоит. Природа сил выходит за рамки понятий и законов механики вообще и в ней не может быть решена. Вопрос же о «сплошной» материальности мира у картезианцев сложнее. Взаимоотношение тел и пустоты — это, по существу, дело понимания того, что есть пространство. Является ли оно «тарой», в которую вложены весомые и зримые тела, причем вовсе не обязательно так плотно, что и просветов между ними нет, как в декартовом мире?
Уже современник Ньютона великий ученый Лейбниц высказал весьма глубокую мысль о том, что пространство не ограничивается одной лишь ролью вместилища тел, а несет значительно более сложную функцию быть мерой отношений между телами. Согласитесь, что такие характеристики, как протяженность, близость, удаленность, значительно более полно характеризуют пространство, нежели безликая его емкость по отношению ко всем телам. (К слову, и понимание массы как меры инерции намного богаче содержанием, чем представление о массе лишь как о количестве вещества в теле.)
Но «математически голый» закон всемирного тяготения Ньютона дал физике неизмеримо больше, чем все «материальные» эфирные построения Декарта. Ибо количественно правильное описание одного, но зато важнейшего и универсального закона природы стоит в конечном итоге сотен качественных домыслов, которые и довести нельзя до расчета. Впрочем, эфирные вихри Декарта нашли спустя два века своеобразное отражение в теории электромагнитного поля Максвелла, а его догадка о том, что Солнце и звезды состоят из огненной субстанции, си-речь плазмы, оказалась и вовсе правильной.
Ньютон все же сделал неизмеримо больше. Французский механик Лагранж говорил с хорошей научной завистью о том, что Ньютон должен был быть счастлив: систему мира можно установить только раз. Он, конечно, ошибался насчет «одноразовости» картины мира: квантовая механика и теория относительности радикально изменили ее, а какую картину нарисуют наши далекие потомки — невозможно даже предугадать. Но Лагранж был прав в другом: громадность круга явлений, которые можно правильно объяснить на основе трех законов движения Ньютона, поражала и продолжает поражать воображение ученых.
Восемнадцатый век мало что дал пониманию всемирного тяготения, впрочем, и девятнадцатый век принес мало существенного. По-прежнему философы-материалисты критиковали пустоту и нематериальные воздействия удаленных тел друг на друга, а ньютонова механика тем временем развивалась и совершенствовалась. «Невесомые субстанции», которые, по осторожному мнению Ньютона, могли передавать взаимодействия тел, благодаря изучению явлений электричества и магнетизма превратились в этом веке в электрические и магнитные жидкости, которым предстояло мирно почить в веке девятнадцатом, о чем еще будет у нас обстоятельный разговор.
И все же, несмотря на то что основные достижения науки в восемнадцатом веке идут по разделу «как», борьба между сторонниками дальнодействия (ньютонианцами) и приверженцами близкодействия (картезианцами) привела к лучшему пониманию самого характера основного вопроса «почему» — вопроса о взаимодействии тел. Главный вопрос, вокруг которого в восемнадцатом веке кипят страс-
ти физиков (и философов), — это завещанная Ньютоном проблема взаимоотношения материи и движения. Косная материя физики Ньютона, приводимая в движение надма-териальными силами, или же самодвижущаяся материя, черпающая источники движения сама в себе? Вот дилемма, разделившая ученых на два противостоящих лагеря. Сравнительно второстепенный для Ньютона вопрос, что «запустило в действие» машину мира, так сказать, в чем причина первого толчка, становится в борьбе лагерей чрезвычайно важным.
Сам Ньютон решал этот вопрос до легкомыслия просто: движение тел управляется силами, мир, строго говоря, не нуждается в присутствии верховного движителя — бога; если кого-нибудь волнует, что же все-таки создало «начальные условия», подтолкнуло мир к движению, то, пожалуйста, можно приписать первый толчок богу и в дальнейшем считать его обязанности исчерпанными. Однако на самом деле все это было не так просто, и тот же Ньютон задавал вопрос: «Устроена ли Солнечная система так, что никогда не придет в расстройство?» Не нужно ли, чтобы мудрость творца время от времени подправляла беспорядок? Так сказать, не является ли господь бог плохим часовщиком, которому приходится время от времени подзаводить мировые часы?
Глубоко убежденный в существовании бога философ Лейбниц с негодованием отвергал сомнения Ньютона в могуществе и вечности божественного порядка в мире. Для доказательства такого могущества он придумал целую философскую систему, в основе которой лежало представление о своего рода «маленьких душах», обитающих в каждой частице мира, — о монадах. Души обладают от века замечательным свойством: они наделены способностью к вечному самодвижению. По Лейбницу, и бог — такая же монада, так что вопрос о движении материи разрешается сам собою. Связь материи и движения оказывается универсальной и вечной, но через передаточный божественный механизм. Однако и в монадологии Лейбница божественное управление каждым актом движения в мире не обязано входить в обязанности бога, для этого достаточно и божественных духовных представителей — монад.
Крайние ньютонианцы занимали в вопросе о божественном надзоре за движением позицию, намного более определенную, чем их учитель. Один из них в предисловии к изданию ньютоновой «Оптики» в середине восемнадцатого века так прямо и писал: «Кто утверждает, что мир есть великая машина, движущаяся без помощи часовщика, тот вводит в мир материализм и фатализм и изгоняет из него провидение и волю всемогущего... Кто предполагает, что королевство может хорошо идти и без надзора короля, того можно подозревать, что он считает короля совершенно лишним. Следовательно, кто утверждает, что бог не беспрестанно управляет миром, тот стремится к безбожию».
Вот оно как получается! Вот она, апелляция к ненаучным авторитетам! Что поделаешь: тема стала уж очень «горячей». В величайшем вопросе материи и движения, в кардинальных вопросах устройства мира позиции спорящих сторон доходили и доходят до крайних пределов. Этот вопрос задевает, по существу, самые основы религиозного и вместе с ним политического управления обществом!
С вполне отчетливой, хотя и метафизической позиции противостояли «физическим идеалистам» материалисты. Французский философ Гольбах писал: «Тело, по мнению некоторых философов, само по себе бездеятельно и бессильно; это ужасная ошибка, идущая вразрез со всякой здравой физикой, со всякой здравой химией: тело преисполнено деятельности и силы и само по себе, и по природе своих основных свойств... Движение — это способ существования, вытекающий необходимым образом из сущности материи». Уже упоминавшийся нами философ Толанд утверждал, что «движение есть существенное свойство материи, иначе говоря, столь же неотделимое от природы, сколь неотделимы от нее непроницаемость и протяжение». Движение должно входить составной частью в определение материи.
Легче постулировать, чем определить место движения в формулировке материи. Физике восемнадцатого века такое определение недоступно. Зная атомы, догадываясь об их движении, даже порою предчувствуя, что такое движение лежит в основе тепловых явлений, она не в состоянии предложить сколько-нибудь правильные представления о характере этого движения.
Для объяснения взаимодействий привлекаются теплород, электрические и магнитные жидкости, световая субстанция — по существу, те же аристотелевы стихии, лишь в новом оформлении. Эти невесомые эфирные жидкости — единственная альтернатива дальнодействию через пустоту последователей Ньютона, но альтернатива очень важная. Эфир продолжает жить, он даже обогащается новыми качествами. Это не беда, со временем многокачественный эфир отпадет, но покуда он не дает восторжествовать в физике действительно мертвенной идее косной материи, приводимой в движение лишь надматериальными силами дальнодействия, мгновенно действующими через пустоту.
Вместе с тем материальные эфирные представления содержат в себе угрозу иного застоя. В физике на долгое время воцаряется представление о непрерывности движения, об отсутствии в нем скачков. Это выглядит вполне очевидным. Так, в своей «Аналитической механике» Леонард Эйлер пишет: «Всякое тело, которое передвигается в другое место при помощи абсолютного или относительного движения, проходит через все средние места и не может из начального места перейти сразу в конечное».
Должно было пройти много времени, пока физика смогла впустить, и с превеликой неохотой, идею о скачках в движении. Это сделала квантовая механика, преодолевая инерцию не только научных заблуждений, но и очевидных (Кант сказал бы — априорных, вложенных от века в человеческое сознание) представлений о том, что природа не терпит скачков, что все процессы в ней совершаются плавно и непрерывно.
Но, повторяем, пока что это не беда. Сейчас, в восемнадцатом веке, важнее разобраться не в том, как прерывистое взаимодействие атомов при столкновениях дает начало непрерывному движению тел. Это намного более глубокий и огромный пласт знания, который откроется глазам лишь последующих поколений естествоиспытателей. Сейчас важнее разобраться в самом движении и доказать его несотворимость и неуничтожимость. Это ли не огромная услуга, которую физика окажет материализму, изгнав из природы и «первый толчок», и другие проявления божественного произвола!
Физикам в восемнадцатом веке, по существу, удается обосновать два великих закона сохранения в природе — закон сохранения импульса и закон сохранения механической энергии. В свете опытных данных того времени эти два закона равносильны утверждению о сохранении, т. е. неуничтожимое™ и несотворимости, механического движения. Огромную роль в установлении и научной пропа-
ганде этих положений сыграли Эйлер и наш великий Ломоносов.
Пожалуй, последняя в восемнадцатом веке вспышка активности сторонников дальнодействия связана с работами Роджера Бошковича, который попытался дать обоснование механике и оптике Ньютона на базе атомистики путем сплавления воедино непрерывности движения больших тел и прерывности взаимодействия атомов. Последние у Бошковича — уже не некие маленькие шарики, взаимодействующие, сцепляющиеся друг с другом только при кратковременных взаимных столкновениях. Нет, атомы у него уже силовые центры. Они взаимодействуют друг с другом всегда, на каких бы расстояниях друг от друга они ни находились. Замечательное предвидение, более чем на век опередившее свою эпоху!
Но взаимодействие атомов у Бошковича остается ньютоновым, силовым через пустоту. Выражение для силы у Бошковича, правда, гораздо сложнее, чем у ньютоновой силы всемирного тяготения. Бошкович понимает, что одним лишь этим тяготением не объяснить мощное сцепление атомов в телах и, более того, не объяснить разлета-ние атомов при взаимных столкновениях. Бошкович избегает говорить о непроницаемости атомов. Атомы у него — не имеющие никаких размеров материальные точки. (Материальные точки надолго останутся в физике прибежищем теорий, не способных объяснить структуру частиц!) Сила взаимодействия атомов при значительных удалениях их друг от друга совпадает с ньютоновой силой притяжения, но при их сближении она попеременно становится то силой притяжения, то силой отталкивания.
Эта идея о «знакопеременной» силе оказывается настолько удачной, что даже дает возможность Бошковичу построить модель упругих тел, в принципе очень похожую на современную. Несмотря на то что Бошкович, естественно, оставил вопрос о причине такого характера силы решать потомкам, сама идея о постоянном взаимодействии атомов оказалась необычайно плодотворной. Она ока-вала влияние на многих физиков следующего века, в том числе и на Фарадея. Стоит ли говорить, что эта идея лежит и в самой основе современной физики, хотя ее оформление претерпело с тех пор радикальные изменения.
ЭФИР СВЕТОНОСНЫЙ
Время действия: XVII — первая половина XIX века. Действующие лица: Гюйгенс, Ньютон, Юнг, Френель и другие ученые.
Как в воззрениях античных философов содержалось в зародыше почти все, что получило спустя тысячи лет развитие в трудах философов недавнего прошлого и даже современности, так и физика семнадцатого века явилась зародышем всей последующей физики. Была построена механика, по крайней мере в своих основах, утвердилась механистическая точка зрения на происходящие в мире процессы. Но этот век создал также и оптику, как выяснилось спустя два века, — главного врага механистических представлений, который в конце концов привел их к закату. Именно изучение свойств света привело в начале двадцатого века к теории относительности и теории квантов. Вопрос о том, что такое свет, поэтому явился важнейшим для физики.
Древние мыслители как будто мало занимались этим вопросом, возможно, в силу «очевидности» света. Одним из ясно видимых свойств огненной субстанции была возможность испускать свет. Но существовали и тела из небесной субстанции, видные не только ночью, а и днем, были и холодные тела из земной субстанции, тоже видимые. Все это разнообразие античному уму слишком затруднительно привести к общему знаменателю.
Проще всего это сделать, приняв, что тела видны лишь тогда, когда на них смотрят. Впрочем, в отличие от знаменитого идеалиста восемнадцатого века епископа Беркли, никто из античных философов, кажется, не считал, что стоит отвернуться и видимое перестанет существовать!
Последователи Пифагора учили, что из глаз исходят особые зрительные лучи, благодаря которым и видны предметы. Но, по-видимому, достаточно детально такое представление не обсуждалось. Пифагорейцы вместе с тем полагали, что лучи от Солнца проходят к Земле сквозь густой и холодный эфир, и этим пытались объяснять хорошо известные оптические явления в атмосфере.
Древние строители превосходно разбирались в оптической перспективе и сумели, например, поставить колонны в храме Афины — в бессмертном Парфеноне так, что благодаря их наклонному расположению все они кажутся безупречно параллельными. Античным ученым были известны и свойства зеркал, а по преданию (по всей видимости, правдоподобному), Архимед сумел их использовать даже в военном деле и, соответствующим образом расположив их на берегу, смог сжечь целый неприятельский флот. Вероятно, ученые той поры знали даже увеличительные свойства линз из прозрачных минералов.
Но все же развитие оптики получило толчок лишь с появлением действительной потребности в оптических приборах. Галилей сконструировал первый линзовый телескоп, а углубленное изучение свойств линз в последующие годы привело к возникновению и геометрической, и волновой оптики. В семнадцатом веке были открыты явления дифракции, поляризации света, спектр света и его разложение на отдельные цвета, довольно точно измерена скорость распространения света.
Потребовались представления о том, какова сущность света, необходимые для объяснения всех открытых его свойств с единых позиций. И такие представления возникли, а родившись, тут же начали бескомпромиссно враждовать между собой, пока, наконец, в начале двадцатого века не удалось найти величайший «компромисс» в истории физики и примирить эти представления в понятии фотона. Корпускулярные представления о сущности света принято приписывать Ньютону, волновые — голландскому физику Христиану Гюйгенсу.
Это не совсем точно. Подобные взгляды на природу света высказывали еще предшественники Ньютона и Гюйгенса, но не так отчетливо. Недостаток отчетливости скорее всего был связан с тем, что в головах этих предшественников еще царила мешанина корпускулярных и волновых представлений. Декарт, например, объяснял распространение света как результат давления, которое оказывают световые частицы на эфирную среду, окружающую светящиеся тела. Передача давления совершается мгновенно, и поэтому скорость распространения света бесконечно велика. Но тогда Декарту не удавалось вывести уже известный в то время закон преломления световых волн.
Итальянец Гримальди открыл фундаментальное явление дифракции света. Надо было обладать фантастически острым зрением, чтобы без помощи специальных приборов обнаружить загибание лучей света в область тени за предметом и окружающие эту тень дифракционные полосы. Гримальди полагал, что эти полосы похожи на волны, распространяющиеся в воде от брошенного камня.
Гениальный соотечественник Ньютона, почти его ровесник Роберт Гук первым, опередив почти на полтора века триумфаторов волновой теории света Юнга и Френеля, высказал мысль о том, что свет является поперечными волнами: «Свет есть простое и равномерное движение, или вибрация, однородной и восприимчивой субстанции, мгновенно распространяющееся в виде сферической волны на любое воображаемое расстояние от светящегося тела».
Итак, первый набросок волновой картины света как возбуждения, волнообразно распространяющегося в «однородной и восприимчивой среде», т. е. в светоносном эфире.
Далее в том же труде Гук «задирает» Ньютона: «Я думаю, что для мистера Ньютона не составит большого труда дать объяснение всех этих явлений». Гук имел в виду названные выше оптические явления, известные в его время. Оптические работы Ньютона были встречены Гуком с открытой враждебностью. Полемика Гука и Ньютона приняла настолько острый характер, Гук так горячо отстаивал свой приоритет и правоту своего истолкования по поводу почти каждого открытия Ньютона в оптике, что Ньютон вынужден был принять во имя спокойствия весьма мужественное решение — не публиковать ни одной своей работы по оптике при жизни Гука.
Гук умер в 1703 году, а в 1704 году Ньютон выпустил в свет свою «Оптику», в которой он систематизировал оптические явления, открытые им самим, его предшественниками и современниками, привел объяснения открытым явлениям, а в заключение книги поставил более тридцати «Вопросов». Эти «Вопросы» касались нерешенных к тому времени задач оптики, в том числе и гипотез
о сущности света. Многие мысли Ньютона, высказываемые в «Вопросах», отличаются поразительной прозорливостью, правильность их смогла подтвердить только физика двадцатого века!
Что же убеждало Ньютона в корпускулярном строении света? В первую очередь, конечно, то, что он считал преломляемость изначальным свойством световых лучей, никоим образом не зависящим от того вещества, сквозь которое они проходят. Но раз так, то расщепление луча белого света на цветные лучи при его прохождении через призму можно объяснить только тем, что в составе белого луча находятся частицы-корпускулы разных цветов, а призма только сортирует их по разным направлениям. При этом чем меньше скорость корпускул, тем сильнее они отклоняются от своего первоначального направления полета. Исходя из порядка расположения цветных полосок на экране за призмой, на которую падал белый свет, Ньютон заключил, что наименьшей скоростью обладают фиолетовые, а наибольшей — красные корпускулы.
Далее, свет в пустоте распространяется по прямым линиям и равномерно. Для Ньютона и вообще в механике той поры такое распространение является вполне естественным движением корпускул. Распространение же волн по прямым линиям, скажем, плоских волн на поверхности воды, наблюдается в действительности лишь в редких случаях и потому вовсе не очевидно. Подобно мячам, бросаемым на стенку, свет отражается под таким же углом, под каким падает, от твердых гладких (зеркальных) поверхностей.
Если «правильно» подобрать силы, которые действуют со стороны прозрачной среды на поток таких мячей, то можно объяснить и законы преломления света. Разумеется, такое объяснение вовсе не правильно. Так, приходится предполагать, например, что при переходе из воздуха в воду световые корпускулы должны распространяться в более плотной, т. е. в более сопротивляющейся, среде — воде — с большей скоростью, чем в воздухе, в противном случае луч света будет отклоняться не к вертикали (перпендикуляру к границе раздела воздуха и воды), как это наблюдается на самом деле, а от нее. Натяжка? Конечно, но пока это можно еще отнести на счет «особых свойств» света и оставить потомкам разбираться в этих «особенностях».
Просто удивительно, сколько аргументов било в глаза Ньютону, свидетельствуя в пользу волнового объяснения света, сколько верных доводов приводилось современниками Ньютона в ее защиту! Явление дифракции в принципе было известно Ньютону, но его можно было пытаться объяснить с позиций корпускулярной теории, придумав, например, некие слабые силы, действующие на частицы света по краям освещаемого предмета и тем самым расширяющие изображение предмета.
Пытаясь ответить на «любезное приглашение» Гука объяснить интерференционные цвета тонких пленок, Ньютон ставит свой опыт и открывает знаменитые интерференционные кольца. Промерив расстояния между кольцами одного и того же цвета, Ньютон получает не что иное, как длину волны лучей отдельных цветов! Сама периодичность чередования колец должна наводить на мысль о волнах. И, действительно, наводит Ньютона на эту мысль: «При падении луча света на тонкую пленку или пластинку какого-нибудь прозрачного тела волны, возбужденные прохождением света через первую поверхность, обгоняют лучи один за другим. Когда луч дойдет до второй поверхности, то волны заставят его там отразиться или преломиться соответственно тому, какая часть волны обгоняет луч, сгущенная или разреженная».
Поразительно правильное объяснение интерференции с помощью волн, «связанных» с лучами! Что же дальше? Какой материальный процесс Ньютон свяжет с волной? А никакой. Опять это несносное «гипотез не измышляю»: «Доктрина, использовавшаяся мной при объяснении цветов и преломления, включает лишь определенные свойства света и не содержит гипотез, объясняющих эти свойства... ибо гипотезы полезны только для объяснения свойств вещей, а не для определения их».
Может быть, представление о корпускулах света в большей степени импонировало Ньютону, будучи связано в единое целое с его корпускулярным объяснением и прочих явлений природы? Возможно, это так, но, отвечая на упрек Гука в том, что он приписывает свету телесные свойства, что поэтому ему не избежать трудностей с объяснением того, почему эти корпускулы не сталкиваются при сложении световых пучков (т. е. почему свет не рассеивается на свете), Ньютон пишет: «Это верно, что из моей теории я заключаю о телесности света, но делаю это безо всякой решительной настойчивости... Я знал, что утверждаемые мною свойства света могут быть объяснены не только этой, но и многими другими механическими гипотезами».
Он «знал», он утверждал без «решительной настойчивости»! Одного его авторитета было достаточно, чтобы на долгие годы замерло всякое развитие волновых представлений о свете. Когда в 1690 году вышел знаменитый трактат Гюйгенса о свете, в Англии никто не откликнулся на него даже строчкой. И вместе с тем теория Гюйгенса заставила Ньютона вновь вернуться к проблеме эфира.
Гипотеза Гука и теория Гюйгенса наделяют эфир новым важнейшим свойством — быть средой, переносящей световые волны. Гюйгенс с самого начала отвергает корпускулярную точку зрения Ньютона, полагая, что она не может объяснить, почему при сложении или взаимном пересечении световых пучков не происходит рассеяния частиц в пучках друг на друге. Против корпускулярного характера света говорит и исключительно большая скорость распространения света, во много раз превосходящая даже ту, что имеют быстрейшие по тем временам тела — ружейные пули.
Но если свет не поток корпускул, то что же он такое? Гюйгенс пишет: «Привести нас к пониманию способа распространения света может то, что нам известно о распространении звука в воздухе».
Чудесная аналогия, но почему бы не принять, что «проводником» и звука и света является одна и та же среда, например воздух? В пору Гюйгенса это уже невозможно, слишком многое известно о различиях звука и света: в частности, звук распространяется и через непрозрачные тела, а свет — и через межпланетное пространство, где скорее всего никакого воздуха нет. Поэтому в* качестве такой среды и вводится эфир, благо он к тому времени уже наделен свойствами, благоприятствующими распространению света, — прежде всего разреженностью и прозрачностью.
Согласно Гюйгенсу свет — это «волны состояния» среды, когда она в целом неподвижна, а колеблются лишь отдельные ее части. Поэтому состояния колебаний передаются в эфире во все стороны, и те точки эфира, куда дошла световая волна, сами становятся источниками вторичных световых волн. Эти вторичные волны, складываясь друг с другом, дают совокупную волну, которая как бы продолжает дальше волну пришедшую.
Но, что чрезвычайно важно, аналогия со звуковыми волнами в воздухе завела Гюйгенса слишком далеко: в воздухе, как и в жидкостях и в других газах, могут рас-пространяться только продольные волны, и Гюйгенс также принял световые волны продольными. В результате теория Гюйгенса не смогла объяснить важнейших явлений дифракции, интерференции, поляризации света. Это явилось одной из причин того, что Ньютон, несмотря на свою высокую оценку трудов Гюйгенса по механике и астрономии, занял в отношении его волновой теории света резко отрицательную позицию.
Было и еще одно важное соображение в пользу такой позиции. Ньютон писал: «Против заполнения неба жидкими средами, если они только не чрезвычайно разрежены, возникает большое сомнение в связи с правильными и весьма длительными движениями планет и комет по всякого рода путям в небесном пространстве. Ибо отсюда ясно, что небесное пространство лишено всякого заметного сопротивления, а следовательно, и всякой ощутимой материи».
Ньютон даже сделал численные расчеты. Сравнивая скорость звука в воздухе и света в пустоте, он нашел, что отношение упругости эфира к его плотности (по формуле, полученной еще Гуком) должно быть по крайней мере в триллион раз больше, чем для воздуха. Если эту величину «составить» из упругости эфира, в миллион раз большей упругости воздуха, и плотности эфира, в миллион раз меньшей плотности воздуха, то межпланетный эфир мог бы в самом деле оказывать лишь ничтожное сопротивление движению небесных тел. При таком сопротивлении эфир исказил бы движения планет и комет сколько-нибудь заметным образом лишь за десятки тысяч лет.
Таким образом, довод против эфира, основанный на его торможении движений небесных тел, не был сугубо принципиальным, однако лишь при условии, что эфир чрезвычайно разрежен — в миллионы раз разреженнее, чем воздух. По существу, это можно назвать первой количественной оценкой плотности эфира. Полувеком позже великий математик Леонард Эйлер в своей работе «О замедлении планет» вычислил, что эфир должен быть по крайней мере в 387 367 100 раз разреженнее воздуха (и в этой оценке сказывается неистребимая страсть Эйлера к «сверхточным» количественным расчетам!). А потом уже эти оценки стали известны и ненаучной обществен-
ности, и эфир стал синонимом чрезвычайной субтильности, легкости, летучести: например, «эфирное создание», «ночной зефир струит эфир»; и даже открытый в середине прошлого века новый газ, производивший чудесное обезболивающее действие, вследствие своей изумительной летучести был назван эфиром.
В молодые годы Ньютон еще позволил себе высказать гипотезу об эфирном происхождении сил тяготения. Потом он отказался от эфира. В первом издании «Оптики» в 1704 году эфир вообще не упоминался; в переводе «Оптики» на латынь в 1706 году (Европа тогда не знала английского языка, и основным языком научного общения была древняя латынь) Ньютон обрушился на гипотезу об эфире с резкой и решительной критикой. Прошло еще десять лет, и во втором издании «Оптики» отношение Ньютона к эфиру опять изменилось. К «Вопросам» было добавлено целых восемь «проэфирных» гипотез и, что удивительно, рядом с ними были оставлены «противо-эфирные» вопросы из предыдущего издания.
Вот таким противоречивым было отношение Ньютона к эфиру. G одной стороны, строгая система «определений», удивительно богатые, несмотря на свою неправильность, выводы из них, объяснявшие целый мир оптических явлений. А с другой стороны, «временные гипотезы», эфемерное знание, которое, увы, необходимо, поскольку Ньютон все же чувствует свои натяжки при корпускулярном истолковании ряда явно волновых оптических явлений.
G годами у многих даже действительно крупных ученых возникает, мягко выражаясь, некритическое отношение к собственным работам, желание защитить полученные ими результаты, даже целые системы взглядов от подкопов времени. Жаль трудов целой жизни, дорог высокий и непогрешимый авторитет. И тогда, бывает, ученый пускается на резкую критику того нового, что ставит под сомнение правильность собственных его результатов. Некрасиво, но что делать: наука ведь дело человеческое, какие бы «вечные» истины при этом ни добывались. Еще хуже, однако, когда ученый для защиты своего детища взывает к ненаучным авторитетам, во власти которых заставить замолчать оппонентов «физиологически», а то и физически. История знает немало примеров «научного ретроградства», как бы парадоксально ни сочетались эти слова.
Авторитет Ньютона был громадным уже при его жизни и не только в среде ученых, но и среди властвующей элиты. Мы уже говорили, что объективно этот авторитет, подобно авторитету канонизированного церковью Аристотеля в предыдущую эпоху, мог на долгое время (по крайней мере на целый век) задержать ростки новой физической мысли. Но субъективно сам Ньютон ничего для этого не сделал, хотя и не раз прибегал к довольно грубой, по нынешним понятиям, полемике со своими оппонентами. Но все же недозволенные выражения и сегодня не такой криминал, как физическое подавление научного противника. Более того, в семьдесят с лишком лет, в возрасте, когда научная нетерпимость так обостряется, Ньютон позволил себе признать право за гипотезами, которые, в сущности, подрывали его корпускулярную теорию! Понимал ли это сам творец «системы мира»?
Наверное, понимал. Ведь это он, как мы помним, предоставил своим «читателям» решать вопрос о том, материальны или нематериальны силы тяготения, лежащие в основе мира. Ньютон отлично чувствовал, что основания его системы пока попадают в разряд «временных гипотез», и завещал своим научным потомкам их опытное подтверждение и создание более объемлющих теорий. Он сознавал и силу своего авторитета, и вместе с тем свое место в бесконечном потоке познания. G величайшей скромностью смог он незадолго до смерти сказать: «Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам себе я кажусь мальчиком, играющим на морском берегу, развлекающимся тем, что от поры до времени отыскиваю камешек более цветистый, чем обыкновенно, или красивую раковину, в то время как великий океан истины расстилается передо мной неиссл е д ов анным ».
Так благодаря Ньютону (а, может быть, скорее благодаря его последователям, тем самым, что «безгрешнее папы римского») в развитии представлений о светоносном эфире в восемнадцатом веке наступает вынужденный перерыв. Возможно, это благодетельный перерыв. Знай Гюйгенс, что световые волны поперечные, а не продольные, и, следовательно, как упругие волны они могут распространяться только в твердых телах, ему удалось бы объяснить и необъяоненные явления дифракции и поляризации света.
Но было бы ли это успехом волновой теории света? Скорее всего наоборот — сокрушительным ее поражением.
Эфир должен был бы стать чрезвычайно твердой средой, в которой не то что планеты, а весь сущий мир не смог сдвинуться ни на йоту со своего места! Если это прелестное свойство светоносного эфира доставляло немалые мучения физикам девятнадцатого века, то что говорить об отношении к нему физиков «механического» семнадцатого века? Волновая теория света с ее «твердейшим» эфиром была бы наверняка выброшена за пределы науки, и о последующем развитии физики, в особенности оптики, можно было бы только гадать.
Возрождение светоносного эфира, «забытого» физикой восемнадцатого века, связано прежде всего с именем английского физика Томаса Юнга. Человек фантастически разносторонних способностей, Юнг взял своим девизом изречение: «Всякий человек может сделать то, что делают другие». Такой девиз может показаться самонадеянным, но Юнг в полной мере доказал возможность следовать ему. Он освоил игру почти на всех музыкальных инструментах, известных в то время. Он был великолепным знатоком живописи всех эпох. Он написал огромное количество работ почти по всем вопросам тогдашней науки и техники. Более того, он овладел профессией циркового наездника и канатоходца и, не смущаясь своим положением, выступал в цирке при огромном стечении публики!
Но Юнг сделал и то, чего не смогли сделать другие до него: он, по существу, первым доказал волновую природу света, открыл явление интерференции световых волн, объяснил ряд оптических явлений, не поддававшихся волновой теории Гюйгенса. Детальный разбор волновой теории света заведет нас слишком далеко. Мы рассмотрим только те ее вопросы, которые связаны со свойствами светоносного эфира.
Свои принципы волновой оптики, изложенные в лекции 1801 года, Юнг открывает четырьмя гипотезами об эфире:
I. Светоносный эфир, разреженный и упругий, заполняет Вселенную.
II. Каждый раз, как тело начинает светиться, в этом эфире возбуждаются колебательные движения.
III. Ощущение различных цветов зависит от различной частоты колебаний эфира, передаваемых им сетчатке глаза.
IV. Все материальные тела притягивают эфирную среду, вследствие чего она накопляется в их веществе и на
малом расстоянии вокруг них, где имеет большую плотность; упругость же эфира при этом не меняется.
Первая из этих гипотез не отличается от пойгенсовой; но в отличие от Гюйгенса, считавшего, что свет распространяется отдельными импульсами (как бы «микровзрывами»), Юнг принимает, что свет — это непрерывный колебательный процесс, путешествующий по эфиру не отдельными пиками, а в виде плавной волны. Этой волне уже можно приписать определенную частоту (чего не скажешь об импульсе), а с частотой — связать цвет световой волны, зрительное ее восприятие.
Следует, правда, отметить, что за полвека до Юнга сходный взгляд на природу света высказал Эйлер в письме Ломоносову: «Я принимаю, что свет в эфире, подобно звуку в воздухе, рождается колебательным движением, и основываю различие цветов на различной скорости колебаний, так что цвета отличаются друг от друга так же, как высокие и низкие звуки... Отдельные частички непрозрачного тела до тех пор, пока освещаются лучами, возбуждаются к определенному колебательному движению; это движение, сообщаемое окружающей эфирной жидкости, будет производить в ней подобное же колебательное движение, а следовательно, и лучи света».
Разумеется, Юнг ничего не знал о частной переписке Эйлера. Но вот когда через пятнадцать лет французский физик Огюстен Френель занялся вопросами волновой теории света, оказалось, что он ничего не знает об опубликованных работах Юнга на ту же тему!
Казалось бы, такая неосведомленность, хотя и не в наш, а в предыдущий просвещенный век, просто поразительна. Это сегодня, при огромном количестве научных журналов и еще большем количестве публикуемых в них статей можно пропустить мимо глаз действительно стоящую статью. В тогдашние времена научные журналы были наперечет, а уж число статей по каждой узкой дисциплине было таким, что просмотреть все их и даже проштудировать не заняло бы слишком много времени. Может быть, английские научные журналы не получались во Франции, находившейся в состоянии войны с Англией почти все эти пятнадцать лет? Может быть, они получались далеко не всеми библиотеками, например, теми, к услугам которых мог прибегать дорожный инженер (да еще в непочетной отставке) Френель? А, может быть, дело в том, что тогда важнейшей еще формой научного сообщения были не столько журналы, сколько личная переписка между учеными?
Но так или иначе история науки в девятнадцатом веке знает немало примеров того, как к одним и тем же результатам приблизительно в одно и то же время приходили ученые, ничего не знавшие о работах своих, а тем более зарубежных коллег. В нашем веке, когда многие научные изыскания стали проводиться за высокими заборами, такое дублирование работ стало почти что бедой. Но оно имеет, так сказать, положительную гносеологическую сторону. Стало ясным, что мысль человека при решении не только житейских, но и сложнейших научных проблем движется по весьма сходным путям и даже в значительной мере синхронно в разных странах — достаточно напомнить лишь историю создания и совершенствования ядерного оружия или плазменных установок для получения термоядерных температур.
Френель мыслил сходно с Юнгом и, как оказалось, существенно дальше Юнга. Он развил теорию дифракции света и дал чрезвычайно полную картину явлений, обнаруживаемых в поляризованном свете, открытие которых восходит еще ко временам Гюйгенса. Френель исходит из того же упругого эфира, который принимал Юнг. Но уже после первых работ Френеля по интерференции поляризованного света Юнг указывает Френелю на одно очень неприятное обстоятельство: для объяснения этого явления приходится предположить, что световые волны поперечны, в отличие, например, от звуковых волн.
Чем неприятно это обстоятельство? А тем, что в то время уже было известно: поперечные упругие волны могут распространяться только в твердых телах. Френель обескуражен: «Эта гипотеза находилась в таком противоречии с общепринятыми представлениями о природе колебаний упругих жидкостей, что я долго не решался ее принять; и даже когда совокупность всех фактов и долгое размышление убедили меня, что эта гипотеза необходима для объяснения оптических явлений, я пытался раньше, чем представить ее на суд физиков, убедиться в том, что она не противоречит законам механики».
Законам механики она, действительно, не противоречит, но по «эфирной жидкости» наносит мощный удар. Эфир может быть только твердым телом. Казалось бы, теперь старый довод о сопротивлении эфира движению небесных тел, да и вообще всех тел в мире должен приобрести силу безапелляционного приговора и разрушить здание эфира до основания! Но в науке так не бывает. Оно вовсе не «эфирно», это здание, и не развеивается в пыль даже от лобового столкновения с неопровержимыми фактами и убийственными противоречиями.
Прежде всего факту следует доказать свою неопровержимость. Поперечность световых волн, действительно, позволяет многое в оптике легко и непринужденно объяснить, но она не дает гарантии того, что невозможны и другие объяснения, не покушающиеся на «жидкостность» эфира.
Следующее обстоятельство намного важнее: эфир входит в целостную систему взглядов тогдашней физики, по крайней мере многочисленной группы ученых, исповедующих близкодействие. Изгнание эфира означает крушение мировоззрения большой и ведущей группы исследователей — так ли легко они пойдут на это? Легче видоизменить эфир, по крайней мере в теории, чтобы попытаться приспособить его к новым фактам. Именно этим занимается физика девятнадцатого века до самого его конца. Здание эфира не разрушается, а, напротив, надстраивается, пока не становится настолько громоздким и нелепым (наподобие дома, который перестраивают все его последующие владельцы, обладающие совершенно разными вкусами), пока, наконец, оно не рушится под собственной тяжестью — достаточно лишь «толчка» Эйнштейна.
Достройку здания эфира начал сам же Френель. Мы уже видели, как вслед за Юнгом он принимает, что все среды различаются лишь плотностью, но не упругостью эфира. Тогда на границе соприкасающихся прозрачных сред, в которых распространяется свет, условия его распространения должны меняться скачком. Для поляризованного света, в котором колебания в поперечной волне происходят только в одном направлении, этот факт имеет принципиальное значение. Френель вынужден принять, что из одной среды в другую без скачка переходят только те колебания, направление которых параллельно границе, разделяющей две среды. Далее, в теории упругих сред, к компетенции которой относится и упругий светоносный эфир, волны при переходе из одной среды в другую должны создавать продольные упругие волны вдоль самой границы раздела сред. Но световые волны поперечны, значит, и в этом отношении — отсутствии граничных волн — эфир должен отличаться от обычной упругой среды.
Волновая теория света прекрасно описывала преломление света щри переходе через границу раздела двух сред, но вот с объяснением этого явления ничего путного не получалось: «нормальный» упругий эфир вел себя совсем не так, как ему полагалось бы. Эфир начали подправлять. Прежде всего французский ученый Коши ввел в эфир атомы, резонирующие на световые волны, и принял, что размеры атомов ничтожно малы по сравнению с расстояниями между ними, а сами эти расстояния намного меньше длин световых волн. В результате Коши получил формулу, очень неплохо описывающую зависимость показателя преломления света от его длины волны.
«Эфирные атомы» Коши, но уже в духе Бошковича, использовал английский физик Грин: у него эти атомы взаимодействовали с силами, зависящими от их взаимного расстояния; правда, радиус действия этих сил был ничтожно мал по сравнению с длиной световых волн. Грин, как и Френель, принял упругость эфира во всех средах одинаковой, но в отличие от Френеля ему пришлось ввести для примирения с теорией упругости как поперечные волны сдвига в эфире (это наблюдаемые световые волны), так и продольные волны сжатия и разрежения: они подобны звуковым волнам, но для объяснения их ненаблюдаемости Грин вынужден был приписать им бесконечно большую скорость распространения.
Одна беда ведет за собой другую. Бесконечная скорость волн сжатия означает, по существу, несжимаемость эфира, иными словами — бесконечно высокое его сопротивление движению в нем любых тел. Пытались предпринимать обратную попытку спасения эфира, полагая, что волны сжатия в нем не наблюдаются из-за того, что их скорость распространения равна нулю. Но и это было плохо: скорость упругих волн зависит не только от характеристик сжатия, но и от свойств эфира относительно сдвига, определяемых соответствующими модулями. Первый такой модуль для гуковой теории упругости вычислил Юнг, в честь которого этот модуль и получил свое название «модуль Юнга». Модуль сдвига эфира должен быть положителен, он соответствует не равной нулю скорости распространения поперечных световых волн. Чтобы обратить в нуль скорость продольных волн сжатия, модуль сжатия в комбинации с модулем сдвига должен стать отрицательным. Но среда с таким модулем просто неустойчива и поэтому не могла бы вообще существовать.
Еще одна изумительная по своей оригинальности попытка построить теорию упругого светоносного эфира, свободную от противоречий, была предпринята англичанином Мак-Келлогом. Он принял, что единственный процесс, который происходит в эфире при распространении по нему световых волн, это не сдвиг, не сжатия и разрежения, а вращение отдельных его упругих элементов. Однако теория Мак-Келлога, несмотря на то что она позволила получить френелевы формулы для преломления поляризованного света и, как выяснилось впоследствии, предвосхитила даже знаменитые уравнения Максвелла для электромагнитного поля, все же разделила участь многих слишком оригинальных и необычных теорий — она не встретила признания современников.
Согласитесь, что если элементами эфира считать материальные точки в духе воззрений Мак-Келлога, то рассчитывать на понимание вращения этих точек вокруг своих «осей» не приходится. Когда век спустя родилось представление о вращающемся, «спиннирующем» электроне, то понятию о спине могла бы быть уготована подобная участь, если бы только за прошедший век физики не поумнели настолько, что не стали вкладывать в него наглядный механистический смысл действительного вращения. И не вкладывают этот смысл по сей день, хотя в конечном счете не понимают, что такое спин «на самом деле»!
А то, что Мак-Келлог предвосхитил Максвелла, так эту честь с ним вполне могут разделить и великие немецкие математики Гнусе и Риман, которые пришли к тем же предвосхищениям, исходя не более не менее как из математического аппарата теории дальнодействия! Не раз бывало, как крупная теория выдает значительно больше того, что в нее заложено, а порою ее результаты выходят и вовсе за рамки той системы понятий, на которой основывается теория, выходят в новое измерение. Но вот понять эти «выдающиеся» результаты для самой же теории оказывается так же трудно, как нам, привыкшим к существованию в трехмерном мире, выпрыгнуть в четвертое измерение. Это — высокая и вместе с тем оптимистическая трагедия теории. Оптимистическая потому, что неудачи и натяжки старой теории в обращении с ее же собственными выводами в конце концов вызывают к жизни принципиально новые представления. Так случилось, например, с квантами, выросшими из рамок классической теории электромагнитного излучения.
Тем временем на эфир надвинулась другая группа вопросов, связанных с развитием оптики. Для своего объяснения они потребовали рассмотреть проблему эфира в отношении уже не распространения через него световых волн, а движения эфира в целом или отдельных его частей. Это — вопросы о влиянии на наблюдаемые оптические явления движений испускающих свет тел или же приемников света, иными словами — вопросы о взаимодействии материальных тел и эфира.
Все началось с открытия английским астрономом Брэдли аберрации света. Брэдли установил телескоп вертикально и стал наблюдать в него одну из ярких звезд. Спустя уже две недели он увидел необычайное: звезда, коей полагалось быть неподвижной, как и всем прочим звездам, немного сместилась на небосводе к югу. Затем она дошла до крайнего положения на юге, повернула к северу, дошла и там до крайнего положения, снова двинулась на юг и ровно через год после начала наблюдения вернулась на прежнее место, совершив таким образом колебательное движение с размахом в целые 40 угловых секунд. Брэдли определял параллакс звезды, т. е. ее угловые размеры, по положениям звезды, видимым из противоположных точек земной орбиты при движении Земли вокруг Солнца. При таком движении Земли звезда, конечно, должна была перемещаться на небосводе, даже будучи «неподвижной», и Брэдли хорошо это понимал. Но почему звезда перемещалась по такой хитроумной траектории?
После некоторых размышлений Брэдли сообразил, что дело заключено в конечной скорости света. В результате сложения векторов скорости света и скорости движения Земли результирующий вектор скорости (т. е. направление на звезду) должен «смотреть» в сторону, несколько отличную от той, что получалась бы, «стой» Земля на орбите. Для иллюстрации этого заключения часто приводят пример с вагонным окном: вертикально падающие капли дождя прочерчивают косые штрихи на стеклах движущегося вагона; или другой житейский пример: идущий под дождем пешеход наклоняет зонтик в сторону своего движения.
Считая свет потоком частиц-корпускул (как бы «звездным дождем»), зная угол, на который нужно довернуть телескоп, чтобы звезда «стояла на месте» (угол аберрации), и скорость движения Земли по орбите, можно определить скорость света. Брэдли это и сделал и нашел для скорости света величину около 300 000 километров в секунду, что неплохо согласовалось с величиной, определенной за полвека до него Олафом Ремером путем изучения затмений спутников Юпитера.
Теперь же, в девятнадцатом веке, объяснить аберрацию света предстояло волновой теории. В корпускулярной теории получается все очень непринужденно: скорость света просто не зависит от движения его наблюдателя. В волновой теории тоже можно принять, что распространение света в эфире не зависит от движения погруженных в него тел, т. е. что эфир неподвижен. Тогда получается еще одно удивительное свойство эфира. Даже если оставить в стороне уязвляющие трудности со сверхтвердым эфиром и считать его, как и ранее, просто упругой жидкостью, то и жидкостью эфир получается необычайной: тела сквозь него движутся, а он остается в покое!
Такого быть не может, заявил английский физик Габриэль Стокс. Эфир, прилегающий к Земле, должен целиком двигаться вместе с ней, эфирное облако вокруг Земли должно полностью увлекаться ею при своем движении по орбите. Но вот отдельные слои этого облака движутся с разной скоростью: чем дальше от Земли слой, тем меньше его скорость, так что за движущейся Землей образуется как бы эфирный хвост. Словно некий эфирный ветер обдувает Землю и относит эфирное облако. В результате получается нечто подобное тому, как происходит преломление света в представлении ученого патера семнадцатого века Меньяна: солдаты идут широким фронтом по лугу, и вдруг на пути части их встречается труднопроходимая пашня; скорость этой группы солдат сразу уменьшается, и фронт солдат начинает заворачивать в сторону пашни. Так и у Стокса: благодаря уменьшению скорости света в более плотных эфирных слоях, прилегающих к Земле, волновой фронт света от звезды поворачивается, что и объясняет наблюдаемую аберрацию.
Френель в своей работе о влиянии движения Земли на оптические явления принял третью, последнюю возможность: эфир увлекается движущимися в нем телами, но лишь частично. Так, например, увлекается более плотный эфир в линзе телескопа при его движении вместе с Землей. Стало быть, коэффициент увлечения эфира зави-
сит от плотности эфира, которая согласно Юнгу или Френелю определяет коэффициент преломления прозрачных для света сред. Стокс, в свою очередь, никак не мог понять, почему эфир в линзе телескопа должен быть более плотен, чем в окружающем пространстве, и упрекал Френеля за эту «туманную» гипотезу. Стокс основывался, вводя свой «разноскоростной» эфир, на аналогии с движением тел в жидкостях (изучению которого он отдал много лет): чем дальше от тела, тем меньшее возмущение вносит это движение в состояние жидкости, а вдали от тела жидкость уже практически неподвижна.
Но гипотеза Френеля была подтверджена уже не аналогией с опытом, а прямым опытом. Французский физик Арман Физо в 1851 году, измерив скорость распространения света в движущихся потоках воды, с помощью тонкого опыта по интерференции световых пучков доказал правильность полученной Френелем формулы для коэффициента частичного увлечения эфира. Вместе с тем, казалось бы, зависимость коэффициента увлечения от показателя преломления света должна была бы одна влиять на звездную аберрацию: например, налив в трубу телескопа воду, можно было бы существенно увеличить угол аберрации. Однако экспериментально было доказано, что показатель преломления линз не влияет на измеренную аберрацию.
Трудности, противоречия... Но эпопея эфира еще далеко не окончилась. Спустя полвека после появления гипотезы Стокса о полном увлечении эфира голландский физик Лоренц доказал ее несостоятельность. С другой стороны, пытаясь как-то объяснить аберрацию в случае частично увлекаемого эфира, немецкий ученый Планк принял, что эфир все-таки сжимаем, но тогда пришлось пожертвовать малой его плотностью: эфир вблизи Земли должен был стать в десятки тысяч раз плотнее, чем в межзвездном пространстве, хотя скорость света и здесь и там была одинакова.
Особенно много попыток построить непротиворечивую механическую теорию упругого эфира предпринял английский физик Уильям Томсон. Например, стараясь примирить свойства эфира как переносчика световых волн и как среды, оказывающей сопротивление движению небесных тел, он приводил аналогию эфира со смолой. Смола течет при медленных движениях (это — для объяснения отсутствия сопротивления эфира движению планет), но можно из смолы сделать камертон, и он будет звучать, т. е. для быстрых колебаний будет вести себя как твердое тело (это — для объяснения распространения в эфире поперечных световых волн). Но на одних аналогиях далеко не уехать, а количественно все эти объяснения не проходили.
Механическая теория упругого светоносного эфира зашла в тупик. Работы Лоренца и Планка — последние отчаянные попытки выбраться из этого тупика в годы, когда уже была создана теория электромагнитного поля! А Лоренца и Планка никак не назовешь ретроградами: один из них вплотную подошел к теории относительности, а другой ввел в физику кванты!
Вот еще одно примечательное высказывание: «Изобретали эфир для планет, в котором они могли бы плавать, эфиры для образования электрических атмосфер и магнитных истечений, для передачи ощущений от одной части нашего тела к другой и т. д., пока все пространство не было наполнено тремя или четырьмя эфирами... Только один эфир пережил остальные, это — эфир, придуманный Гюйгенсом для объяснения распространения света». Эти слова сказал Максвелл — великий творец электромагнитной теории, теории первого физического поля, которая спустя сорок лет поставила крест и на атом последнем уцелевшем эфире.
Вот она, инерция мышления! Как* часто ученый не понимает подлинного значения своих открытий, которое становится столь ясным его потомкам. А может быть, не умри Максвелл таким молодым, и он смог бы в полной мере вырваться из эфирного плена на просторы поля, смог бы вкусить подлинно глубокое и вместе с тем такое скромное в своих внешних проявлениях понимание этой значимости своего открытия, которое было так счастливо дано Ньютону и Эйнштейну.
Но чтобы Максвелл смог сказать эти слова, в физике должны были еще появиться эфиры для «электрических атмосфер и магнитных истечений» и физика должна была еще избавиться от них. Это — огромная по своей значимости глава в ее развитии.
ЭФИР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Время действия: XVII — XIX века. Действующие лица: Гильберт, Ньютон, Эйлер, Франклин, Вольта, Эрстед, Фарадей, Максвелл и другие ученые.
История исследований электрических и магнитных явлений намного обширнее и разностороннее истории механики. Мир электричества и магнетизма гораздо сложнее и богаче мира простых механических перемещений, открытого взорам людей с незапамятных времен. Еще в глубокой древности людям были известны элементарные электрические и магнитные явления преимущественно механического характера — притяжение натертым янтарем шерстинок и кусочков тканей, притяжение и отталкивание намагниченных предметов. Воображение древних людей несомненно поражали электрические явления в атмосфере — молнии, светящиеся шары на верхушках корабельных мачт. Магнитные явления уже тогда нашли даже первые практические применения: мореплаватели использовали магнитный компас. Современное поклонение «богу электричества» имеет весьма древние истоки: у многих народов еще на заре развития цивилизации в пантеоне фигурировали могущественные боги молний.
Известные явления электричества были чрезвычайно немногочисленны, а видимость их — весьма разнообразна. Конечно, это не давало возможности создать единые представления о них. Молнии и огни святого Эльма, как был назван в средние века коронный разряд на заостренных предметах, относились по ведомству огненной стихии, что не позволяло разделить «холодный» и «горячий» огонь. А мир магнетизма являлся наблюдателям и того беднее.
Останавливаться на истории древних и средневековых суеверий в отношении этих явлений — довольно малоинтересное занятие для читателя, и поэтому мы открываем занавес следующего акта драмы идей под звуки колоколов, возвещающих наступление нового, семнадцатого столетия. В 1600 году в Англии выходит знаменитое сочинение придворного врача Уильяма Гильберта «О магните, магнитных телах и большом магните», в котором описываются результаты многочисленных экспериментов автора с магнитами. Представления, высказываемые Гильбертом о природе магнетизма, начинают свое двухвековое господство в физике.
Эти представления таковы. Электрические свойства материи можно возбудить (в те годы известен только один способ сделать это — трением тел); магнитные же свойства присущи намагниченным телами изначально. Магнитные действия бывают двух родов — отталкивание и притяжение, электрические же — только последнего рода (явлений, происходящих при электризации влиянием, Гильберт опять же еще не знает). Электрические притяжения слабее магнитных, но зато присущи всем телам, тогда как магнитные обнаруживают только избранные носители магнетизма. Наконец, электрические силы не вечны, например, их можно уничтожить, увлажнив притягивающиеся тела. Уничтожить же магнитные силы невозможно (Гильберт не нагревал магниты до довольно высокой температуры, при которой магнетизм резко ослабляется).
Что можно заключить из этих наблюдений? Сразу же бросается в глаза чрезвычайно сильное различие электричества и магнетизма. Гильберт открывает полюса на намагниченных телах и осуществляет опыты с разрезанием магнитов, благодаря чему первым убеждается в замечательном факте нерасторжимости магнитных полюсов. Это лишний раз убеждает его в том, что магнетизм, подобно тяжести, есть некая изначальная сила, истекающая из тел, тогда как электрическую силу можно «выжать» из пор в телах, где она находится, путем трения. Гильберт неоднократно подчеркивал совершенно различную природу электричества и магнетизма. В результате вплоть до работ Ампера и Фарадея электрические и магнитные явления изучались совершенно изолированно друг от друга. Лишь век назад благодаря Максвеллу осуществился их полный и окончательный синтез, зафиксированный в понятии электромагнетизма.
Немногочисленные высказывания по поводу электрических и магнитных явлений мы находим затем у Ньютона. И здесь он верен себе: «Хорошо известно, что тела действуют друг на друга при помощи притяжений тяготения, магнетизма и электричества; эти примеры показывают тенденцию и ход природы и делают вероятным существование других притягательных сил, кроме этих. Ибо природа весьма согласна и подобна себе самой... Я не разбираю здесь, каким образом эти притяжения могут осуществляться... Ибо мы должны по явлениям природы изучить, какие тела притягиваются и каковы законы и свойства притяжения, прежде чем исследовать причину, благодаря которой притяжение происходит. Притяжения тяготения, магнетизма и электричества простираются на весьма заметные расстояния и, таким образом, наблюдались просто глазами, но могут существовать и другие притяжения, простирающиеся на столь малые расстояния, которые до сих пор ускользают от наблюдения, и, может быть, электрическое притяжение распространяется на такие малые расстояния и без возбуждения трением».
Мало фактов, чтобы строить гипотезы о природе электрического притяжения! И вместе с тем какая прозорливая гипотеза о силах с малым радиусом действия между мельчайшими частицами вещества, которую Ньютон основывает на явлениях сцепления частиц в телах, на растворении, смачиваемости, на ряде известных химических явлений. Нет, все-таки, несмотря на знаменитое «гипотез не измышляю», Ньютон — великий мастер построения гипотез, многие из которых на целые века опередили современную ему науку!
Тем временем дело движется дальше. Отто Герике изобретает электростатическую машину, которая позволила «механизировать» способ электризации трением и создавать на электризуемых телах столь высокие потенциалы, что в самом конце семнадцатого века с ее помощью уже удается получать первые маленькие искусственные молнии. Проходит еще несколько лет, и англичанин Сте-фен Грей устанавливает существование двух классов тел, один из которых — «истинно электрические» — удается электризовать трением, а другой — нет. Тела этого последнего класса вскоре получают с легкой руки ученого богослова Дезагюлье наименование проводников электричества. Исследования Грея вдохновили француза Дюфэ на замечательные опыты, в которых он открыл существование двух родов электричества и с помощью изобретенного им электроскопа установил, что однородные электричества отталкиваются, а притягиваются только разнородные. Но открытие Дюфэ было забыто, — к счастью, ненадолго — и через двадцать лет снова воскресло в трудах Саймера.
Затем Клейст в Германии и Мушенбрек в Голландии открывают «лейденскую банку» — первый электрический конденсатор, и в изучении электричества начинается веселая пора. Люди, несмотря на предупреждение Мушен-брека об опасности опытов с «лейденской банкой», составляют цепочки, взявшись за руки и «законтачивая» конденсаторы. Они испытывают при этом в лучшем случае отлично возбуждающие электрические удары, а в худшем случае разделяют участь мучеников науки, хотя такое мученичество иногда благотворно влияет на развитие науки. Героическая гибель Рихмана при исследованиях грозовых разрядов не только потрясла его коллег, но и вызвала подлинную вспышку вдохновения и желания продолжить своими силами дело, прерванное смертью ученого. Именно под впечатлением известия о гибели Рихмана чехословацкий ученый Дивиш на следующий год устроил первый в истории молниеотвод.
Наконец, появился «электрический эфир». Его ввел в физику американец Бенджамен Франклин, и по этой причине Франклина можно было бы назвать «Декартом электричества» по аналогии с титулом «Ньютон электричества», которым Максвелл век спустя наградил Ампера. И в самом деле, куда исчезло давление авторитета Ньютона и его метода, когда дело дошло до изучения электрических явлений?
Франклин утверждает, что во всех телах существует универсальная электрическая жидкость, которая, однако, не наблюдается в нормальном состоянии тел. Тело, получившее, например, в результате трения или просто соприкосновения с другим телом избыток электрической жидкости, оказывается наэлектризованным положительно, а потерявшее часть этой жидкости — наэлектризованным отрицательно. Общее же количество этой жидкости во всех телах остается неизменным.
Вот от какой поры идет курьезное недоразумение в физике по поводу того, что избыток электрической жидкости считается положительным зарядом, тогда как на самом деле это избыток электронов, которым приписывается отрицательный заряд, вся эта бесконечная путаница с плюсами и минусами, с направлением электрического тока. И сами слова «электрический ток» тоже являются пережитком поры электрической жидкости!
Но Франклин со своим электрическим эфиром вводит в физику и новый бесконечно важный закон — закон сохранения количества электричества. О зарядах в то время еще нет речи; они появятся, когда в учении об электричестве вновь возобладает ньютонов подход, модифицированный Бошковичем. Ведь заряды — это, по существу, «электрические массы», центры сил электрического взаимодействия.
Развитие ньютонова подхода началось в России академиком Францем Эпинусом. Удивительно, но Эпинус начал разработку своей теории с представлений Франклина об электрической жидкости. Вместе с нею он ввел и магнитную жидкость. Это не случайно. Еще за полвека до работ Ампера Эпинус был убежден в существовании глубокой аналогии электрических и магнитных явлений. Но затем Эпинус радикально отходит от Франклина: он «ато-мизирует» свои жидкости и принимает, что между «атомами» каждой из них возможно существование взаимодействий. Так он переходит на позиции метода Ньютона и аргументирует свой переход прямой ссылкой на великий авторитет. Это акт большого мужества: в те годы в Петербургской академии наук отношение к ньютонову методу было более чем прохладным.
Но Эпинус все дсе стоит ближе к самому Ньютону, чем к его последователям, возведшим в догмат действие на расстоянии посредством нематериальных сил, монад и прочих духов. Отводя от себя критику российских коллег, Эпинус пишет: «Я заявляю, что я вполне убежден в существовании сил притяжения и отталкивания; однако я отнюдь но считаю их, как поступают некоторые неосторожные последователи великого Ньютона, силами, внутренне присущими телам, и я не одобряю учение, которое постулирует действие на расстоянии... Мой взгляд сводится к тому, что притяжения и отталкивания, о которых я говорил, я считаю явлениями, причина которых еще скрыта, однако от них зависят и берут начало другие явления... Существует некая жидкость, производящая все электрические явления и вследствие этого названная электрическою, тончайшая, весьма эластичная, части которой даже на значительных расстояниях отталкивают друг друга». Аналогичные взгляды Эпинус высказывает и на «атомное» строение магнитной жидкости, и на силы, действующие между ее частицами.
Работа Эпинуса была, без сомнения, хорошо известна в Европе, она заслужила высокую оценку таких крупных ученых, как Лаплас и Лежандр, но все же не смогла поколебать учения Франклина. Только полтора века спустя, уже после открытия «атома электричества» — электрона — Уильям Томсон воздал должное этой работе в статье под символическим заголовком «Эпинус атомизированный».
Но во времена Эпинуса «атомам электричества» еще не было места в физике. Странно, казалось бы: атомизм на устах у многих выдающихся ученых, авторитет Ньютона чрезвычайно высок, идеи Бошковича почти что носятся в воздухе. А вместе с тем действительный расцвет атомизма наступит только век спустя, и толчок ему даст не физика, а химия! Почему же ни Эпинус, ни Бошкович не получили признания у современников?
Видимо, причина одна и та же: их атомы не были материальными объектами в понимании физиков того времени. У Бошковича они не обладали размерами, а у Эпинуса — сверх того и массой (ведь электрический эфир невесом). Абстракция материальной точки уже была введена в механику Эйлером, но и она воспринималась не более чем удобный вычислительный прием.
Такова судьба многих важнейших физических понятий: абстракции чрезвычайно глубокие, они требуют порой значительного времени для превращения в головах ученых в почти что самоочевидные представления. Существующая система понятий обычно обладает очень малой «эластичностью», чтобы так вот просто впустить еще одно новое понятие. Можно сказать, что равномерное движение науки, а именно в таком движении наука находится подавляющую часть времени, обладает весьма большой инерцией, и требуется уж очень мощная сила нового понятия, чтобы войти в науку, сообщить ей большую скорость движения.
И нередко такая сила зависит от множества объективных и субъективных факторов. Каков авторитет в научном мире автора нового понятия? В сколь известном и уважаемом журнале напечатана его работа? Кто первым из законодателей науки — ученых с наивысшим авторитетом — прочитал работу и как он к ней отнесся?
Каким языком написана работа? Язык этот, даже если новое понятие не один день вызревало в голове его творца, зачастую весьма сложен, туманен, косен. Хватит ли терпения у законодателей прочитать работу, вникнуть во все загадочные зигзаги мысли автора или же работу они отбросят с досадой, да еще при случае дадут ей нелестную характеристику? Хорошая слава лежит, а дурная бежит. Вот и рядовые ученые, не утруждая себя, начинают равняться на законодателей.
И этого может оказаться достаточным для создания устойчивой научной атмосферы вокруг открытия. Теперь уже прорвать эту атмосферу недоверия становится подчас необычайно трудно. И все — открытие закрыто. Пройдет столько-то лет, к тому же открытию придет другой ученый: идеи ведь носятся в воздухе. Но теперь условия окажутся более благоприятными, идея будет воспринята, получит признание новый ее автор. А что достанется неудачливому первому ее творцу — запоздалое признание потомков и горькое разочарование в современниках? Часто бывает и так. За драмой идей всегда стоит драма людей!
Наука — дело человеческое. Вот почему не следует забывать, что понятия, составляющие сегодня мирный фундамент науки, когда-то были ареной жесточайших сражений, и понадобились порой столетия, чтобы там все утряслось. Да и этот фундаментальный покой только кажущийся. После веков тишины вдруг придет какой-нибудь скромный служащий патентного бюро и встряхнет все здание науки до самого основания!
Так что не стоит удивляться, что теория Эпинуса не была принята его современниками. Ему удалось объяснить и предсказать целый ряд важных электрических и магнитных явлений, даже установить и рассчитать форму магнитных силовых линий, образуемых железными опилками вблизи магнита. Но вот до «закона Ньютона для электричества», иными словами — закона обратной пропорциональности квадрату расстояния для электрической силы, Эпинус не дошел. Полагая, что во всех телах электрическая жидкость равномерно распределена по объему, он не смог объяснить, почему пробковые шарики не испытывают воздействия со стороны электрически заряженного сосуда, будучи помещены внутрь него. Дойди он до закона обратной пропорциональности электрических сил квадрату расстояния, это объяснение появилось бы «автоматически».
А между тем этот закон уже висел в воздухе. В 1771 году английский ученый Генри Кэвендиш спустил закон Ньютона на землю и доказал универсальность закона тяготения, установив, что он один и тот же и для небесных, и для земных тел. Вследствие научных чудачеств Кэвендиша (он не публиковал своих научных работ) этот результат пребывал в неизвестности целый век, пока его не извлек на свет из архивной пыли Максвелл.
Более того, тем же методом, что и для проверки закона Ньютона, Кэвендиш исследовал закон взаимодействия электрически заряженных тел и получил с хорошей точностью закон обратных квадратов. Но и этот результат пролежал втуне целый век, а честь его открытия приписывается Шарлю Кулону, который, конечно, не имел ни малейшего представления о работе Кэвендиша. Стоит упомянуть, что Кулон установил этот закон, решая конкурсную задачу Парижской академии на лучшую конструкцию корабельного компаса! Что это — случайная находка «по дороге»? Видимо, нет: аналогия между простейшими проявлениями электрических и магнитных сил уже отчетливо сознавалась современниками Кулона. Оставалось сделать только один шаг от аналогии к взаимосвязи этих сил.
Такой шаг стал возможен благодаря открытию в конце восемнадцатого века электрического тока в работах Луиджи Гальвани и Алессандро Вольта. По иронии судьбы Гальвани был не физиком, а медиком. Именно поэтому он не понял сути своего открытия. В те годы к курьезам электрическим прибавились и курьезы магнитные. Ловкий врач Месмер увеличил количество бытовавших эфиров еще на один, названный им «животным магнетизмом», и устраивал знаменитые сеансы лечения этим флюидом. Прожив во Франции десяток лет и сколотив солидное состояние, он уехал. После его отъезда специальная ученая комиссия заявила, что плоды месмерова лечения — лишь плоды воображения больных. (Многие врачи и по сей день используют этот могущественный метод обращения к больному воображению!) Все же вера в месмеризм не исчезла даже в ученом мире. Вот и Гальвани полагал, что он открыл «животное электричество», благо открытию послужила лягушечья лапка. Вольта был физиком и быстро разобрался в правильной причине явления. В ожесточенном
споре между Гальвани и Вольта победил Вольта, причем его победа вопреки традиции была признана довольно быстро.
Ровно через тридцать лет открытие Гальвани привело к открытию Гансом Эрстедом магнитного действия электрического тока на компасную стрелку. Это открытие произвело впечатление разорвавшейся бомбы. А между тем Эрстед даже не был первооткрывателем: еще в 1802 году итальянцы Можон и Романьози, экспериментируя с изобретенной незадолго до того электрической батареей — вольтовым столбом, обнаружили отклонение магнитной стрелки и намагничивание стальных игл под действием электрического тока. Эти наблюдения были совершенно случайными, и статьи, содержавшие бессистемные описания наблюдений, естественно, не вызвали никакого научного резонанса. Но, разумеется, узнав об открытии Эрстеда, оба указанных научных мужа поспешили обвинить его в плагиате.
Сколько раз бывало такое и сколько раз еще будет! Сколько раз еще достанется Иванушке-дурачку от его старших братьев за пойманное перо жар-птицы, а сказка кончится по справедливости, поскольку Иванушка совсем не дурачок, а в дураках останутся те, кому это от природы положено! «Сказка» с открытием Эрстеда тоже имела счастливый конец. И не только для него одного, для всей науки в целом. Ибо он первым поймал действительно сверкающее «перо» электромагнетизма.
Две недели лихорадочно проводил Эрстед свои опыты. И две недели такого же труда спустя год понадобились Андре-Мари Амперу, чтобы проверить это открытие, поставить новые более глубокие опыты и дать первый набросок великолепной теории этого явления. Бывают и у науки свои звездные часы, когда рассеянная, дремлющая в повседневной рутине ее энергия внезапно концентрируется на одном или нескольких ученых и в считанные дни резко толкает вперед всю науку!
Если сказать коротко, то Ампер открыл закон взаимодействия электрических токов и доказал, что этот закон совпадает с известными законами взаимодействия магнитов. Как и закон Кулона, но гораздо более серьезно, это открытие порывало с электрическими жидкостями и возрождало ньютонову концепцию взаимодействия. Однако уже на значительно более высоком, немеханическом уровне. Конечно, и работы Ампера подверглись резкой критике, как все принципиально новое, но даже критикам было ясно, что в физику вторгается нечто до той поры неведомое — то, что впоследствии получило название электромагнитного поля.
Ампер совершенно отчетливо представлял, что он открыл. Критики говорили ему: «Помилуйте, какое же это открытие? Если каждый из двух проводов в вашем опыте действует на магнитную стрелку, то ясно, что через нее они действуют и друг на друга!». «Ничего подобного, — отвечал им Ампер, — я убираю стрелку компаса, а взаимодействие токов в проводниках остается. Не я повторяю опыт Эрстеда, а, напротив, открытие Эрстеда является частным случаем моего открытия». Критики не унимались: закон Ампера есть просто разновидность закона Кулона для заряженных электричеством проводников. Амперу пришлось разъяснить и эту, такую тривиальную ошибку, в которую впали его оппоненты: одноименно заряженные тела отталкиваются, в то время как проводники с одинаковым направлением тока в них притягиваются!
И чтобы покончить с путаницей в этом вопросе, Ампер четко разграничивает два круга явлений. В случае наэлектризованных непроводящих тел, говорит он, мы имеем дело со статическим, неподвижным электричеством, с электростатикой. В случае же проводников с током мы имеем дело с движущимся, динамическим электричеством, с электродинамикой. Общее между ними только одно: и то и это — проявления электричества.
Спустя два года Ампер завершает построение теории взаимодействия токов, начатое по горячим следам открытия Эрстеда. В конечном итоге она приводит к одной, но зато важнейшей формуле электромагнетизма, которая вот уже полтора века лежит в основе всех электротехнических расчетов. Наивысшую похвалу работам Ампера воздал Максвелл — великий его последователь: «Исследования
Ампера, в которых он установил законы механического взаимодействия электрических токов, принадлежат к числу самых блестящих работ, которые были проведены когда-либо в науке. Теория и опыт как будто в полной силе и законченности вылились сразу из головы «Ньютона электричества». Впоследствии такая же божественная законченность поразит физиков и в теории самого Максвелла.
Эрстед и Ампер открыли магнитные действия электрического тока. А спустя десять лет Майкл Фарадей достроил мост электромагнетизма с другого конца. После многолетних целенаправленных исследований, вдохновленных работами Ампера и его сподвижника Франсуа Араго, Фарадей смог обнаружить электрическое действие магнита, электромагнитную индукцию — возникновение тока в проводниках при их движении вблизи магнитов как естественных, так и искусственных (катушек с током — электромагнитов, открытых незадолго до того).
Фарадей назвал эти виды индукции тока соответственно магнито-электрической и вольта-электрической индукциями. Первоначально уверенности в тождественности обеих индукций у него не было. Но вместе с тем обе эти индукции в одном существенном отношении отличались от индукции электростатической — наведения заряда на нейтральном теле при поднесении к нему заряженного тела. Новые индукции были чрезвычайно кратковременными, вот почему их не удалось сразу обнаружить. Один из предшественников Фарадея вдвигал магнит в проволочную катушку, а затем уходил в соседнюю комнату посмотреть на соединенный с нею гальванометр. Разумеется, он уже не «заставал» явления.
Кратковременность явления индукции поразила и Фарадея. По-видимому, рассуждал он, материя в проводнике приходит в некое возбужденное («электротоническое») состояние: «В электротоническом состоянии однородные частицы материи принимают правильное расположение в направлении электрического тока, навязанное им электрическими силами. Если материя неразложима, это приводит по освобождении от электрических сил к возникновению обратного тока; в случае же разложимой материи это насильственное состояние может стать достаточным для того, чтобы заставить одну элементарную частицу оставить ту частицу, с которой она насильственно соединена, и соединиться с соседней такой же частицей, с которой она находится в более нормальных отношениях; тем самым насильственное электрическое расположение оказывается разряженным и освобожденным от электрических сил столь же эффективно, как при прекращении индукции. Но так как вольтаический ток продолжается, то электротоническое состояние моментально возобновляется и вызывает насильственное расположение составных частиц, а затем также мгновенно разряжается благодаря
переносу элементарных частиц в противоположных, но параллельных току направлениях».
Какое умственное усилие требуется, чтобы прочитать и понять это косноязычное и неуклюжее с сегодняшних позиций представление об индукционном токе! Современникам Фарадея читать эти строки было не легче. Тут и какие-то насильственные и нормальные состояния, и переходы составных частиц из одного состояния в другое, а затем назад, и некие встречные движения частиц, в результате которых восстанавливается исходное состояние проводника. Но за этими зигзагами еще неотчетливого понимания механизма электромагнитной индукции угадывается главное: движение частиц электрической материи под действием электрических сил.
И сразу возникает вопрос о том, что же такое электрический ток. Фарадей вначале чрезвычайно осторожен: «Под током я разумею нечто распространяющееся, будь то электрический флюид или два движущихся в противоположных направлениях флюида, или только колебания, или, выражаясь более обще, распространяющиеся силы». Что-то определенно движется, распространяется, но что именно — неизвестно.
Фарадей не примыкает ни к картезианцам (электрический флюид), ни к ньютонианцам (распространяющиеся силы). Он вообще отличается самостоятельным складом ума. Но все равно выбор между близкодействием и даль-недействием делать надо. Поэтому после открытия электромагнитной индукции Фарадей видит первейшую задачу в том, чтобы экспериментально изучить природу электрического тока. На каких веществах? Прежде всего на тех, в которых прохождение электрического тока вызывает существенные, а главное не кратковременные, но необратимые явления, — на электролитах, веществах, разлагающихся под действием тока. И Фарадей в своих работах первым открывает важнейшие закономерности электролиза и электролитической проводимости.
Для нас важнее другое: смутные идеи о встречных движениях частиц при «электротоническом» состоянии в этих работах получают определенное материальное подтверждение во встречных движениях ионов при прохождении тока через электролиты. Но Фарадей, подойдя столь близко к представлению о «молекуле электричества», все же йе делает последнего шага. Вывод из работ Фарадея по электролизу о дискретном строении электричества был сделан лишь много лет спустя Максвеллом и Гельмгольцем. Но именно работы Фарадея явились первым звеном в той цепи, которая привела к представлению об «атомарности» электрического заряда, а затем к открытию первого носителя такого заряда — электрона.
А Фарадей тем временем возвращается к углубленному изучению электрической индукции. Эти исследования заставляют его все теснее примыкать к сторонникам близ-кодействия. Изучение поведения диэлектриков, их поляризации при индукции приводит Фарадея к убеждению, что все наблюдаемые им явления коренятся во внутреннем состоянии диэлектриков и проводников. Устанавливается связь электричества с силами химического сцепления, с теплотой, с кристаллизацией. Затем Фарадей начинает исследования по магнетизму, открывает влияние магнетизма на свет — магнитное вращение плоскости поляризации света.
Среда, в которой происходят электрические и магнитные явления, обнаруживает все более разнообразные и удивительные свойства. Исследования экстратоков при размыкании индукционной катушки, затем открытие оптического действия магнетизма все определеннее подводят Фарадея к убеждению о роли среды не только в самих заряженных или намагниченных телах, но и в пространстве, окружающем эти тела: «Возможно и даже вероятно, что магнитное действие передается на расстояние через посредство промежуточных частиц».
Как осуществляется это воздействие? Через магнитные силовые линии, существующие столь же реально, как и электрические силовые линии, утверждает Фарадей. Это линии, по которым как бы переносятся силы магнитного и электрического действия. Силовые линии реально существуют в среде, а центры соответствующих сил — это наэлектризованные и намагниченные тела или составляющие их частицы. Удивительный сплав идей картезианцев и ньютонианцев! С одной стороны, эфирные электрические и магнитные флюиды, с другой — действие сил на расстоянии между телами посредством силовых линий. С одной стороны, поразительно обогащенный открытиями Фарадея электромагнитный эфир, с другой — неизмеримо усложненные в своих проявлениях теми же открытиями атомы Бошковича!
«Принимая магнит за центр силы, окруженный силовыми линиями ... она (гипотеза Фарадея. — В. Р.) рассматривает эти линии как физические линии сил, существенно необходимые как для существования силы внутри магнита, так и для передачи ее магнитным телам на расстоянии. Сторонники теории эфира могут рассматривать эти линии как токи или распространяющиеся вибрации, или стационарные колебания, или же, наконец, как состояния напряжения. По многим соображениям их необходимо считать существующими вокруг провода, несущего электрический ток, как и в том случае, когда они исходят из магнитного полюса». И еще: «Обыкновенная (электростатическая. — В. Р.) индукция сама представляет действие смежных частиц, и электрическое действие на расстояние (т. е. обыкновенное индуктивное действие) происходит не иначе, как через посредство промежуточного вещества... Слово «смежный», пожалуй, не является наилучшим... поскольку частицы не касаются друг друга... Под смежными частицами я понимаю те, которые являются ближайшими».
Итак, это очень похоже на эфир, но эфир атомизиро-ванный, с передачей взаимодействия через его частицы по магнитным или электрическим силовым линиям. Вместе с тем атомы эфира мало похожи на твердые непроницаемые атомы предшественников Фарадея. Вот в чем причина нелюбви Фарадея вообще к слову «атом»: «При таком взгляде на материю, который мы здесь развиваем, материя и атомы материи должны быть взаимно проницаемы... Материя не просто проницаема, но каждый атом простирается, так сказать, на всю солнечную систему, сохраняя, однако, свой центр сил». Поразительная ересь, с точки зрения современной Фарадею физики, признающей уже атомы, но вместе с тем утверждающей их неизменность и инертность!
Реальное существование силовых линий, по мнению Фарадея, позволяет использовать их для объяснения процесса распространения света. На какие выводы наталкивает Фарадея эта возможность, можно отчетливо понять из следующих его высказываний: «Не представляется ли возможным, чтобы те колебания, которыми... объясняются излучение и его явления, происходили в силовых линиях, связывающих друг с другом частицы, а стало быть, и материальные массы? Если допустить такую возможность, то можно было бы обойтись без эфира, который согласно другой точке зрения является той средой, в которой совершаются эти колебания... Точка зрения, которую я имею смелость предложить, рассматривает, таким образом, излучение как колебания высокого порядка в силовых линиях, которые, как известно, соединяют друг с другом частицы и тем самым материальные массы. Эта точка зрения стремится устранить эфир, но не колебания».
Удивительный «выпрыг» мысли из той колыбели, в которой она зародилась! Начать с электрических и магнитных жидкостей, бесконечно углубить знание о них, ато-мизировать их, а затем выплеснуть важнейший представитель их класса — светоносный эфир, а с ним заведомо и другие флюиды. Начать с силовых линий магнитного поля, известных еще картезианцам, необозримо расширить сферу их действия, развить единое представление о них совокупно с силовыми линиями электричества и тяготения, и сделать силовую линию символом веры и, более того, провозвестницей поля!
И, наконец, достижения физиков середины девятнадцатого века, приведшие к установлению закона сохранения энергии, наряду с давно уже известным законом сохранения импульса объединяются в представлении Фарадея в некий единый закон «сохранения силы взаимодействия». Но раз это так, раз сила столь же неуничтожима и несоздаваема, как и материя, значит она существует постоянно. Если считать, что два тела начинают взаимодействовать лишь благодаря обоюдному их присутствию, а каждое из них порознь лишено «задатков» взаимодействия, то это равносильно двойному созданию силы — силы действия и силы противодействия. Если же взаимодействующие тела «разъединить», то утрата их взаимодействия равносильна уничтожению этой силы. Для Фарадея это ни с чем не сообразно.
Способность (потенция) взаимодействия тел существует при них всегда, но проявляется лишь тогда, когда появляется другое тело. «Действие всегда существует вокруг Солнца и во всем бесконечном пространстве, независимо от того, имеются ли там вторичные тела, на которые действует тяготение, или нет; и не только вокруг Солнца, но и вокруг любой существующей частицы материи. При этом постоянное состояние необходимости действия в пространстве имеется и тогда, когда Земли нет на ее месте (по отношению к Солнцу); это существующее заранее состояние имеет результатом притягательное действие, когда Земля там находится».
Никаких надматериальных сил, силы сугубо материальны. Способность к взаимодействию существует всегда, но возможность становится действительностью — силой взаимодействия, когда появляется партнер по взаимодействию. Взаимодействие осуществляется посредством силовых линий в эфире, хотя, кажется, в некоторых явлениях можно обойтись и без эфира. Таков первый набросок Фарадеем идеи о силовом поле.
Как же результаты и воззрения Фарадея были приняты его современниками? Чрезвычайно противоречиво. Почти все ученые восхищались экспериментальными работами Фарадея, хотя и ему пришлось вести долгую борьбу с непониманием и с претензиями других ученых на приоритет. Таков обычный путь крупного ученого во все времена, и для Фарадея он закончился счастливо. Сложнее обстояло дело с его силовыми линиями. Если в лице оптики физика праздновала крушение ньютоновой корпускулярной концепции и возрождение эфира в волновой теории света, то в учении об электричестве и магнетизме дело обстояло как раз наоборот. Открытия Кулона и особенно Ампера означали начало крушения электрического эфира и вновь возродили концепцию дальнодействия — теперь уже электрических зарядов и магнитных полюсов.
Фарадей был экспериментатором, не владевшим в достаточной мере математикой. Его противниками были физики-теоретики, блестяще владевшие современной им математикой, и, более того, нередко сами крупные математики. С одной стороны, они подхватывали экспериментальные открытия Фарадея и быстро давали им адекватное математическое описание, которое, по существу, подготовило теорию электромагнетизма Максвелла. С другой стороны, то, что успех такого описания достигался на основе «дально-действующих» электростатического (Кулон) и электродинамического (Ампер) законов взаимодействий, укрепил позиции сторонников дальнодействия.
Разгорелся (увы, далеко не последний) спор «низколобых» экспериментаторов и «высоколобых» теоретиков. Один из теоретиков писал: «Я никак не могу себе представить, чтобы кто-нибудь, имеющий понятие о совпадении, которое существует между опытом и результатами вычисления, основанного на допущении закона дальнодействия, мог хотя бы на один момент колебаться, чему отдать предпочтение: этому ясному и понятному действию или чему-то столь неясному и туманному, как силовые линии».
Представители «чистой науки» били «грязного практика» Фарадея его же опытами! «Когда Фарадей подтвердил свои гениальные физические идеи гениальнейшими открытиями в области электромагнетизма, он этим не завоевал своим идеям даже минимального признания. Формалисты школы Ампера — Вебера... с тайным, а иногда и с явным презрением смотрели на «грубые материальные» силовые линии и трубки, порожденные плебейской фантазией переплетчика и лабораторного сторожа Фарадея». Но эти, может быть, чересчур резкие, зато справедливые слова будут сказаны лишь через полвека Майкель-соном. А пока — пока против теоретиков нужно было бороться их же оружием. Нужна была единая мощная теория, которая не только связала бы нерасторжимой цепью основные открытия Фарадея, но, что еще неизмеримо более важно, дала бы точное количественное, математическое описание важнейших его идей о поле.
Такую задачу берет на свои плечи еще при жизни Фарадея молодой бакалавр Кембриджского университета Джеймс Клерк Максвелл. В 1854 году он пишет своему старшему другу и коллеге Уильяму Томсону, что намеревается заняться изучением электричества и в первую очередь тщательным изучением «Экспериментальных исследований по электричеству» Фарадея, а до той поры не читать никаких математических сочинений по данному вопросу. Довольно необычный поступок для теоретика, но единственно верный ради того, чтобы охватить основные идеи Фарадея!
Проходит только два года, и Максвелл уже получает первый важный результат — законы, которые потом войдут как ядро в его великие уравнения электромагнетизма. Вторая крупная работа Максвелла по этому вопросу появляется спустя пять лет. Называется она многозначительно: «О физических силовых линиях».
Что же делает Максвелл в этой работе? О, он действует совершенно в духе Декарта: пытается построить механическую модель электромагнитного поля! Существуют силовые взаимодействия заряженных и намагниченных тел и электрических токов. Задача состоит в том, чтобы определить величины и направления сил, действующих на тела в определенных их положениях. Если считать носителем этих сил некую промежуточную среду, то в пространстве, где действует сила, можно начертить силовые линии, направление и густота которых определяют направление и величину сил, создаваемых в пространстве взаимодействующими телами — зарядами, магнитами, электрическими токами. Но нарисованные силовые линии — не просто иллюстрация сил. Они заставляют нас приписывать им реальное физическое существование: «Мы не можем отказаться от мысли, что в каждой точке, где мы находим эти силовые линии, должно существовать какое-то физическое состояние или действие, обладающее достаточной энергией, чтобы вызвать указанные состояния».
Что это за состояния? Поскольку они имеют место в среде — эфире, то они могут быть либо напряжениями, либо давлениями, неподвижными или распространяющимися в среде в виде волн. Каждый из этих образов имеет свои преимущества и недостатки при описании магнитных явлений, но все же в целом их можно представлять как натяжения среды вдоль силовых линий и как давления поперек силовых линий наподобие того, что имеет место при течении жидкостей. Действие таких натяжений и давлений в жидкостях вызывает вихри; такие же «молекулярные вихри» эфирных частиц должны возникать и в магнитной среде. Вместе с тем явление электромагнитной индукции, в котором магнетизм вызывает появление электрического тока, требует своего учета. Согласно открытию Эрстеда сам ток создает магнитное поле. Электричество и магнетизм в чем-то взаимны. Максвеллу предстоит разобраться в том, какая между ними существует связь.
С чего же начинать? Конечно, главная трудность коренится в вопросе, мучившем еще Фарадея: что такое электрический ток? Фарадей вынужден был ограничиться представлением, что ток — это ось сил. Максвелл идет не намного дальше: ток — это то, что создает магнитное поле (это можно читать «туда и обратно»). Но при этом он огорченно замечает: «Мы до сего времени находимся в неведении относительно природы электричества: является ли электричество одной субстанцией, двумя субстанциями или, может быть, оно вовсе не является субстанцией, чем отличается от материи и как связано с ней?» Ответ на этот вопрос придет лишь через тридцать лет благодаря открытию электрона и созданию электронной теории.
Пока же Максвелл вынужден работать с почти что декартовыми «эфирными вихрями». Как они взаимодействуют друг с другом, как взаимно передают свое движение? Как взаимно сцепленные зубчатые колеса — рисует наглядную модель Максвелл. «Форменный механический завод!» — возмущаются теоретики по поводу максвелловых построений. Эти вихри имеют своими осями силовые линии тока. Ко всему еще между вихрями «затесываются» неподвижные частицы эфира, сдавливаемые вихрями и, в свою очередь, сдавливающие вихри, затрудняя их вращение так, как затрудняются движения зубчатых колес, если между ними насыпать песок. Кроме того, для объяснения электродвижущей силы эфир приходится наделять упругими свойствами вроде пружинящих свойств колес. Жуткая модель! Но в конце концов она поддается математическому описанию, а именно это сейчас главное. Получающиеся уравнения адски сложны, решение их требует огромного математического искусства.
И вдруг в кромешной тьме эфирных вихрей, зубчатых колес, множества математических символов и соотношений проглядывает неожиданно простой и удивительный результат. Максвелл рассчитывает скорость распространения поперечных колебаний через свою среду из упругих эфирных вихрей и получает величину — 193 088 миль в секунду. За десять лет до того Арман Физо определил скорость света в знаменитом опыте с вращающимися зубчатыми колесами — прерывателями светового потока (забавное совпадение с максвелловой моделью, не правда ли!) и получил величину — 193 118 миль в секунду. А вот это совпадение совсем уже не забавно!
Причина его может заключаться только в одном. Проницательность гения позволяет Максвеллу почти сразу же назвать ее: «Мы едва ли можем отказаться от вывода, что свет состоит из поперечных колебаний той же самой среды, которая является причиной электрических и магнитных явлений». О волнующем открытии Максвелл спешит сообщить Фарадею. Еще бы, оно означает величайшее событие в физике девятнадцатого века: установление связи между двумя, а еще недавно и целыми тремя огромными, но разрозненными областями физического исследования — электричеством, магнетизмом и оптикой! И кто, как не Максвелл, знал, сколь упорно доискивался Фарадей этой связи.
Но Максвелл знал не все. Еще в 1832 году, в разгар своих исследований электромагнитной индукции, Фарадей оставил запечатанный конверт с надписью «Новые воззрения, подлежащие в настоящее время хранению в архивах Королевского общества». Конверт этот был обнаружен и вскрыт только в 1938 году, пролежав в архиве более ста лет. В конверте оказался лист бумаги, на котором было написано вот что:
«Некоторые результаты исследований, описанных в двух статьях под названием «Экспериментальные работы с электричеством», недавно прочтенных в Королевском обществе, и вопросы, вытекающие из них в связи с другими взглядами и опытами, привели меня к заключению, что на распространение магнитного воздействия требуется время, т. е. при воздействии одного магнита на другой, отдаленный магнит или кусок железа влияющая причина (которую я позволю себе назвать магнетизмом) распространяется от магнитных тел постепенно и для своего распространения требует определенного времени, которое, очевидно, окажется весьма незначительным.
Я полагаю также, что электрическая индукция распространяется таким же образом. Я полагаю, что распространение магнитных сил от магнитного полюса похоже на колебание взволнованной водной поверхности или же на звуковые колебания частиц воздуха, т. е. я намерен приложить теорию колебаний к магнитным явлениям, как это сделано по отношению к звуку, и является наиболее вероятным объяснением световых явлений.
По аналогии я считаю возможным применить теорию колебаний к электрической индукции. Эти воззрения я хочу проверить экспериментально, но так как мое время занято исполнением служебных обязанностей, что может вызвать продление опытов, которые, в свою очередь, могут явиться предметом наблюдения, я хочу, передавая это письмо на хранение Королевскому обществу, закрепить открытие за собой определенной датой и, таким образом, иметь право, в случае экспериментального подтверждения, объявить эту дату датой моего открытия. В настоящее время, насколько мне известно, никто из ученых, кроме меня, не имеет подобных взглядов.
Королевский институт 12 марта 1832 г.
М. Фарадей»
Почему же Фарадей не опубликовал свою замечательную гипотезу? Он ведь «измышлял гипотезы» и многие из них, содержавшиеся в его рабочих дневниках, предавал гласности. Но это была гипотеза особенная, поразительно смелая. Опубликовать ее, да еще в самый разгар торжества воззрений Ампера и ко всему без всякого экспериментального обоснования — это почти наверняка означало такой шквал нападок, который заведомо мог опорочить научное имя еще молодого и не слишком известного ученого. Отвечать на эти нападки тогда времени не было: «служебные обязанности» были связаны не с журавлем в небесах, а с синицей в руках, хоть эта синица летала повыше всякого журавля, — с исследованием только что открытой электромагнитной индукции.
Почему Фарадей не проверил свою гипотезу экспериментом, ну если и не тогда, то хотя бы потом, в течение последующих тридцатилетних исследований? Скорее всего Фарадей просто не знал, как это сделать. Он неоднократно высказывал сходные мысли в письмах, одно из которых по поводу «изгнания эфира» мы уже цитировали. А ведь был известен опыт с непостоянным направлением намагничивания стальных игл при разряде «лейденской банки», говоривший о колебательном характере электрического разряда. Но понять истинную причину явления ни Фарадей, ни другие ученые в то время не могли. Электромагнитные — но не световые — колебания открыл только Генрих Герц в 1887 году.
Ответил ли Фарадей на известие Максвелла, сообщил ли ему о своем открытии? Видимо, нет. Фарадей к тому времени уже отошел от научной деятельности, память его угасала. Да и обнаруженное Максвеллом совпадение скоростей, открытая им электромагнитная природа света не вызвали решительно никакой научной сенсации. Теории Максвелла предстояло добиваться места под солнцем еще добрую четверть века.
Проходит четыре года, и в 1865 году появляется следующая работа Максвелла — «Динамическая теория поля». С этого момента с идеями Максвелла начинают знакомиться уже широкие физические круги. В новой работе ощутимы попытки Максвелла убрать механические леса строящейся теории электромагнетизма. В ней впервые в открытую провозглашается новая идея: «Теория, которую я предлагаю, может быть названа теорией электромагнитного поля, потому что она имеет дело с пространством, окружающим электрические или магнитные тела, и она может быть также названа динамической теорией, поскольку она допускает, что в этом пространстве имеется материя, находящаяся в движении, посредством которой и производятся наблюдаемые электромагнитные явления».
Итак, поле в эфире, но уже в эфире не неподвижном, а декартовом, движущемся, колеблющемся.
Что же нового?
Новы понятия о движениях этого эфира и количественные, математические формулировки этих движений. Впрочем, и здесь новые понятия имеют совершенно отчетливый механический привкус — электромагнитное количество движения, электромагнитная сила. Связь между током и электромагнитным полем, по мнению Максвелла, совершенно такая же, как между маховиком и точкой передачи усилия в машине. Но уже нет никаких зубчатых колес и других грубых механических аналогий. Те новые понятия, о которых идет речь, используются только кай своего рода «словари», помогающие читателю, еще не овладевшему правильным мышлением, переводить электромагнитные явления на привычный ему язык механических явлений. «Все подобные выражения должны рассматриваться как иллюстративные, а не как объясняющие», — пишет Максвелл.
Вот что существенно! Вот где исчезает «самонадеянность» первого варианта теории, в котором механические модели принимались всерьез в качестве не описания, а объяснения, в качестве не поясняющей иллюстрации, а конечной истины!
Но что же второй вариант теории предлагает в качестве объяснения? Ничего! Записывается система уравнений поля, пользуясь которой можно вывести громадное количество следствий, замечательно согласующихся с опытом. Но глубокая сущность, стоящая за уравнениями, еще скрыта в непроглядном мраке.
Теория Максвелла демонстрирует нам прекрасный пример феноменологической теории, которая описывает явления («феномены»), но не объясняет их, в отличие от последующей микроскопической теории (которую тридцатилетием спустя создаст Лоренц). И в дальнейшем такой путь развития стал закономерным для теоретической физики. Полная теория стала строиться в два главных этапа.
Сначала обобщение накопленного экспериментального материала, построение первых частных теорий для обобщения узких групп фактов и создание общей теории, в которую сливаются частные теории, но которая означает много большее, чем сумма частных теорий. Феноменологическая теория обладает большой предсказательной силой; так, из теории Максвелла, например, вытекало существо-
вание электромагнитных волн и то, что световые волны — лишь одна их разновидность. Феноменологическая теория строится на определенной системе посылок, понятий, разгадывание сущности которых она оставляет на долю последующей микроскопической теории. Математический аппарат многих феноменологических теорий необычайно изящен, чтобы не сказать прост (впрочем, понятия изящества и простоты весьма относительны для разных эпох), достаточно назвать теорию электромагнитного поля или теорию относительности.
Затем наступает период выяснения того, что стоит за основными понятиями феноменологической теории и какие более глубоко скрытые законы проявляются в ее уравнениях, — период создания микроскопической теории. Это проникновение науки в новый пласт знания, по существу, в новый прежде скрытый мир.
Проходит время, и микроскопическая теория тоже может стать феноменологической, как это случилось с электронной теорией, под которую уже подведена теория, если можно так выразиться, «микроскопическая в квадрате» — квантовая электродинамика. Может статься и так, что феноменологическая теория будет существовать весьма долго, даже и по сей день, а под нее никак не удается подвести микроскопический фундамент, уж очень глубоко он укрыт. Так случилось, например, с общей теорией относительности, которая вот уже шестьдесят лет (в наш-то стремительный век!) практически не имеет своей «микропоследовательницы». Сомнений в возможности построения такой микротеории нет, просто не хватает новых фактов, а потому и новых идей.
Но вернемся к теории Максвелла. Вслед за Фарадеем, говорившим о натяжениях силовых линий, Максвелл вводит представление об электромагнитных взаимодействиях как натяжениях эфира. Что за энергия связана с этими натяжениями, какую форму она принимает и где сосредоточивается? В этом вопросе Максвелл «отстает» от собственной теории. Для него, как и для всех физиков девятнадцатого века, возможна лишь одна форма энергии — механическая. (Максвелл сам немало потрудился над кинетической теорией теплоты, сводящей все тепловые явления к механическим перемещениям и столкновениям молекул.)
Но в вопросе о том, где локализуется эта энергия, он делает смелый шаг вперед: «В старой теории она находится в наэлектризованных телах, проводящих цепях и магнитах в форме неизвестного качества, называемого потенциальной энергией или способностью производить определенные действия на расстоянии. По нашей теории она находится в электромагнитном поле и проявляется в двух различных формах, которые могут быть описаны... как движение и напряжение одной и той же среды».
В течение следующих восьми лет после «Динамической теории» Максвелл делает последний, главный шаг в развитии своей теории. В 1873 году выходит в свет его «Трактат по электричеству и магнетизму», являющийся подлинной энциклопедией всех знаний об электричестве и магнетизме, накопленных к тому времени. В этой работе принципиально нов максвеллов синтез всех этих фактов, а также частных теорий, предложенных для их описания.
В ней Максвелл также высказывает кардинальной важности положение, что, несмотря на неясность природы электромагнетизма, мир электромагнитных явлений намного сложнее мира явлений механических и не может быть сведен к нему. Постоянно подчеркивая роль среды в электромагнитных взаимодействиях, Максвелл не может предложить в качестве такой среды ничего лучше механического упругого эфира. Но теперь, в «Трактате», он не раз и не два говорит об ограниченности, о приблизительности такого эфира и механических аналогий, которые ему приходится привлекать для пояснения — пояснения, а не объяснения! — явлений электромагнетизма.
Так перед нами — уже в который раз — встает великая драма исследователя, открывшего и описавшего, неважно, в эксперименте или теории, новые факты важнейшего значения, но которому не хватает новых представлений для их объяснения. Как остро должен он чувствовать наряду с пониманием значения этих фактов недостаточность существующего знания и свою неспособность выпрыгнуть за «меловой круг» этой ограниченности!
Новые представления, коль велика нужда в них, вскоре появятся. Ход науки зигзагообразен, но она неумолимо движется вперед.
УШ В&Шщ Время действия: вторая половина XIX века и начало XX века. Действующие лица: Гельмгольц, Герц, Лебедев, Томсон, Лоренц, Майкелъсон, Эйнштейн и другие ученые.
Пришло время подвести первые итоги. Мы делаем антракт где-то в начале семидесятых годов прошлого века. Есть нечто удивительное в семидесятых годах для развития представлений о взаимодействии. В семидесятых годах семнадцатого века Ньютон сформулировал законы механического взаимодействия и установил закон взаимного тяготения тел. В семидесятых годах следующего века Франклин разработал теорию электрических жидкостей для объяснения явлений в диэлектриках и проводниках электричества. В семидесятых годах прошлого века Максвелл завершил формулировку количественной теории электромагнитного поля. Что-то нам подарят семидесятые годы нашего века?
Первое открытое физиками поле оказалось электромагнитным. Все основные события, связанные с этим открытием, сосредоточены в эпоху от Франклина до Максвелла. Открытие законов электростатического взаимодействия (в том числе открытие Кулоном закона взаимодействия неподвижных электрических зарядов), электрического тока Гальвани и Вольта, магнитных действий электрического тока Эрстедом, взаимодействий токов Ампером, наконец, открытие электрических действий магнетизма, химических действий тока Фарадеем — все это сконцентрировалось менее чем в век развития физики. Появление теории Максвелла было подготовлено всем ходом этого развития.
На соседних фронтах физики тоже происходили чрезвычайно важные события. В середине прошлого века завершился двухвековой спор о мерах механического движения, о том, какая из них более истинна — импульс («количество движения») или же энергия («живая сила»). Изучение динамики механических движений привело в семнадцатом веке к первому представлению о неуничто-жимости движения, к закону сохранения импульса, установленному вначале на явлениях столкновения тел. Изучение механических сил совместно с исследованием тепловых явлений в девятнадцатом веке привело к формулировке сначала закона сохранения механической энергии, а затем закона сохранения ее при превращениях механической энергии в теплоту. Пройдет еще полвека, и теория относительности объединит обе меры движения в одну и оба закона сохранения — в единый закон для энергии-импульса.
Дремавшее дотоле представление об атомах в XIX веке возрождается — сначала в химии для объяснения количественных закономерностей в химических реакциях, затем в электрохимических реакциях, вызываемых прохождением электрического тока через растворы, и, наконец, в кинетической теории газов. Ко времени Максвелла представление об атомах, об их реальности укореняется в головах передовых физиков, чему немало способствует и сам Максвелл. И параллельно с атомами в физике еще существуют эфиры — светоносный и электромагнитный и, конечно же, почти шарлатанские «животные» эфиры, коими объясняются различные жизненные процессы. Но время всех этих эфиров уже истекает. Бьет час полей.
В чем же сущность переворота, произведенного полем в представлениях о взаимодействии? Поначалу кажется, что вроде бы и переворота никакого нет. Ньютоновская физика утверждает и даже определенным — и правильным! — количественным образом описывает механические и гравитационные взаимодействия тел. Для этого она вводит силы и принимает, что существование сил принципиально вечное. Однако по поводу происхождения и образа действия этих сил механика Ньютона ничего сказать не может. Это не ее вина, но ее беда.
Свято место пусто не бывает. Пустота, через которую неведомым образом действуют силы тяготения, тут же наполняется роем монад — этаких духовных склонностей к взаимодействию. Господь бог, нужный Ньютону лишь для первого толчка, подобного первому взмаху дирижерской палочки, у последователей Ньютона водружается за дирижерский пульт и зорко следит за тем, чтобы музыканты не обивались, исполняя им же написанную пьесу.
Впрочем, и среди ньютонианцев есть материалисты, которые сцепляют силы взаимодействия с самими взаимодействующими телами — силовыми центрами. Но в чем сущность такого сцепления, им тоже сказать нечего, только одно: действия без противодействия не существует. Обе силы появляются и исчезают (конечно, это условно — силы неуничтожимы!) только парами. Для одного-единствен-ного тела без партнера по взаимодействию о силах говорить бессмысленно. Но появляется второе тело, и силу взаимодействия каждый раз надо рассчитывать по формулам механики.
Взаимодействия между тем усложняются, на сцену выходит великое разнообразие электрических и магнитных, а затем и электромагнитных явлений. Как рассчитывать взаимодействия зарядов, магнитов и токов? Нужда вызывает к жизни целый лес формул на каждый случай взаимодействия — для магнитов одни, для зарядов другие, для токов третьи. Формул, в своей сущности столь же темных, как темны и сами электрические и магнитные силы и жидкости в телах.
И тогда в этой темноте рождается первый просвет: а не оставить ли разбираться в этих жидкостях до лучших времен и обратиться к тому, что происходит в самом пространстве между взаимодействующими наэлектризованными или намагниченными телами? Так впервые со времен Ньютона возрождается картезианский взгляд на роль пространства, а вернее, на роль эфира, заполняющего это пространство. Фарадей вводит представление о путях силы взаимодействия в пространстве — силовых линиях, наделяет реальным существованием натяжения и взаимные давления силовых линий. И, наконец, Максвелл с помощью своих уравнений определяет структуру силовых линий для электромагнитных взаимодействий — направления и величины сил этих взаимодействий в каждой точке пространства, окружающего намагниченные и наэлектризованные тела. Уравнения Максвелла характеризуют количественно строение силового поля, или поля сил.
Что в этом принципиально нового? Прежде всего отрицание дальнодействия: путь силы в пространстве непреры-
вен; для того чтобы вычислить величину и направление силы в соседней точке в соседний момент времени, надо знать эти ха-рактеристики в предыдущей точке и в предшествующий момент времени, причем в уравнениях Максвелла — а это дифференциальные уравнения — расстояния между смежными точками распространения силы дифференциальны, т. е. бесконечно малы, сами точки бесконечно близки друг к другу.
Какое разительное отличие от концепции дальнодействия, в которой силу создает одно тело, затем в пространстве она исчезает и словно перепрыгивает на второе тело! Прыжок этот мгиовенен: если у силы нет пути, то для скачка она не требует и времени — взаимодействие должно осуществляться мгновенно. В полевой же картине взаимодействия оно принципиально требует времени! Об этом говорил еще Фарадей в своем запечатанном письме, к такому же выводу приходит и Максвелл. Пусть скорость распространения электромагнитных взаимодействий чрезвычайно волика и, как установил Максвелл, равна скорости света, она все же не бесконечна. Итак, взаимодействие двух удаленных тел передается принципиально от точки к точке в окружающем их пространстве — или, если пока угодно, — эфире. Теория поля — это теория близко-действия.
Может показаться, что введение понятия поля — всего лишь удобный вспомогательный прием для облегчения расчета сложных сил электромагнитных взаимодействий. Действительно, введение электромагнитного поля существенно упрощает всю картину взаимодействий и вместо целого леса формул для электрических и магнитных явлений порознь позволяет использовать поразительно «экономную» систему из всего лишь четырех максвелловых уравнений, которые тем не менее охватывают целый мир электрических и магнитных явлений. Вместо того чтобы каждый раз писать формулы для расчета сил при каждом конкретном расположении зарядов, магнитов, токов парами, теория поля записывает общую формулу только для полей, создаваемых их источниками. А затем уже в •зависимости от конкретной задачи в эту формулу подставляются положения и другие характеристики «приемников» поля, что и позволяет найти действующие на них силы.
Единый акт взаимодействия благодаря введению поля удается разбить на два: «сначала» источпик создает свое
поле во воем доступном пространстве, а «потом» это поле действует на его приемники в разных тоннах пространства. Эти «сначала» и «потом» вполне буквальны: поле распространяется ведь с конечной скоростью. Поле создается вне всякой связи с тем, существуют или нет его приемники, его структура и характер зависят исключительно от источников поля. Это аналогично тому, как радиостанция передает в эфир (до сих пор живет это выражение!) сообщения вне всякой зависимости от того, включены ли приемники этой информации. Как мы вскоре увидим, такая аналогия вполне обоснованна.
Но вычислительного преимущества общей формулы, которую дает теория электромагнитного поля, — этого мало. Общая формула значит много больше, чем сумма частных. А уравнения Максвелла описывают и электричество, и магнетизм, и свет. Единое электромагнитное поле вобрало в себя такой фантастически широкий круг явлений, о каком даже и мечтать не могли авторы представлений об электрическом, магнитном и световом эфирах! Так что отход от представлений об эфирных жидкостях, сосредоточенных внутри тел, истекающих из них, к тому, что происходит вне тел, в окружающем их пространстве, имел поистине революционное значение. В те годы это означало переход от эфиров «внутрительных» к эфиру же, но «междутельному». Эфир, фигурально выражаясь, надо было сначала извлечь из тел и лишь затем «извлечь» его из пространства между ними — такова была логика развития физики.
Разделение акта взаимодействия на два этапа и введение посредника взаимодействия — поля, однако, вновь поставило «вечные» вопросы, только теперь уже на ином, более высоком уровне. Что является источником поля (а значит, и что является приемником поля)? Взаимодействуют как минимум два тела, значит каждое из них создает свое поле, приемником которого является партнер по взаимодействию. Следовательно, в каждом акте взаимодействия существуют по меньшей мере два поля. Что происходит при взаимном наложении этих двух полей, как отличают приемники свое поле от поля партнера? Наконец, как происходит «генерирование» поля источником и «поглощение» поля приемником? Какая частица или какое ее свойство является источником (и приемником) поля? Часть этих вопросов получила ответ при дальнейшем развитии физики, а часть еще нет. За век, минувший со времени Максвелла, проблема взаимоотношения частиц и полей превратилась в центральную проблему физики. За этот век проблема необычайно углубилась, но, пожалуй, и сегодня далека от своего окончательного решения.
Этому не следует удивляться: проблема взаимоотношения частиц и полей — так выглядит на сегодняшнем этапе развития физики проблема изучения взаимодействий. Но, как писал Фридрих Энгельс в «Диалектике природы», позади взаимодействий, за взаимодействиями уже нечего больше познавать. Нет, никогда не кончится наука, никогда не будет познана до самого конца сущность взаимодействия! Эта проблема будет только углубляться с каждым новым поколением ученых, открывая каждый раз новые неожиданные грани.
Итак, поле — инструмент «близкодействующего» взаимодействия, поле — чрезвычайно удобный вспомогательный прием для расчета взаимодействий. И все? Во времена Максвелла все. За полем еще не стоит или почти нет ничего реального. Атрибуты реальности поля еще отданы эфиру, поле — не более как возбужденное состояние эфира. Уже высказаны Фарадеем пророческие мысли о том, что само поле можно понимать как особое физическое состояние потенции к действию, которое становится действительностью при появлении партнера по взаимодействию, но эти мысли еще не стали истинным достоянием физиков. Перенести атрибуты реальности на поле означает лишить их эфир, сделать сам эфир лишним, ненужным. Физика к этому еще не готова.
Но уже Максвелл наделяет поле важнейшей реальностью — энергией. Мы приводили высказывание Максвелла о локализации энергии взаимодействия в пространстве между телами. Но пока оно лишь высказывание, не подтвержденное экспериментом. А до эксперимента еще далеко: пройдет четверть века, прежде чем Герц откроет электромагнитные волны и докажет самостоятельное их существование в пространстве. Пока еще идеи Максвелла остаются для его современников книгой за семью печатями. Крупнейший австрийский физик Людвиг Больцман, читая лекции по теории Максвелла (в 1891 году!), все еще был вынужден предпослать им эпиграф из «Фауста» Гёте: «Я должен пот тяжелый лить, чтобы научить вас тому, чего сам не понимаю».
Но теория поля появилась в чрезвычайно удобный для нее момент, этим можно объяснить сравнительно быстрое ее признание. В лагере сторонников дальнодействия, в «школе Ампера — Вебера», в эти годы царил идейный разброд. Сам Вильгельм Вебер вывел математически закон электромагнитной индукции, открытый Фарадеем, опираясь на представления о двух электрических жидкостях — положительной и отрицательной, но, в соответствии с воззрением Эпинуса, жидкостях «атомизированных». Он писал: «При всеобщем распространении электричества можно принять, что с каждым весомым атомом связан атом электрический», — прямая дорожка протягивается к этому высказыванию от фарадеевых ионов!
Ио силы между электрическими атомами Вебера были силами дальнодействия, хотя и силами совершенно нового типа: они зависели не только от положений взаимодействующих частиц, а также от их относительных скоростей и ускорений. Вебер вывел из полученного им закона в качестве частного случая закон Ампера, после чего успех его был признан выдающимся, а теория завоевала всеобщее признание и царила вплоть до семидесятых годов прошлого века.
Успех, однако, оказался непрочным. Прошло несколько лет, и Густав Кирхгоф, пытаясь рассмотреть на основе веберова закона распределение переменного тока в проводниках, пришел к обескураживающему результату: ток получался неустойчивым, его сила без всяких внешних причин могла нарастать со временем до бесконечности. Еще несколько лет спустя Герман Гельмгольц положил в основу такого расчета закон индукции, найденный коллегой Вебера немецким физиком Карлом Нейманом, и получил устойчивый ток, но обнаружил, что при этом может не выполняться закон сохранения энергии. Вебер возразил Гельмгольцу, заявив, что это может иметь место только в том случае, когда «электрические атомы» в проводнике движутся со скоростью, большей скорости света. В лагере сторонников дальнодействия разгорелась полемика.
Закон сохранения энергии в те годы считался настолько надежно установленным, что уже выполнял роль «шлагбаума», закрывая дорогу теориям, ему не удовлетворявшим. Второй «шлагбаум», опускавшийся всякий раз, когда скорость движения частиц в теории превышала скорость света, установила лишь теория относительности. (Впрочем, в последние годы вновь возродилась впервые высказанная Гельмгольцем идея о тахионах — частицах, движущихся быстрее света, правда, пока еще без какого бы то ни было экспериментального обоснования.)
Для критики воззрений Вебера оказалось достаточным опереться на закон сохранения энергии и указать на устарелость представления Франклина о двух электрических жидкостях. Критика велась теоретиками в самом лагере Вебера и, что знаменательно, при этом вводилось допущение о роли промежуточной среды! Но для Максвелла эта среда находилась уже вне тел, тогда как у критиков Вебера она еще была «внутрительной». Среда, в свою очередь, лишала дальнодействие главного атрибута — мгновенности. И вот уже один из сторонников дальнодействия вынужден скатиться на компромиссную позицию и написать такие примечательные слова: «Все, что происходит в природе или совершается во внешнем мире, требует известного времени. Это время может быть сколь угодно малым, но никогда не может быть равно нулю. Время и пространство представляют необходимые условия бытия явлений природы».
Чувствуете, как начинает поворачиваться дело? Сторонники дальнодействия перестраиваются, они вводят среду, в которой происходит взаимодействие «атомов электричества». Наиболее последовательно эту программу проводит Гельмгольц и «некстати» добивается успеха. Некстати потому, что успех отодвигает признание гораздо более необычной, хотя и правильной, теории Максвелла (так же, как успех теории электромагнитной индукции Вебера тридцатью годами раньше затормозил распространение идей Фарадея). Более того, основываясь на теории Гельмгольца, голландский физик Гендрик Лоренц еще при жизни Максвелла выводит формулы Френеля для отражения и преломления света и этим обосновывает электромагнитную теорию света как бы в обход теории Максвелла!
Между двумя главными противниками — теорией дальнодействия без среды и теорией близкодействия в среде — вклинилась компромиссная теория дальнодействия, но со средой. Впоследствии Герц очень хорошо опишет возникшую ситуацию. С одной стороны, ортодоксальное дальнодействие: притяжение двух тел — род их взаимной духовной склонности; сила, которую порождает каждое из двух тел, непременно связана с наличием второго тела. С другой стороны, появляются новые черточки: даже при наличии одного тела в пространстве существует стремление к притяжению, созданное этим телом, и этим стремлением,
непрерывно меняющимся от точки к точке, наполняется все пространство. Но сразу же после такой «вылазки» снова укрытие за крепостными стенами ортодоксальности: в месте действия силы никакого изменения состояния пространства, которое позволило бы назвать это место местопребыванием силы, не происходит, сила пребывает по-прежнему на самом действующем теле. Есть эфир между взаимодействующими телами или нет, но в пространстве между телами от этого ничего не меняется.
Удивительная ситуация! Сторонники дальнодействия, скрепя сердце, вводят эфир, чтобы тут же лишить его прав на физически наблюдаемое существование; это прогрессивно, ибо облегчает изгнание эфира. Но вместе с тем они намертво сцепляют силу с телом, не допуская ее распространения, а это регрессивно, ибо препятствует введению поля как физической сущности. Они не борются против поля, они его просто не признают. Чтобы переубедить физиков, еще требуется доказать, что поле способно и к самостоятельному существованию!
Первым это доказательство приносит не ученик «близ-кодейственника» Максвелла (английские физики, первыми восприняв идеи Максвелла, мало что сделали для их экспериментального утверждения), а ученик «дальнодействен-ника» Гельмгольца немецкий физик Генрих Герц, совершивший за недолгие годы своей жизни удивительную эволюцию от дальнодействия к близкодействию и открывший электромагнитные волны. История этого открытия и его быстрого практического использования для радиосвязи хорошо известна, и мы не будем на ней останавливаться. Для нас важнее другое: электромагнитные волны — это самостоятельно существующее электромагнитное поле, оторвавшееся от своего источника.
В 1887 году Герц получил свою первую электромагнитную волну. Вырвавшись из промежутка между электродами, где произошел электрический разряд, эта волна спустя считанные мгновения — только погасла искра! — «забыла» о своем источнике, преодолела стены лаборатории, атмосферу и улетела в межпланетное пространство. Если где-то на удаленной от нас планете есть цивилизация, то сооруженная ее физиками и инженерами антенна радиотелескопа непременно поймает эту волну. На экране осциллографа среди всплесков от других космических шумов появится сигнал и от нашей волны.
Так волна перенесет взаимодействие между земными электронами в разряднике Герца и электронами в антенне инопланетного радиотелескопа. Где волна будет находиться все это время, ничего не ведая ни об источнике, ни о приемнике? Конечно, в космосе, в виде постепенно рассеивающегося сгустка энергии. Разделение акта взаимодействия на три этапа, разнесенных во времени и в пространстве: посылка действия, его распространение в пространстве и его прием партнерами по взаимодействию, — приобрело, таким образом, реальное содержание.
Опыты Герца способствовали утверждению теории Максвелла куда в большей степени, чем целые тома теоретических трудов. «Вспомогательное представление» оказалось яркой физической реальностью! Теперь физики набросились на теорию Максвелла. Теперь их уже не смутило «косноязычие» Максвелла, сложность изложения, нагромождение лесов, которые он не успел убрать при постройке здания электромагнитой теории. Первым «расчистку» максвелловой теории произвел сам же Герц, он и придал уравнениям Максвелла их современный вид.
Электромагнитное поле приобрело энергию. А спустя несколько лет замечательными опытами по измерению давления света П. Н. Лебедев доказал, что электромагнитное поле обладает и импульсом. Если к этому добавить, что еще в 1881 году Джозеф Томсон ввел понятие о массе электромагнитного поля, то теперь уже оказались налицо все главные «материальные» атрибуты поля — масса, импульс, энергия.
А затем настала очередь эфира. В эти годы перед физиками предстает уже единый — электромагнитный и светоносный одновременно — эфир, в котором распространяются электрические и магнитные поля, световые волны и даже, быть может, тяготение. Как он выглядит? Зубчатые колеса, эфирные вихри и прочие механические черты эфира после появления и особенно признания работ Максвелла на удивление быстро забыты. Достаточно трудны для истолкования его электромагнитные и оптические свойства, чтобы требовать от эфира еще и механических свойств!
Оптика становится на новый, электромагнитный фундамент. Уже выведены из электромагнитной теории и правильно объяснены оптические явления, сопровождающие распространение света в неподвижных средах. Настало время разобраться, что происходит с электромагнитными явлениями в движущихся средах. Максвелл в своих трудах этот вопрос детально не рассматривает и ограничивается лишь замечанием, что ничего нового в движущихся средах по сравнению с неподвижными не должно происходить.
Такое высказывание не должно удивлять нас, если вспомнить, что теория Максвелла — по существу, теория электромагнитных полей в пустом пространстве, эфир в ней — просто всепроникающий диэлектрик, который в прочих отношениях ничем не отличается от других диэлектриков. Но раз так, то, действительно, все равно, движутся или покоятся намагниченные и заряженные тела, движется или покоится эфир, — явления в этих обоих случаях неотличимы друг от друга. Само равномерное движение тел есть относительное движение, и как скорость этого движения не входит в уравнения механики, так и незачем ей входить в уравнения электродинамики.
Однако с самого начала все оказывается не так просто. Ближайший анализ, проведенный Гельмгольцем, показал, что для движущихся тел поведение эфира имеет уже не относительный, а абсолютный характер. Если считать эфир неподвижным, то либо не получаются уравнения Максвелла, либо нарушается механический принцип относительности движения, восходящий еще к Галилею и с тех пор ставший непреложным физическим законом. В своей простейшей иллюстрации эта абсолютность движения заряженных тел проявляется так: неподвижные в покоящейся системе отсчета заряды не создают магнитного поля, тогда как в системе, равномерно движущейся относительно первой, заряды тоже совершают движение, а значит, и существует создаваемое их движением магнитное поле. Неожиданная дилемма! И уравнения Максвелла, и галилеев принцип, можно считать, незыблемы. Остается одна лишь возможность: принять, что эфир полностью увлекается в своем движении телами, встать на точку зрения Стокса, о которой мы уже говорили.
Тогда удается снять и вышеуказанный парадокс, и объяснить такие ключевые явления, как звездную аберрацию, и правильно рассчитать френелев коэффициент увлечения эфира. Более того, уравнения Герца удовлетворили даже еще более общему принципу относительности, чем уравнения Ньютона: они оказались инвариантными, т. е. неизменными, не только по отношению к равномерному движению, но даже по отношению и к вращению — ускоренному движению системы, в которой наблюдаются электромагнитные явления.
Кажется, чего уж лучше: уравнения Герца для движущихся тел переходят с сохранением инвариантности относительно галилеева принципа в уравнения Максвелла для покоящихся тел. Почему же не удовлетворен сам Герц, заявляя по этому поводу, что в будущей теории надо будет отличать движение эфира от движения материальных тел?
В 1878 году американский физик Генри Роуланд поставил опыт по определению магнитного поля механически движущегося проводника. Впоследствии этот опыт в разных вариантах неоднократно повторялся, но количественные выводы из него были все еще сомнительны, пока, наконец, в самом начале нашего столетия опыты русского физика А. А. Эйхенвальда не поставили точку в затянувшейся истории. Опыты Роуланда показали, что магнитное поле от механически движущегося проводника получается таким же, как при электрическом токе в проводнике, т. е. при немеханическом движении зарядов. Но в одном случае эфир увлекается движущимся проводником, а в другом нет, между тем результаты в обоих случаях совпадают.
Отсюда мог быть только один вывод: никакого увлечения эфира при движении заряженных тел не происходит. Герц ограничивался только вопросами «чистого» электромагнетизма, не затрагивая оптики. Вот почему опыты Роуланда и его коллег вызвали у него сильное беспокойство. Но все равно, эфир конца девятнадцатого века един, и если эфир не увлекается телами при электромагнитных процессах, то он не должен увлекаться и в процессах световых.
Неподвижный эфир кладет в основу своей электронной теории Лоренц. Он начинает построение теории со скомпрометированной, но все же еще не оставленной теории Вебера с ее «атомизированными» электрическими жидкостями... и вводит в нее максвеллову среду, через которую со скоростью света распространяется взаимодействие! Снова компромисс, напоминающий теорию Гельмгольца, но теперь уже без дальнодействия. А веберовы «электрические атомы» тут как нельзя кстати: ведь это будущие электроны. Лоренц создает микроскопическую электромагнитную теорию, которая подводит фундамент под феноменологическую теорию Максвелла. И словно в награду Лоренцу вскоре после завершения им важнейших основ теории Джозеф Томсон открывает электрон! После этого теория Лоренца с полным правом может называться электронной теорией.
Но основы электронной теории доставляют ее автору чрезвычайное беспокойство. Неподвижный вселенский эфир, покоящийся относительно всех тел в мире, позволяет построить на нем особую, выделенную, абсолютную систему отсчета. На эфир Лоренца не действуют решительно никакие силы, никакие возмущения. Все движения относительно него абсолютны в той же мере, как движения по отношению к центру мира, разве что здесь центр мира не фиксирован, не связан с определенным небесным телом, а может быть закреплен в любой точке эфира. Важно не то, где он расположен, а то, что он абсолютно неподвижен. Можно тогда определять абсолютную скорость движения всех тел относительно эфира, эта скорость явным образом появится во всех уравнениях механики и электромагнетизма. Рушится принцип относительности Галилея!
Потери очевидны, в чем же выигрыш? Прежде всего Лоренцу удается получить коэффициент увлечения эфира Френеля, а значит правильно вычислить аберрацию звездного света. Загадочное высказывание Френеля о том, что движется сгущенный эфир в телах, а несгущенный эфир вне их неподвижен, теперь проясняется: просто движутся электрические заряды относительно покоящегося эфира, именно заряды, а не «внутрительный» эфир. Но надо еще получить уравнения Максвелла; раз теория Лоренца микроскопическая, то входящие в уравнения Максвелла величины следует находить путем осреднения тех величин, что фигурируют в уравнениях Лоренца (наподобие того, как электрический ток является усредненным движением электронов в проводнике). И тут, конечно, ничего не получается: ведь лоренцев эфир не удовлетворяет классическому, галилееву принципу относительности.
Впрочем, словно в поддержку Лоренцу, экспериментаторы открывают замечательное явление, которое тоже не желает подчиняться этому принципу относительности. В 1881 году американский физик Альберт Майкельсон попытался чрезвычайно простым и непосредственным способом измерить движение Земли относительно эфира. Если скорость света, посланного неподвижным относительно эфира источником, равна с, то для того же источника, находящегося на Земле, которая движется сквозь эфир со
скоростью v, скорость света должна составить по движению Земли с + у, а против ее движения с — V. Значит, времена, за которые оба световых луча пройдут одно и то же расстояние, скажем, от источника света до зеркала и обратно, должны быть различными. Если сложить в какой-либо точке оба пучка света, имевшие вначале одинаковую фазу (например, созданные путем расщепления первоначального пучка на два), то из-за различия в их фазах должна, как и всегда в таких случаях, возникнуть интерференционная картина. Несколькими годами позже Май-кельсон совместно с Морли построил установку для наблюдения ожидаемой интерференции. После полугода тщательнейших наблюдений был надежно установлен поразительный факт: интерференционная картина не возникает, скорость света не зависит от движения земного его источника относительно эфира! Итак, союзником Лоренца оказывается свет. Но этот «непрошенный» союзник тоже требует объяснить свое необычное поведение.
Лоренц додумывается до своего преобразования, в котором он вместо галилеева «одного и того же» времени для движущейся и покоящейся систем отсчета (абсолютного ньютонова времени) вводит для движущейся системы «местное время». Это время зависит от положения и скорости движения системы. Лоренц вводит его просто так, в качестве вспомогательного приема, позволяющего перейти от его уравнений для движущихся тел к уравнениям Максвелла, не более того. У него и мысли нет принять формулу, связывающую «местное» время со «всеобщим» временем в неподвижной системе отсчета, за новое преобразование, равносильное замене преобразования Галилея.
Преобразование Лоренца несколько отличается от преобразования относительности Галилея; вместе с тем оно не идеально хорошее: уравнения Лоренца при этом переходят в уравнения Максвелла, но лишь с точностью до величин, в которые входит отношение скорости движущихся тел v к скорости света с только в первой степени; со вторыми и еще более высокими степенями начинаются неувязки. Да еще и объяснение результата опыта Майкель-сона — Морли тоже получается лишь с точностью до членов, в которые вышеуказанное отношение vjc входит в первой степени.
И тогда Лоренц придумывает такое, что позволяет одним махом и получить при усреднении своих уравнений в точности уравнения Максвелла, и точно объяснить отрицательный результат опыта Майкельсона — Морли. Математический трюк, правильно угаданная форма преобразований для перехода от неподвижной к движущейся относительно неподвижного эфира системе отсчета. Эту находку Лоренц делает в 1904 году (справедливости ради надо сказать, что у Лоренца был предшественник: за четыре года до него такие же формулы получил английский физик Джозеф Ламор).
Стоит ли что-нибудь за этим трюком? Посмотрим на формулы преобразований, они довольно просты:
В этих формулах штрихованные величины относятся к движущейся относительно эфира, а нештрихованные — к неподвижной системе отсчета, движение одномерное, х- — координата тела (отсчитываемая, например, по линейке), f — время (отсчитываемое, например, по наручным часам).
По Галилею, все очень просто: подставляя для движущегося тела х вместо х для неподвижного, получим те же уравнения динамики, что и для неподвижного тела. В уравнения движения (уравнения Ньютона) входят не скорости, а ускорения, по скоростям не отличить (как не отличить в реальном мире), покоится тело или движется. Абсолютного равномерного движения в механике нет.
С электродинамикой Максвелла почему-то получается все не так. Абсолютно неподвижный эфир позволяет определить по отношению к нему абсолютное движение заряженных и намагниченных тел. Но опыт Майкельсона — Морли разрушает эту иллюзию. Чтобы спасти ее, Лоренц вынужден придумать свои преобразования. Но из них следуют совершенно поразительные вещи: преобразование
для координаты показывает, что движущиеся тела сокращают свои размеры в направлении движения, а по поводу «сокращения» времени, да еще и его зависимости от координаты вообще ничего путного сказать нельзя!
Какова же физика сокращения размеров движущихся тел? (Независимо от Лоренца еще в 1891 году к мысли о таком сокращении пришел англичанин Джордж Фитцджеральд.) Лоренц полагает, что под влиянием поступательного движения сокращаются размеры электронов. И не только электронов, вообще всех, в том числе и незаряженных, частиц: ведь в формулы преобразования заряд не входит, они в равной мере относятся к любым телам. Это значит, что если сокращение электронов вызывается некими силами (скорее всего, неэлектромагнитного происхождения), то и любые другие силы, действующие между незаряженными частицами, должны при движен и частиц меняться точно таким же образом. Вот к каким допущениям неотвратимо приводит гипотеза неподвижного эфира!
А главное — было бы хоть одно экспериментальное доказательство его существования! Нет, как ни старались экспериментаторы, — а было ради чего стараться, — какие хитроумные опыты ни ставили, ни в одном из них не удавалось обнаружить даже малейшего намека на эфирный ветер, который должен был обдувать движущиеся тела.
Многообразие эфиров свелось в конце концов к одному эфиру. Разнообразие электромагнитных свойств этого эфира, все усложняясь, свелось в конце концов к одному-единственному, но зато решающему свойству: эфир неподвижен. Оставалось сделать последний шаг, чтобы лишить эфир и этого свойства. Такой шаг был сделан Альбертом Эйнштейном в 1905 году.
Научный подвиг Эйнштейна сам но себе велик, но он кажется еще более великим на фоне того факта, что к представлениям, высказанным Эйнштейном, кроме Лоренца, Лармора, Фитцджеральда, близко подошли и такие выдающиеся ученые, как Анри Пуанкаре и Поль Ланжевен. Пуанкаре, будучи очень крупным математиком, всесторонне исследовал математическое содержание преобразований Лоренца и, по существу, предвосхитил не только работу Эйнштейна, но даже и последовавшую спустя три года работу Минковского, о которой еще будет идти речь. Пуанкаре получил практически все основные соотношения теории относительности, но, как и все другие предшественники Эйнштейна, до конца не смог понять всей глубины стоящего за ними всеобщего, касающегося всех (а не только электромагнитных!) явлений принципа относительности.
Выводы, к которым пришел Эйнштейн в результате длительных размышлений, выглядят чрезвычайно просто.
О, эта обманчивая простота, завораживающая дилетантов! Не было никаких изнурительных расчетов, бурных научных дискуссий с именитыми оппонентами в переполненных аудиториях, еженощных бдений. Была размеренная провинциальная жизнь со спокойной службой в патентном бюро, прогулками по горам, музицированием с друзьями, жизнь с первыми семейными радостями п все это время — с неотступным размышлением на одну-един-ственную тему. Недаром, когда Эйнштейна впоследствии спросили, как он пришел к теории относительности, он ответил удивительно просто и скромно: «Я об этом много размышлял».
Конечно, то были размышления молодого гения, ума, еще не успевшего обрасти привычными догмами классической физики, ума чрезвычайно критического и притом последовательного в своей критичности. Вероятно, вовсе не случайно многие будущие гении были весьма посредственными школьниками и студентами: многое из того, что ложится камнем укоренившихся предрассудков в неокрепшие умы, они пропускали мимо ушей и приходили к поре возмужалости ума, сохранив еще во многом детское цельное мировосприятие, — контраст, столь удивляющий людей посредственных.
Теоретики выбиваются из сил, пытаясь объяснить удивительнейшее постоянство скорости света? Теоретики утверждают, что электродинамика — удивительный заповедник, где в корне рушатся законы механики, а потом кидаются в другую крайность, пытаясь сохранить механический принцип относительности Галилея? Оставим им эти заботы, не будем задумываться до поры до времени над тем, в чем причина постоянства скорости света. Просто примем этот факт к сведению и используем его в качестве постулата. Дальше: может ли вообще быть какой-нибудь механический ли, электрический или магнитный опыт, с помощью которого можно было бы убедиться в том, покоимся ли мы или равномерно движемся? Если в неподвижной системе отсчета движущийся равномерно заряд наводит магнитное поле, а в движущейся вместе с зарядом системе это поле исчезает, значит надо перестраивать теорию. Не должно быть ни одного такого опыта ни в механике, ни в электродинамике. Природа едина: это общее утверждение, руководившее Эйнштейном всю его
жизнь, не позволяет выделять электродинамику в заповедник, где нарушается принцип относительности движения. Необнаружимость абсолютного движения Эйнштейн называет обобщенным (по сравнению с чисто механическим) принципом относительности и вводит в качестве второго постулата. И все: больше не надо никаких постулатов. Теперь можно рассмотреть, что из них получается. Результат такого рассмотрения Эйнштейн публикует в 1905 году. Он и представляет собой специальную теорию относительности.
Действительно, теперь все становится поразительно просто. Но за этой простотой — переворот в прямом и в переносном смысле: задача поставлена с головы на ноги. Не из теории вывести постоянство скорости света, а из этого постоянства вывести теорию. Не приводить к согласию электродинамику и механику, придумывая видоизмененные преобразования Галилея, а исходить из существующего в природе глубокого единства явлений, в том числе механических и электромагнитных, и отсюда «автоматически» получить преобразования Лоренца.
Простота подхода Эйнштейна мнимая, за нею скрыт гигантский скачок мысли. За новую простоту приходится расплачиваться чрезвычайно существенно — радикальным изменением человеческих понятий о пространстве и времени, тех представлений, что бытуют в нормальном сознании с незапамятных времен и кажутся настолько очевидными, что философ Иммануил Кант даже объявил их априорными, т. е. полученными до какого-либо опыта, существующими в сознании человека от века (или от бога!). Эти радикальные изменения и выражаются выведенными из основных постулатов (а не придуманными) формулами обобщенного преобразования относительности, которые совпадают с теми, что ва год до того были в окончательном виде получены Лоренцем. Но теперь эти формулы — не математический трюк, они уже наполняются глубоким физическим смыслом.
О чем говорит первая формула? О том, что сокращаются размеры электрона в направлении его движения вледст-вие изменения действующих на него неизвестных сил? Нет, о том, что сокращаются размеры всех движущихся тел, если мерять их линейками, находящимися в руках неподвижного наблюдателя. Очень существенно, что это эффект взаимный: такие сокращения размеров и в том же направлении зарегистрирует равномерно движущийся наблюдатель, меряя своей линейкой предметы, находящиеся в неподвижной системе. Это совершенно реальный эффект, он имеет кинематическое, а не динамическое происхождение, он связан лишь со скоростью относительного движения, а не с силами в движущихся системах тел или частиц.
О чем говорит вторая формула? У Лоренца, по сути дела, ни о чем, в понятие местного времени V не вкладывается решительно никакого физического содержания. У Эйнштейна это время оказывается в глубоком смысле местным: в мире просто-напросто не существует единого и абсолютного времени! В каждой точке Вселенной свое время, определяемое происходящими в ней событиями в такой же степени, в какой ими определяются размеры тел. В специальной теории относительности фигурирует единственный род таких событий — равномерное движение тел, в общей теории относительности появляется другой — ускоренное их движение.
Вот когда в споре Ньютона и Лейбница о том, что такое пространство, история присуждает победу Лейбницу. У Ньютона пространство абсолютно инертно по отношению к телам, оно просто безграничное вместилище всех тел. У Лейбница пространство — мера отношений тел друг к другу. Отныне лейбницево представление наполняется конкретным смыслом: свойства пространства начинают определяться относительными движениями тел. Размеры тел начинают зависеть от скорости их относительного движения: чем быстрее тело движется, тем меньше измеренные «со стороны» его размеры. Аналогичные вещи происходят и со временем, ход его также определяется относительным движением тел: чем быстрее движется тело, тем медленнее измеренный «со стороны» ход времени для него.
Исчезает и представление об абсолютной одновременности событий в мире: раз нет единого времени, то нет и такой одновременности. Одновременными оказываются такие события в мире, для которых связанные с ними часы при взаимной их сверке показывают одно и то же время. А сверить разнесенные часы можно с помощью световых сигналов, посланных от одних часов к другим. Поэтому, например, оказываются одновременными события, происшедшие на Солнце и на Земле с интервалом 8 минут: именно такое время требуется свету, чтобы преодолеть разделяющее их пространство.
Но световой сигнал — это не просто удобный способ скорейшей сверки удаленных друг от друга часов. Световой сигнал — это распространяющееся электромагнитное поле, вестник взаимодействия! Одновременность, по сути дела, означает, что одно из двух взаимосвязанных событий — следствие — не может произойти раньше другого — причины.
В ньютоновом дальнодействии сила действовала мгновенно, она не требовала времени для своего распространения, сигнал о силе без затраты времени достигал сколь угодно далеких уголков Вселенной, и одновременность, естественно, была абсолютной. В максвелловом близкодей-ствии сила уже распространяется с конечной скоростью, и связанные взаимодействием события не произойдут раньше, чем поле от одного партнера по взаимодействию дойдет до другого. Одновременность теперь зависит от взаимодействия, становится относительной.
Можно спросить, однако: то, что скорость света не бесконечно велика, знали еще во времена Ньютона, почему же тогда не догадались об относительности одновременности? Да просто потому, что свет, хотя и мог служить обыкновенным «сигналом» о том или ином событии (например, на световом телеграфе), в умах ученых еще не был сигналом о взаимодействии. Понадобилось представление о поле, установление того факта, что электромагнитное поле распространяется со скоростью света. Теория Эйнштейна была бы безусловно невозможна без теории Максвелла, новое представление об одновременности — без полевой картины взаимодействия.
Где же в этой картине эфир? А его упраздняет обобщенный принцип относительности движения Эйнштейна. Абсолютное равномерное движение абсолютно невозможно обнаружить, а раз так, то не существует никаких абсолютных систем отсчета, связанных с неподвижным эфиром. Эйнштейн не постулирует, что эфира не существует. Он говорит точнее: нет ни одного физического явления ни в механике, ни в электромагнетизме, в котором можно было бы обнаружить присутствие эфира. Эфир попросту не нужен!
Так закончилась тысячелетняя история эфира. Эфир исчез. Что же осталось на его месте?
Частицы и поля.
ПОЛЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ
Время действия: первая половина XX века.
Действующие лица: Эйнштейн, Планк, Лоренц, Фридман и другие ученые.
Какое же отношение к себе встретила теория Эйнштейна? Троякое.
Одна часть физиков не поняла и не приняла ее вплоть до конца своих дней. Таких физиков давно уже не осталось, их поколение вымерло, унеся с собой в могилу твердое убеждение в существовании неподвижного эфира, ньютонова абсолютного пространства и абсолютного времени. Другая часть не поняла теории относительности, но приняла ее со вздохом облегчения: теория позволяла легко и просто избавиться от мучительных трудностей с эфиром в электродинамике. И, наконец, совсем небольшая группа физиков поняла, приняла эту теорию и начала работать над дальнейшим ее развитием.
В числе физиков второй группы оказался такой величайший научный авторитет того времени, как Лоренц. Он никогда и нигде не сказал ни одного резкого слова по поводу теории Эйнштейна, порою сожалел только, что не понял истинного смысла придуманных им же самим преобразований относительности; но с концепцией неподвижного эфира, с представлением об абсолютной одновременности он так и не смог расстаться до самой своей смерти. Прожить двадцать лет бок о бок с теорией относительности и не понять ее — это может показаться весьма удивительным, если учесть всю мощь интеллекта Лоренца. Но это так.
Мы уже говорили о трагедии «рамок ума», от которой страдал и Максвелл, и наверняка многие другие ученые,
даже блестящие. Колоссальная интеллектуальная мощь в формулировке основных принципов и выводе многочисленных следствий из них, но в определенных рамках, созданных воспитанием, образованием, научным окружением.
Быть может, счастье Эйнштейна в том, что образование его не было столь систематическим и его не окружали высочайшие научные авторитеты. А когда была опубликована его первая работа по теории относительности, то выяснилось, что он ничего не энал и о ключевом для эфира опыте Майкельсона — Морли и даже не был знаком с последними трудами Лоренца! Конечно, пример с Эйнштейном вряд ли творит о всеобщей пользе несистематического образования или научного отшельничества. Есть безжалостная поговорка древних римлян: что дозволено Юпитеру, то не позволено быку. Надо иметь фантастически мощный и критический ум Эйнштейна, чтобы пошло на пользу и самостоятельное образование, и научное одиночество!
К физикам, быстро усвоившим теорию Эйнштейна и начавшим ее дальнейшую разработку и широкую пропаганду, в первую очередь следует отнести немецкого физика Макса Планка. Он был фигурой эйнштейновского масштаба и замечательным исключением из правила, согласно которому почти все основополагающие открытия в науке делаются молодыми людьми, еще не достигшими тридцати — сорокалетнего возраста. Свою гениальную гипотезу о квантах электромагнитного излучения Планк высказал в сорокадвухлетнем возрасте, всего лишь за пять лет до появления теории относительности.
Сотрудничество Планка и Эйнштейна можно считать замечательным примером совместной работы двух гениев. Планк заложил основы динамики теории относительности Эйнштейна (релятивисткой динамики), а Эйнштейн вдохнул жизнь в планковские кванты энергии излучения, «материализовав» их в образе световых частиц — фотонов.
Первое, что вытекает из релятивисткой динамики, это знаменитое соотношение Эйнштейна Е=тс2 между энергией и массой движущихся тел и полей. Мы подчеркиваем: тел и полей. Для Эйнштейна с самого начала поле было столь же материально, сколь и вещество. Он говорил: «Электромагнитные поля оказываются здесь не состояниями некоей материи (максвеллова эфира. — В. Р.), а самостоятельно существующими объектами, имеющими одинаковую природу с весомой материей и обладающими вместе с тем свойством инерции».
По поводу «одинаковой природы» поля и весомого вещества у нас будет еще обстоятельный разговор, сейчас же важно иное — поле как самостоятельная сущность. И закон Е -= тс2 был первоначально установлен для энергии поля и электромагнитной массы поля же, той самой массы, которую впервые ввел Джозеф Томсон еще за четверть века до описываемого времени.
Но из релятивистской динамики тот же закон следует и для весомых частиц, в том числе для электронов. А из него непосредственно получается, что масса электронов зависит от их энергии и должна расти с увеличением их скорости. Эйнштейн не был первым, кто получил правильную формулу для этого явления, у него было по крайней мере трое предшественников. Но, как и в случае с преобразованиями Лоренца, Эйнштейн не придумал произвольно, а «автоматически» получил эту формулу из своей теории.
Теперь уже экспериментаторы, спокойно взиравшие ранее на хитроумные построения теоретиков эфира, принялись за основательную проверку эйнштейновой формулы. Первые ее подтверждения поступили довольно быстро, но в методику опытов вкрадывались неточности, и окончательный достоверный результат был после всех уточнений получен лишь в 1914 году. Впрочем, дотошные физики и впоследствии неоднократно проверяли эту формулу, но в основном уже не для того, чтобы убедиться в ее правильности в целом, а лишь в поисках хотя бы малых отклонений от нее: если бы их удалось найти, то в силу чрезвычайной универсальности формулы это означало бы открытие принципиально нового явления огромной важности. Но формула Эйнштейна устояла и стоит до сих пор. Видимо, искать новое надо где-то в другом месте!
Проходит только три года с момента появления первой работы Эйнштейна по специальной теории относительности, и польский ученый Герман Минковский завершает ее математическое оформление, придавшее теории необычайно изящный вид. В работе Минковского физика делает дальнейший шаг вперед от классических представлений о пространстве и времени. Теперь уже — и навсегда — пространство и время перестают существовать порознь, независимо друг от друга, они объединяются в новое понятие огромной важности — «пространство-время», имеющее четыре измерения.
Теория относительности начинает входить в курсы физики, становится темой лекций. В одной из таких лекций Планк следующим образом оценивает ее выводы и значение: «Вместо так называемого свободного эфира вступает абсолютная пустота, в которой электромагнитная энергия распространяется так же самостоятельно, как и весомые атомы. Я считаю только последовательным, что абсолютной пустоте не приписывается каких-либо физических свойств... Новое понятие о времени... превосходит по своей смелости все, что было сделано до сих пор в области умозрительного естествознания и в философской теории познания; в сравнении с ним неевклидова геометрия — не больше, чем детская игрушка. Между тем в противоположность неевклидовой геометрии, имеющей пока серьезное значение только для чистой математики, принцип относительности претендует с полным правом на реальное физическое значение. По широте и глубине вызываемого им переворота в области физического мировоззрения с ним можно сравнить разве что введение коперников ской системы мира».
А пока Планк высказывает с трибуны столь хвалебные и столь справедливые слова, Эйнштейн уже раздумывает о следующем шаге — общей теории относительности, которая докажет, что неевклидова геометрия — вовсе не «детская игрушка» и что она имеет серьезнейшее значение не только для чистой математики, но и, пожалуй, для самой глубокой физики двадцатого столетия. Что движет Эйнштейном? Убежденность во всеобщности принципа относительности, в невозможности обнаружить где бы то ни было в природе и в каких-либо явлениях или опытах любое абсолютное движение тел по отношению к пустоте, будь оно равномерным или ускоренным. А значит — и стремление распространить принцип относительности с равномерных на ускоренные движения тел.
Каковы наиболее очевидные проявления ускоренных движений? Это преодоление инерции тел, описываемое вторым законом Ньютона, и падение тел под действием силы тяготения, описываемое законом всемирного притяжения, открытым тем же Ньютоном.
Инерция и тяготение. А что, собственно, известно о них? Не очень-то много ко времени Эйнштейна (и, добавим мы, к сегодняшнему дню).
Начнем с инерции. Очень простой и удобный пример ускоренного движения — это вращение. Ньютон ставит знаменитый опыт с водой в ведре, вращающемся на веревке, и замечает, что вода в нем постепенно прогибает свою поверхность в центре ведра и поднимается у его стенок. В невращающемся — покоящемся или равномерно движущемся — ведре это явление не обнаруживается. Более того, не обнаруживается и действие каких-либо тел на воду (стенки ведра просто ограничивают объем воды от разбрызгивания). Из этого Ньютон заключает, что движение воды есть движение абсолютное. Относительно чего? Ясно — относительно абсолютного пространства. Для такого движения законы Ньютона, установленные для покоящихся или равномерно движущихся (в совокупности инерциальных, как их называют) систем отсчета уже несправедливы. Чтобы вернуть их к прежнему виду, надо сделать поправку на неинерциальность системы отсчета (например, связанной с вращающимся ведром) — ввести силы инерции, центробежную силу в данном случае.
Каково же их происхождение? Ньютон этим вопросом не задается. Первым ставит и решает этот вопрос ученый епископ Беркли, затем, спустя полтораста лет, австрийский физик Эрнст Мах. У нас еще будет разговор и об одном и о другом. К сожалению, оба они были не только учеными, но и грешили философией, причем «нагрешили» так, что в результате возникло весьма ядовитое философское течение, с которым приходится воевать и поныне.
Что касается Беркли, то уже он отвергал ньютоново представление об абсолютном пространстве, поскольку такое пространство ненаблюдаемо. Если во Вселенной существовало бы только одно-единственное тело, то говорить о его движении было бы бессмысленно. В том числе и о вращении. Относительно же каких неподвижных объектов можно определить вращение? Очевидно, относительно удаленных неподвижных звезд. Беркли и принимает, что эти звезды ответственны за возникновение сил инерции, в том числе центробежной силы при вращении ведра с водой.
Мысль Беркли развивает Мах. Он также стоит на позиции относительности движения. Но тогда, спрашивается, не все ли равно считать, вращается ведро с водой относительно неподвижных звезд или эти звезды вращаются относительно ведра? Вроде бы не совсем все равно: откуда же тогда взяться искривлению поверхности воды в ведре, а если смотреть шире, то и сжатию вращающегося
земного шара, повороту плоскости качаний маятника в знаменитом опыте Фуко, «доказавшем» вращение Земли? Вместе с тем это «не все равно», в сущности, очень плохо: вращение, кажется, в самом деле приобретает абсолютный характер.
Как же поступить? Видоизменить закон инерции, сформулировать его так, чтобы оба представления — о вращающемся ведре с водой относительно звезд и о вращающихся звездах относительно неподвижного ведра — стали равноправными. А для этого надо учесть распределение вещества во всей Вселенной, ибо в конечном счете именно это вещество определяет все силы инерции. Инерциальные системы отсчета — это такие системы, которые не обладают ускорением относительно «центра масс» этого распределения, или, иначе, относительно неподвижных звезд; неинерциальные системы такое ускорение имеют.
Некоторые соображения, появившиеся, впрочем, уже после работ Эйнштейна, и численные оценки, которые удалось сделать на основе успехов современной астрономии и астрофизики, приводят к закону для силы инерции, действующей между телами с инертными массами шх и тгг2, имеющему вид: ...
где г — расстояние между телами; а — некоторая фундаментальная постоянная.
Что известно о тяготении? Ньютон предложил для силы тяготения формулу где обозначения совпадают с теми, что приняты в формуле для силы инерции, a G — гравитационная постоянная, численное значение которой было определено еще Кэвенди-шем. Но ш1 и т2 — уже не инертные, а гравитационные массы тел. Еще Ньютон полагал, что оба вида масс равны друг другу. Впоследствии это предположение превратилось в уверенность: ко времени Эйнштейна равенство инертной и гравитационной масс было экспериментально доказано с точностью до одной стомиллионной (а сегодня и до одной стомиллиардной).
Какова же природа тяготения? «Измышление гипотез» после Ньютона продолжалось и продолжается по сей день учеными, а также всеми, кому не лень, чрезвычайно активно. Это не удивительно: природа главной силы, движущей мирами, остается до сих пор совершенно таинственной и столь же интригующей. Естественно, размежевание физиков на два лагеря — корпускулярный и эфирный — определило и существование двух классов гипотез о сущности тяготения.
Одни считали, что все тела во Вселенной бомбардируются потоками частиц со всех направлений, но взаимно заслоняют часть этого потока друг от друга, и в результате некомпенсированные удары частиц в «незаслоненные» участки тел толкают тела друг к другу. Удары приходилось принимать упругими, иначе тела должны были бы разогреваться до колоссальных Температур. Вместе с тем для количественно правильного предсказания сил тяготения приходилось допускать существование столь мощных потоков частиц, что они должны были бы весьма ощутимо влиять на движения и небесных, и земных тел. Выявились и другие несообразности, так что эту чрезвычайно элегантную гипотезу пришлось сдать в архив. (Сколько их там — таких простых и красивых гипотез! Видимо, от гипотез, помимо элегантности, требуется и кое-что другое.)
Другие полагали, что причины тяготения кроются в эфирных эффектах. Эйлер, например, подобно Ньютону (помните его «гипотезу» о вытеснении легкого эфира тяжелым) считал, что все дело в плотности эфира, окружающего притягивающиеся массы, так что при движении тел должны возникать эфирные токи, напоминающие потоки жидкости и оказывающие давление на тела, что заставляет их сближаться друг с другом. Норвежский ученый Карл Бьеркнес уже на пороге нашего века попытался приписать тяготение механическим пульсациям тел в эфире. Действительно, ему удалось даже на опыте продемонстрировать, как сближаются два тела, одновременно колеблющиеся в жидкости. Правда, для этого эфирную жидкость надо было считать несжимаемой, а главное — объяснить, каким образом удаленные тела умудряются приходить в синхронные колебания.
Появились и немеханические эфирные теории тяготения, привлекавшие для его объяснения электрические взаимодействия. Одну из таких теорий построил Лоренц; однако у него получалось, что притяжение требует непрерывного подвода энергии в объем, где находятся притягивающиеся частицы, а в самом этом объеме энергия бесследно исчезала! Естественно, закон сохранения энергии наложил свое вето на эту теорию.
Как поступил со всей этой информацией Эйнштейн? Точно так же, как и его великий предшественник Ньютон. Он отложил ее в сторону, сказал себе: «гипотез не измышляю» — и не стал задумываться о природе ни сил инерции, ни сил тяготения. Он, как мы уже знаем, поставил задачу «поскромнее»: распространить принцип относительности на неинерциальные системы. Для этого ему понадобилось дополнительно к постулату о необнаружи-мости абсолютного движения ввести только один постулат: инертная и гравитационная массы точно равны друг другу.
И вновь бросается в глаза поразительная экономность постулатов в теоретических построениях Эйнштейна. Видимо, это секрет гения: из всего множества еще не понятых явлений природы выбирать в постулаты — постулировать, а не пытаться объяснить, оставив это дело будущему! — такие, что бьют в самую точку, придают теории наибольшую общность.
Что дает этот постулат? Он позволяет, пользуясь формальным сходством выражений для сил инерции и сил тяготения, а физически — полным сходством в небольших областях пространства равномерно ускоренного движения и движения в поле тяготения, описать тяготение через много лучше изученную инерцию. А говоря проще, построить количественную теорию тяготения, причем не дально-действующую, а близкодействующую, полевую! Этому благоприятствует то, что тяготение и ускоренное движение неразличимы в малом, в крошечных областях пространства, но теория поля, как мы знаем, и строится как теория передачи (взаимодействия маленькими шажками.
Принцип эквивалентности ускоренно движущихся и «падающих» в поле тяготения систем отсчета быстро принес первые — как выяснилось впоследствии, верные только качественно, но не количественно, — плоды. Одним из них было «покраснение» световых лучей, т. е. уменьшение их частоты при распространении в гравитационном поле, другим — искривление световых лучей, распространяющихся в поле тяготения. Это были еще первые подходы к проблеме, оставляющие в стороне саму структуру гравитационного поля. Эйнштейну предстояло найти систему уравнений поля, аналогичную той, что нашел Максвелл для электромагнитного поля. Эта задача была тем более трудна, что для нее надлежало использовать совершенно новый для физики математический аппарат.
Сегодня кажется уже почти несомненным, что самые крупные по своему значению физические теории характеризуются использованием новой и непривычной математики. Для формулировки своих законов механики Ньютону пришлось (параллельно с Лейбницем) разработать дифференциальное исчисление, Максвеллу для своей теории электромагнетизма использовать незадолго до того разработанные его соотечественником Гамильтоном кватернионы (от которых пошли известные всем векторы), Эйнштейну для теории гравитационного поля — изобретенные за полвека до него тензоры, только существенно развив их исчисление вместе с математиком Гроссманом, квантовой механике — операторы и матрицы. Поражает своеобразная синхронность: к услугам каждой такой теории всегда уже имеется нужный математический аппарат, словно математики, работающие в своих «надмирных» сферах, наделены предчувствием того, что их «нематериальные» построения вскоре могут понадобиться физикам!
Тензоры потребовались Эйнштейну не случайно. При первых же попытках построения теории гравитационного поля он понял, что геометрия этого поля не будет евклидовой. Откуда такое неожиданное заключение? Еще раз вспомним, какие «функции» выполняет пространство. У Ньютона оно абсолютное, т. е. абсолютно безразличное к движению тел, к их взаимодействиям. Естественно, что геометрия такого пространства, очищенного от взаимодействующих тел, не должна в какой-либо мере зависеть от самих этих тел, должна носить абсолютный характер. Единственное, что с нею соотносится в реальном мире, что представляет, так сказать, ее опытную, материальную базу, — это протяженность тел. Именно такова геометрия, разработанная еще в Древней Греции математиком Евклидом. В неизменном виде она служила базисом физики вплоть до начала нашего века.
Но уже в девятнадцатом веке наиболее проницательные ученые начали задумываться над обоснованием самой геометрии, о том, что лежит в основе тех аксиом, на которых она строится. Оказалось, что одну из евклидовых аксиом (аксиому о параллельных), вовсе нельзя считать незыблемой аксиомой. Что получится, если ее отвергнуть? Новая геометрия, весьма непохожая на евклидову.
Такая геометрия была разработана гениальными математиками — нашим соотечественником Н. И. Лобачевским, венгром Иштваном Бо-яи, немцем Карлом Гауссом в первой половине прошлого века.
Что двигало ими: только ли любознательность, стремление просунуть нос в щелочку, образуемую аксиомой о параллельности в монолитном здании евклидовой геометрии, и посмотреть, что там за нею? Не только: на таких поисках отразилась, несомненно, общефилософская критика «мертвенного» ньютонова пространства, в котором безраздельно царила евклидова геометрия. Начав со скромного требования логической непротиворечивости новых геометрий, математики все острее чувствовали, что обосновать геометрические принципы, исходя из самой геометрии, нельзя. Для этого надо было выйти за ее пределы, необходимо было обратиться к физике. Мысли о физическом обосновании геометрии можно найти в работах Лобачевского, а впоследствии их со всей отчетливостью высказал великий немецкий математик Бернгард Риман в 1854 году. Но и добавил: переступать эти пределы сегодняшний день еще не дает повода.
Вплоть до начала нашего века было высказано немало догадок о связи пространства со свойствами тел. Так, Гельмгольц показал, что евклидовой геометрии можно дать обоснование, исходя из свойств абсолютно твердого тела. Специальная теория относительности установила, однако, что протяженность тел должна меняться в направлении их движения, а значит абсолютно твердых тел, обладающих размерами, независящими от их движения, в природе не существует. Этот вывод нанес первый физический удар по евклидовой геометрии. Она, правда, устояла, сохранив почти все свои основные элементы и утеряв из них лишь один — абсолютное постоянство кратчайшего расстояния между двумя точками по прямой, которую в своей четырехмерной геометрии мира Минковский заменил интервалом переменной длины.
Второй и основной удар по евклидовой геометрии нанесла общая теория относительности Эйнштейна. Прежде чем рассказывать о ней, зададим вопрос: а что, собственно, означает неевклидовость пространства? Она означает, в сущности, две вещи: пространство искривляется, кратчайшим расстоянием между любыми двумя точками в нем оказывается уже не прямая, а некоторая кривая линия; кроме того, кривизна пространства различна в общем случае в разных его точках. Простым примером такого искривления можно считать «наземное» пространство: в нем ведь кратчайшее расстояние между любыми двумя пунктами на земной поверхности — не прямая, а отрезок дуги; кроме того, поскольку Земля сжата у полюсов, меридианы не являются идеальными окружностями, иначе говоря, кривизна земной поверхности переменна.
А чем, в свою очередь, определяется кривизна «земной» геометрии (конечно, заметная лишь при сравнительно больших расстояниях между точками)? Шарообразной формой самой Земли, но эта форма есть результат действия сил тяготения, сплотивших некогда бесформенное облако частиц в планету.
Кривизна пространства определяется полем тяготения! И обратно, описать структуру поля тяготения можно с помощью искривленного пространства. В этих двух фразах и заключена идейная сущность общей теории относительности Эйнштейна — теории гравитационного поля.
Заслуга Эйнштейна состоит в том, что на смену замечательным, но смутным догадкам о том, какая причина может стоять за кривизной пространства, за неевклидовой его геометрией, он привел реальный физический фактор, обусловливающий это искривление, — поле тяготения. Кривизна пространства в каждой его точке зависит от напряженности гравитационного поля в этой точке.
Что может быть прообразом евклидовой прямой? Луч света. Еще в семнадцатом веке было доказано, что свет стремится распространяться по кратчайшему пути между двумя точками, так что любой отрезок светового луча в абсолютно пустом пространстве можно принять за прямую. Во всех теориях дальнодействия линия действия силы при всей ее условности в таких теориях (в них ведь сила в пространстве не распространяется) — всегда прямая, прочерченная между удаленными взаимодействующими телами. Затем появляется теория электромагнитного поля Максвелла. Казалось бы, это поле должно искривить пространство: ведь силовые линии Фарадея — Максвелла вовсе не прямые, а, как правило, кривые линии. Достаточно посмотреть на картинки силовых линий взаимодействия электрических зарядов или магнитных полюсов. Однако нет: свет и в теории Максвелла в пустоте (или в однородном эфире) по-прежнему распространяется по прямым линиям.
Но вот «включается» гравитационное поле, и световые лучи в пространстве, в котором находится это поле, перестают быть прямыми. Этот физический факт получает геометрическое оформление: пространство искривляется, в нем в общем случае исчезают прямые линии, кратчайшим расстоянием между точками становится кривая. Это и есть неевклидово оформление, такое интересное, не более, для математиков прошлого века, и такое важное и глубокое для физиков нашего века.
Физический язык теории гравитационного поля становится адекватным математическому языку неевклидовой геометрии. Адекватным, но не тождественным! В этом и заключается ответ на те недоуменные вопросы, которые может задать читатель, наблюдая, как пустое пространство начинает вроде бы наделяться некими физическими свойствами. Нет, это не физические, но математические свойства. И математические свойства уже не пустого, а занятого полем пространства отражают физические свойства поля.
Пространство характеризуется понятием расстояния между любыми двумя его точками — длиной. Эта характеристика называется метрикой пространства. Пока метрика постоянна, куда бы ни перенести в пространстве выбранные две точки, имеет место геометрия Евклида. Именно таково евклидово (или ньютоново) абсолютное пространство, в котором даже если тела и взаимодействуют, то все равно взаимодействие «привязано» к телам и не распространяется в пространстве между ними. Но метрика пространства, занятого гравитационным полем, уже не постоянна, расстояние между любыми двумя точками в нем зависит от того, в какие места эти точки помещены. Пространство стало неевклидовым, с характеристиками, зависящими от положения и движения гравитационно взаимодействующих тел.
Это очень нелегкий для понимания вопрос — связь характеристик пространства (и, как мы можем уже догадываться, свойств времени) с характеристиками взаимодействия тел. Поэтому мы и сделали несколько подходов с разных сторон к разъяснению такой связи. Этой теме посвящено много толстенных физических и философских томов, и мы, конечно, далеко не исчерпали ее. Но для наших скромных целей сказанного, пожалуй, достаточно.
Основное уравнение, которое получает Эйнштейн в итоге напряженных десятилетних трудов, — это уравнение
для метрики пространства, в котором существует гравитационное поле. Конечно, уравнение Эйнштейна дает много больше, чем было взято в дорогу при его выводе. Оно позволяет вычислить структуру гравитационного поля, если известно распределение тяготеющих масс во Вселенной, оно предсказывает и дает количественно правильную оценку целому ряду наблюдаемых явлений. Однако вот что любопытно: предсказательная его сила, как правило, впечатляет куда сильнее, чем величина предсказываемых эффектов. Искривление пути светового луча при прохождении его от далекой звезды мимо Солнца составляет всего лишь 2 угловые секунды. Смещение в пространстве точки орбиты Меркурия, наиболее близкой к Солнцу, составляет всего лишь 40 угловых секунд за столетие, а для других планет Солнечной системы и того меньше. Сдвиг частоты световой волны в сторону красного конца видимого спектра при распространении света в гравитационном поле Солнца составляет всего лишь около одной миллионной ее доли.
Ничтожные эффекты! Но они принципиально новые, неизвестные в ньютоновой теории тяготения. И поэтому можно вполне понять ту сенсацию, которую вызвало известие, что снаряженная в Африку английская астрономическая экспедиция для наблюдения солнечного затмения 1919 года обнаружила один из предсказанных Эйнштейном эффектов — искривление пути световых лучей вблизи Солнца. Казалось бы, неожиданно быстрый триумф и признание теории относительности? Ничуть ни бывало: когда спустя два года Эйнштейну присуждают Нобелевскую премию, он получает ее не за теорию относительности, а за теорию фотоэлектрического эффекта, разработанную им еще в 1905 году. Что и говорить, достижение тоже, как мы увидим в следующем акте, чрезвычайно важное, но сделавшее далеко не такой переворот в научных воззрениях, какой совершила теория относительности.
Опять непонимание? Да, конечно. Непонимание даже крупнейшими учеными, мировыми физическими авторитетами, которые и делают погоду в мире физики. Но замолчать теорию относительности, разумеется, уже было невозможно. Неизвестно, что сыграло большую роль для людей, истерзанных только что закончившейся бесконечно тяжкой мировой войной: то ли «звездный», столь далекий от земных враждований подвиг ученого, то ли надежды на мир, вдохновленные творческим сотрудничеством еще недавних врагов — немецкого физика и английских астрономов, но теория относительности и ее творец неожиданно стали настолько популярными среди широких масс, как еще ни одна теория и ни один ученый.
Сам Эйнштейн получил из своего основного уравнения гравитационного поля стационарную Вселенную, т. е. распределение вещества в ней в целом, не меняющееся со временем. В 1925 году советский ученый А. А. Фридман нашел и другое, нестационарное решение этого уравнения, из которого следовало, что распределение вещества во Вселенной со временем может меняться, вещество может расширяться в пространстве. Интересно, что Эйнштейн сначала не поверил результату Фридмана, счёл его плодом математической ошибки при решении уравнения гравитационного поля и отнесся к известию Фридмана довольно сурово, однако потом он признал свою оплошность и извинился перед ученым. А спустя только четыре года теоретический вывод Фридмана был подтвержден американским астрофизиком Эдвином Хабблом, открывшим систематическое разбегание галактик. Это предсказание общей теории относительности давало уже грандиозный эффект, который в последние годы получил теоретическое объяснение в модели нашей Вселенной, «взорвавшейся» из чрезвычайно сжатого и раскаленного сгустка материи несколько миллиардов лет назад.
Подробный рассказ об этой чрезвычайно увлекательной теме выходит за рамки нашего повествования, равно как и описание поразительных свойств пространства и времени вблизи огромных космических масс, в том числе возле потухших звезд — так называемых коллапсаров, или «черных дыр». Достаточно лишь сказать, что общая теория относительности легла в основу современной теоретической астрофизики, переживающей в последние годы бурный расцвет. А специальная теория относительности нашла воплощение своему знаменитому соотношению между энергией и массой не более не менее как в освобождении гигантской внутриядерной энергии. Мало того, эта теория положена в фундамент дальнейшего развития теории полей — и электромагнитного, благодаря которому она сама возникла, и ядерного, и слабого полей, открытие которых состоялось уже во второй четверти нашего века.
На этом мы сейчас оставим теорию относительности и обратимся к другому замечательному результату теории полей — представлению о квантах поля.
КВАНТЫ ПОЛЯ
Время действия: первая четверть XX века. Действующие лица: Вин, Больцман, Планк, Эйнштейн, Бор и другие ученые.
История квантов электромагнитного поля начинается еще до введения понятия поля в теоретическую физику. Можно, пожалуй, датировать ее 1859 годом, когда немецкий физик Густав Кирхгоф занялся проблемой теплового излучения нагретых тел. Поводом к этой работе явилось зарождение спектрального анализа (благодаря трудам самого Кирхгофа и химика Роберта Бунзена), для которого, естественно, представляло важнейший интерес выяснение процессов испускания света раскаленными телами. В поисках некоей универсальной модели излучающего тела, которая позволяла бы описывать все многообразие источников светового излучения, Кирхгоф пришел к понятию абсолютно черного тела. Для такого тела наиболее велика его поглощательная способность и тем самым излучатель-ная способность при данной температуре. Выяснилось, что эта излучательная способность зависит только от температуры тела и длины волны его излучения.
Но раз излучающее тело нагрето, то необходимо исследовать, каким образом подведенная к телу теплота превращается в излучение. Проблемой теплового излучения заинтересовалась хорошо к тому времени разработанная термодинамика. Вместе с тем, поскольку тепловое излучение в значительной своей части приходится на область видимых световых волн, той же проблемой занялась оптика и электромагнитная теория света. Совокупными усилиями физиков, работавших в этих двух областях, менее чем за тридцать лет было разработано несколько теорий теплового излучения тел.
Что может колебаться в нагретых телах, создавая световые волны в эфире? Очевидно, атомы. Ио все атомы данного вещества одинаковы. Почему же в излучении нагретого тела присутствуют всевозможные длины волн? Вероятно, различны скорости атомов, приводимых в колебания в результате взаимных столкновений при тепловом движении. Значит, к вычислению этого, как говорят физики, спектра излучения надо подключить кинетическую теорию газов, которая как раз имеет дело с тепловым движением атомов.
Такую попытку предпринял австрийский физик Вильгельм Вин в самом конце прошлого века. Он вывел формулу для зависимости спектра теплового излучения от температуры тела (универсальную функцию Кирхгофа для абсолютно черного тела). Эта формула хорошо согласовывалась с экспериментальными данными в области коротких волн (фиолетового конца спектра), но совсем не годилась в длинноволновой области (красной части спектра).
В 1900 году английский физик лорд Рэлей попытался получить кирхгофову функцию на основе других соображений, используя установленное кинетической теорией газов равномерное распределение энергии по степеням свободы атомов, находящихся в тепловом движении. Он получил формулу, которая в отличие от виновской хорошо описывала спектр теплового излучения в длинноволновой области, но не годилась в коротковолновой. В частности, из формулы Рэлея следовал физически неприемлемый вывод: излучательная способность тела должна неудержимо расти при переходе ко все более коротким волнам в спектре излучения. Этот вывод физики образно окрестили «ультрафиолетовой катастрофой».
Итак, к началу нашего века в распоряжении физиков оказались две формулы для спектра излучения абсолютно черного тела, но каждая была хороша лишь в своей области. Естественно, такое положение чрезвычайно беспокоило физиков, и когда Уильям Томсон подводил в своей речи итоги развития физики в девятнадцатом веке, он упомянул в качестве одной из тучек, омрачающих сияющий небосвод теоретической физики, именно теорию теплового излучения. Второй тучкой назвал он результаты опыта Майкельшна — Морли. Рассеять эти тучки завещалось физике двадцатого столетия, и она сделала это быстрее, чем можно было ожидать.
Результат опыта Майкельсона разъяснился в 1905 году благодаря созданию теории относительности Альбертом Эйнштейном. Теория теплового излучения вышла из тупика благодаря гипотезе о квантах излучения, высказанной уже в 1900 году Максом Планком. Рассказ о ходе мысли Планка, с помощью которого он пришел к своей гипотезе, конечно, был бы очень поучительным, тем более что он описан самим Планком. Но, к сожалению, чтобы понять его, от читателя требуются специальные знания термодинамики. Поэтому нам придется сразу привести окончательный результат планковских умозаключений: энергия теплового излучения испускается атомами, колеблющимися в нагретых телах, не непрерывно, а порциями, квантами, как назвал их Планк.
Физика конца девятнадцатого века уже безоговорочно признает атомное, дискретное строение вещества. Вслед за утверждением представления Максвелла об электромагнитном поле она разделяет и воззрение, что это поле в отличие от вещества имеет непрерывное, сплошное строение и, значит, столь же непрерывна энергия, связанная с этим полем, в том числе и электромагнитная энергия теплового и светового излучения. В чем неуспех теории теплового излучения, никто и догадаться не может до тех пор, пока Планк не показывает, что этот неуспех принципиально коренится в классическом представлении о непрерывности электромагнитной энергии. Введение кванта энергии сразу же приводит к правильной формуле для кирхгофовой функции. Эта формула перекидывает мостик через пропасть, разделяющую области, где справедливы формулы Вина и Рэлея.
Первые годы после своего появления в физике квант воспринимается просто как порция энергии электромагнитного излучения, испущенного нагретым телом. Но в 1905 году положение меняется. В этом году Эйнштейн публикует свое объяснение фотоэлектрического эффекта, открытого за два десятилетия до того Генрихом Герцем. Этот удивительный эффект стоит того, чтобы на нем несколько остановиться.
Герц открыл его попутно, изучая электрический разряд, с помощью которого он впервые получил в эксперименте электромагнитные волны. Оказалось, что освещение электродов облегчало возникновение разряда в промежутке между ними. Причиной этого, как затем выяснилось, было появление в разрядном промежутке переносчиков электрического тока — электронов. Но выяснилось также, что электроны появлялись — вылетали из металла электродов, лишь пока длина волны освещения была меньше некоторой пороговой величины, а частота света — соответственно выше пороговой. Стоило только еще немного уменьшить частоту света, и электроны мгновенно переставали вылетать из металла. Физикам было ясно, что электроны связаны в металле некими силами, иначе они вылетали бы из него и в отсутствие освещения. Но вот существование граничной частоты казалось совершенно загадочным.
В самом деле, при освещении в металл поступает электромагнитная волна. Поскольку коэффициент ее отражения металлом меньше 100 процентов, часть энергии волны входит внутрь металла. Эта энергия должна накапливаться в металле, передаваться электронам металла, и в конце концов электроны, приобретя достаточную энергию, смогут разорвать свои связи в металле и вылететь наружу. Пусть эта энергия будет накапливаться тем медленнее, чем меньше частота света, но все же она будет поступать в металл и сообщаться электронам; правда, при этом вылет электронов должен начинаться с некоторым опозданием относительно момента начала освещения. В эксперименте же и электроны появляются мгновенно, и граничная частота существует. Сколько ни увеличивать интенсивность света с «запороговой» частотой, из металла не вылетает ни один электрон.
Классическое представление о непрерывном поступлении световой энергии в металл при его освещении неправильно, заявил Эйнштейн. Энергия света поступает в металл порциями, теми самыми квантами, которые ввел Планк для электромагнитного излучения нагретых тел. Эти кванты — особенность не только теплового излучения, но и вообще любого излучения и света, каково бы ни было его происхождение. Сам свет имеет квантовую природу. Электроны металла усваивают (или не усваивают) не непрерывно накапливаемую в них электромагнитную энергию, а именно отдельные ее порции, кванты, причем усваивают эти порции по одиночке. Мала энергия кванта, передаваемая электрону, и он ее не усваивает, остается в металле. Достаточна эта энергия, чтобы разорвать силы сцепления электрона в металле, и он получает возможность вылететь наружу.
Вот и все объяснение эффекта. Остается только добавить, что энергия Е кванта связана с его частотой v удивительно простой формулой Планка: Е — hv, где h — чрезвычайно малая по своей величине и столь же чрезвычайно большая по своему физическому значению постоянная Планка.
Именно малая величина этой постоянной делает понятным, почему в условиях, существовавших во всех опытах с излучением вплоть до двадцатого века, свет никогда не обнаруживал своего квантового строения. Порции энергии, связанные с квантами видимого света и более длинноволновых электромагнитных излучений, слишком малы, а кванты даже в очень малоинтенсивном потоке излучения следуют слишком быстро друг за другом, чтобы их можно было заметить порознь и не только невооруженным глазом, но даже с помощью известных в то время приемников излучения и физических эффектов. Только в конце девятнадцатого века были открыты излучения, характеризуемые самыми «крупными» квантами, — рентгеновские и гамма-лучи.
Гипотеза Эйнштейна о квантах света снова возродила затихший было спор о сущности света. Как уже говорилось выше, преобладавшая более века корпускулярная теория Ньютона уступила место волновой теории. Теперь же, казалось, волновая теория должна отойти в тень перед возрожденной теорией световых частиц. Но этого не произошло. От явлений интерференции, дифракции, поляризации, объясняемых в их совокупности только волновой теорией, уже никуда не уйти. Правда, волновая теория оказывается недостаточной для объяснения таких корпускулярных свойств света, как выбивание светом электронов из металла, а впоследствии еще и таких явлений, как выбивание электронов из атомов рентгеновскими и гамма-лучами.
В головах физиков постепенно утверждается сложная, но совершенно неизбежная мысль: свет — это и волна, и частица одновременно. Необычайно труден этот умственный синтез. Частица — некий сгусток вещества в пространстве, волна — напротив, что-то текучее, размытое. Трудность сочетания этих взаимно противоречивых образов показывает, что, в сущности, невозможно сочетать воедино механические образы частицы и волны. А если говорить точнее, то свет — это не комбинация волн и частиц, а нечто много сложнее их обоих. Не волна и не частица и не сумма их, а то, что условно можно назвать волна-частица, за неимением в языке слов, которыми можно было бы более адекватно обозначить сущность света!
Появление понятия о кванте света не только придало новый накал старой драме идей о свете. Оно переместило эту драму в новые декорации — на сцену микромира, мельчайших составляющих его частиц. Пройдет немного лет, и представление о волне-частице будет приложено ко всем частицам микромира — молекулам, атомам и составляющим их электронам, протонам и нейтронам. Драма теперь заключается в том, чтобы выработать правильный образ микроскопической сущности из макроскопических, привычных нам образов. В какой-то мере это дело облегчается тем чрезвычайно существенным обстоятельством, что никогда обе «стороны медали» не выступают одновременно: в одном круге явлений обнаруживается волновая сторона, в другом — корпускулярная. Но за этими несовместимыми представлениями все же стоит одна и та же сущность, поворачивающаяся в них лишь разными сторонами.
Нужно ли вообще вырабатывать такой сложный образ? Может быть, достаточно ограничиться лишь абстрактным понятием о волне-частице и истолковывать физические явления, пользуясь только им? Мы ведь уже сказали, что это понятие, в сущности, гораздо глубже механических по своей природе понятий волны и частицы «по-отдельности». Лучше пользоваться понятием без образа, чем образом без «понятия» того, что есть на самом деле! Складывающееся положение упирается в вопрос о сущности и адекватности физических моделей. Модель в физике — это проблема не только простоты и удобства расчета, не просто «практический» вопрос; это — проблема большой теоретической важности, имеющей и общефилософский характер.
В науке о познании человеком окружающего мира — гносеологии — принято подразделять процесс мышления на два этапа. На первом из них создаются чувственные представления о вещах, образы вещей, например образ стола как некоего предмета, образуемого плоской горизонтальной доской, стоящей на нескольких ножках. На втором этапе производится абстрагирование, отвлечение от всех конкретных столов, когда-либо виденных человеком, и формирование обобщенного образа стола, который уже не сделан из дуба, сосны, ели и не покрашен в черный, коричневый или зеленый цвет.
От всех столов остается в этом образе только то существенное, что является общим для всех столов, — горизонтальная плоскость и вертикальные ножки, на которых она лежит. Из представления о всевозможных столах рождается понятие о столе вообще и вместе с ним возникает слово для обозначения этого понятия, а заодно и определение, которое выражает это понятие через другие найденные ранее понятия: например, понятия ножки или плоскости, известные заведомо раньше стола, ибо эти детали присущи значительно более широкому кругу вещей, вошедших в соприкосновение с человеком.
За понятием о «столе вообще» стоит обобщенный его образ, составленный только из существенных черт стола, отличающих его от обобщенных образов других вещей. Можно сказать, что наш обобщенный стол есть модель всех столов (не нужно только путать это понятие модели с житейским понятием «стол модели такой-то», что как раз идет в обратном направлении, от общего к частному). Примерно так же создаются и физические модели объектов и явлений, в которых они участвуют.
Рассмотрим, например, модель света. Ньютон полагал, что свет состоит из отдельных частиц, а световые лучи представляют собой потоки таких частиц — корпускул. С понятием частицы мы связываем образ чего-то маленького, компактного, твердого. Впрочем, для частиц света размеры их несущественны, важнее скорость их движения, которая у Ньютона определяет цвет. Ньютон понимал, что сами по себе частицы не окрашены, цвет — это результат их взаимодействия с глазом.
Световая корпускула должна «выглядеть» вроде маленького бесцветного шарика, имеющего некоторую скорость движения. Поток таких частиц напоминает град, падающий на воду: часть градин отскакивает от поверхности воды («отражается»), другая часть входит в воду, меняя при наклонном падении направление своего движения («преломляется»). Такими словами (понятиями) можно описать ньютонову модель явлений отражения и преломления лучей света на границе раздела двух прозрачных сред. (Декарт вместо образа шарика для корпускул света использовал образ теннисного мяча, в котором вместо твердости шарика выступала упругость мяча; без этого было непонятно, почему шарик или мяч отскакивают от поверхности раздела.) Совершенно очевидно, что эта модель света и явлений его отражения и преломления — модель механическая и поэтому вполне наглядная.
Гюйгенс представлял свет не как поток корпускул, а как волны, распространяющиеся в эфире наподобие того, как расходятся круги по воде от брошенного камня. (Разве что волны на воде круговые, поверхностные, а волны в эфире — сферические, объемные). Тоже, как видим, образ механический и достаточно наглядный. Гюйгенс, естественно, задавался вопросом, для теории Ньютона тривиальным: почему вообще распространяются волны и как они могут огибать препятствия на своем пути и заходить в область за ними, т. е. вопросом о причине дифракции. В теории Ньютона дифракция вообще была невозможна: световые корпускулы могут двигаться только по прямым линиям. Гюйгенс предложил простую механическую модель дифракции: фронт волны в каждый последующий момент времени образуется суммированием (сегодня мы сказали бы интерференцией) всех «маленьких» вторичных волн от тех точек эфира, которые затронул, привел в колебания фронт волны в предыдущий момент. Такие точки есть и на краях препятствий, и волны от них, естественно, заходят в область тени за препятствием. Опять же простая и наглядная модель, прекрасно иллюстрируемая опытом с волнами на воде.
Затем появилась волновая теория света, которая внесла в модель Гюйгенса, в сущности, два изменения. Если у Гюйгенса волны в эфире порождались одиночными импульсами, вроде как бы «микровзрывами» колеблющегося тела, то в волновой теории принималось, что эти волны излучаются непрерывно в течение всего времени излучения, излучающее тело все время пульсирует. Кроме того, у Гюйгенса эти волны напоминали меха гармошки при игре на ней, распространялись то сгущениями, то разрежениями; волновая же теория должна была принять, что эти волны не продольны, а поперечны, частицы эфира колеблются в них не вдоль, а поперек направления распространения волн, в большем соответствии с волнами на поверхности воды от брошенного камня.
И, наконец, возникла электромагнитная теория света. В ней на смену простым и наглядным моделям пришла значительно более сложная модель световой волны: такая волна, по существу, уже не одна, а две волны — электрическая и магнитная, в перпендикулярных друг
другу плоскостях, две сдвинутые на полпериода одна относительно другой синусоиды, распространяющиеся вдоль прямой, перпендикулярной к направлениям колебаний в этих синусоидах. Да и колеблются в них напряженности электрического и магнитного полей, т. е. колеблются не вверх и вниз частицы эфира, а как бы состояния этих частиц. Видите, сколько слов понадобилось для описания образа такой волны! Утрачена механистичность, а с нею и простота, наглядность модели. Образ волны становится составным: нужно представить себе одну синусоиду, затем под углом 90° к ней другую, да еще сдвинутую по ходу распространения на 180°, и вообразить, как по мере движения на этих синусоидах наращиваются новые горбы и впадины. Даже такой составной образ неточен, из него не видно разное «качество» — магнитное и электрическое — синусоид, не видно, как магнитное поле порождает электрическое, а электрическое порождает магнитное, сливаясь в единую электромагнитную волну.
И это еще не предел усложнению. Эйнштейн вводит квант света, нечто одновременно (хотя и в разных явлениях) обладающее свойствами волны и частицы. Какой же образ можно связать с таким понятием? Физики назвали его волновым пакетом. Вообразите себе ту же электромагнитную волну, но не бесконечно протяженную, «а «обрезанную» с обоих концов, причем общая ее длина все же велика по сравнению с расстоянием между ближайшими горбами и впадинами в волне. Это и будет волновой пакет. Естественно, общая его длина будет определяться временем, в течение которого он излучается: чем оно больше, тем пакет длиннее. Например, типичное время излучения волнового пакета атомом имеет порядок 10-8 секунд, а типичная частота световой волны — 10 15 обратных секунд. Отсюда следует, что в волновом пакете наберется с десяток миллионов горбов и впадин. Не очень-то такой пакет по виду отличается от бесконечно протяженной волны. Но вот этот пакет при встрече, например, с электроном действует как целое: он мгновенно как бы сжимается в точку, исчезает, передавая всю принесенную с собой энергию электрону и выбивая его из металла в фотоэлектрическом эффекте. Разорваться на части, исчезнуть по кусочкам волновой пакет не может. Легко ли представить себе «удар» такого кванта света по электрону? Конечно, нет!
Ладно, может махнуть рукой читатель, бог с ними, с этими невообразимыми образами, не проще ли работать без образных моделей, с моделями, составленными лишь из одних понятий, их выражающих? Да, это правильнее, но вряд ли проще. Мыслить одними понятиями, не пытаясь даже воочию воображать течение физических процессов в пространстве и времени, — ох, как это трудно!
Существует математическая теория высказываний, иначе называемая математической логикой, которая еще более сокращает путь мысли, заменяя фразы математическими символами. Казалось бы, это еще сложнее: мыслить по крайней мере несложными понятиями («словами») умеют все цивилизованные люди, а вот людей, столь же свободно оперирующих математическими их сокращениями — символами, вовсе не так уж много.
Но это последнее усложнение, связанное с введением математики, неожиданно приносит огромное облегчение. Пользуясь математическими символами и определенными правилами оперирования ими, можно не задумываться каждую секунду над конкретным и образным физическим их содержанием, не ворочать в голове глыбы словесных формулировок этого содержания. Заключения, выводы получаются словно чудом из этой мешанины латинских и греческих букв и загадочных значков, которых не найти ни в одном алфавите. Вот откуда рождается невежественное убеждение во всемогуществе математики! А на самом деле за этим стоит чрезвычайно нелегкий труд предварительной выработки совершенно не наглядной «понятийной» физической модели, перевода описывающих ее слов на язык математических символов, да еще и разработка правил оперирования математическими символами этих понятий. Но без этой модели, без этих правил, вовсе не изобретенных раз и навсегда, вся математическая работа превращается в пустую игру.
Естественно, чем уже круг явлений, для изучения которых строится модель, тем беднее она содержанием по сравнению с реальным многогранным объектом. Из всего многообразия свойств света оптика выбирает лишь немногие, которые описываются представлением его в виде электромагнитной волны, а, скажем, теория фотоэлектрического эффекта — только те, что описываются представлением его в виде световых частиц или же корпускул. Единый образ волны-частицы при этом как бы стоит за кадром, он подразумевается, но не проявляется. То, что ни в одном известном явлении не обнаруживается двуединый образ, а выявляется только одна из сторон медали, по-видимому, совершенно универсально, имеет место не только для световых волн-квантов, но и вообще для всех квантов и частиц. Это положение было высказано датским физиком Нильсом Бором в 1927 году и получило название принципа дополнительности (поскольку оба описания поведения микрообъектов — корпускулярное и волновое — дополняют друг друга).
Отрыв физических понятий от их «механической» почвы, чрезвычайное усложнение физической картины мира в девятнадцатом веке вызвали даже более опасный крен мышления физиков и философов, нежели вера в самостоятельную творческую силу чистой математики в предсказании физических явлений и их законов. В этот крен впало сравнительно немного физиков, в основном теоретиков, но он оказался длительным: ряд физиков его обнаруживает и по сей день. А главное, этот крен усугубился еще тем, что за накренившуюся сторону ухватилась философия субъективного идеализма.
В семидесятых годах прошлого века очень сильный физик и очень слабый философ Эрнст Мах (мы уже говорили о нем в связи с силами инерции) выдвинул воззрение, согласно которому все физические понятия и теории — не более чем средства упорядочить человеческие ощущения. Что же, это была бы верная и даже тривиальная мысль, если полагать, что все наши ощущения есть следствие действий окружающего мира на наши органы чувств, неважно, непосредственно или через приборы (к числу которых можно отнести и очки, и электронный микроскоп). Но в том-то все дело, объявил Мах, что за ощущениями ничего не стоит, за ними нет никакого материального мира. Все, что нам дано, — это собственные наши ощущения и ничего больше.
Как глупо, может сказать неискушенный в философии читатель. Возможно, но эту глупость не так просто опровергнуть. Мах был не первым. За полтора века до него подобные взгляды высказал ученый богослов Беркли (о котором мы тоже говорили в связи с силами инерции — забавное совпадение!). Весь мир есть не более, чем порождение наших чувств. Перестаем существовать мы, исчезает и мир, и так с каждым человеком. Несколько позже появилось уклончивое учение агностиков, которое утверждало, что вопрос о том, кто прав — те, кто признает существование материального мира вне нас и независимо от наших чувств, или те, кто полагает, что мир есть лишь порождение наших чувств, — этот вопрос бессмыслен: на него нельзя дать ответа. В самом деле, говорили агностики, единственное, что нам дано, — это наши собственные ощущения. Мы не можем ничего знать о том, стоит ли что-нибудь или ничего нет за ощущениями. Беркли высказал свои взгляды с откровенной и грубой прямотой. Мах, будучи все же крупным ученым, привлек и научную (а вернее, псевдонаучную) аргументацию.
Что такое физическое понятие? Это результат произвольного соглашения ученых о некотором комплексе наших ощущений, более или менее единообразном у всех них. Что такое физическая теория? Это «умственный инструмент» для установления связей между комплексами ощущений и для их упорядочивания. Та физическая теория правильна, которая делает это наиболее экономным и логически непротиворечивым образом. Та физическая теория наиболее широка, которая имеет дело с как можно более разнообразным, до появления ее не связанным, набором комплексов ощущений.
Уничтожающую критику субъективного идеализма, учения Беркли, Маха и их последователей дал В. И. Ленин в замечательной работе «Материализм и эмпириокритицизм». Эта работа была написана в 1908 году, в самый разгар идейного брожения в физике, вызванного открытием радиоактивности, появлением теории относительности и теории квантов, и появилась весьма своевременно. Будущее показало, что она остается злободневной и в наше время: идейные шатания физиков оказались более длительными, чем можно было думать. Этому способствовали и объективные, и субъективные причины, в том числе великие мыслительные трудности в постижении мира, все более усложняющегося с каждым новым крупным открытием.
В. И. Ленин неоднократно подчеркивал в своей работе, что эти трудности — одна из главных причин скатывания ученых к идеализму. Мало быть просто стихийным материалистом. Такими материалистами являются почти все нормальные люди и большинство представителей естествознания. Однако стихийный материализм метафизичен, если угодно механистичен, он ограничивается признанием объективного существования лишь простейших, непосредственно ощущаемых вещей и процессов в окружающем мире. Когда происходит крушение механистических представлений при переходе к изучению значительно более глубоких и сложных, непосредственно не ощущаемых вещей и процессов, к невыводимым со всей очевидностью понятиям для их описания, такой простейший материализм пасует перед субъективным идеализмом с его приматом ощущений, их комплексов, с его свободной игрой понятий, за которыми на первый взгляд не видно реального содержания.
Последовательное раскрытие несостоятельности субъективного идеализма с подлинно научных позиций было дано диалектическим материализмом, признающим всю бесконечную «немеханическую» сложность постоянно изменяющегося внешнего мира и вместе с тем утверждающим возможность правильного его восприятия органами чувств и верного постижения человеческим мышлением. Но диалектический материализм возник лишь в середине прошлого века в трудах Маркса и Энгельса, многие важные их работы еще не были опубликованы или же не были известны учекым-естествоиспытателям. В отличие от стихийного материализма, диалектический материализм вовсе не так легко входит в мировоззрение людей и, в частности, ученых. Многие из западных ученых не знакомы с ним и по сей день.
Мы заговорили об «идейных шатаниях физиков», и надо сказать, что такое определение их философской позиции зачастую как нельзя правильно. Яркий пример таких шатаний демонстрирует сам же Эйнштейн. Ему принадлежит много высказываний по поводу сущности физического познания, и они дают не только богатый материал для установления философских позиций Эйнштейна, но, и, к сожалению, не менее богатые возможности ухватиться за них представителям субъективного идеализма и даже ортодоксальной религии.
Но послушаем самого Эйнштейна. В своей «Автобиографии» он пишет: «Наше мышление... представляет собой свободную игру с понятиями. Обоснование этой игры заключается в достижимой при помощи нее возможности обозреть чувственные восприятия. Понятие «истины» к такому образованию еще совсем неприменимо; это понятие может быть, по моему мнению, введено только тогда, когда имеется налицо условное соглашение относительно элементов и правил игры... Система понятий есть творение человека, как и правила синтаксиса, определяющие ее структуру... Все понятия, даже и ближайшие к ощущениям и переживаниям, являются с логической точки зрения произвольными положениями...»
А вот что написал Эйнштейн по поводу столетней годовщины со дня рождения Максвелла: «Вера в существование внешнего мира, независимого от воспринимающего субъекта, есть основа всего естествознания. Но так как чувственное восприятие дает информацию об этом внешнем мире, или о «физической реальности», только опосредованно, мы можем охватить последнюю только умозрительными средствами. Из этого следует, что наши представления о физической реальности никогда не могут быть окончательными. Мы всегда должны быть готовы изменить эти представления... чтобы оправдать факты восприятия логически наиболее совершенным образом. И действительно, беглый взгляд на развитие физики показывает, что она испытывает глубокие изменения с течением времени».
В этих высказываниях две диаметрально противоположные точки зрения — идеалистическая и материалистическая. Как же они совмещаются в одной голове? Вы думаете, Эйнштейн не сознает этого? Отлично сознает и, более того, даже обосновывает допустимость такой нетвердой философской позиции: философы, мол, создали слишком жесткие схемы и требуют, чтобы ученый сделал выбор в пользу одной из них и уже придерживался ее до конца. Между тем условия, в которые поставлен ученый в процессе познания природы, таковы, что «не позволяют ему при построении своего мира понятий слишком сильно ограничивать себя установками одной теоретико-познавательной схемы (т. е. одного направления в философии. — В. Р.)... Он кажется реалистом, поскольку старается представить независящий от актов ощущений мир; идеалистом — поскольку смотрит на понятия и на теории как на свободные изобретения человеческого духа (не выводимые логически из эмпирически данного); позитивистом — поскольку рассматривает свои понятия и теории лишь настолько обоснованными, насколько они доставляют логическое представление связей между чувственными переживаниями. Он может показаться даже платоником или пифагорейцем, поскольку рассматривает точку зрения логической простоты необходимым и действенным инструментом своего исследования».
Высказывание Эйнштейна по поводу «свободного духа» ученого-естествоиспытателя настолько примечательно, что в нем стоит разобраться. Насчет реалиста, кажется, все понятно: ученый должен быть материалистом, поскольку признает существование мира, не зависящего от его ощущений; этот мир он и изучает.
Но вот рассуждение по поводу идеалиста обнаруживает путаницу и философскую слабость Эйнштейна. Что есть понятия? Абстракции, выводимые из того чувственного опыта, тех образов-представлений, которые доставляет нам материальный мир. Но сам путь выведения этих абстракций столь сложен, длинен, логически непрям, да еще по мере развития науки настолько усложняется и удлиняется, что непосредственная связь этих абстракций с исходными чувственными представлениями ускользает, глубоко скрывается от глаз. Вот почему на понятия начинают смотреть как на плод свободной игры ума. Этому способствует и то, что абстрагирование, выработка понятия из одного и того же исходного материала, доставляемого чувствами, может идти и, как правило, идет у разных людей, разных ученых различными путями, в результате чего одновременно или последовательно может бытовать множество понятий об одном и том же или же множество теорий, связывающих эти понятия в единую цепь.
Еще одно обстоятельство, облегчающее отрыв абстрактных понятий от исходных представлений, состоит в том, что формирование новых понятий часто происходит не по законам формальной логики, а вопреки им — скачком мысли, разрывом непрерывной логической цепи. В самом деле, ни из какой системы классических понятий нельзя вывести понятие кванта энергии. Это — гениальное формальнологически не обосновываемое открытие, гигантский скачок мысли. Оно может быть обосновано только возвращением к чувственному опыту в общении с материальным миром. И чувственный опыт, разумеется, подтверждает правильность этого нового понятия сначала тем, что получающаяся кирхгофова функция для излуча-тельной способности прекрасно согласуется с экспериментальными данными, а затем безупречным с точки зрения опыта объяснением закономерностей фотоэлектрического эффекта.
Понятия в головах людей, конечно, могут быть разными — как истинными, так и ложными. Разумеется, это связано с тем, правильно или неправильно они выводятся из исходного чувственного опыта и работают ли органы чувств (в широком смысле — вместе со специальной аппаратурой, если это необходимо) «нормально», не искажая той информации, которая поступает к ним из окружающего мира. Чем сложнее понятие, тем длиннее цепочка умозаключений, тем труднее ее провести, не сделав ошибок. В этом смысле мы, пожалуй, умнее наших предков.
Но убедиться в правильности или ошибочности понятия или системы понятий, образующих теорию, в конечном счете можно только одним способом: столкнув их с опытом и посмотрев, выдержат ли они это столкновение. Вот почему ошибочна позиция позитивиста: теория может казаться безупречно логичной, но быть построенной на песке, так что при первом же столкновении с фактами она расползается по швам.
Столкновение с фактами, однако, порой заставляет себя долго ждать, да и сами факты могут показаться сомнительными: опыт все же — дело «несовершенных» человеческих рук, тогда как понятие есть творение «совершенного» человеческого ума (такое древнее заблуждение живет и поныне). И в результате какая-нибудь очень уж логически совершенная теория может благополучно существовать многие годы, выдержать столкновение даже не с одним, а с многими фактами без особого ущерба для своего существования (теория не согласуется с фактом — тем хуже для факта!). И только когда появится достаточно много убийственных фактов и даже, более того, правильная «конкурирующая» теория, тогда ее предшественница рухнет под их давлением на глазах изумленных современников.
И, наконец, последнее — о необходимости быть платоником, придающим важнейшее значение логической простоте теории. Выше, рассказывая о «бритве Окама», мы указывали, что это требование выражается примерно такими словами: истинная теория должна строиться на минимальном количестве исходных посылок — гипотез. Отказывая в логике процессу вывода понятий, не принимая во внимание порой многозвенной цепи приводящих к ним умозаключений, наш философ теперь требует, чтобы в теории все эти понятия были связаны экономной и прозрачной логической цепочкой! Внутри самой теории не должно быть никаких скачков мысли, никаких логических противоречий, ибо она строится на единой общей системе понятий. Если какие-либо ее звенья не стыкуются, то по «правилам игры» нельзя вводить в теорию понятия за рамками их системы для целей такой стыковки.
Если теория световых корпускул Ньютона не в состоянии объяснить явление дифракции — загибание световых волн в область тени за препятствием, то, чтобы помочь ей объяснить этот факт, нельзя, например, принимать, что на краю препятствия сидят невидимые ангелы, которые руками или, лучше, дуновениями сбивают корпускулы с пути истинного. Ангелы не входят в систему понятий оптики Ньютона (маленькие упругие шарики, летящие с разными скоростями в пустоте по прямым линиям, проницаемые для них прозрачные тела и непроницаемые металлы и т. д.). Более того, ангелы никак не стыкуются с этими понятиями.
Что же, в этом пункте с Эйнштейном надо согласиться, тем более, что он говорит лишь о необходимости, но не о достаточности логической простоты теорий. И тут же он выступает как материалист против махова принципа достаточности «экономии мышления» как критерия правильности теории.
Но многие основные соотношения крупнейших физических теорий действительно завораживающе просты. Достаточно напомнить, например, соотношение Эйнштейна между массой и энергией Е — тс2, соотношение Планка между частотой и энергией кванта E=hv, законы тяготения Ньютона или электростатического взаимодействия зарядов Кулона. Мы говорим даже о красоте этих законов, поражаясь, в сколь простой математической форме они выражают столь сложные для понимания законы природы.
Но сама природа не проста и не сложна. Простым или сложным может быть только наше понимание происходящих в ней процессов. Генеральный путь развития науки — от сложного ко все более простому пониманию, но на основе освоения все более сложных понятий. Этот вывод может показаться парадоксальным, но тем не менее он верен.
Мы удивляемся, сколько «чепухи городили» античные мыслители по поводу таких простых для нас явлений природы, как, скажем, распространение света. Но для нас-то оно стало простым, лишь когда мы освоили безусловно непростое понятие об электромагнитном поле. Понятия частоты, массы или скорости кажутся нам совсем очевидными даже в младенчестве (велик соблазн сопоставить его с «младенчеством» античной науки!), но вот понятие энергии стало окончательно достоянием физики только чуть более века назад. И тогда уже, разумеется, все стало просто и красиво, если, конечно, не считать всей сложности тех умозаключений, которые скрылись в окончательной формуле, как муки творчества художника не видны в красивой картине или симфонии. Вот что означает эта простота и красота!
Но, кажется, пора вернуться к квантам. Мы оставили их в 1905 году, когда Эйнштейн додумался до световых квантов при объяснении фотоэффекта. Следующий важнейший шаг делает Нильс Бор: в 1913 году он вводит понятие о том, как кванты света возникают в атомах, и тогда становится ясным, почему свет (по крайней мере тот, что излучается в атомных спектрах) имеет квантовую природу. Это объясняется квантовым строением атомов, тем, что движение электронов в них характеризуется не произвольными энергиями, а лишь строго определенным набором энергий, зависящим от сорта атома. Именно разность двух значений энергии, которую электрон имел до прыжка и приобрел после прыжка с одной орбиты в атоме на другую, «вылетает» из атома в виде кванта электромагнитного, в частности светового, излучения.
В 1923 году американский физик Артур Комптон удивительно изящным опытом по рассеянию квантов жесткого электромагнитного излучения (рентгеновых лучей) доказывает, что кванты обладают импульсом (для «неквантового» излучения это установил еще в 1900 году П. Н. Лебедев в опыте по давлению света). Корпускулярная сторона кванта в результате дополняется еще одним важным штрихом. Теперь уже есть все основания считать электромагнитный квант не только волной, но и частицей, и вскоре ему присваивается (как обрадовался бы Ньютон!) название «световой частицы» — фотона.
Затем в теории электромагнитного поля наступает кратковременный период затишья. Эпоха бури и натиска перемещается по «соседству» — в развитие квантовой механики. Именно квантовая механика определила дальнейшую судьбу теории поля. Мы поэтому воспользуемся «полевым затишьем», чтобы вкратце описать те события, которые происходили на соседнем фронте физики.
1928 годы. Действующие лица: де Бройль, Борн, Шредингер, Гейзенберг, Бор, Эйнштейн и другие ученые.
В 1924 году французский физик Луи де Бройль высказал мысль, что световой квант с головой частицы и телом волны не является единственным «кентавром» в природе. Такой «кентаврообразностью», по его мнению, должны были обладать все частицы микромира и вообще все тела.
Де Бройль в своей идее исходил из замечательного совпадения траекторий распространения световых лучей в среде и материальных тел под действием механических сил, обнаруженного еще в начале девятнадцатого века английским физиком Гамильтоном и получившего название оптико-механической аналогии. Случайна ли подмеченная аналогия между математическим аппаратом аналитической механики (законченной формы, которую придал механике Ньютона французский ученый Лагранж) и аппаратом волновой теории света? Свет уже проявил свою двуединую корпускулярно-волновую сущность. Не является ли оптико-механическая аналогия чем-то большим, нежели просто внешним совпадением математических описаний? Не позволяет ли она перекинуть мостик от световых квантов к частицам и наделить частицы такой же двуединой сущностью?
Как же должна выглядеть эта сущность? Де Бройль предлагает понятие о волнах материи. С каждой частицей связана некая волна. Она не электромагнитнаяг не упру-
гая или какая-нибудь другая известная. Она — «просто» волна, и единственная ее особенность состоит в том, что она определяет движение и поведение частиц под действием сил. Движение частицы тогда можно рассматривать как распространение волны материи в пространстве. Волна неразрывно связана с частицей, она как бы ведет, пилотирует свою частицу. Поэтому де Бройль и предлагает для нее образ волны-пилота.
Волна отражается от границы раздела двух сред — это означает, что частица отскакивает от препятствия, на которое она налетела. Волна преломляется на границе сред — это означает, что частица, изменив направление движения, проникла во вторую среду. Декартовы теннисные мячи, только наоборот! Декарт привлекал мячи для изображения процесса распространения световых волн. Де Бройль использует волны для представления движения частиц.
И это все? Ради такого не стоило бы выдумывать волны материи. Но проходит всего лишь три года, и неопровержимые результаты экспериментов доказывают, что частицы вещества действительно обладают волновыми свойствами. Электроны испытывают дифракцию на атомах кристалла и создают на фотопластинке такие же дифракционные кольца, как рентгеновы лучи, которые уже наверняка являются электромагнитными волнами.
Еще до проведения этих решающих экспериментов идея де Бройля становится достоянием нескольких неортодоксально мыслящих физиков-теоретиков из Германии — Макса Борна, Эрвина Шредингера и Вернера Гейзенберга. Прежде всего Борн после глубокого размышления отвергает туманную концепцию о взаимосвязи частицы и волны материи в виде волны-пилота. В сущности волна-пилот есть некоторая разновидность волнового пакета, только сопряженного не со световым квантом — фотоном, а с вещественной частицей. Но разная природа фотонного и «материального» волнового пакета имеет решающее значение. Фотонный пакет устойчив и существует до тех пор, пока существует сам фотон. «Материальный» же пакет неустойчив, и, как показывают расчеты, он даже в совершенно пустом пространстве должен чрезвычайно быстро расплываться со временем.
Борн взамен дебройлевской предлагает свою концепцию о волнах материи. Согласно этой концепции волна определяет вероятность обнаружить частицу в данном месте пространства. Чем больше амплитуда волны, тем выше эта вероятность; если имеется много частиц, то в данной области пространства просто окажется больше частиц, чем в других местах. Поэтому дебройлевской волне Борн присваивает название волны вероятности. Например, в опыте по дифракции электронов волна вероятности определяет, как распределяются по фотопластинке места попадания электронов. Здесь эта волна проявляет себя почти буквально: если изобразить почернение фотопластинки в функции расстояния от ее центра, куда направлен пучок частиц (почернение пропорционально числу попаданий электронов), то действительно получится волнообразная кривая.
Тем временем Шредингер пересматривает закон движения электрона с волновых позиций. Пользуясь той же оптико-механической аналогией, он записывает этот закон в виде не уравнения Ньютона, но волнового уравнения, в котором, однако, учитывает вещественный характер де-бройлевских волн, а затем применяет это уравнение к атому водорода — простейшему из атомов, служащему вот уже более полувека пробным камнем физических теорий строения вещества. Решение уравнения сразу же обнаруживает замечательную дискретность энергий электрона в атоме, которую Бор принял в качестве постулата в своей первой квантовой модели атома. Но Бор ее постулировал, а Шредингер вывел из волн вероятности!
Вслед за колоссальным успехом Шредингера в течение трех лет следуют одна за другой новые работы по волновой теории движения вещественных частиц, или, как ее стали называть, волновой механике, или квантовой механике. К 1928 году квантовую механику можно считать в основном завершенной, по крайней мере в главном, идейном отношении. Таковы темпы двадцатого века!
Но, пожалуй, ничуть не менее поразительно, что в этой работе не принял никакого положительного участия Эйнштейн, так много сделавший для развития теории квантов на предыдущем, фотонном ее этапе. Это совсем не случайно. Отказ Эйнштейна от участия в разработке квантовой механики носил принципиальный, мировоззренческий характер.
Эйнштейн еще мог живо участвовать в обсуждении идеи де Бройля, указывая на туманный и, видимо, слишком механистический характер понятия о волне-пилоте. Но вот принять мысль Борна о волнах вероятности для электронов и других частиц вещества он никак не мог. И дело было вовсе не в вероятностной трактовке самой по себе. Эйнштейн сам широко пользовался понятием вероятности в своих работах по квантовой теории излучения, по броуновскому движению. Но там речь шла о больших коллективах частиц и световых квантов, о неудобствах описания коллективных свойств через расчет поведения отдельных членов этих коллективов, что привело еще его предшественников в кинетической теории газов к усредненному статистическому описанию, базирующемуся на вычислении вероятностей тех или иных значений величин, характеризующих свойства, — положений, скоростей, импульсов, энергий частиц. Борн же ввел понятие вероятности в применении к движению одиночных частиц!
Получалось, что вместо абсолютно точного, детерминистического описания движения, которое было идеалом и девизом всей предшествующей физики, ей предлагают давать описание принципиально неточное, гадательное. Получалось, что вопреки традиционной классической картине, в которой начальные условия движения и действующие на частицу силы однозначно определяют все дальнейшее ее поведение, это поведение может быть произвольным, словно частица наделена свободой воли, летит, куда ей захочется, а куда она прилетит, определяется лишь законами случая, т. е. вероятностями. Такой произвол, или, по образному выражению Эйнштейна, то, что «господь бог играет в кости», разумеется, был для него органически неприемлем. Статистические законы для расчета движения одной частицы были для него еще более бессмысленны, чем индивидуальные законы для расчета движения коллективов из мириадов частиц.
Что-то в теории не учтено, какие-то «скрытые причины» не выявлены, продолжал заявлять Эйнштейн и после того, как математик Иоганн фон Нейман доказал, что квантовая механика замкнута, целостна, что в ней нет места никаким «скрытым параметрам», якобы нарушающим классически определенное движение частиц, придающим вероятностный характер этому движению. Эйнштейн вступил в дискуссию с Бором, защищавшим новое воззрение, длившуюся много лет. Эйнштейн придумывал все более хитроумные мысленные (принципиальные) эксперименты, в которых должны были бы эти параметры обнаруживаться. И каждый раз Бор мог доказать их несостоятельность. Кому, как не Эйнштейну, было дано познать, сколь мучительной бывает драма идей! Но и длительный спор с Бором не переубедил Эйнштейна.
Такой революционный ум, как Эйнштейн, столь много сделавший для разрушения крепости классической физики, все же остановился перед последним ее бастионом, классическим принципом причинности. Одинаковые причины всегда вызывают одинаковые следствия — вот что гласит этот принцип. Казалось бы, если это не так, то невозможно никакое научное знание. Если одни и те же причины приводят один раз к одним, а другой раз к другим следствиям, то явления природы нельзя точно воспроизвести, а значит нельзя и точно установить их закономерности. Если бы бильярдный шар после двух совершенно одинаковых ударов один раз летел влево, а другой раз — вправо, то не было бы законов механики. Если бы Солнце один день вставало с востока, а другой день — с запада, не было бы законов астрономии. Слава богу, такое в природе никогда не наблюдается!
Не наблюдается? А дифракция электронов, когда в группе совершенно одинаковых частиц, испытавших совершенно одинаковые взаимодействия с атомами кристалла, одна летит в ту, а другая в другую сторону, так что в результате они попадают в разные места фотопластинки? Что-то «скрытое» не учтено? Нет, все учтено и учтено главное: что электрон уже не классическая частица, а к тому же еще и волна.
Именно эта волна портит «абсолютно точные», а в сущности, недостаточно верные предсказания классической физики. Пока длина волны мала (а она чрезвычайно быстро уменьшается с ростом массы и скорости частиц), пока она находится далеко за пределами, в которых на опыте можно обнаружить ее влияние, видны лишь классическая «корпускулярная» картина и однозначное соответствие причин и следствий. Именно это и наблюдается в классической физике — физике сравнительно массивных тел.
Но как только опыт ставится на электронах — частицах с чрезвычайно малой массой, — картина становится волновой, поскольку длина волны уже обнаруживается в опыте самым непосредственным образом. Не бывает чисто классических картин, они всегда «подпорчены» волновыми явлениями, разве что только чем массивнее тела, тем слабее эта «порча» заметна. Но она всегда налицо в микромире.
Классический принцип причинности неточен, приблизителен. Он должен быть заменен более общим, квантовым принципом причинности. А этот последний гласит, что одинаковые причины могут вызывать и неодинаковые следствия, но все же не любые, а «заключенные в прёделах волны». Иными словами, во многих явлениях вероятность наступления следствия по мере его удаления от классического «точного» следствия очень быстро (и волнообразно) стремится к нулю, следствие становится редким, но все же не абсолютно невозможным.
Каковы же эти «пределы волны»? Их устанавливают знаменитые соотношения неопределенностей, полученные Гейзенбергом в 1927 году и являющиеся своеобразным «символом веры» квантовой механики. Как и многие важные формулы физики, они поражают своей простотой. Вот одна из них: ...
Она устанавливает, что произведение неопределенности в измерении координаты (или положения) Ах частицы, совершающей движение в каком-либо направлении, и неопределенности в измерении импульса частицы Арх в том же направлении, если оба измерения проведены в одном и том же опыте, не может по порядку величины быть меньше постоянной Планка /г. Приведем и другое соотношение Гейзенберга, которое оказывается чрезвычайно существенным для нашего дальнейшего рассказа: ...
Оно гласит, что произведение неопределенности АЕ в измерении полной энергии частицы и неопределенности At в моменте времени этого измерения также в одном и том же опыте снова по порядку величины не меньше постоянной Планка h.
Какой смысл заключен в этих соотношениях? Почему они ставят некие пределы точности измерений, для которой, казалось бы, любые ограничения непринципиальны, имеют временный характер и зависят только от развития измерительной техники? И вообще, почему вдруг в столь теоретической книге, как наша, зашла речь об измерениях?
Ответ на последний вопрос довольно прост. Любая физическая теория поверяется сравнением с опытом. Физический же опыт есть измерение. Но что означает — измерить? Например, для того чтобы измерить положение тела, мало воспользоваться линейкой, телескопом или каким-нибудь еще прибором: тело предварительно надо сделать видимым, осветить его; положение тел невидимых, не излучающих и не отражающих света, не дающих никак о себе знать, определить невозможно.
Мы выбираем летящий или покоящийся электрон и освещаем его фотоном; прибытие в глаз или на фотопластинку фотона, «отраженного» электроном, дает нам сведения о его местоположении в некий момент времени. А теперь вспомним, что фотон обладает импульсом. Это означает, что при встрече его с электроном произойдет уже известный нам эффект Комптона: фотон изменит импульс электрона на величину, лежащую в пределах импульса самого фотона. Если электрон до измерения покоился, он улетит, а если он летел, то в общем случае изменит направление и скорость своего полета. В том и другом случае импульс электрона в процессе измерения положения электрона приобретет некоторую неопределенность. Казалось бы, можно брать фотоны со все меньшими импульсами. Правильно, но при этом возрастает длина волны фотонов. А положение электрона можно определить только с точностью до этой длины волны. Освещая электроны все более мягкими фотонами, мы будем получать все менее определенную информацию о его положении.
Получается так, словно в самом процессе измерения мы вмешиваемся в протекание изучаемых явлений? Совершенно правильно. Измерение — не действие, а взаимодействие человека с окружающим миром. Взаимодействие это может быть очень слабым, и тогда создается «классическая» иллюзия того, что, глядя в телескоп на Солнце или в микроскоп на бактерию, мы ни в малейшей мере не вмешиваемся в их движение, в протекание каких-либо процессов в них. Нет, принципиально вмешиваемся, всегда вмешиваемся, но часто лишь в очень малой степени! Телескоп по сравнению с Солнцем — чрезвычайно «маломощный» в смысле воздействия измерительный прибор, но электронный микроскоп по сравнению с электроном оказывается мощнейшим «источником помех». Для микромира этот факт чрезвычайно существен. Человек, его приборы — всегда крупные, макроскопические предметы, на входе которых разыгрываются микроскопические события, а на выходе получаются макроскопические сигналы для органов чувств.
Как же в таком случае можно выделить в чистом виде изучаемое микроявление, непоправимо искаженное вмешательством приборов? Да никак! А те пределы, которые ставятся чистоте наблюдения, — это и есть «пределы волны». Электроны, фотоны — принципиально квантовые «кентавры», в них нельзя корпускулярную сторону измерять, изучать вне волновой. Вот еще один пример. Измерить энергию волны мгновенно принципиально нельзя: волна должна вся целиком пройти мимо наблюдателя. Но именно об этом говорит второе соотношение Гейзенберга. Чистые явления, конечно, существуют, но, изучая их, мы делаем их «грязными». Собственно, они никогда не выступают перед нами в чистом виде: ни когда мы их изучаем, ни когда мы их применяем. Задача теории и состоит в том, чтобы, изучая протекание явления по его взаимодействию с прибором, определить, как это взаимодействие будет протекать в других условиях, когда явление уже получит определенное применение.
Соотношения Гейзенберга образуют теоретическую основу принципа дополнительности, выдвинутого Бором в том же году. Из того, что мы не можем избежать неопределенностей в парах взаимосвязанных величин, измеряя их в одном опыте, вовсе не следует, что от них нельзя избавиться и в разных опытах, измеряя их порознь. Но тогда единая картина явления составляется из двух взаимно дополняющих картин, как одна медаль состоит из двух «взаимно дополняющих» сторон. В опытах одного рода измеряются точно лишь корпускулярные свойства квантовых «кентавров» — импульс, энергия, например в опытах по ионизации атомов электронами. В опытах другого рода, например в опыте по дифракции электронов, измеряются их волновые свойства — положение (или длина волны), время движения. В одном и том же опыте, на одном и том же явлении абсолютно точно измерить все эти характеристики невозможно, как нельзя одновременно увидеть две стороны медали (зеркала не в счет, у природы нет зеркал!).
АКТ IX
ПОЛЕ И ВЕЩЕСТВО
Действующие лица: Дирак, Фейнман, Юкава, Эйнштейн, Гейзенберг и другие ученые.
Время действия: вторая треть XX века.
Проходит еще год, и английский физик Поль Дирак осуществляет первый синтез квантовой механики и специальной теории относительности. Плодом этого синтеза становится релятивистская квантовая механика, или, как ее еще называют, квантовая теория полей. Кратковременное полевое затишье кончилось.
Дирак написал релятивистское уравнение для электрона. Вместе с тем оно было квантовым уравнением. Но Дирак в этом не был первым. За три года до него подобное уравнение написал Шредингер, решил его для электрона в атоме водорода и... пришел к обескураживающему результату: расчет набора энергий электрона в атоме очень плохо согласовывался с тем, что было известно до опыта. В чем была неправильность уравнения, Шредингер тогда так и не понял, махнул на него рукой, написал нерелятивистское уравнение, благо скорости электрона в водородном атоме были не настолько большими, чтобы надо было обязательно учитывать эффекты теории относительности. Дальнейшее известно: Шредингер получил прекрасное совпадение с опытом, открывшее путь к быстрому развитию квантовой механики.
Но отодвинутая в сторону проблема не исчезла со сцены. Нужны лишь были время и новые силы для ее решения, и новые факты, без которых решить ее не удалось бы. Главный из этих фактов был обнаружен в том же 1925 году, когда Шредингер мучился над уравнением. Этот факт — наличие у частиц и квантов, помимо масс, зарядов и прочих характеристик, еще одного важнейшего свойства: спинового момента импульса, или, коротко спина.
Внешне дело выглядит так, словно электрон вращается вокруг собственной оси. Это вращение, как и вращение любого тела, может быть охарактеризовано специальной величиной — моментом импульса, который представляет собой произведение массы тела на скорость вращения и на радиус вращения. Но такое определение спина, основанное на классических понятиях, для квантовой механики электрона была неприемлемо.
Прежде всего что понимать под радиусом собственного вращения частицы? Квантовая механика не только лишила электрон абсолютно точного положения в пространстве, связав с ним волну вероятности. Она лишила его и определенных размеров: электрон размазывает собственная волна. О структуре этой волны сказать было нечего, н теоретики объявили электрон материальной точкой, не обладающей размерами. Но тогда теряло всякий смысл понятие радиуса его вращения вокруг собственной оси.
Дальше: когда вычислили скорость вращения электрона, использовав для оценки (и только для нее!) электромагнитный радиус электрона, рассчитанный еще Лорен-цом, так, чтобы при известной массе электрона получить согласие с найденной в эксперименте величиной спина, то оказалось, что эта скорость должна превышать скорость света. Однако согласно специальной теории относительности скорости движений вещественных тел и частиц не имеют права даже достигать скорости света.
Сплошные несообразности! Из них явствовало только одно: спин не имеет ни механической, ни электромагнитной природы. Какова его природа, никто не знает и по сей день, однако ясно, что огромная скорость спинового «вращения» является эффектом релятивистским, указывает на связь с теорией относительности.
Дирак и ввел спин в свое релятивистское уравнение для электрона, чего в свое время не сделал Шредингер. Как и его предшественник, Дирак написал и исследовал два уравнения — одно для электрона в атоме водорода, другое — для свободного электрона, не связанного никакими силами с другими частицами в мире. Конечно, такая модель преследовала лишь цель простоты расчета, хотя какая тут могла быть простота: уравнение Дирака, в сущности, представляет собой «спрессованную» комбинацию целых четырех сложных уравнений!
Как и полагается, четыре уравнения дали четыре решения: два для спина и два для энергии электрона. С первыми двумя решениями удалось разобраться довольно быстро: вращение электрона, образно говоря, может происходить как по часовой стрелке, так и против нее, и в соответствии с этим спин условно направлен либо вверх, либо вниз, будучи при этом одинаковым по величине. С решениями для энергий дело оказалось сложнее: они тоже совпадали по абсолютной величине, но одно из них было положительным, а другое — отрицательным. Положительная энергия замечаний не встретила, именно такова должна быть, по принятому физиками соглашению, энергия любой свободно движущейся частицы. А вот отрицательная энергия целых два года была загадочной.
Вначале Дирак думал, что отрицательную энергию следует приписать протону — единственной известной тогда частице с положительным зарядом, обычно связанной с электроном в атоме. Но оставалась таинственной и эта связанность свободной частицы, а, кроме того, в обоих решениях Дирака фигурировала одна и та же масса, а не две разные — электронная и протонная. Между тем намек на какую-то связанность был: отрицательная энергия, опять же по соглашению физиков, может соответствовать только связанным, несвободным частицам.
После различных перипетий ищущая мысль Дирака пришла к чрезвычайно смелому и необычному представлению: решение с отрицательной энергией отвечает не свободному электрону, а связанному его двойнику с положительным электрическим зарядом, который получил название позитрона. Но этого мало, надо объяснить, где и с чем связан позитрон. И Дирак высказывает следующее удивительно красивое представление (им пользуются и по сей день, хотя впоследствии это «промежуточное» представление было заменено более простым и адекватным действительности).
Позитроны находятся в связанном состоянии в абсолютной пустоте, в вакууме. Вакуум не пуст, напротив, он заполнен до отказа электронами, но они необнаружимы. Все эти электроны имеют энергии ниже пороговой, равной — Ео = — Шос2, где Е0 — собственная энергия электрона, a tn0 — его масса покоя (т. е. масса, которую по теории относительности имеет неподвижный электрон). Почему же эти электроны необнаружимы? Потому что все электроны в мире, которые можно обнаружить, имеют энергии,
по меньшей мере равные их собственной энергии Ео = 1Щс2. Таким образом, между миром обнаружимых и необнаружимых электронов пролегает широкая энергетическая полоса, ее ширина равна по Шос2 вверх и вниз от нуля энергий, всего 2т0с2. Сделать вакуумный электрон обнаружимым можно, сообщив ему энергию не менее 2т0с2 тогда он вылетит из вакуумного в реальный мир.
Но в вакууме при этом происходит то же, что при выбрасывании электрона из атома: атом превращается в положительный ион, вакуум приобретает в целом положительный заряд, равный по абсолютной величине заряду электрона. Этот заряд и ведет себя как частица, но, в отличие от выброшенного свободного электрона, как частица связанная, ее энергия отрицательна. Такая частица и есть реально существующий позитрон!
Существование позитрона не в одних лишь теоретических построениях Дирака, а в действительности было установлено очень быстро — уже спустя два года после его предсказания. Так была открыта первая античастица, возглавившая обширный сегодняшний их список. А еще спустя короткое время был открыт замечательный процесс — слияние, аннигиляция электрона и позитрона, в результате которой оба они исчезают в вакуумном мире. И все? Нет, прежде чем «исчезнуть» в необнаружимом мире, электрон обязан вернуть энергию, которая была затрачена на его выбрасывание в мир реальный, этого требует не знающий уступок закон сохранения энергии. В каком виде электрон возвращает эту энергию? Эксперимент по аннигиляции электрона и позитрона показал, что энергия возвращается в виде нескольких гамма-квантов — высокоэнергичных квантов электромагнитного излучения. А затем был обнаружен и обратный процесс — жесткие гамма-кванты электромагнитного поля превращались в пары из электрона и позитрона.
Так впервые на глазах физиков совершилось превращение частиц в кванты поля и квантов — в частицы вещества. Это превращение является на сегодняшний день, пожалуй, самым убедительным доказательством материальности электромагнитного поля. Со времепем такое доказательство было получено и для сильного, ядерного, поля.
Но из факта такого превращения вытекает и другое заключение: зачем рассматривать какой-то необнаружи-мый вакуумный мир, в котором в потенции содержатся частицы и античастицы, когда процесс можно описать, оперируя лишь полями и частицами? Этот необнаружимый мир служит не только «наглядности»: прежде чем дойти до окончательной картины взаимного превращения квантов в пары частиц и античастиц, нужно было по дороге еще додуматься до существования самих античастиц и дать убедительное, хотя и весьма необычное, обоснование факту их существования. Так и появился вакуумный мир, и связанными с ним понятиями физики пользуются и по сей день для описания взаимных превращений частиц и квантов, обладающего определенными удобствами.
Дирак нащупал в релятивистской квантовой теории электрона главное — существование античастицы. Затем началось развитие теории взаимодействия электронов через электромагнитное поле — релятивистской электродинамики, являющейся квантовой продолжательницей электромагнитной теории Максвелла и электронной теории Лоренца. Эта теория основывается на одном фундаментальном положении: взаимодействие электронов и вообще электромагнитное взаимодействие всех заряженных частиц осуществляется путем обмена фотонами — квантами электромагнитного поля.
Как происходит такой обмен? Один из электронов все время испускает в окружающее пространство фотоны; когда они достигают других электронов, они поглощаются электронами, и с каждым поглощением фотона завершается «квант» взаимодействия. В свою очередь, «первый» электрон поглощает фотоны, испущенные другими электронами. Все электроны неотличимы друг от друга, и поэтому нет никакого смысла говорить, в какой точке пространства испущен, а в какой поглощен данный фотон. Более того, не имеет смысла указывать, в каких точках пространства-времени это происходит. В так называемой локальной теории поля, о которой мы будем в основном рассказывать, взаимодействия электронов и других частиц происходят каждое в одной точке такого пространства-времени.
По этой причине квантовая теория полей не интересуется тем, как взаимодействие происходит в просграистве-времени. Ее интересуют только изменения состояний частиц — их энергий и импульсов в процессе взаимодействия. Жертвуя во имя принципа неопределенностей Гейзенберга пространственно-временной картиной, квантовая теория поля приходит к значительно более важной для нее энер-
гетически-импульсной картине взаимодействий частиц и их взаимопревращений с квантами полей.
Отказ от пространственно-временного описания событий в микромире вообще характерен для квантовой механики. Ее интересуют не траектории движения микрочастиц (которые и построить точно нельзя в связи с тем, что положения и скорости частиц не определяются одновременно с абсолютной точностью, о чем гласит первое из соотношений Гейзенберга), а состояния движения частиц в полях, например энергия движения электрона в атоме водорода в электрическом поле протона. Она рассчитывает распределения волн вероятности для электрона в атоме в зависимости от расстояния до центра атома — ядра, в сущности, лишь затем, чтобы с их помощью вычислить вероятности скачков электронов из состояния с одной энергией в состояние с другой энергией. Именно эти вероятности определяют интенсивности в спектрах излучения атомов.
Тот же принцип неопределенностей позволяет понять, почему вообще возможно взаимодействие частиц, например электронов. Для взаимодействия электрон должен испускать фотоны, но фотоны обладают энергией. Откуда же берет эту энергию испускающий их электрон? Более того, электрон может испускать фотоны со сколь угодно высокой энергией, даже намного превышающей его собственную энергию, лишение которой означает переход электрона в необнаружимый мир.
На энергию фотонов, испускаемых электроном, квантовая электродинамика не накладывает никаких ограничений! И, несмотря на это, не вступает в противоречие с законом сохранения энергии. Но понимает она этот закон не так «примитивно», как классическая физика, которая считает, что он должен выполняться всегда.
Квантовая теория поля вносит небольшую поправку: всегда при взаимодействиях. В отсутствие таковых может происходить все что угодно; все равно это необнаружимо. На том языке, который пользуется соотношением Гейзенберга между энергией и временем, это звучит так: электрон может иметь любую неопределенность в своей энергии ДЕ, но лишь в течение такого времени Д*, чтобы произведение этих неопределенностей имело порядок величины постоянной Планка h. Иными словами, чем больше неопределенность в энергии, чем больше энергия, заимствованная одним или несколькими испущенными фотонами у электрона, тем меньшее время могут существовать эти фотоны. Если за это время они не будут поглощены партнером по взаимодействию, они обязаны возвратиться к породившему их электрону и быть поглощены им.
Сколь же велико это время? Допустим, что электрон испускает фотон видимого света, имеющий энергию порядка 10“12 эрг. Тогда время свободного существования фотона составит около 10~15 секунд, а пролетит он за это время расстояние порядка микрона. Но именно такова длина волны испущенного фотона!
Вместе с тем это означает, что взаимодействие между удаленными друг от друга электронами может осуществляться только посредством весьма малоэнергичных (длинноволновых) фотонов. Поскольку фотоны испускаются равномерно по всем направлениям, то по мере удаления от электрона вероятность их встречи с другим электроном будет уменьшаться, как легко сообразить, пропорционально обратному квадрату расстояния между частицами и в соответствии с этим будет ослабевать само взаимодействие. Что же, именно это и гласит закон Кулона.
Все, что говорит классическая теория взаимодействия зарядов о действующих между ними силах, релятивистская квантовая теория переводит на язык квантов поля. В результате обмена квантами электромагнитного поля электроны меняют свои энергии и импульсы так, что это равносильно их отталкиванию, т. е. взаимному удалению в пространстве с течением времени. Можно спросить: разве стоило придумывать обмен квантами поля только затем, чтобы описать известный закон взаимодействия на новом, более сложном языке? Конечно, нет. Но с помощью нового языка, новых понятий квантовая электродинамика позволяет предсказать и чрезвычайно точно рассчитать новые тонкие эффекты, недоступные электродинамике классической и обнаруженные на опыте.
Еще в тридцатых годах квантовой теории электромагнитного поля удалось, принимая во внимание существование диракова позитрона, рассчитать в очень хорошем согласии с опытом рассеяние электронов на электронах (ку-лоновский эффект) и на фотонах (эффект Комптона). А затем она приступила к расчету множественных процессов, при которых во взаимодействии заряженных частиц принимают участие уже не один, а два и более фотонов. Казалось бы, эти процессы должны были давать лишь небольшие поправки к результатам расчета однофотонных взаимодействий. Процедура расчета основывалась на том, что электромагнитное взаимодействие является сравнительно слабым, и была составлена так, чтобы для двухфотонного обмена эта «слабость» фигурировала в квадрате, для трехфотонного — в кубе и т. д., так что каждый последующий процесс должен был давать вклад намного — примерно в 100 раз — меньше предыдущего. А на самом деле возникли неприятности: вклады от этих процессов с увеличением числа фотонов росли до бесконечности!
В чем тут было дело, оставалось непонятным, и физики на время оставили попытки рассчитывать множественные процессы, стали отбрасывать эти бесконечности. Этот трюк с отбрасыванием бесконечностей и учетом только тех выражений, которые имеют конечную величину, был доведен до такой виртуозности, что американский физик Сербер как-то с язвительной иронией заметил: если какая-либо величина становится бесконечно большой, то это не значит, что ею можно пренебречь.
Так продолжалось до тех пор, пока в конце сороковых годов американец Ричард Фейнман и ряд других теоретиков не додумались до идеи перенормировок. Коротко говоря, она заключается в следующем. Масса покоя электрона равна т0, но в результате всех вышеуказанных процессов с участием фотонного поля она увеличивается на некоторую величину Ат в известной степени аналогично электромагнитной массе электрона, введенной еще в прошлом веке Джозефом Томсоном и Лоренцом. Но в отличие от них квантовая электродинамика приписывает электромагнитное происхождение не всей массе электрона, а только части массы А т. В любом эксперименте вместе с тем наблюдаются не то и Ат порознь, а только их сумма, поскольку «голого», не облаченного испускаемыми им фотонами, не взаимодействующего ни с чем электрона в природе не существует. Тогда во все уравнения теории следует подставлять вместо то («голой» массы) величину т (наблюдаемую массу)1, нисколько не раздумывая над тем, почему добавка Ат имеет бесконечную величину. Аналогичным образом следует поступить и с получающимся в теории бесконечным зарядом электрона: брать вместо этой бесконечности конечный наблюдаемый на опыте заряд.
Не очень-то красивый прием — «заметать бесконечности под ковер», по веселому замечанию Фейнмана. Единственное оправдание, которое можно этому дать, состоит в том, что «природные», а не «теоретические» электроны никаких бесконечностей, кроме бесконечно глубокого разнообразия своих свойств, не обнаруживают. А благопристойно выглядящая (благодаря заметенным под ковер непонятным бесконечностям) квантовая электродинамика позволила поразительно точно вычислять взаимодействия этого «перенормированного» электрона.
Например, такое взаимодействие изменяет связанный со спином магнитный момент электрона примерно на тысячную его часть. И эту ничтожную добавку удалось не только теоретически объяснить, но и рассчитать с точностью выше одной сотой. Что и говорить, точность фантастическая. Одно лишь непонятно: не то, как она достигнута, а почему достигнута вообще. Но, видимо, за приемом перенормировки стоит что-то важное и верное, если он так хорошо работает.
В те же тридцатые годы, когда квантовая электродинамика делала первые успешные шаги, ученые ломали головы над проблемой строения атомного ядра, открытого за двадцать лет до того. Вначале думали, что ядро построено из протонов и электронов, но затем соотношение Гейзенберга между координатами и импульсами электронов похоронило такое представление. Электрон просто не умещался в ядре, неопределенность в его координате выпирала далеко за пределы того объема, в котором, как показывали опыты, должно было быть ядро.
В 1932 году открытие Джеймса Чадвика позволило заменить несуществующие в ядре электроны нейтронами. И сразу стало ясным, что силы сцепления протонов и нейтронов в ядре имеют особую, неэлектрическую природу: нейтрон не имеет электрического заряда, и, кроме того, электрические силы были слишком слабыми, чтобы обеспечить наблюдаемую прочность ядер. Исходя вместе с тем из очень малых размеров ядер, следовало предположить, что силы между протонами и нейтронами действуют лишь на чрезвычайно коротких расстояниях порядка триллион-ных долей сантиметра.
Удивительные силы, рекордсмены близкодействия! Чрезвычайно короткий радиус действия, но огромная мощность, во много раз превышающая ту, что характерна для электромагнитных и тем более гравитационных сил на столь малых расстояниях. Действительно, оценка показывает, что ядерные взаимодействия примерно в 100 раз сильнее электромагнитных и в невообразимое число — 1038 — раз сильнее гравитационных.
Особый характер ядерных сил потребовал введения нового поля, а значит, новых его квантов. Это не фотоны: электромагнитное поле для ядер слишком слабое. Каковы же они, эти кванты? В 1935 году японский физик Хидеки Юкава набрасывает их портрет.
Вот ход его рассуждений. Ядерные силы — короткодействующие, значит кванты ядерного поля имеют малый «пробег» до своего поглощения, порядка триллионных долей сантиметра. Допустим, что они движутся с максимальной возможной скоростью — скоростью света. Тогда время их существования в свободном полете составляет величину порядка 10-23 секунд. А теперь применим соотношение Гейзенберга, чтобы определить собственную энергию Е0 этих квантов, или, иными словами, как в случае испускания электроном фотонов, неопределенность в энергиях АЕ протонов и нейтронов, испускающих ядерные кванты. Эта неопределенность составит что-то около 10~4 эрг. А от энергии квантов перейдем по формуле Эйнштейна Ео = гпос2 к массе гипотетических частиц. Она составит примерно 200 — 300 масс электрона.
Поскольку новый квант имеет массу, промежуточную между массами электрона и протона, он получает название пи-мезона (от греческого «мезос» — средний). Новый квант оказывается интересной сущностью, в отличие от фотона он обладает массой покоя. Но его особенности, указывает Юкава, этим не ограничиваются: он может нести на себе оба рода электрических зарядов.
Тогда картина обмена протона и нейтрона в ядре мезонами предстает в совершенно необычном виде. Протон испускает положительный мезон и, отдав с ним свой положительный заряд, превращается в нейтрон. В свою очередь, нейтрон, выбросив отрицательный мезон, заряжается положительно и превращается в протон. Судьба протона и нейтрона, поглотивших эти мезоны, в точности обратна: нейтрон, поглотив «протонный» мезон, приобретает с ним положительный заряд и превращается в протон; протон же, поглотив «нейтронный» мезон, утрачивает свой заряд и превращается в нейтрон. В среднем число прямых и обратных превращений в единицу времени одинаково, так что в ядре все время сохраняется неизменное соотношение между числами протонов и нейтронов. Более того, при этом и догадаться даже нельзя о существовании мезонов: в обычных условиях они циркулируют в самих ядрах и не показываются за их пределы — этого не допускает принцип неопределенностей.
Пи-мезоны (пионы) появляются во внеядерном пространстве, например, при разрушении ядер в результате ударов в них энергичных частиц или при взаимных столкновениях ядер. Их обнаружили в 1947 году в потоках частиц, возникающих в атмосфере вследствие вторжения в нее энергичных космических лучей. G открытием пионов мезон-иая модель ядерного поля получила важное подтверждение.
Но еще до этого приятного момента началось строительство мезодинамики — теории ядерного поля. В нынешнем году можно было бы отпраздновать сорокалетний ее юбилей... если бы эта теория существовала. Однако ее до сих пор нет и неизвестно, появится ли мезодинамика вообще. Дело в том, что построить ее по аналогии с квантовой электродинамикой не удалось. Ядерное взаимодействие в отличие от электромагнитного сильное, и придумать такую процедуру, чтобы двухпионные, трехпионные и другие множественные процессы обмена квантами ядерного поля давали все меньшие вклады во взаимодействие, не удалось.
Более того, вскоре после открытия пионов обнаружились и другие разновидности квантов ядерного поля. В начале пятидесятых годов были открыты ка-мезоны (коротко, каоны), причем их свойства оказались настолько странными с точки зрения тогдашних (да и сегодняшних) представлений, что эти мезоны даже получили специальное наименование странных частиц.
Странности эти проявляются, в частности, в феномене, обнаруженном в конце прошлого века французским физиком Анри Беккерелем и получившим название радиоактивности. Когда стало ясным, что атомное ядро — типичная система квантовых частиц, удалось сравнительно легко (по крайней мере в идейном отношении) понять происхождение одного из видов радиоактивности — гамма-распада ядер. Процесс вылета гамма-квантов из ядра оказался сродни процессу испускания световых квантов атомом. И там и здесь частицы переходят из состояний с большей в состояния с меньшей энергией, а излишек энергии «высвечивается» в виде квантов электромагнитного излучения, только в ядрах эти излишки энергии оказались в тысячи и миллионы раз больше, чем в атомах, и соответственно во столько же раз больше энергии и частоты (и меньше длины волн) квантов излучения.
Затем был разгадан секрет другого вида радиоактивности — альфа-распада. Этот секрет весьма интересен, но не имеет прямого отношения к теме нашей книги, и мы не будем на нем останавливаться.
В начале тридцатых годов теоретики дошли до, пожалуй, самого распространенного вида радиоактивности — бета-распада, при котором из ядер вылетают электроны и позитроны — частицы, которых согласно квантовой механике в ядре не может быть. Отсюда вытекало, что эти частицы должны образовываться в ядрах, но именно потому, что для них в ядрах нет места, они должны покидать ядра. Очевидно, образование их возможно только в результате превращений ядерных частиц, в результате их взаимодействия, но уже не того, в котором, скажем, нейтрон превращается в протон и отрицательный пион, а совсем другого. Какого же?
Период бета-распада ядер всегда на много порядков величины больше времени взаимных превращений протонов и нейтронов в результате обмена пионами, а значит, и энергия загадочного «распадного» взаимодействия, сила его на столько же порядков меньше. По этой причине новое взаимодействие в отличие от ядерного физики назвали слабым. Оценки показывают, что оно действительно примерно в триллион раз слабее ядерного взаимодействия. Работа этого взаимодействия в ядре состоит в том, что оно превращает нейтрон в протон, электрон и электронное антинейтрино (ниже мы объясним, что это за частица). Электрон и антинейтрино покидают ядро, а протон остается в ядре, что увеличивает его положительный заряд.
Вскоре выяснилось, что слабое взаимодействие работает не только в ядре. Оно вызывает распад почти всех элементарных частиц, за исключением лишь небольшого числа их разновидностей, и в этом смысле чрезвычайно универсально. В частности, оно вызывает распад заряженных пионов на мюоны, а этих последних — на электроны. В обоих распадах мюоны и электроны сопровождаются нейтрино и их античастицами, но разного сорта; чтобы их различить, им и присвоили названия мюонных и электронных нейтрино и антинейтрино.
Единственные простые слова, которые можно сказать по поводу всех этих распадов, это те, что в них остаются справедливыми законы сохранения энергии, импульса, момента импульса (спина) и электрического заряда. Все остальное чрезвычайно сложно, начиная с того, что сегодня даже уверенно не обнаружены кванты поля, осуществляющего слабое взаимодействие.
Итак, за последние полвека своего развития физика в дополнение к двум уже известным полям — гравитационному и электромагнитному — обогатилась двумя новыми полями — ядерным (сильным) и слабым (распадным). В дополнение к одному известному кванту — фотону — появилась целая группа квантов ядерного поля, состоящая из восьми частиц (трех пионов, четырех каонов и одного эта-мезона). Кванты двух полей пока не обнаружены — это гравитон, квант поля тяготения (или, по терминологии общей теории относительности, гравитационная волна) и квант слабого поля, который, исходя из того, что он должен иметь большую массу, назвали тяжелым мезоном.
Здесь уместно заметить, что теории тяготения не повезло с внедрением в нее квантово-полевых представлений. В теорию электромагнитного поля такое внедрение произвел Эйнштейн уже спустя тридцать лет после ее создания. Вероятно, нужен второй Эйнштейн; полувековые попытки сопрячь теорию гравитационного поля с квантовой теорией пока ни к чему положительному не привели. В последнее время то здесь, то там появляются сообщения об обнаружении гравитационных волн. Ввиду чрезвычайной слабости таких волн попытки зарегистрировать их равносильны научному подвигу. Может быть, когда они будут не только обнаружены, но и хорошо изучены, опыт даст теоретикам новую пищу для размышлений о квантовой структуре гравитационного поля, о превращении его квантов в другие частицы. А может быть, раньше появится второй Эйнштейн, и его новая «сумасшедшая» теория даст другое направление поискам теоретиков и экспериментаторов.
Мы уже знаем, что частицы и кванты не отделены непроходимой стеной. Частицы не только могут (и обязаны!) испускать кванты тех полей, которые характеризуют их взаимодействие с другими обитателями нашего мира. Частицы при определенных условиях могут вполне реально превращаться в кванты, да и сами кванты могут превращаться в частицы. Позитроны и электроны могут превращаться в гамма-кванты, протоны с антипротонами — в пионы и каоны.
Между разными полями также существует широкое общение. Например, нейтральный пион — квант ядерного поля, распадаясь (но уже не слабым, а электромагнитным взаимодействием), превращается в гамма-кванты. При достаточно энергичном столкновении электрона с позитроном могут рождаться пионы и даже пары из протона и антипротона. Возникает естественная мысль: а не существует ли некое общее, единое поле, лежащее в основе всех известных полей, всех взаимодействий, всех многообразных превращений полей в вещество и друг в друга?
Впервые эта мысль была высказана Эйнштейном, и он же потратил добрую половину своей жизни на разработку теории такого единого поля. И хотя он пытался сопрячь воедино только гравитацию и электромагнетизм, из этой попытки в конечном счете ничего не вышло. Может быть, это отчасти связано с чудовищными математическими трудностями «геометризации» полей, которые так и не удалось до конца преодолеть Эйнштейну и его ученикам. Но скорее всего, видимо, это обусловлено тем, что Эйнштейн не проводил четкого различия между частицами вещества и квантами поля, считая, например, частицы какими-то сгустками поля (чем-то вроде комков в неудачно приготовленном киселе). Вообще говоря, эволюция поразительная: менее чем за век поле смогло превратиться из инструмента описания взаимодействий в нечто глобально самодовлеющее, чуть ли не в единственную и единую материальную сущность в мире!
На первый взгляд есть некоторые основания для подобного «растворения» частиц в поле. Кванты поля обладают массой, энергией, импульсом, как и частицы вещества. Более того, электрон с сопутствующей ему волной де Бройля как будто бы в принципе ничем не отличается от кванта света — электромагнитной волны с присущими ей корпускулярными свойствами. Кванты и частицы взаимно превращаются, что тоже, казалось бы, говорит об их единой природе. Полевое описание богаче вещественного, именно в этом направлении и шла эволюция (и революция!) физики, ее теоретического аппарата для описания взаимодействий. Но сходство не исключает различия.
Можно назвать по крайней мере одно важнейшее отличие частиц вещества от квантов поля. Оно заключается в величине их спина. Вскоре после открытия спина немецкий физик Вольфганг Паули сделал исключительной важности работу. В ней он установил, что в зависимости от величины спина микрообъектов возможны два принципиально различных вида их поведения. Частицы, которые имели величину спина, выражающуюся целым числом (О, 1, 2, 3 и так далее) некоторых единиц (й/2я), могли в любом числе занимать одно и то же состояние в их коллективе, например, находиться в одном и том же месте пространства. Такие частицы получили название бозонов (в честь индийского физика Шатьендраната Бозе, который первым рассмотрел, как они распределяются по различным возможным состояниям). Частицы же, которые имели полуцелую величину спина (7г, 3/2, 5/г и так далее в тех же единицах), одно и то же состояние занимать не могли, в частности не могли находиться в одном и том же месте пространства, имея в нем абсолютно одинаковые характеристики. Такие частицы получили название фермионов (в честь итальянского физика Энрико Ферми, который провел для них работу, аналогичную работе Бозе). А затем выяснилось, что все кванты полей являются бозонами, а все элементарные частицы вещества — фермионами.
Но на обыденном языке это же может означать взаимную непроницаемость частиц, невозможность «всадить» одну частицу в другую такую же частицу. И вместе с тем это может означать возможность «всаживать» кванты один в другой в любом количестве: а ведь именно количество квантов, собравшихся в одной точке пространства, определяет на классическом языке основную характеристику поля — его напряженность в этой точке!
Такое различие частиц и квантов может показаться неубедительным и даже надуманным. Мы без труда представляем себе, как можно собрать в одной точке сколько угодно нейтрино, чего в действительности сделать нельзя, хотя ни заряда, ни массы у них нет, движутся они со скоростью света и всем этим весьма напоминают фотоны, «всаживание» которых друг в друга не вызывает у нас никакого умственного сопротивления. И вместе с тем даже мысленная попытка «втиснуть» друг в друга солидные, обладающие массой покоя и даже электрическим зарядом пионы доставляет нам мучения, хотя ничего запретного в этом нет. Известны целые агрегаты пионов, впрочем, весьма недолговечные и распадающиеся на отдельные пространственно разделенные пионы.
По-видимому, атрибуты «частичности», ведущие свое происхождение от массивных тел и частиц, и атрибуты «полевости», берущие свое начало еще от представления о субтильном эфире, настолько прочно въелись в нас, что избавиться от них при изучении микрообъектов очень трудно. А между тем это необходимо: в принципе никаких физических различий между частицами вещества и квантами поля, кроме вышеупомянутого различия в величине спинов (а значит, и различия в коллективном их поведении), современная наука не находит.
Но за необходимостью различать частицы вещества и кванты поля стоит еще одно очень важное соображение уже не физического, а мировоззренческого, философского характера. Марксистско-ленинская философия, основываясь на достижениях науки, утверждает: мир на всех ступенях своего существования и развития диалектичен. Именно диалектичность, двойственность, противоречивость начал всего сущего является движущей причиной развития мира.
Эти начала можно назвать так: структура и взаимодействие. Структура всех вещей определяет их действия друг на друга, и, в свою очередь, эти действия определяют саму меняющуюся структуру вещей.
Одновременным постижением структуры и взаимодействий современное мышление людей еще не обладает в достаточной степени. Но природа устроена так, что в известных рамках мы можем отделять структуру от взаимодействий и рассматривать их до поры до времени порознь, без «обратной связи». При этом, конечно, всегда существует опасность раздуть одну сторону мира в ущерб другой.
На наинизшем уровне строения материи, но зато самом глубоком и фундаментальном, изучением которого и занимается физика, структура и взаимодействия расшифровываются как вещество и поле. Физическое знание долгие века развивалось с естественным перекосом в сторону чего-то относительно неизменного, стабильно действующего на органы чувств, некоей почти навечно заданной структуры, т. е. вещества. По мере развития физики человеку постепенно стали доступны и быстрые процессы изменения структуры — процессы взаимодействия. Слабые и расплывчатые представления об этой стороне мира укрепились и оформились в понятии поля. Наступил период известного равновесия обеих сторон. Но затем в попытках преодолеть трудности диалектического постижения взаимосвязи этих сторон некоторые (далеко не все!) ученые ударились в другую крайность, объявили примат поля над веществом, тем более что к этому вели и чисто научные причины, например хорошая разработанность аппарата полевого описания. Однако неудача единой теории поля Эйнштейна, а впоследствии отсутствие крупных успехов у единой теории поля, разрабатывавшейся Гейзенбергом, как будто бы ясно говорят о сомнительной плодотворности такого физического подхода и о явной односторонности такого философского воззрения.
Поле и вещество — совершенно равноправные и неразрывно взаимосвязанные диалектически формы существования материи. Не существует как частиц вещества без квантов поля, так и квантов без частиц.
Это понимание все глубже проникает в мышление физиков. Сегодня уже невозможно ввести «голый» электрон, а затем облекать его фотонным полем: заметенные под ковер бесконечности напоминают о себе, выпирая точно шило из мешка. Нельзя рассматривать и одно лишь поле, стремясь вывести из него свойства частиц, например набор их масс, что пыталась без успеха сделать единая теория поля Гейзенберга.
В области скромных энергий частиц, где еще не обнаруживаются реальные взаимные превращения частиц и квантов, еще можно — и довольно успешно — рассматривать «голые» частицы, так и сяк включать и выключать их взаимодействия, подбирая наилучшее возможное описание: корпускулярное — для частиц, волновое — для квантов. Но в релятивистской области, где энергии частиц велики, их скорости приближаются к скорости света, а энергии — к собственным энергиям частиц, такой подход становится уже непригодным.
Здесь волновые и корпускулярные свойства частиц и квантов перепутываются в такой клубок, что разобраться в нем под силу лишь наиболее совершенным физическим теориям. Таких теорий в настоящее время еще нет, наиболее близко критерию совершенства удовлетворяет лишь квантовая электродинамика, но появление их, очевидно, не за горами.
В нашей небольшой книге затруднительно даже просто перечислить те пути, по которым развивается сегодня теория взаимодействия частиц. Сколько-нибудь детальное объяснение тех новых сложных понятий, которые вводятся ради упрощения картины взаимодействий, потребовало бы по меньшей мере еще одной такой же книги. Эти понятия в весьма существенной части — понятия математические, стоящее за ними физическое содержание подчас настолько сложно, что отчетливо не осознается даже самими теоретиками. Большинство новых понятий в области фундаментальных взаимодействий элементарных частиц еще не «созрело» для популяризации.
Мы коснемся лишь двух направлений развития теории взаимодействий, в которых активно, хотя и пока не слишком успешно, работает большая группа ученых. Прежде всего речь пойдет о нелокальных полевых теориях. Все, о чем до сих пор говорилось, относится к локальным взаимодействиям, когда оба партнера по взаимодействию находятся в одной точке пространства-времени. Естественно, что при таком подходе электрон является лишенной размеров материальной точкой. Конечно, это абстракция: размеры имеют все вещи в мире, хотя и в той или иной степени неопределенные: «волны материи» размывают очертания предметов. То, что электрон объявляется точкой, означает, что структура его еще не обнаружена в эксперименте.
О чем говорит пространственно-временная структура? О том, что существует «внутренность» частицы, что в ней как-то передаются взаимодействия и что сама эта структура определяется взаимодействиями. Но стоит наделить частицы размерами, как появляется трудность, связанная с тем, что даже внутри частиц взаимодействия не могут распространяться быстрее света. Дополнительная к ней энергетически-импульсная структура частиц, разумеется, связана с пространственно-временной структурой (вспомним соотношения неопределенностей), и ряд физиков декларирует, что обращение исследования к первой из них оказалось настолько успешным, что его можно считать единственным подходом, стоящим дальнейшего развития. Но вместе с успехом при таком подходе выявились и трудности. Именно попыткой преодолеть их является развитие нелокальных теорий взаимодействия.
Мы уже знаем: чем энергичнее взаимодействие, тем в меньших областях пространства-времени оно осуществляется, в том числе и внутри частиц. Квантовое соотношение неопределенностей можно воспринимать и как бы «классически»: энергия взаимодействия непрерывно растет и с нею столь же непрерывно уменьшаются размеры области взаимодействия. И так будет до бесконечности (и до нуля)? Чем-то этот вопрос напоминает старую как мир проблему о том, бесконечно делимо ли вещество, или же нет.
Античные философы додумались до предела делимости — атома, но дальнейшее показало, что с ростом энергии взаимодействия из атома можно «вылущить» ядро, а из ядра — протоны и нейтроны. Физики сегодня поговаривают о том, что если еще повысить энергии взаимодействия частиц (например, с помощью ускорителей), то, быть может, из протонов, нейтронов и мезонов удастся «вылущить» некие проточастицы — кварки. При этом существенно, что деление «по размерам» самих частиц окончилось еще на ядерных частицах. Да и что такое сами эти размеры, всецело зависящие от импульсов или энергий частиц? Речь идет не о размерах частиц, а о протяженности областей взаимодействия, в котором они участвуют. Может быть, и здесь нет непрерывности, может быть, могут обнаружиться своеобразные «кванты» пространства-времени?
Если исходить из понятия о сущности квантовой величины, то эта мысль означает, что могут существовать некоторые минимальные длины и интервалы времени, которые более уже неделимы, иными словами, что пространство и время имеют некую зернистую структуру. В таком случае, скажем, обычное движение в пространстве с течением времени выглядело бы как серия скачков из одного в другой квант пространства, причем в результате каждого такого скачка рождался бы квант времени.
Довольно необычное представление, но справедливости ради надо сказать, не такое уж новое и, пожалуй, не столь уж «сумасшедшее». Если под последней характеристикой понимать нечто крайне трудно вообразимое, далеко не сразу помещающееся в голове, принципиально новое, может быть, вначале даже вызывающее реакцию человека, впервые в жизни увидевшего жирафа в зоопарке, то кванты пространства-времени явно такому критерию не удовлетворяют. О том же говорит и история: представление о зернистом пространстве можно найти даже в теориях эфира, созданных в те времена, когда физическое знание было еще механистическим, и даже еще раньше — у античного философа Демокрита!
Главное, что в таком представлении не нравится многим физикам: в нем не присутствует явно взаимодействие, вернее, весь чрезвычайно богатый ассортимент взаимодействий частиц, обнаружившихся за последние полвека. От этого недостатка не свободен даже и более «дикий» вариант, в котором допускается, что пространство-время не только квантованно, дискретно, но и не бесконечно, содержит лишь ограниченное, хотя и весьма большое число квантов.
Вообще говоря, если исходить из известной теории «большого взрыва», согласно которой наблюдаемая Вселенная распалась на разлетающиеся куски вещества миллиарды лет назад (мы уже упоминали ее), то из нее можно сделать вывод о конечности вселенского пространства в любой прошлый и любой будущий момент времени. Пространство без тел потеряло свой смысл, а тем самым бессмысленно и пространство за пределами «фронта ударной волны» от этого взрыва, который, очевидно, мог удалиться от «точки взрыва» лишь на конечное расстояние, поскольку фронт вместе с образующими его частицами не может двигаться быстрее света.
Из представления о конечном дискретном пространстве вытекают некоторые общие заключения о характере взаимодействий элементарных частиц, но вовсе не тонкие особенности этих взаимодействий. Вместе с тем на сегодняшний день это представление скорее обращено назад, нежели вперед: оно пытается с единых позиций объяснить то, что уже известно, но еще не предсказывает ничего нового, что можно было бы пытаться обнаружить на опыте.
Конечно, ретроспективный взгляд не есть признак слабости теории; она нередко сначала осматривается в поисках подтверждения и, лишь убедившись в своей прочности, заглядывает вперед. Может быть, такое «впередсмот-рение» наступит и у описываемых представлений. А пока об их успехах рано говорить. Ясно лишь одно: пространственно-временные представления о взаимодействиях, в том числе и гипотезы о квантовой структуре пространства-времени, не есть следствие некоей тоски по наглядной классической картине взаимодействий, утраченной в релятивистской теории поля, которая для описания этой картины использует «дополнительные» к ней энергии и импульсы. Дело, по-видимому, в том, что последнее описание на сегодняшний день игнорирует в значительной степени пространственную структуру частиц, а без этой характеристики описание взаимодействий пе получается достаточно полным и верным.
Существует еще одно направление развития теории взаимодействий частиц. В некотором отношении оно радикальнее всех упоминавшихся выше: оно предлагает при описании взаимодействий вообще отказаться от понятия поля! Такой подход, называемый аксиоматическим, был
предложен в 1943 году Гейзенбергом и интенсивно развивался в последующие годы. Кратко его можно сформулировать так.
В некий бесконечно далекий прошлый момент времени имелись две бесконечно удаленные невзаимодействсвавшие частицы. Затем они начали сближаться, взаимодействовать, возможно, испытывать превращения. Спустя опять же бесконечно большой промежуток времени частицы вновь окажутся на бесконечном удалении друг от друга и вновь не будут взаимодействовать. Конечно, слова «бесконечно большой» не стоит понимать слишком буквально, они обозначают только то, что частицы находятся вне пространственной области, где взаимодействия частиц достаточно сильны для превращений и вообще любого существенного изменения структуры частиц (в этом отношении взаимодействие электронов, приводящее лишь к их взаимному отталкиванию, представляет мало интереса). Например, для ядерных взаимодействий бесконечно большими оказываются уже расстояния порядка 10~10 сантиметров и времена порядка 10~20 секунд.
Как происходит взаимодействие между частицами, конкретно ничего не известно. Оно — большой «черный ящик», и вскрывать его даже не надо пытаться. Для того чтобы выяснить, какая пара частиц получится в конечном итоге из пары исходных частиц, или узнать вообще, каким будет результат взаимодействия, следует рассчитать поведение волн вероятности частиц, используя лишь самые общие принципы квантовой механики и теории относительности. Такой подход на первый взгляд кажется отказом от микроскопической теории и возвратом к феноменологической теории, на вид противоречит самому ходу развития познания. Но не надо торопиться с заключением. Названные общие принципы не только чрезвычайно универсальны и мощны, они, кроме того, в сильнейшей степени ограничивают набор конечных пар, который получается из исходных пар частиц. На этом пути уже достигнут ряд успехов, хотя об окончательной победе аксиоматического направления тоже еще преждевременно говорить.
Чего мы, в сущности, ждем от всех таких теорий? Внешне, казалось бы, немногого, а внутренне — весьма большого и глубокого: описать набор масс всех известных частиц вещества и квантов полей и их взаимные превращения, а также предсказать новые частицы и связи между
частицами. Но выясняется, что такое предсказание и описание структуры («неизменных» масс частиц, по которым частицы и можно опознать) затрагивают вопрос об их взаимодействиях, т. е. поднимают проблему объяснения самого существования частиц.
В классических теориях еще можно было отвечать на вопрос «как», а вопрос «почему» отодвигать для решения микроскопическим теориям. В релятивистских квантовых теориях отодвигать вопрос «почему» уже больше некуда, от того, будет ли получен ответ на «почему», зависит и ответ на «как». В этом и состоит главная трудность физики частиц на том этапе, на котором она находится в последние десятилетия. Трудность, возможно, не только и не столько физическая, сколько гносеологическая.
Понятия частицы и кванта, вещества и поля оказываются неразрывно и диалектически связанными в одно цельное понятие частицы-кванта (прообразом его и явилось понятие частицы-волны), и работа с этим понятием требует диалектической перестройки самого мышления ученых, выработки новых правил обращения с такой фундаментально двойственной сущностью.
Поэтому понятна и попытка вообще избежать употребления понятия поля, действовать в рамках аксиоматического подхода. Но, перефразируя известную французскую поговорку, понять — это не значит простить. Аксиоматический подход, как и подход единой теории поля, в сущности, однобокие, хотя и вынужденные направления развития, связанные с сегодняшним недостаточным умением многих физиков мыслить последовательно диалектически. Причем, разумеется, мыслить не «вообще», как это присуще дилетантам, а профессионально, в рамках конкретной области науки, конкретной системы понятий и соотношений, устанавливающих связь между понятиями.
Этому не надо удивляться. Диалектика как общий метод рассуждения известна уже тысячи лет. Материалистическая диалектика же как философская система существует лишь немногим более ста лет, а как основа конкретного научного познания — и того меньше. Разработка вопросов диалектической гносеологии применительно к конкретным областям науки, в частности к вопросам взаимодействия на уровне элементарных частиц, началась, по существу, лишь в последние десятилетия, и в ней принимают участие не только философы, но и физики.
Не опасаясь упреков в пристрастности, можно сказать, что философское осмысление новых важнейших физических понятий все же шло с некоторым запозданием. Это можно понять: развитие философии происходит намного труднее, чем развитие конкретных наук. Гносеология не только выдает конкретным наукам рекомендации методологического характера. Она сама на базе достижений конкретных наук изучает самый сложный предмет на свете — человеческое мышление.
А трудности у мышления физиков-теоретиков поистине огромные. G одной стороны, невидимый, неосязаемый, бесформенный, находящийся в непрестанном изменении и взаимопревращении мир частиц-квантов. С другой — впитавшийся в плоть и кровь повседневный окружающий мир, видимый, осязаемый, более или менее стабильно оформленный, в котором превращения занимают сравнительно малое время бытия вещей. Сам человек представляет собой «измерительный прибор», меру вещей: на его «входе», когда он изучает мир частиц-квантов, разыгрываются микроскопические события, но на его «выходе» эти события должны превратиться в понятия, имеющие макроскопическое происхождение — пространство, время, вещество, поле. Сам процесс познания диалектичен по своей природе! В том и состоит главная трудность мыслительного перевода микромира событий в макромир понятий.
Существует и еще одна принципиальная трудность. Образно говоря, во все более сокровенных глубинах частиц отражаются все более широкие области Вселенной! Каждая из частиц нашего мира оказывается нерасторжимо связанной со всей Вселенной, несет на своей структуре отпечаток ее гигантского облика. И обратно, свойства всей Вселенной столь же нерасторжимо связаны с обликом, структурой составляющих ее частиц. Постижение сущности этого великого в малом и малого в великом — также одной из сторон диалектичности мира — тоже представляет огромные мыслительные трудности.
Около века назад Энгельс в книге «Диалектика природы» напшсал такие слова: «Взаимодействие — вот первое, нто выступает перед нами, когда мы рассматриваем движущуюся материю с точки зрения теперешнего естествознания... Естествознанием подтверждается то, что... взаимодействие является истинной конечной причиной вещей».
Одной из важнейших областей естествознания, успехи которой и легли в основу этого высказывания, была физика. Именно на основе прежде всего физических открытий выработалась марксистская диалектика. Именно в физике самые общие законы мироустройства принимают наиболее отчетливую и постигаемую форму. И в будущем постижение физических взаимодействий останется постоянным источником развития философии диалектического материализма. Вот почему в нашей книге мы уделили такое большое место мировоззренческим вопросам.
Но вместе с тем представления и понятия о физическом взаимодействии, несмотря на свою сложность (а может быть, благодаря ей!), чрезвычайно интересны и с конкретно-познавательной точки зрения. Не случайно элементарные частицы и их взаимодействия стали в последние годы предметом острого интереса широкого круга людей, этим вопросам посвящены многие сотни научно-популярных книг. Наша задача была более скромной — проследить за рождением и развитием понятий о физическом взаимодействии и коснуться лишь тех из них, которые имеют основополагающее значение для современной системы описания частиц и их взаимодействий.
Если читатель смог убедиться в том, что эта система понятий возникла не на пустом месте, не по прихоти теоретиков, а явилась результатом многовековой трудной работы человеческой мысли, преодоления заблуждений, предрассудков, ложных авторитетов, следствием кропотливого движения и гигантских скачков ума, то автор будет считать, что он выполнил поставленную перед собой задачу.
На этом, пожалуй, пора закончить наш рассказ. Мы подошли к переднему краю физики частиц-квантов, изучающей проблему взаимодействия на самом глубоком и фундаментальном уровне. Ничего еще более простого по своей сущности и более сложного по своему постижению в природе сейчас нет. Мы убеждаемся в том, что само познание этой сущности есть проблема взаимодействия человека с миром, который нельзя непосредственно потрогать руками или увидеть воочию.
Какая судьба ожидает понятие о поле — столь мощное и плодотворное в физике последнего века ее истории? Скорее всего, дальнейшее развитие и обогащение, действительное слияние с понятием вещества в неделимую двуединую сущность. Но уж никак не исчезновение! Прежние достижения науки не отменяются новыми ее достижениями, а включаются в них как частные случаи, справедливые в некоторых специальных (как говорят ученые, предельных) условиях. Теория относительности переходит в классическую физику при устремлении скорости света к бесконечности, квантовая механика переходит в классическую механику при устремлении постоянной Планка к нулю, но обе они не отменяют классическую физику, а считают ее своим предельным случаем.
Для какой же теории явится предельным случаем современная релятивистская квантовая теория полей?
Мы этого пока не знаем. |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) —
творческая студия БК-МТГК.
|