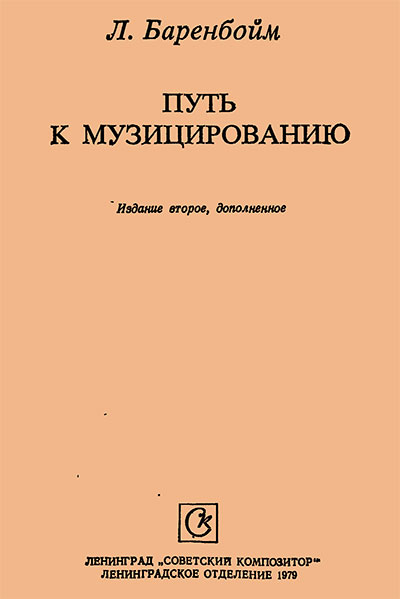СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ко второму изданию 3
Введение 5
Глава первая. О некоторых тенденциях музыкальной педагогики XX века 15
Глава вторая. Фортепиано и начальное музыкальное обучение 40
Глава третья. Обзор фортепианных школ для начинающих 68
Глава четвертая. Обзор фортепианных школ (продолжение) 174
Глава пятая. О создании новой фортепианной школы для начинающих 253
Послесловие. О нашей школе «Путь к музицированию» 283
Исследование содержит обзор и анализ советской, а также прогрессивной зарубежной педагогики, существующих пособий и методических материалов. Автор выделяет ведущие тенденции в современной методике фортепианного обучения н, опираясь на них, формирует обобщающие принципы современной музыкально-педагогической науки.
Настоящее (второе) издание кннгн дополнено различными материалами и, в частности, большим послесловием, в котором анализируется новая фортепианная школа Л. Баренбойма, Ф Брянской и Н. Перуновой (она в скором времени будет выпущена издательством «Советский композитор») Даются практические рекомендации педагогам, которые будут работать по этому пособию.
Предисловие ко второму изданию
За несколько лет, прошедших со времени выхода в свет первого издания книги «Путь к музицированию», у нас и за рубежом было опубликовано немало новых пособий по обучению начинающих игре на фортепиано. Первоначально я предполагал дать обзор этого учебного материала во втором издании моей работы, но вынужден был вскоре отказаться от такой мысли. И ват по какой причине: объем книги нельзя было значительно увеличивать, а мне представлялось более важным включить в нее разбор новой школы игры на фортепиано, созданной мною совместно с Ф. Д. Брянской и Н. Н. Перуновой.
Таким образом, во втором издании книги текст ее оставлен без изменений. Но к книге добавлено обстоятельное Послесловие, которое можно было бы озаглавить «Советы педагогу, как строить занятия с ребенком по школе "Путь к музицированию"».
Что же касается новых советских и зарубежных руководств, предназначенных для фортепианного обучения детей, а также иностранных пособий, которые по разным причинам не были рассмотрены в нашей книге, то ко всему этому мы надеемся вернуться в будущем.
Л. Баренбойм
Увы, среди педагогов музыки еще имеются люди, рассматривающие свою задачу толрко как обучение навыкам ремесла... В свое время основателю Петербургской консерватории А. Г. Рубинштейну пришлось отказаться от директорства, ибо ему не по силам было бороться с кругом сторонников идей мелко понимаемого профессионализма.
Б. АСАФЬЕВ
Будь я диктатор, я изъял бы из словаря термин гупражнение» и заменил его гмузицированием».
А. ШНАБЕЛЬ
Только то обучение является хорошим, которое забегает вперед развитию...
Л. ВЫГОТСКИЙ
Введение
1
В книге «Путь к музицированию» пойдет речь о начальном периоде обучения ребенка игре на фортепиано и о ею музыкальном воспитании в течение этого периода. Мне всегда казалось, что мы недостаточное внимание уделяем методике работы с начинающими, хотя и не перестаем повторять, что первоначальные фортепианные и общемузыкальные занятия относятся к дальнейшим, как фундамент к зданию, и что упущения на этом этапе нередко дают о себе знать на протяжении многих последующих лет.
Основная идея книги сформулирована в ее заголовке - задача педагога так вести малолетнего ученика, чтобы приохотить к музицированию и научить музицировать.
Сказанное не дает, однако, представления о характере или, если хотите, о жанре книги, которую держит в руках читатель. Что это? Изложение целостной системы занятий с начинающими? Отдельные методические советы и рекомендации? Размышления на музыкально-педагогические темы, в которые автор пытается вовлечь читателя? Экскурс в историю детской фортепианной педагогики? Критический обзор различных методов обучения?
Ответы на эти вопросы будут даны позже. А сначала — несколько слов о том, как возник замысел книги и что послужило толчком к ее написанию.
За последние годы под воздействием практики передовых педагогов, современной прогрессивной музыки, книг и статей по музыкально-педагогическим вопросам, новых психолого-пе-дагогических и дидактических идей, высказанных в трудах по общей педагогике и психологии, произошли изменения во взглядах на методы и формы начального обучения ребенка игре на инструменте. А в методике обучения, как и в самой природе, изменения в чем-то одном обладают свойством захватывать соседние области, и, подобно кругам по воде от брошенного камня, они, эти изменения, распространяются в разные стороны.
Отразилось ли все это на наших учебных пособиях, по которым проводится начальное фортепианное обучение? На мой взгляд, не отразилось или же сказалось в самой незначительной степени, и пособия наши в своих основных принципах не претерпели существенной модификации. Я вовсе не хочу сказать, что эти учебные пособия плохи. Они сыграли весьма положительную роль в нашей педагогической практике и в истории нашей детской фортепианной педагогики. И сейчас они помогают нашей фортепианно-педагогической работе, так как содержат, как правило, хорошо подобранный материал для обучения. Но по своему построению, по задачам, которые в них поставлены, по методическим приемам, а частично и по характеру помещенного репертуара они не соответствуют нынешним требованиям музыкальной педагогики и поэтому на наших же глазах устаревают. В чем причина этого? В самой общей форме можно ответить так: они не помогают педагогам и не «заставляют» их строить работу с ребенком по методу «развива-кнцего обучения», разработанному нашей общей педагогикой и давно уже — осознанно или интуитивно — используемому передовыми педагогами-музыкантами.
Конечно, пытливый, умный, талантливый педагог и по устаревающим или даже устаревшим учебным пособиям нередко умеет заниматься с ребёнком инициативно, интересно и — в Лучшем смысле этого слова — по-современному. Что же касается широкой массы педагогов, то они нуждаются в таких учебных пособиях, которые способствовали бы тому, чтобы они, педагоги, отошли от трафаретных, а то и рутинных приемов обучения, и которые повели бы их, все разъяснив, по новому Пути. С годами я все больше и больше убеждаюсь в огромной роли учебных пособий для массовой детской музыкальной (в том числе фортепианной) педагогики, роли, в какой-то мере недооцениваемой. А ведь эти пособия проникают в самые глухие уголки страны, ими пользуются сотни тысяч детей, они не минуют ни одного «начинающего», их нередко выучивают от доски до доски, они формируют податливое музыкальное сознание ребенка.
Я отдавал и сейчас отдаю себе отчет в том, что критиковать учебные пособия — не велика хитрость. Трудно, очень трудно их создавать. Мне представлялось поэтому делом безответственным указывать на недостатки учебных пособий (в том числе и того, в составлении которого я принимал участие в конце сороковых годов), не обратившись самому к написанию новой школы фортепианной игры. Поэтому несколько лет назад я с группой моих учеников — сотрудников тогдашней кафедры истории и теории фортепианного исполнительства и педагогики Ленинградской консерватории — решил приняться за создание такого пособия.
Как следовало приступить к такой работе? Перефразируя слова С. Маршака об учебных книгах, можно было бы сказать, что хорошая фортепианная школа не возникнет внезапно и сама по себе. Ее нужно подготовить исподволь, спокойно и без спешки. Лучше всего, казалось мне, пойти по пути, аналогичному тому, который выбрал в свое время Л. Н. Толстой, когда задумал написать «Азбуку»: он предварительно много лет изучал русские и иностранные книги, написанные для народа, произведения народного творчества и ряд других материалов. И мне представлялось нужным поступить так же: прежде всего критически изучить практику начального фортепианного обучения и используемый при этом материал как у нас, так и в зарубежных странах и лишь затем, опираясь на передовой опыт советской фортепианной методики, общей педагогики и психологии, сделать попытку создать новую фортепианную школу. В результате такой работы я предполагал написать развернутые тезисы, которые после обсуждения могли бы лечь в основу запланированного нами пособия. Адресатом этих тезисов должна была стать группа авторов новой школы, которую мы предполагали назвать так же, как и эту книгу, — «Путь к музицированию».
Но задуманные тезисы разрастались и становились все подробнее. И в процессе работы над ними у меня возникла мысль о том, что рассуждения мои, быть может, представят и сами но себе некоторый интерес для педагогов, работающих с детьми, и — что было бы особенно важным — послужат материалом для дискуссий. Вот тогда я решил оформить свои размышления, анализы и описания в виде книги.
2
Иные педагоги-музыканты, если они не идут вслед за временем, не развиваются, не пополняют свою работу новыми чертами, становятся жертвами догматического и рутинного мышления: привыкнув обучать ребенка — порой с некоторым внешним, сиюминутным успехом — каким-то одним, раз и навсегда установленным способом, они в конце концов проникаются внутренним убеждением, что этот-то метод, эта сумма приемов лучшие из возможных. Они обычно и в спор не вступают, но полагают, что методические усовершенствования и новшества, не совпадающие с тем, что они делают, — «от лукавого». Не этих ли педагогов имел в виду Б. Л. Яворский, написав в одном из писем, что «на заседаниях [они] со всем соглашаются, а в быту делают по привычно й... сноровке все отправления педагогического обихода»?1 Учителя эти обычно полны тем упрямым самодовольством, которое тот же Яворский в неопубликованных «Заметках по различным педагогическим вопросам» рассматривал как «признак прекращения развития организма в связи с прекращением интереса к явлениям вне их отношения к своей личности...»2 «Оседлав» тот или иной метод, такой самовлюбленный педагог победоносно гарцует, уверенный в своем превосходстве надо всем и надо всеми.
Хотя некоторые учителя-рутинеры умеют порой показать эффектные результаты своей работы (и ученики их награждаются репликами: «здорово играет!», «крепко играет!», «активно играет!», «все выходит» и т. п.), но ни педагогами, ни воспитателями в высоком смысле этих слов их не назовешь прежде всего потому, что они... безлики: микробы самодовольства, догматизма и рутины исподволь уничтожали их личность или не дали ей раскрыться. А ведь истинная педагогика всегда, всюду, на всех этапах — творчество, личное творчество. Я полностью солидарен с Л. Кабо: «Педагогика движется личностями. Как литература не существует вне конкретных имен, так и педагогика — это множество людей, в ней растворенных. Унифицировать в педагогике ничего невозможно...»3 Само собой разумеется, что сказанное о творческом характере педагогического процесса и о личности учителя вовсе не избавляет музыкально-педагогическую науку от необходимости разрабатывать, анализировать и детально проверять на опыте различные системы обучения в их вариантах.
К книге по музыкально-методическим вопросам, обращенным к широким кругам педагогов, могут быть предъявлены разные требования. Но одно представляется обязательным: она должна расширять горизонт читателей, а не сужать его, кон-
1 Яворский Б. Воспоминания, статьи и письма. Составление и редакция И. С. Рабиновича. Т. 1. М., «Музыка», 1964, с. 385.
2 Центральный музей музыкальной культуры им. Глинки (ЦММК), ф. 146, ед. хр. 4840, л. 10.
3 Кабо Л. Жил на свете учитель. — «Литературная газета», 1968, 25 сентября.
центрируя внимание на «единственно возможном» методе; указывать предпочтительный путь работы, но не рассматривать его как нормативный.
И, быть может, самое важное: такая книга должна поставить своей целью «расколдовать» педагогов от сна, в который их так часто погружает, если воспользоваться сказочным образом Гофмана, злая фея Рутина.
Обратившись к начальному обучению, я мог построить свое исследование, адресованное педагогу-практику, по-разному. Мог указать тропу-дорожку, по которой легче и быстрее, с моей точки зрения, дойти до цели: разложить все и вся по полочкам; дать ряд практических советов о том, «что надо» и «чего не надо» делать, опирающихся на личный опыт и на изучение фортепианно-методических проблем; а то, как иной раз поступают, мог расписать весь путь поурочно (все «разжевано», и читателю остается лишь сделать глотательное движение). Но такая жесткая регламентация, не требующая активного соучастия читателя и к тому же не дающая ему для этого простора, способна лишь убаюкать его- воображение, интерес к экспериментированию и критическую мысль. Глянешь, и злая фея Рутина тут как тут! Прав, конечно, Г. Нейгауз: «Хрестоматийная методика, дающая преимущественно рецептуру,, так называемые твердые правила, пусть даже верные и проверенные, будет всегда только примитивной, первоначальной, упрощенной методикой, нуждающейся поминутно при столкновении с реальной жизнью в развитии, додумывании, уточнении, оживлении, — одним словом, в диалектическом преобразовании»
Мог быть и иной путь: ограничиться изложением общих фортепианно-педагогических принципов и предоставить каждому читателю самому искать практические методы их претворения в жизнь. Методисты иной раз так»и поступают. Они порой не желают считаться с тем, что пропаганда в общей форме хороших идей — «развивайте ладовый слух!» (но как?), «воспитывайте творческое начало!» (но каким путем?), «учите играть с листа!» (но каким способом?), «приучайте к самостоятельности!» (но как это сделать?) — пользу приносит небольшую, несравнимо меньшую, чем характеристика различных путей, какие можно было бы избрать для практического осуществления задуманного. Прочтет читатель-педагог, сверх меры перегруженный текущей работой (ему порой и осмотреться некогда!), некие верные общие истины, но, не зная, как их использовать на практике, и не имея для этого музыкального
1 Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., Музгиз, 1958, с. 74.
материала, равнодушно пройдет мимо и проследует дальше многократно хоженой дорогой. И откуда ни возьмись, снова кружит над ним злая фея Рутина.
Возможен и третий путь. Охарактеризовать рекомендуемую гибкую и пластичную систему занятий, основанную на тех или иных принципах, указать направление работы и варианты различных практических приемов, предусмотреть то, чего не следует делать, и положиться на чуткость читателей, которым дается план действий, но за которых автор вовсе не провел всей работы. Такой путь может оказаться весьма плодотворным.
В книге «Путь к музицированию» я выбрал близкий, но все же несколько иной путь. Здесь делается попытка вывести читателя-педагога за пределы классной комнаты, в которой он из года в год обучает детей фортепианной игре, помочь ему познакомиться с тем, как преподавали и преподают в XX веке другие педагоги — у нас и во Франции, в Веймарской Германии, Германской Демократической Республике и Федеративной Республике Германии, в Венгрии и в Соединенных Штатах Америки, в Австрии и Швейцарии, — то есть дать ему некоторое представление о сходных и непохожих практических системах начального фортепианного обучения. Ведь и в области музыкальной педагогики «всякая нация может и должна учиться у других».
Задачу книги я вижу в том, чтобы путем широкой информации, критического анализа нового или малоизвестного материала, сопоставления илн «столкновения» разных педагогических идей и методических приемов попытаться расширить кругозор читателя и научить его анализировать, искать и экспериментировать.
И одновременно весь stqt материал послужит подготовкой к созданию нового фортейианного руководства, о котором уже шла речь.
3
Как следовало поступить, чтобы с известной достоверностью уяснить самому себе и дать представление читателю о господствующих в различных странах системах обучения начинающих фортепианной игре? Познакомиться с учебными программами? Но далеко не во всех странах существуют такие программы, а там, где они имеются, они обычно сухи, схематичны и способны дать лишь весьма приблизительное и слишком общее понятие о самом методе или методах работы педагогов. Обратиться к фортепианно-методической дитературе? Ее немало, но чаще всего она отражает индивидуальный — порой яркий и интересный — опыт автора книги или статьи. К тому же между тем, что пишут о методах занятий и что хотят сделать, с одной стороны, и тем, что происходит в массовой музыкальной практике — с другой, не так уж редко обнаруживается пропасть. Конечно, не следует пренебрегать ни программами, ни методической литературой, и все это не должно выпадать из поля зрения исследователя. Но мне представляется, что основной материал для изучения фортепианно-педагогической практики дают фортепианные школы, по которым учат детей. Конечно, и к школам в какой-то мере можно отнести справедливое замечание австрийского педагога Э. Прейснера: «...Записанные методы обычно дают несовершенное представление о практике» . Но вместе с тем школы, особенно детально разработанные, представляют возможность понять как общие методические принципы, лежащие в их основе, так и конкретные практические пути, по которым ведут ребенка со ступеньки на ступеньку. К тому же об очень многом говорит самый музыкальный материал, помещенный в школе, его отбор, порядок и замечания к его разучиванию. Проанализировав предварительно несколько разнохарактерных школ, я убедился, что, как правило, по ним можно судить о том направлении в практической работе с малолетним учеником, сторонником которого является автор пособия и по которому он рекомендует следовать педагогу.
Вот почему эта работа — прежде всего книга о фортепианных школах XX века, главным образом, последних десятилетий.Описанию этих школ (а оно в отношении большинства зарубежных пособий оказалось необходимым, ибо читатель их ие знает и, как правило, не имеет возможности с ними познакомиться) и их методическому анализу уделено в книге наибольшее место. Хочу надеяться, что даже при описаниях подобных руководств голос автора будет явственно слышен в самой компоновке материала, в отборе того, что представляется наиболее примечательным (и с позитивной и с негативной стороны), и, наконец, в попутных аналитических замечаниях, выходящих порой за рамки рассматриваемой школы.
Читатель обратит, вероятно, внимание на то обстоятельство, что одним пособиям уделено много, порой даже очень много внимания, другим — совсем мало. Это вызвано двумя разными причинами. Сравнительно немного места занимает раздел, посвященный советским школам, — только потому, что здесь я мог отказаться от подробных описаний, так как все эти школы хорошо известны читателям, и ограничиться анализом и общей характеристикой. Тем зарубежным руководствам, авторы которых пытаются проложить новые пути в обучении, уделяется, естественно, значительно больше внимания, чем тем, которые не вносят в систему обучения чего-либо существенно нового и примечательного. Сколь ни велико количество зарубежных школ, рассмотренных в книге, охватить пособия многих стран я пока что возможности не имел. Этот пробел я хочу оговорить и как пример того, что не получило отражения в книге, назову английские, итальянские, болгарские и румынские фортепианные школы.
Предвижу ряд вопросов читателей. Не переоцениваю ли я значение учебных пособий для практики музыкально-педагогической работы? Не противоречу ли самому себе, сначала подчеркнув роль личности педагога в обучении, а теперь как будто забыв об этом?
Конечно, в работе с ребенком многое, очень многое зависит от педагога. Не побоюсь сказать, что талантливый педагог, пользуясь посредственной школой, может порой отлично обучать, хотя такое пособие (особенно его музыкальный материал) будет ему мешать. Знаю, что и по превосходнейшей школе неумный или незаинтересованный своим делом педагог будет обучать скверно. Сама атмосфера в классе и форма проведения урока также не находятся в прямой связи с учебным пособием. У одного педагога урок скучен и безлик, у другого — приносит ребенку радость; у одного — целенаправлен, у другого — лишен системы и логики; один действует напрямик, другой использует окольные пути... Отличается в процессе занятий и мера активности педагога:/Один помогает своему воспитаннику тогда, когда есть нужда, н не вносив, поправок в тех случаях, когда это может сделать сам ребенок; другой же нетерпелив, отличается избытком активности и не ждет естественного развития и роста ученика. К тому же один учитель способен интуитивно или на основе опыта понять психологическое состояние, особенности мышления и эмоциональной сферы ребенка; другой — замкнут, не умеет и не хочет войти в мир ребенка. И порядок изучения той или другой школы у разных педагогов, да и у одного и того же педагога с разными учениками, будет разный: в одном случае школа будет пройдена от корки до корки; в другом же, если того потребует необходимость, преподаватель будет возвращаться к пройденному или, напротив, двигаться семимильными шагами и перескакивать ступеньки, вспоминая проницательные слова Г. Г. Нейгауза о том, что в работе с очень одаренными учениками «законы развития, а следовательно, какого-то постепенного накопления, остаются в силе, но проявляются совершенно иначе, чем думают педагоги, имеющие преимущественно дело с середняками».
Забывать обо всем этом, конечно, не следует. И все же изучение учебных пособий позволяет, как убеждает опыт, проследить за теми методическими тенденциями, которые характерны для практики фортепианного обучения детей нашего времени. Впрочем, я хочу надеяться, что читатель со мной согласится, прочтя соответствующие главы книги.
Может возникнуть еще один вопрос, на этот раз — педагога-скептика: а для чего, собственно говоря, нужны эти сопоставления? Ведь тот метод работы н тот материал, которые оказались подходящими для одной страны, могут быть неприемлемыми для другой. Да, это так. Знакомство с различными методами нужно вовсе не для того, чтобы механически переносить их в иные условия, не считаясь ни с особенностями, ни с традициями музыкальной и музыкально-педагогической культуры. И вместе с тем знание разных путей благотворно и плодотворно: оно, и тут мне придется повторить сказанное, способно активизировать мысль педагога, приучить его к размышлениям и к поискам. А тот, кто размышляет и ищет, может, конечно, и ошибаться, но его обычно обходит злая фея Рутина.
4
В книге «Путь к музицированию», как было уже сказано, большое место уделено характеристике фортепианных школ XX века. Но это не означает, что речь в ней пойдет только об учебных пособиях для начинающих.
Здесь пора дать читателю представление об общем построении книги. Она состоит из пяти неодинаковых по объему глав. Некоторые из них до известной степени самостоятельны по своей тематике и могут рассматриваться как отдельные очерки; но вместе с тем очерки эти объединены общими педагогическими идеями, которые положены в их основу.
Мне представлялось, что современный педагог, обучающий детей игре на фортепиано, обязательно должен быть осведомлен об основных тенденциях общей (не только фортепианной) детской музыкальной педагогики XX века. Так и названа первая глава книги, в которой широко использованы материалы IX конференции ИСМЕ (Международного общества по музыкальному воспитанию), проходившей в Москве в 1970 году.
Во второй главе рассматривается другой круг проблем. В центре внимания — фортепиано: фортепианное обучение, его особенности, достоинства и опасности; в самых общих чертах прослеживается, как на протяжении истории использовалось фортепиано в музыкальном, главным образом детском, обучении. Глава не претендует на изложение истории детской фортепианной педагогики. Здесь намечаются лишь некоторые исторические тенденции. Вовсе обойти исторические проблемы я не считал возможным, ибо нельзя не согласиться с общеизвестной истиной: тот, кто пренебрегает историей и игнорирует ее материалы, осужден на повторение пройденного и уже сказанного.
О следующих двух главах — третьей и четвертой, — самых больших по объему, речь уже была: они посвящены обзору и анализу фортепианных школ.
И наконец, заключительная, пятая глава. Ее цель — подытожить материал книги и в лаконичной форме изложить принципы, которые, по мнению автора, должны быть положены в основу новой фортепианной школы для начинающих.
Книга заканчивается обширным Послесловием, в котором подробно разбирается новая школа Л. Баренбойма, Ф. Брянской и Н. Перуновой «Путь к музицированию».
Я не надеюсь на безоговорочное признание всех тех идей, которые высказаны и получили развитие в этой книге. Но если оии послужат основой для дискуссий и острых споров, цель моя будет достигнута.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
О некоторых тенденциях музыкальной педагогики XX века
Дать исчерпывающий анализ важнейших тенденций музыкальной педагогики нашего времени, охватив разные страны, с одной стороны, и разные виды музыкального обучения — с другой, — задача непомерной трудности. Она требует привлечения огромнейшего материала и должна стать, как и всеобщая история музыкальной педагогики, темой специального исследования.
Цель этой главы более скромная: во-первых, в ней будут проанализированы лишь отдельные тенденции, те, мимо которых не вправе проходить педагог, обучающий детей игре на фортепиано; во-вторых, самый используемый материал будет в основном ограничен одним источником — докладами, прочитанными деятелями музыкальной педагогики разных стран на прошедшей в 1970 году в Москве IX конференции ИСМЕ (для того чтобы дать общее представление о некоторых важнейших музыкально-педагогических тенденциях, доклады эти Содержат достаточно сведений).
1
Важнейшая тенденция передовой музыкальной педагогики нашего времени, во многом определяющая ее методы, может быть охарактеризована как стремление достичь — совместно с общей педагогикой — гармонического развития человеческой личности, добившись равновесия «рассудочного» и «душевного». В воспитательной работе, преследующей подобную цель, не только музыканты, но и деятели других областей культуры уделяют эстетическому началу, в частности музыкальному, огромное внимание.
Формы и решения (и сама возможность решения!) этой широкой проблемы в разных странах разные, что обусловлено прежде всего социальными моментами.
г В основу этой главы положена моя статья «Об основных тенденциях музыкальной педагогики XX века» («Советская музыка», 1971, № 8).
Конечно же, проблема эта давняя и обращались к ней уже в глубоком прошлом. Упоминают в этой связи Аристотеля и Платона. Н. Сац предпослала своему докладу на конференции ИСМЕ эпиграф — строки из шекспировского «Венецианского купца»:
Кто музыки не носит сам в себе,
Кто холоден к гармонии прелестной,
Тот может быть предателем, лжецом,
Такого человека остерегись...
Д. Кабалевский, выражая идею современной советской музыкальной педагогики, говорил, что «главной задачей массового музыкального воспитания... является... не столько обучение музыке само по себе, сколько воздействие через музыку на весь духовный мир учащихся, прежде всего на их нравственность».
Не только музыканты, художники, актеры, литераторы, но и математики, физики, химики, естествоиспытатели призывают сегодня обратить внимание на роль душевного, эмоционального фактора в формировании ребенка- или юноши, независимо от того, кем ему суждено стать — ученым или рабочим, художником или служащим.
Выйдем ненадолго за рамки музыкальной педагогики и вспомним опубликованные несколько лет тому назад заметки известного советского физика Е. Фейнберга о развитии современной науки. Среди многого другого автор статьи поставил вопрос: что привлекает современную молодежь к точным наукам? Ответ гласил: постижение истины и творчество, смелость, фантазия и ясность мысли, правдивость, красота и дух борьбы. «...В перечислении... не было одного — того, что учено называется этикой, а попросту — совестью... Наука внутри себя не содержит этического критерия». Фетишизация логического мышления способна привести молодежь «к пренебрежению этическим элементом, которому нет необходимого, естественного места в научной системе». Развив затем мысль о том, что научное творчество в определенном смысле сродни художественному, ученый пришел к выводу: «Сейчас нет никакой опасности, что молодежь отвернется от науки. Есть, однако, опасность, что она гиперболизирует знацеЯие науки и отвернется от искусства или принизит его до роли украшателя жизни. Поэтому роль искусства и литературы сейчас А особенно важна»1.
1 Фейнберг Е. Обыкновенное и необыкновенное. — «Новый мир», 1965, № 8, с. 228, 229.
Аналогичные мысли высказывал на Московской конференции ИСМЕ и украинский математик Г. Суворов. Некоторые тезисы статьи Е. Фейнберга и основные положения доклада Г. Суворова оказываются во многом близкими и даже сходными. Оба призывают к гармонии во взаимодействии науки и искусства, без чего бурное развитие науки, характерное для нынешнего времени, может пагубным образом сказаться на культуре в ее широком аспекте «Конечно, — говорил Г. Суворов, — науке доступно все в принципе, но доступно в порядке строгой постепенности ее развития. От того, что науке сегодня совершенно недоступно, она пусть временно, но отворачивается. А человек живет в открытом мире, и если он замкнется только в его научно осмысленной части, то он растеряет все человеческое. Опасность не в том, что машины начнут думать, как человек, а в том, что человек станет думать, как машина».
Отсюда — педагогический вывод: в самом воспитании ребенка и молодого человека необходимо соблюсти стройное согласие ума и чувства. Если в былые времена в центре внимания воспитателей находилось все то, что связано с гуманитарной культурой, то в нынешние — произошел явный сдвиг к тем сторонам культуры, стержнем которых является математика. Повышенный интерес к точным наукам оказался неизбежным и предопределенным рядом обстоятельств. Но такой сдвиг не должен превращаться в крен. И это налагает огромную ответственность как на «гуманитариев», так и на естественников: сообща должны они выправить положение и не допустить перекоса, который уже начал приводить, а в дальнейшем может привести еще в большей степени к «появлению признаков эмоционального оскудения молодежи». «Конечно, — добавляет Г. Суворов (и эти слова его следует подчеркнуть), — без нужных социальных условий задачи не решить вообще. Но и при полном социальном благополучии опасность сохраняется».
В образовании детей и юношества точные науки (в частности, математика) и искусства (в частности, музыка) взаимо-дополняют, а не взаимоисключают друг друга. Параллели между математикой и музыкой, которым уделяется в последнее время много внимания, опираются прежде всего на ту общность логического и эмоционального, которая — в разных формах, разных степенях и по-разному.опосредованная — наличествует в любом, пусть самом элементарном, математическом и музыкальном творчестве (хотя в себе самой математика «предельно точна, лишена какой-либо эмоциональности и обращена исключительно к теоретическому мышлению»).
Конечно, в математике имеет место максимальная смысловая информация, в музыке — эмоциональная. И в этом смысле они полярны. Полярными представляются они и при догматическом их изучении. При созидательном же — они схожи: максимальная творческая активность теоретического мышления математика совершенно исключена «без параллельного развития эмоциональности»; у музыканта — «максимальное развитие творческих способностей к эмоциональному» немыслимо без одновременного развития способностей к теоретическому мышлению и без дисциплины мысли.
Эти рассуждения привели советского ученого к двум взаимосвязанным выводам.
Первый из них гласит: «...музыкальное воспитание не может происходить на основе исключительно эмоционального, а математическое — на основе только рассудочного. Конечно, учить математика нужно больше математике, чем музыке, а музыканта наоборот, но уменьшать норму того и другого в воспитании (эта норма всегда индивидуальна) можно только до известных пределов, ибо переход предела будет иметь следствием неуспех».
Второй вывод носит более широкий характер и совпадает с приводившимся уже заключением Е. Фейнберга: «Только искусство, дополняя науки естественные н гуманитарные, проецируя весь мир человека, — только оно и может сообщить целостность восприятия мира современному человеку. Искусству замены нет. Функции гуманитарной части образования, включая искусство, должны расти, если человечество желает сохранить здоровье...» 1
Характерно, что именно представители точных наук произносят в последнее время дифирамбы в честь музыкального воспитания и темпераментно формулируют основополагающие общие педагогические принципы, столь важные для эстетического воспитания.
Но и голоса музыкантов из разных стран мира должны быть услышаны.
Голос швейцарского музыкального деятеля и психолога Эдгара Виллемса, развивающего тезис о гармоническом воспита нии, при котором «разные способности взаимно укрепляют одна другую, а не противоречат друг другу, как это часто имеет место в интеллектуальном, противоестественном обучении».
Голос английского педагога Роя Слэка. Он ратует за воспитание не только разума, но и тонких чувств и привлекает внимание к мысли философов древнего мира о том, что «по-настоящему воспитывающей является музыка, так как она развивает мозг и, кроме того, развивает и облагораживает чувства».
Голос аргентинского музыканта Рут Фридман, сетующей на то, что «становление разносторонней личности человека сковано окружающим его миром, в котором все определяется потребительскими товарами», и убежденной, что накопление знаний без одновременного развития интеллекта, инициативы, воображения и творческого начала «затормаживает развитие личности».
Наконец, голос венгерского композитора и педагога Тибора Шараи: «Мы не можем представить себе, что... назначение человека будущего будет заключаться лишь в правильном обращении с компьютерами. Важнейшее противоядие против этой опасности — искусство... Я считаю искусство музыки наиболее подходящим для формирования полноценного человека... Ни одно искусство не побуждает нас в такой мере к познанию других видов искусств, как музыка. Самое первозданное средство художественного выражения человека и человеческого сообщества — это музыка, песня». В устах представителя Венгрии слова эти звучат особенно убедительно: ведь именно в этой стране, благодаря социальному переустройству общества и деятельности таких гениальных музыкантов, как Барток и Кодай, массовое музыкальное образование дает поразительные результаты и наглядно доказывает свою плодотворную роль в формировании цельной человеческой личности.
Итак, сегодня точки зрения музыкантов и наиболее дальновидных ученых совпадают: и те и другие понимают великую роль музыкального воспитания в формировании человечности homo sapiens XX века!
2
Современная прогрессивная музыкальная педагогика единодушно выступает с призывом: музыкальное воспитание — всем детям! Ныне нет споров, характерных для былых времен: нужно ли обучать музыке всех детей (речь идет, конечно, не о музыкальном профессионализме) или только тех, кто выделяется музыкальными способностями? Наша педагогика, как известно, с первых же послеоктябрьских лет настаивала на том, что общее музыкальное воспитание должно распространяться на всех детей и быть доступно всем без исключения детям.
Сегодня к этой мысли в той или другой форме обращаются многие музыканты. Вот два примера.
Венгерский педагог Дьюлане Михайи заявила на конференции ИСМЕ: «Нельзя терпеть потерю ни одного ребенка для музыки... Музыкальные способности любого ребенка могут развиться, если его воспитывают с самого раннего возраста подходящим способом. Мера этих способностей зависит, правда» от врожденных данных, рднако они поддаются совершенствованию».
На той же конференции подробно остановился на этом вопросе и Бернгард Бинковски (ФРГ): «...Каждый ребенок имеет музыкальные способности и практически... «немузыкальных» людей просто не существует... Я полагаю, что: а) человек с нормальными способностями располагает также и способностями музыкальными; б) предрасположение к музыке может обнаружиться различно, например, в области ритмического или звукового восприятия, музыкальной памяти, способности к музыкальному исполнительству и творчеству; в) у большинства «немузыкальных» людей в процессе их воспитания музыкальные способности либо не были выявлены, либо недостаточна развивались и, таким образом, постепенно были окончательно загублены».
Претворение в жизнь всеобщего музыкального воспитания детей возможно лишь при условии, если задача эта становится государственной задачей и государство берет на себя заботу об ее осуществлении. Прав Д. Кабалевский: наши трудности в реализации всеобщего музыкального воспитания по своей основной сущности несхожи с трудностями тех стран, педагоги которых только добиваются того, чтобы попечительство о музыкальном воспитании стало государственной задачей. Примечательно, что формула «музыка — каждому ребенку, каждый ребенок — музыке», которая приводилась на конференции ИСМЕ почти во всех докладах американских музыкантов, — лозунг общественной организации (Национальной конференции преподавателей музыки), а не государственная программа.
Конечно, всеобщее музыкальное воспитание достижима только тогда, когда оно проводится в общеобразовательной школе. И к тому же лишь в том случае, если уроки музыкального воспитания рассматриваются (как, скажем, в Венгрии) не как второстепенные, а как равноправные с другими дисциплинами школьного учебного плана занятия.
Но возможно ли такое равноцравие в наш век, когда овладение основами точных наук должно занять в школе столь значительное место? На этот вопрос Тибор Шараи отвечает так: «...Перегрузка детей стала мировой проблемой в педагогике.
По нашему опыту включение музыкальных уроков... не увеличивает, а психологически уменьшает чувство перегруженности. Музыкальный урок со своими игровыми элементами, художественными переживаниями, являющимися неким противовесом процессу изучения научных дисциплин, выполняет в расписании функцию разрядки, способствуя тем самым освоению познавательного материала других предметов и обостряя интерес детей к другим искусствам».
Я хотел бы подчеркнуть, что для советской музыкальной педагогики эти мысли не новы. К ним, в частности, привлекал внимание уже в двадцатые и тридцатые годы Б. Яворский. «Оказалось доказанным на деле, — пишет его ученица Н. Голь-денберг, — что «музыкальное воспитание» на основе педагогических и теоретических идей Яворского вылилось в систему, способствующую не только музыкальному, но и моральному и интеллектуальному развитию учащихся. Создавая первые навыки музыкального мышления, эта система способствует развитию и общего мышления. И особо ценно в ней то, что она рождает в человеке потребность активно направлять свою творческую инициативу в любой избранной им для себя форме деятельности...» 1
Должно быть сказано еще о двух важных моментах, определяющих успех всеобщего музыкального воспитания.
Первый — единые государственные методические принципы музыкального воспитания, наличие которых позволяет осуществить преемственность между дошкольным и школьным его этапами, между общим музыкальным воспитанием и специальным музыкальным обучением. На конференции ИСМЕ темпераментно и убедительно говорил об этом все тот же Ша-раи: «Пожалуй, важнейший наш вывод заключается в том, что-глубокое, охватывающее весь народ музыкальное воспитание может быть организовано лишь в школе и детском саду на основе единых принципов и учебных планов. Любые другие факторы, как-то: «Jeuneses musicales», движение хоровых
кружков, циклы концертов для молодежи и т. д. — могут лишь дополнять школьное музыкальное воспитание, но не в состоянии заменить его». Венгерский музЬшант указывал, что на Западе эта установка венгерской музыкальной педагогики расценивается некоторыми деятелями едва ли не как покушение на свободу личности, как нарушение свободы учителей, родителей и самих учащихся выбирать тот или иной путь музыкального воспитания, чуть ли не как диктатура и террор. Но «какая свобода лучше: свобода остаться необразованным, дураком, или же свобода и возможность для каждого приобрести образование? Мы стоим за вторую и желаем каждой стране от чистого сердца такого «террора», который заставил бы молодежь быть участником единого музыкального воспитания».
Второй момент — музыкальное воспитание воспитателей. Нет, в данном случае не имеется в виду подготовка педаго-гов-музыкантов (задача, само собой разумеется, важнейшая и острейшая). Вслед за многими другими я говорю о восполнении уже упущенного: о музыкальном воспитании матерей и отцов, о музыкально-эстетическом воспитании тех государственных и общественных деятелей, которые решают судьбы народного образования страны и руководят им. Как тут не вспомнить известный ответ Золтана Кодая на вопрос о том, когда надо начинать музыкальное воспитание ребенка. За 9 Месяцев до рождения ребенка? Нет, за 9 месяцев до рождения матери ребенка!
3
На какой музыке следует воспитывать и обучать детей и молодежь?
Вопрос этот всегда привлекал к себе внимание. Но никогда еще он в такой степени не волновал музыкально-педагогическую мысль и не приобретал подобной остроты; наконец, никогда не высказывались столь взаимоисключающие точки зрения, как сегодня.
Обусловлено это многим, но прежде всего нынешней «звучащей действительностью», в которой — не только за рубежом, но подчас и у нас — значительное место занимает низкопробная развлекательная музыка. К тому же современная «звучащая действительность» характеризуется избытком музыки, и такая перенасыщенность звукоритмическими впечатлениями (не всегда их назовешь музыкальными) влечет за собой пассивность восприятия. Бернгард Бинковски, например, говорил на конференции ИСМЕ, что «даже высококачественная музыка может восприниматься пассивно в результате ее непомерного количества».
Репертуар (конечно, не только сам по себе) призван, пользуясь словами выступавших на этой конференции, воспитывать способность «ценить по достоинству музыку больших идей и чувств» (Е. Гембицкая, СССР); «научить разбираться в том, что хорошо, а что пошло, безвкусно» (М. Давиташвили, СССР); «привить сопротивляемость перед лицом возможных манипуляций с музыкой», понимая под «манипуляциями» массовое оболванивание людей современными акустическими средствами или, иначе говоря, «нечестное» влияние, оказываемое на человека без его ведома и против его воли» (Б. Бинковски, ФРГ).
А теперь, после этих общих замечаний, обратимся к конкретному анализу репертуарных проблем.
О народной музыке своей страны. С давних пор советская музыкальная педагогика одной из основ музыкального репертуара, на котором должно строиться воспитание и обучение, считает родной музыкальный фольклор, его различные пласты и, само собой разумеется, его разнообразное инструментальное и вокальное претворение, сделанное рукой стилистически чуткого и талантливого мастера.
Мы здесь не одиноки. Гвидо Вальдман (ФРГ) напомнил на Московской конференции ИСМЕ, что еще в первой четверти нынешнего века, — примерно тогда же, когда Барток и Кодай привлекли внимание к венгерской народной песне и к ее использованию в музыкальной педагогике, — «молодежное музыкальное движение» в Германии во главе с Фрицем Йоде и его соратниками среди многого другого «вновь открыло подлинную народную песню».
И болгарский педагог Михаил Букурештлиев ратовал на конференции ИСМЕ за то, чтобы родной музыкальный фольклор «оставил прочные следы в сознании учеников... и помог им... в формировании критерия для оценки музыкальных явлений вообще».
Лайошне Немешсеги (Венгрия) назвала свое сообщение на той же конференции «От детской народной песни к шедеврам мировой музыкальной литературы». А представительница венгерской дошкольной музыкальной педагогики Каталин Форраи, указывая на то, сколь желательно воспитывать речевые и музыкальные умения в их единстве, уговорила: «В годы формирования навыков речи важно, чтобы ребенок слышал мелодии с ритмом и интонациями, соответствующими его родному языку, и начинал подражать им. Для этой цели наиболее подходящий материал доставляет народная традиция: попевки, детские песни, переходящие веками из уст в уста».
О музыкальном фольклоре других стран и континентов. Сегодня почти никем не оспаривается воспитательное значение репертуара, опирающегося на родной фольклор. Но теперь все чаще привлекается внимание и к другой тенденции, дополняющей первую, — тенденции, которая характерна для второй половины нашего века, когда радио, телевидение и звукозапись послужили большему сближению и взаимовлиянию различных музыкальных культур: речь идет об изучении музыки прежде всего народной, разных наций.
Всем очевидна важность такого изучения для интернационального воспитания. С. Маршак был, конечно, глубоко прав, когда писал, что «по-настоящему любить и понимать незнакомый нам народ мы начинаем только после того, как нас пленит и тронет его искусство». Позицию советской музыкальной педагогики на конференции ИСМЕ охарактеризовал Э. Мирзоян: «...Хорошо, если уже с детства каждый хранит в сердце частицу культуры другого народа... И это вовсе не означает забвения собственных национальных традиций или растворения своей национальной музыкальной культуры в безликом космополитическом «ненациональном» или «наднациональном искусстве».
В последние десятилетия музыканты ряда стран обратили внимание на то обстоятельство, что использование в музыкальном воспитании и обучении народного творчества разных народов может помочь навести мостик к современной музыке. Об этом говорил П. Шивиц (Югославия). По его мнению, музыкальный фольклор, скажем, Южных Балкан, с его ритмическими особенностями, мелизматической природой мелодии, старинными звукорядами и общим антисентиментальным характером, может «лучше, чем любая классическая тональнай основа, преодолеть пропасть между традиционными музыкальными ценностями и современной музыкой».
В постановке вопроса о расширении репертуара детей путем включения в него музыкального фольклора разных народов следует воздать должное многим американским педагогам: в своих методических трудах они настойчиво возвращаются к этой важной теме. Карл Эрнст (США) привел слова, произнесенные на Чикагском съезде американских педагогов-музыкан-тов: «Изучение и испол^ование музыки многих культур занимает ведущее место в музыкальном воспитании семидесятых годов... Музыка не есть универсальный язык. Следовательно, существует много видов музыки, и каждый должен изучаться и познаваться на основе его законов и в рамках его традиций». Другой американский педагог, Роберт Вернер, убеждал делегатов конференции ИСМЕ в том, что «с течением времени все
1 Маршак С. Воспитание словом. М., «Советский писатель», 1964, с. 17.
больше будет возрастать необходимость предоставить нашим детям, будущим любителям и будущим профессиональным музыкантам, такое музыкальное воспитание, которое позволит им справиться с этим огромным и волнующим разнообразием музыки разных культур».
Здесь уместно сказать о той педагогической осторожности, которая должна быть, на мой взгляд, проявлена при «обучении различным музыкальным культурам». Само собой разумеется, хорошо, если музыкальное воспитание будет поставлено так, чтобы, пользуясь словами того же Р. Вернера, «любовь к Моцарту не препятствовала пониманию византийского пения или гамелана с острова Бали». Но не следует при этом забывать о различных звуковых системах, лежащих, скажем, в основе европейской музыки и той же песни с острова Бали. Любая музыка высокого или относительно высокого уровня опирается на упорядоченную и организованную звуковую систему. Об этом говорил Фридрих Блуме еще в конце пятидесятых годов в своем содержательном докладе о сущности музыки. Блуме среди прочего справедливо заметил, что звуковые системы ряда народов в существенных своих основах отличаются от европейской (что, замечу попутно, вовсе не означает воскрешения устаревшего и ошибочного тезиса о коренном различии национальных культур). Под общей «крышей» нашей.диатонико-хроматической системы, унаследованной от^греков и существующей уже два с лишним тысячелетия, уживается ряд частных систем, таких, как пентатоническая, гексахордная, как средневековые и современные национальные лады, как ма-жоро-минор и развившаяся двенадцатиступенная система. Организация всех звуковых систем, будь то диатонико-хромати-ческая или какая-либо иная, покоится на принципе тех или иных звуковых тяготений, на упорядочении звукового материала определенными «гравитационными полями». Без переживания этих тяготений, то есть без переживания «тональности» в самом широком смысле этого слова, музыка остается непонятой. К тому же ведь должен быть понят и пережит и специфический тембровый спектр, «звуковой колорит» различных музыкальных культур (по мнению Ф. Блуме, представляющемуся мне спорным, этот «колорит» даже в большей степени, чем звуковысотное движение, определяет характер музыки).
Так вот, не должна ли быть проявлена известная педагогическая осмотрительность и, если хотите, трезвая реалистичность в музыкально-воспитательной работе с детьми при выходе за пределы диатонико-хроматической системы (подчеркиваю: диатонико-хроматической, а не только мажоро-минорной)? Прав Ф. Блуме, указывая, что «чуждые системы a limine (то есть с порога, сразу же. — Л. Б.) непонятны». Мне представляется, что некоторые зарубежные педагоги, справедливо указывая на то, что «музыка не есть универсальный язык» и что следует изучать многие музыкальные языки, упускают из вида серьезные психологические трудности этого изучения, особенно в работе с малышами.
Но так или иначе, включение в детский музыкально-педагогический репертуар музыки разных народов задача актуальная. Если говорить о нашей музыкальной педагогике, то здесь проходимый репертуар мог бы быть обогащен в первую очередь музыкой разных народов СССР. В откликах на Московскую конференцию ИСМЕ индийский музыкальный деятель Нараяна Менон заметил: «...Проблемы развития национальных музыкальных культур ставятся в Советском Союзе серьезно и решаются энергично. Сохраняя свою национальную специфику, эти музыкальные культуры так или иначе вливаются в едйное русло советской музыки, обогащаясь достижениями друг друга». Это взаимообогащение разных национальных культур хорошо известно, и советское музыкознание не раз обращалось к этой теме. Но никто еще не проследил за тем, как этот процесс отразился на нашей музыкально-педагогической литературе.
Что же касается зарубежных книг и статей по музыкальной педагогике, то и в них, насколько мне известно, не исследован еще вопрос о том, как сказывается рассматриваемая репертуарная тенденция на практике работы с детьми в инструментальных классах. Можно лишь привести несколько фактов, характеризующих отдельные, наиболее интересные современные зарубежные музыкально-репертуарные поиски. В прочитанном на конференции ИСМЕ докладе «Сегодняшняя музыка для сегодняшнего ученика» Дэвид Гамильтон (Великобритания), говоря о фортепианно-педагогической литературе, среди прочего упомянул об изданных в США сборниках фортепианных пьес И. Папориша, сборниках действительно примечательных. Чем именно? Прежде всего тем, что композитор, опираясь в большей части пьес на фольклор народов разных континентов — Азии, Африки, Америки, Европы, — сумел сохранить его специфические черты и вместе с тем очень тонко подвести этот материал под «диатонико-хроматическую крышу». Тем самым он приблизил эту музыку к слуху детей, воспитанных на европейской звуковой системе.
Или другой факт: собрание фольклора разных стран и континентов, над созданием которого ряд лет работает Научно-исследовательский институт музыкальной социологии и музыкальной педагогики в Вене. Собрание это ставит своей задачей показать «на конкретном материале историческое и национальное многообразие ладов, мелодий, контрапунктических и гармонических принципов, ритмических структур и звуковых тяготений»2. Оно должно послужить основой для создания пособий по разным музыкальным дисциплинам.
О классическом наследии. И советские педагоги, и преобладающее большинство зарубежных убеждены в том, что классика. — имею в виду наследие выдающихся композиторов, а не определенное стилевое направление — была и продолжает быть одной из важнейших сторон музыкально-педагогического репертуара. На Московской конференции ИСМЕ многие докладчики т&к именно и ставили вопрос. Например, М. Давиташвили (СССР) говорила, что музыкальное воспитание, опирающееся на классическую (и, конечно, народную) музыку, способно создать своего рода иммунитет против разлагающего влияния музыки дурного пошиба. Рой Слэк (Великобритания) сокрушался по повбду того, что «мы подвергаемся опасности слишком увлечься «последней модой» за счет более долговечных ценностей, о которых нельзя забывать».
Но за рубежом высказываются порой и другие мнения. Одни весьма расширительно трактуют само понятие «классика» н, говоря, скажем, о том, что учащиеся должны слушать как можно больше классической музыки, добавляют — «будь то Бах или "рок“ (Кэрол Рейнольдс, США). Ничтоже сумня-шеся, они ставят знак равенства между столь разными по своей духовной ценности явлениями! В подтексте некоторых других высказываний явственно слышны нотки сочувствия точке зрения одного крупного американского педагога, сказавшего: «Бах, Бетховен, Брамс, подвиньтесь, — дайте место року». Д. Кабалевский, который привел эти слова, дал им меткую характеристику: «Если это ирония, — я готов оценить ее грустную ядовитость, но боюсь, что эти слова сказаны всерьез. И это уже по-настоящему грустно. Ведь такая позиция может возникнуть только под влиянием полной растерянности перед лицом сложного социального явления и, в итоге, капитуляции перед ним».
Эта растерянность сказывается порой и на позиции тех зарубежных педагогов, которые, потеряв веру в возможность привлечь сердца современных детей и молодежи к музыкаль ной классике, рассматривают ее всего-то как «музейную ценность», то есть как нечто достойное уважения, но утратившее свое действенное значение. Практика опровергает это мнение! Сумели же педагоги ряда стран (напомню о венгерском опыте) привить молодому поколению — слушателям, любителям и профессионалам — любовь и к классике, и к современной музыке!
О современной музыке. Формула, с которой часто выступают педагоги — основой музыкального воспитания должна стать народная и классическая музыка, — бесспорна, но недостаточна: в ней опущена современная музыка. Указать на это тем более необходимо, что многие педагоги и у нас, и в зарубежных странах опасаются ходить по нехоженой репертуарной дороге.
Мне не раз приходилось писать о том, что музыкальная педагогика не вправе обходить одну из самых острых репертуарных проблем: разрыв между интонационным языком инструктивной музыкальной литературы, используемой в педагогической работе, и языком современной прогрессивной музыки. Один из моих аргументов совпал с тем, который приводил на Московской конференции ИСМЕ Зигфрид Боррис (ФРГ): творческая фантазия и самостоятельность мышления молодежи проявляются особенно ярко именно в сфере исполнения музыки наших дней.
Нельзя забывать при этом и о другой стороне вопроса. Не всякая музыка, написанная композитором наших дней, может быть причислена к современной. Имею в виду творчество тех, кто не слышит современной жизни, лишь повторяет давно известное и забывает или неспособен «понять, что истинный ком* позитор (в том числе и пишущий для детей и юношества) идет и должен идти несколько впереди того, до чего уже дошло массовое слуховое сознание и что уже стало устойчивым и упрощенным (вспомним ленинские слова о Демьяне Бедном: «Идет за читателем, а надо немножко впереди»). В частности, это относится и к эпигонам, манипулирующим стандартной обоймой выразительных средств и время от времени приправляющим свое композиторское «варево» диссонирующими специями.
Вместе стем истинно современной может быть и простая, основанная на народной песне или танце пьеса, сочинитель которой тонко применил в ее обработке музыкальные ресурсы нашего столетия (надо ли в этой связи в качестве примера называть — в который раз! — Б. Бартока).
В прежние времена в ряде стран в подборе музыкально-педагогического репертуара господствовал «хронологический принцип», согласно которому путь к познанию музыки хотя бы в общих чертах должен соответствовать исторической последовательности в ее развитии. Ныне такой принцип повсеместно отвергается. Специальные музыкально-психологические исследования, проведенные в ГДР, показали, что способность воспринимать музыку лучше формируется в том случае, когда репертуар изучается не в его хронологической последовательности, а в параллельном сопоставлении прошлого и настоящего. На Московской конференции ИСМЕ английский педагог Д. Гамильтон сетовал на то, что учащиеся, длительное время воспитывающиеся только на мажоро-миноре, с трудом усваивают музыку, которая создается и создавалась на другой ладовой основе. При одновременном же изучении музыкального прошлого и настоящего «ученики не страдают от постоянных диссонансов»; больше того, новые гармонии, неизвестные ком-позиторам-классикам, и новые ритмы, опирающиеся подчас на неравномерное распределение тактовых черт, не только не разрушают, но, наоборот, углубляют звукоритмическое восприятие.
Да, современная музыка должна изучаться параллельно и одновременно с классикой, но не обгоняя и не опережая ее.
На первый взгляд кажется, что нередко наблюдаемый разрыв между современной музыкой и проходимым с детьми и с молодежью репертуаром усугубляется благодаря обстоятельству, самому по себе положительному, — усилившемуся в наши дни интересу к музыке далекого прошлого и к старинным инструментам. Однако это не всегда так. На IX конференции ИСМЕ Г. Вальдман (ФРГ) убедительно доказал, что внимание к старине вовсе не ведет к бесплодному историзму и уходу от современности. Больше того, по мнению Г. Вальдмана, «обращение к старинной музыке... оказалось плодотворным в том смысле, что именно благодаря этому обращению стало возможным открыть дорогу к музыке нашей современности». Верное и меткое наблюдение! Подобно тому как разнообразный и разнохарактерный музыкальный фольклор способен проложить путь к музыке XX века (о чем уже было сказано), точно так же решению этой задачи нередко помогает и музыка давних дней со спецификой своих ладовых, мелодических, гармонических, ритмических и полифонических средств.
4
Одна из характерных тенденций музыкальной педагогики XX века — привлечение внимания к формированию музыкального слуха как основы музыкального воспитания и к поискам эффективных методов, ведущих к его активизации и интенсивному развитию. Конечно, многие музыкальные воспитатели и, разумеется, выдающиеся художники прошлого столетия отнюдь не пренебрегали этой важной стороной работы с детьми и молодежью. Но нередко педагогические декларации находились в противоречии с практикой дела. А к тому же, если иметь в виду последнюю Четверть прошлого века и начало нынешнего, нельзя закрывать глаза на следующие два момента: в обучении игре на том или другом инструменте проблема слухового развития была Отодвинута на второй план спорами о наилучших путях соверщенствования техники; в общей же музыкальной педагогике формальный метод воспитания одного лишь «интервального слуха» не способствовал становлению музыкального слуха в Широком смысле этого слова.
Перелом в теории и практике музыкального воспитания, знаменовавший воскрешение интереса и внимания к музыкально-слуховым вопросам, явственно наметился в конце первой четверти XX века.
Здесь, говоря о нашей стране, надо напомнить о Б. Яворском и Б. Асафьеве. Эти музыканты-просветители, идеи которых развивала и развивает наша педагогика, всегда делали акцент на слуховой направленности своих музыкально-воспитательных систем и противопоставляли слуховую культуру — культуре зрительной, слуховое восприятие звучащих ритмоин-тонаций — зрительному восприятию нот. Согласно их воззрениям, интенсивное слуховое развитие есть одновременно и развитие «музыкального мышления», то есть умения, оперируя музыкальным материалом, находить сходство и различие, анализировать и синтезировать, устанавливать взаимосвязи. Отсюда формулы: «воспитывать думающий слух» (Ф. Блумен-фельд), «учить бесконечному вслушиванию в музыку» (К. Игумнов)...
Следует здесь упомянуть и некоторых деятелей других стран; среди венгерских педагогов, кроме всемирно известных
музыкантов Б. Бартока и 3. Кодая, надо назвать психолога Ш. Ковача и пианистку М. Варро; в Германии двадцатых годов — плеяду педагогов, выпестованных Л. Кестенбергом, а также напомнить о А. Хальме, Ф. Лебенштейн, К. Мартин-сене...
При всем несходстве практических путей воспитания слуха, предлагавшихся разными музыкантами в различных странах, можно заметить до известной степени общую направленность педагогических поисков. Они, пользуясь формулировками Б. Асафьева, нацелены на формирование интонационночуткого слуха, способного прослеживать, осмысливать и оценивать происходящие в музыке «события», «наблюдать» за ее течением, за «музыкальной формой как процессом». Вот такая широкая трактовка сущности музыкального слуха — это уже характерная черта педагогики нашего столетия!
В последнее время в разных странах внимание педагогов привлечено к методике воспитания слуха, опирающейся на релятивную сольмизацию. В Венгрии на основе этой методики строится музыкальное воспитание и обучение в детских школах и в профессиональных учебных заведениях. На Московской конференции ИСМЕ Т. Шараи, указав, сколь важно для активного музицирования развитие слуха, чистота интонирования и умение с легкостью читать нотный текст, напомнил, что для достижения всего этого «Кодай, основываясь на различных источниках... разработал применяемую ныне в Венгрии форму релятивной сольмизации как общедоступного, наиболее демократичного метода овладения навыками чтения нот, музыкального диктанта, чистоты интонирования».
Метод относительной (или, как у нас теперь говорят, ладовой) сольмизации завоевывает и в нашей стране все больше и больше сторонников, но пока продолжает вызывать к себе недружелюбное отношение некоторых педагогов и деятелей музыкального образования. И автор этих строк в тридцатые годы высказывал свое несогласие с релятивным методом, но, познакомившись затем с практическими результатами -воспитания слуха в ряде стран (в частности, в Венгрии), давно уже пришел к выводу, что в прошлые годы заблуждался.
Характерно, что на IX конференции ИСМЕ лишь один до-. кладчик — Эдгар Виллеме (Швейцария) — высказал свое расхождение со взглядами «релятивистов». По его мнению, систе- ма «Тоника-до», которая использует разные слоговые обозначения для абсолютной и функциональной характеристики тонов, «ведет к осложнениям». Исключает он из. своей методики и ручные знаки, причислив их к «внемузыкальным приемам», уводящим от искусства. Но докладчик, будучи к тому же психологом, прошел мимо двух важных и сегодня хорошо известных психолого-педагогических предпосылок музыкального обучения. Первая из них гласит: моторные и зрительные факторы, соответствующие смыслу музыкального явления, благоприятствуют слуховому осознанию, подкрепляют его, а вовсе не вступают в противоречие с ним. И вторая (на нее, в частности, указал в своей диссертации «Абсолютная и относительная сольмизация» П. Ф. Вейс): так как звуковысотная сторона музыки должна рассматриваться в единстве относительного и абсолютного звуковосприятия и зву-копредставления и так как любое музыкальное явление, которое нужно зафиксировать в представлении ученика, должно получить определенное и удобное для запоминания название, то обучающийся музыке должен быть с первых же шагов своей работы приучен к словесным обозначениям, определяющим не только абсолютную, но и релятивную сторону звуковой высоты.
Впрочем, Э. Виллеме последнего тезиса, собственно говоря, и не 0?рицает; ведь и он пользуется разными символами для обозначения абсолютной высоты звуков и для фиксации ладовых функций ступеней. И болгарская «столбица», замечу попутно, представляет собой зрительное обозначение ступеней лада, усваиваемых одновременно с абсолютными названиями звуков. Спор, таким образом, идет не о том, вводить ли в одновременности или в последовательности ладово-ступеневые и абсолютные названия, а о том, устанавливать ли для обозначения ладовой функциональности слоговые наименования. Но слоги имеют то преимущество, что удобны для запоминания и сольмизации... Здесь я ставлю отточие: к этому вопросу мне предстоит вернуться при рассмотрении некоторых фортепианных школ для начинающих.
5
Мы вновь обращаемся сегодня к мысли, высказанной Ж. Ж. Руссо в его педагогическом романе «Эмиль, или О воспитании»: «Для правильного постижения музыки недостаточно только исполнять ее, а нужно также уметь ее сочинять; и если не обучаться одновременно тому и другому, то не суметь ее хорошо понять». Нет сомнения, что использование творческого музицирования в музыкально-воспитательных целях — одна из характернейших тенденций музыкальной педагогики XX века. Сразу же нужно заметить, что вопрос ставится о своевременном использовании этого метода музыкального обучения и воспитания: опоздать и пропустить возрастной период (достаточно ранний!), наиболее благоприятный для того, чтобы начать формирование творческих способностей, и восполнить упущенное оказывается делом трудным.
Если обратиться к нашей стране, то в связи с отмеченной музыкально-педагогической тенденцией следует вновь назвать два имени — Б. Л. Яворского и Б. В. Асафьева1.
Еще в предреволюционные годы Яворский задумывался над тем, как развить у ученика творческое начало. В известной мере здесь сказалось, вероятно, воздействие его учителя С. И. Танеева, которому принадлежат знаменательные слова: «Надо думать, что эти (музыкальные. — Л. Б.) силы, заглушенные рабством государственного гнета, усовершенствованиями цивилизаций, могут быть вызваны наружу и проявить себя... Не о том надо заботиться, чтобы число людей, посредственно играющих на фортепиано и портящих существование своими домашними занятиями... было в несколько раз увеличено, а о том надо заботиться, чтобы дремлющие творческие силы нашего музыкального народа пробились наружу...»2 Что же до Яворского, то еще в 1916 году он пишет две статьи — «Первые проявления звукового творчества у детей» и «Непосредственное звуковое творчество детей». В первой из них имеется вывод, который был уточнен и практически развит в советское время: «...одной из самых основных задач при воспитании ребенка является сохранение за ним способности творить звуки, этими звуками выражать свои жизненные потребности и жизнеощущения, так как творчество, если оно потеряет свою непосредственность или заглохнет, не поддается ни обучению, ни направлению» 3.
А вскоре после Октябрьской революции Яворский, руководивший тогда музыкальными учебными заведениями страны, выступил с декларативным докладом, один из тезисов которого гласил: «Необходимо ввести в программы всех отделений музыкальных школ элемент творчества. Не должно делать всех музыкантов композиторами, но необходимо, чтобы каждый музыкант мог произвести на языке своего искусства хотя бы простейшее выражение своих мыслей... Элемент творчества должен войти в программы всех курсов везде школа должна учить не только читать написанное, но и говорить свои собственные слова. Классы специального обучения исполнению должны учить этому уменью в плане мастерства исполнения, классы развития слуха и сознания — в плане обучения различным видам построения формы, классы слушания музыки — в плане уменья слушать не только мысли других, но и свои собственные музыкальные мысли» *.
Я хотел бы подчеркнуть, что эти мысли были высказаны в самом начале двадцатых годов и что уже тогда Яворский начал искать практические приемы осуществления своих идей. И в те же годы Яворским и его сотрудниками была поколеблена широко распространенная точка зрения об исключительной сложности и даже недоступности музыкального сочинительства в детском возрасте.
Что же, по их мнению, могло побуждать детей к такого рода сочинительству? Во-первых, сама музыка, глубокое проникновение в ее разнообразный мир («научившись различать в общем потоке звучания отдельные "музыкальные слова", "фразы", целые "рассказы", ребята ощутили потребность самим "заговорить" на этом теперь уже близком и понятном им "музыкальном языке"»2). Во-вторых, стихотворный и прозаический текст, его смысл, звуковые краски и интонации (путь от речевого ритмоинтонирования к ритмоинтонированию музыкальному); в-третьих, доступные пониманию детей события общественной жизни; в-четвертых, окружающий ребенка мир звуков — ¦ цокот копыт, щебетанье птиц, стук падающих капель, выкрики, голоса, звон колоколов и т. п.; в-пятых, программно-иллюстративные задания; в-шестых, ритмы движений, в том числе танцевальные...
Короче говоря, стимулами детского творчества служили и окружающая ребенка жизнь, и сама музыка, которую он изучал. Как тут не вспомнить известное стихотворение С. Маршака!
Питает жизнь ключом своим искусство.
Другой такой же ключ — поэзия сама.
Иссяк один — в стихах не стало чувства.
Забыт другой — струна твоя нема.
И Асафьев в статьях, посвященных вопросам музыкального обучения и воспитания, придавал сочинительской работе ребенка и подростка особо важное, чтобы не сказать решающее, значение. Обратив рнимание на то, как «интересно и интонационно богато пела в двадцатые годы не только школа, но и улица», Асафьев все же сокрушался: «Создается впечатление, будто мы живем в эпоху, когда музыкальный инстинкт масс направлен на творчество в воспроизведении — на экспрессию исполнения, а не на творческое изобретение» Весь пыл своего публицистического дара Асафьев направил на то, чтобы доказать: без обращения к творчеству, детскому и юношескому, без «вызова творческого инстинкта и воспитания творческих навыков» музыкально-просветительская работа не достигнет цели. И для культуры восприятия музыки сочинительство — огромное подспорье, ибо помогает полнее постичь и содержание, и процесс формообразования: «каждый, кто в каком-либо из искусств сумел создать хоть крупицу своего, будет чувствовать, любить и понимать это искусство глубже и органичнее как соучастник в строительстве».
По мнению Асафьева, музыкальное сочинительство детей может протекать в той простейшей сфере ритмоинтонаций и формообразования, которую в наши дни принято называть «элементарной музыкой». «Музыкальное творчество, — писал он, — не проявляется только в сочинении «сложных музык», оно гораздо многообразнее и разветвленнее, чем кажется»2.
По Асафьеву, самый простой (но при этом очень важный!) путь стимулирования творчества невозможно отделить от воспроизведения уже знакомой или только разучиваемой музыки. Имеются в виду приемы, присущие народному музицированию и вообще музыке устной традиции: интенсификация напева при помощи разнообразных и разнохарактерных подголосков, с одной стороны, и варьирование (то есть колорирование и дими-нуирование) основного мотива — с другой. Асафьев рекомендует обращаться к сочинению верхних и нижних подголосков, к превращению в отдельных случаях одноголосной мелодии в двухголосную, к внесению легкой фигурации и к аналогичным композиционным приемам. Но он возражает против параллельных второе, против дуэтов в терцию и сексту (такое
1 Асафьев Б. Музыка в единой трудовой школе. — В сб.: Из истории советского музыкального образования, с. 126.
2 Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М. — Л., «Музыка», 1965, с. 98.
музицирование он расценивает как пассивный процесс, механизирующий творческое сознание).
И другой асафьевский метод может привести к творчеству: идти в сочинении мелодии от понравившегося детям текста (в частности, стихотворного). Если в группе оказываются дети, хоть немного играющие на каком-либо инструменте (от балалайки и дудочки до фортепиано), то для иллюстрации изобразительных моментов или для простейшего аккомпанемента могут быть использованы новые звуковые краски...
И в первом случае (сочинение подголосков и варьирование основного мотива), и во втором случае (сочинение на заданный текст) педагогическое руководство, по мысли Асафьева, может осуществляться в разных формах и, в частности, в такой: дети вовлекаются в мелодическую импровизацию педагога.
Метод этот не нов и опирается на давние традиции русской педагогики. Еще в 1862 году Лев Толстой писал, что, поставив себе задачей обучить крестьянских детей литературному сочинительству, ои искал, пробовал и, в конце концов, напал на «настоящий прием»: в присутствии ребят сам начал писать на заданную тему, своими рассуждениями и вопросами вовлекая их в работу и в критическое обсуждение того, что при них же создавалось. Чему учил Толстой? «Механизму дела», который сводился к пяти пунктам (к слову говоря, весьма существенным и для музыкального сочинительства!): «во-первых, из большого числа представляющихся мыслей и образов выбрать одну; во-вторых, выбрать для нее слова и облечь ее; в-третьих, запомнить ее и отыскать для нее место; в-четвертых, в том, чтобы, помня написанное, не повторяться, ничего не пропускать и уметь соединять последующее с предыдущим; в-пятых, наконец, в том, чтобы в одно время думать и записывать и чтобы одно не мешало другому». Поручая детям осуществлять то один, то несколько из этих пунктов, а остальные выполняя сам, Толстой высвобождал ребячьи творческие порывы. Добился он многого: вызвав к жизни инициативу своих питомцев, он раскрыл им «новый мир наслаждений и страданий — мир искусства». По справедливому мнению Б. Теплова, этот успех не может быть объяснен только тем, что в роли учителя выступал великий художник. Дело в педагогическом принципе, который в той же школе был с успехом реализован и учителем рисования.
1 Толстой Л. Полное собрание сочинений. Т. 8, М. — Л., Гослитиздат, 1936, с. 323, 324.
Но вернемся к современности и обратимся теперь к зарубежной музыкальной педагогике. Для того чтобы показать, какое внимание повсеместно уделяется ныне творческому музицированию, и продемонстрировать то единодушие, которое царит в общей постановке этой музыкально-педагогической проблемы, я позволю себе на время умолкнуть1 и — без всяких комментариев — выборочно предоставить слово, следуя алфавиту, музыкантам ряда стран, выступившим с докладами на IX конференции ИСМЕ.
Аргентина.
«Музыкальная импровизация, с нашей точки зрения, есть единственный путь установления глубокого и продолжительного личного контакта с музыкой и тем инструментом, на котором она исполняется. Это не приходит само собой... Это приходит в результате активной «слуховой» работы» (В. Генси де Гайнза).
Великобритания.
«...В последнее время сочинение музыки, иногда называемое творческим музицированием... становится типичной чертой в музыкальном образовании детей... Музыкальное творчество служит нескольким целям и в смысле тех возможностей, которые оно дает детям для выражения их мыслей и чувств об окружающем мире, и для расширения познания чисто технических сторон музыки» (Дж. Уиллиг).
Польша.
«Ребенок, поставленный перед необходимостью создания простейшего произведения к заданным словам, ритму, фразе, создания аккомпанемента на ударных инструментах, подбора своей музыки к стихам, перед необходимостью дать название прослушанным произведениям, преобразовать их музыкальную форму, предложить систему движений к песенке и т. д., активизирует свой ум, стремится индивидуально решить задачу,
1 И вот почему. На протяжении ряда лет я неоднократно возвращался в статьях и очерках к вопросу о музыкальном сочинительстве и импровизации детей, подростков и молодых людей, о роли музыкального творчества и сотворчества в воспитании и обучении. Нет нужды пересказывать здесь свои доводы. Достаточно отослать читателя к сборнику моих статей «Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства», а также к статье «Карл Орф и институт его имени» в сб. «Система детского музыкального воспитания Карла Орфа» (Д., «Музыка», 1970).
привыкает к самостоятельному художественному высказыванию, приобретает веру в собственные «творческие» силы. Эта установка несомненно переносится на другие области мышления и деятельности... Музыкальное творчество детей... является предметом особого внимания... современной педагогики...» (М. Пшиходзиньска-Качичак).
Соединенные Штаты Америки.
«Наступил тот самый момент, когда идея музыкального творчества созрела для ее практического использования, и нам следует, более того, мы обязаны взять ее на вооружение в той или иной форме, иначе мы упустим многообещающую возможность, которую когда-либо имело музыкальное воспитание за всю свою историю» (Э. Сайклер).
Югославия.
«Замечательные результаты, достигнутые профессором В. Томерлином в области свободного творчества детей, дали возможность Институту элементарного образования в Загребе организовать... семинары, на которых Томерлин демонстрировал методы своей работы. Результаты были исключительными. После двухлетней деятельности институт смог опубликовать сборник детских сочинений... В прошлом году вышло из печати методическое руководство Томерлина "Дети сочиняют музыку11» (И. Пожгай).
Трудно назвать страну, педагоги которой в той или иной форме не затрагивали бы сегодня вопрос о детском и юношеском музыкальном творчестве.
Конечно, и самый характер детского и юношеского творчества, и методы его стимулирования не всюду одинаковы. Следует отметить, что в основе наиболее интересных и ценных систем (при всем их различии) лежит широкий общий принцип: методика формирования и стимулирования музыкального творчества на любом уровне развития ребенка или подростка должна опираться на две диалектически взаимосвязанные и одновременно проводимые установки; одна из них — усвоение каких-то норм, типов творчества, музыкальных структур и их вариантов, другая — организация обстановки для преодоления инерции и пассивности, для творческих неожиданностей.
Итак, стремление включить музыку в общую систему гармонического воспитания человеческой личности, стремление осуществить всеобщее музыкальное воспитание, стремление об-
учать на широком репертуаре, вобравшем в себя народную музыку родной страны, других стран и континентов, классические и современные сочинения, стремление положить в основу работы с учениками формирование слухоритмических представлений и, наконец, стремление использовать в воспитании и обучении творческое музицирование — таковы пять характерных тенденций современной музыкальной педагогики, к которым я хотел привлечь в этой главе внимание читателей.
В какой мере и как эти тенденции сказались на детской фортепианной педагогике? К вопросу этому я обращусь в последующих главах книги.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Фортепиано и начальное музыкальное обучение
1
На протяжении ряда последних десятилетий многие педагоги, обучавшие детей азам фортепианной игры, неоднократно в разных вариантах повторяли одну и ту же мысль: фортепиано и нотная запись должны оставаться на начальном этапе на втором плане и играть подсобную роль, на первом же месте стоит задача ввести ребенка в мир музыки, пусть и самой простейшей; или по-другому: не музыка должна рассматриваться с позиций инструмента и нотной записи, а инструмент — в его возможностях передавать музыку, в его значении для музыкального искусства.
Дело не в том, точны или не вполне точны эти формулировки. Но подспудная мысль, лежащая в их основе, неоспорима: не следует превращать инструмент (вернее, инструментальную технику) и нотную грамоту в некий фетиш, не следует ради них приносить в жертву музыку.
Так писали и продолжают писать в книгах, брошюрах, статьях; так строили и продолжают строить свою работу передовые педагоги... А широкие круги педагогов? В прошлом они порой не признавали и оспаривали эти принципы-аксиомы; в нынешние же времена на словах с ними соглашаются, но — чего греха таить — не всегда их соблюдают (иной раз по весьма простой причине — из-за музыкально-педагогической безграмотности)...
Зададимся вопросом, что происходит в сознании ребенка, когда его учат, не мудрствуя лукаво, по старинке, — сначала заставляют вытвердить названия клавиш, нотные обозначения и овладеть простейшими игровыми навыками, а затем — разыгрывать, механически отсчитывая доли, мало что говорящие его уму и сердцу пьески? Ответить на этот вопрос не так легко не только потому, что описать душевное состояние ребенка — задача сложная, но еще и по той причине, что нет одинаковых детей, и у каждого из них процесс восприятия инструмента и нот, овладения навыками и т. п. складывается несколько по-иному: музыкально одаренный ребенок может с легкостью, походя, преодолеть баррикады, нагроможденные педагогом и отделяющие его, ребенка, от музыки; менее способный ученик либо окажет сопротивление, замкнется и станет отлынивать от работы, либо будет равнодушно и формально выполнять полученные задания; ребенок активный, пусть и не обладающий выдающимися музыкальными способностями, но наделенный яркой фантазией, переосмыслит всё и вся по-своему, но от музыки отстранится (или в иных случаях спустя некоторое время, быть может, к ней и придет, но — окольными путями, вовсе не связанными с полученными в детстве фортепианными уроками).
Не знаю лучшего материала ддр того, чтобы ответить — ответить «изнутри» — на вопрос, как откладываются начальные фортепианные уроки в сознании ребенка, чем тот, который содержится в автобиографическом очерке Марины Цветаевой «Мать и музыка». Как тонко и вместе с тем зримо удалось поэтессе нарисовать психолого-поэтический этюд, который можно было бы озаглавить «Начальные фортепианные занятия — глазами ребенка», — этюд, опирающийся на ретроспективный самоанализ! Впрочем, многое в этом этюде выходит за рамки одного лишь субъективного самоанализа: пусть и не с такой силой и интенсивностью, но немало разных детей именно так, как описывает Цветаева, воспринимают начальное обучение фортепианному ремеслу.
Здесь я считаю за лучшее отойти в сторону и привести ряд отрывков из цветаевского очерка, изредка подавая поясняющие или акцентирующие реплики.
Итак, девочку усадили за фортепиано и, нажав клавиши, назвали их.
До, Муся, до, а это — ре, до-ре. Это до-ре обернулось
у меня огромной, в половину всей меня, книгой... пока что только ее, книги, крышкой, но с такой силы и жути, прорезающимися из этой лиловизны золотом,что у меня до сих пор в каком-то определенном уединенном ундинном месте сердца — жар и жуть, точно это мрачное золото, растопившись, осело на самое сердечное дно и отсюда, при малейшем прикосновении, встает и меня всю заливает по край глаз, выжигая — слезы. Это до-ре (Доре1), а ре-ми — Реми, мальчик Реми из «Sans Famille»2, счастливый мальчик... Взятые же отдельно: до — явно белое, пустое, до всего, ре — голубое, ми — желтое (может быть — midi3), фа...»
Гюстав Доре — французский художник. Огромная книга, о которой шла Речь — это «Потерянный рай» Дж. Мильтона с иллюстрациями Г. Доре.
2 «Без семьи» — повесть Гектора Мало.
Полдень (фр.).
Почему, собственно говоря, слоги до, ре, ми, фа... не связались в представлении ребенка со звуками определенной высоты, а ассоциировались то с именем художника Доре (с огромного размера книгой в красном переплете с золотым тиснением, с его, Доре, рисунками), то с именем мальчика Реми из популярной французской детской повести, то со смысловым значением в русском языке предлога до (до чего-либо), то с желтым цветом, присущим полдню (midi), то...? Почему это произошло? Только ли потому, что девочке с малых лет присуще было огромной силы ассоциативное поэтическое воображение? Потому ли только, что ребенок ищет вспомогательные мнемонические приемы, облегчающие запоминание? Полагаю, что не только по этим причинам.
Для ребенка, наделенного абсолютным слухом (даром прирожденным), каждый звук определенной высоты обладает своим характером, своей особенностью, своим лицом. Такой ребенок радуется тому, что давно различимые им по высоте звуки получают — наконец-то! — название. Для него каждый из слогов до, ре, ми, фа и т. д. содержателен, воспринимается как знак, обозначающий понятное ему явление. У других же детей, то есть у тех, кто абсолютным слухом не обладает, слоговые названия в лучшем случае связываются с расположением клавиш, мало что говорящим их воображению. И вот тут вступает в ход ассоциативная фантазия, особенно у таких детей, которым — в силу особенностей их натуры — претит заниматься лишенным смысла, как им интуитивно представляется, делом.
Попутно замечу, что, скажем, простейшая двузвучная ритмо-интонация (скажем, вопросительная или восклицательная) показалась бы такому ребенку несоизмеримо содержательнее и осмысленнее, нежели отдельные звуки. И если бы ладовые ступени (а не абсолютные звуки) такой интонации получили наименование (как это имеет, допустим, место в методике развития слуха «релятивистов»), быть может, была бы чуть приоткрыта дверь, ведущая в мир музыки.
Но вернемся к Цветаевой. За названиями клавиш сразу же последовала нотная запись. Были сделаны попытки научить ребенка переносить записанное в нотах на клавиатуру. Непростое это для малолетнего ученика дело!
«...Но с нотами сначала совсем не пошло. Клавишу нажмешь, а ноту? Клавиша есть, здесь, вот она, черная и белая, а ноты нет, нота на линейке (на какой?). Кроме того, клавишу слышно, а ноты — нет. И зачем нота, когда есть клавиша? И не понимала я ничего, пока однажды, на заголовке... не увидела сидящих на нотной строке вместо нот — воробышков! Тогда я поняла, что ноты.живут на ветках, каждая на своей, и оттуда на клавиши спрыгивают, каждая на свою. Тогда она звучит. Некоторые же запоздавшие... живут над ветками, на ка-ки-х-то воздушных ветках, но все-таки тоже спрыгивают (и не всегда впопад, тогда — фальшь). Когда же я перестаю играть, ноты на ветки возвращаются и так, как птицы, спят и тоже, как птицы, никогда не падают».
Великолепное проникновение в психологию дошкольника! Не в силах ничего понять и соотнести ноту с клавишей, он интуитивно обращается к тому методу, который помогал и еще долго будет ему помогать осмысливать жизненные явления, — к игре, к придумкам. Они-то и дают ребенку возможность связать ноты с клавишей. Но и только!
«..Ноты мне — мешали: мешали глядеть, вернее, не глядеть на клавиши, сбивали с напева, сбивали со знанья, сбивали с тайны, как с ног сбивают, так — сбивали с рук, мешали рукам зна1ь самим... И я никогда так надежно не играла, как наизусть».
Опять-таки хорошо знакомое явление: ребенок помогает себе тем, что из множества звеньев сложного процесса одно отбрасывает и — в данном случае — играет не глядя в ноты, на память. (А педагог, не вникая в психологическую суть происходящего, требует: «смотри в ноты!», «играй по нотам!»)
«...Но все-таки для нот было рано... бесспорно и злотворно — рано. Нотно-клавишный процесс настолько сложнее буквенно-голосового (то есть чтения буквенного текста. — Л. Б.)... насколько сложнее сам клавиш — собственного голоса. Образно говоря: можно не попасть с ноты на клавишу, нельзя не попасть с буквы на голос. И совсем просто говоря: если между мной и клавиатурой — вставали ноты, то между нотой и мной — вставала клавиатура, постоянно теряемая — из-за нотного листа. Не говоря уже о простом очевидном смысле читаемого слова и вполне-гадательном смысле играемого такта. Читая, перевожу на смысл, играя, перевожу на звук, который, в свою очередь, должен быть на что-то переведен, иначе — звук пуст. Но когда же мне, пятилетней, чувствовать и это чувство выражать, когда я опять ищу: сначала глазами на линейке знака, потом, в уме, соответствующей этому знаку — ноты гаммы, потом — пальцем — соответствующей этой ноте клавиши? Выходит игра с 1ремя неизвестными, а для пятилетнего достаточно — одного, за которым еще всегда другое, которое есть только ввод в большее неизвестное, которое за всяким смыслом и звуком, в огромное неизвестное — души. Или уж — надо быть Моцартом!»
В этот педагогически четкий и убежденный общий вывод об обучении игре по нотам («бесспорно и злотворно — рано») хотел бы внести уточнение. Цветаева пишет: «...играя, перевожу на звук, который, в свою очередь, должен быть на что-то переведен, иначе — звук пуст». Да, «звук пуст» (особенно на таком инструменте, как фортепиано), если разбирают отдельные звуки; но звуки осмысленны, выразительны, если ребенок приучен читать ритмоинтонации!
И одновременно с освоением ряда «нота — клавиша — звук» — технический тренаж, овладение инструментом, многократные повторения.
«...Пот льет, пальцы красные — играю всем телом, всей своей немалой силой, всем весом, всем нажимом и, главное, всем своим отвращением к игре (разрядка моя. — Л. Б.). Смотрю на кисть, которую в детстве нужно было держать на одной линии (напряжения!) с локтем и первым пальцевым суставом и так неподвижно, чтобы не расплескать поставленной на нее (оцените коварство!) севрской чашки с кипящим кофе или не скатить серебряного рубля...»
Эта тренировка сопровождалась в прошлом и, как увидим, сопровождается кое-где и сегодня «ритмическим воспитанием» под удары метронома.
«Щелк метронома... Но как только я под его методический щелк подпала, я его стала ненавидеть и бояться до сердцебиения, до обмирания, до похолодания... Кто-то стоит над твоей душой, и тебя торопит, и тебя удерживает, не дает тебе ни дохнуть, ни глотнуть... Неживой — живого, тот, которого нет, — того, который есть. А вдруг завод — никогда не выйдет, а вдруг я с табурета — никогда не встану, никогда нз выйду из-под тик-так, тик-так... Метроном был — гроб, и жила в нем — смерть. За ужасом звука я даже забывала ужас вида: стальная палка, вылезающая как палец и с маньякальной тупостью качающаяся за живой спиной...»
Что же, все это вызвало ненависть и отвращение к музыке? Нет, музыку Цветаева-ребенок любила.
«Я только не любила — свою. Для ребенка будущего нет, есть только — сейчас (которое для него — всегда). А сейчас были гаммы, и ганоны, и ничтожные, оскорблявшие меня своей малюточностью пьески... Все лучшее, что можно было слышать, я отродясь слушала... Каково же мне было после невыносимого волшебства тех ежевечерних ручьев слышать свое честное, унылое, из кожи вон лезущее, под собственный счет и щелк метронома «играние»? И как я могла не чувствовать к нему отвращения?»
Знаю, в наших школах лишь как исключение можно встретить педагога, обучающего приблизительно так, как обучали в далекие годы Цветаеву. Но разве психологический этюд, с такой проникновенностью ею написанный, не заставит задуматься над своей работой любого педагога, приступающего к фортепианному обучению ребенка?
Где-то в конце своего очерка Цветаева рассказывает еще о том, какие она вынесла из своего детства разные — музыкальные и немузыкальные — представления о фортепиано, как об инструменте.
«...Но рояль не один... Во-первых, — тот, за которым сидишь (томишься и так редко гордишься). Во-вторых, — тот, за которым сидят — мать сидит — значит: гордишься и наслаждаешься... Третий и, может быть, самый долгий — тот, под которым сидишь: рояль изнизу, весь подводный, подрояльный мир... Нога черная, а педаль золотая, и почему это для матери она правая, а для меня левая?.. И, наконец, последний рояль — тот, в который заглядываешь: рояль нутра, нутро рояля, струнное его нутро, как всякое нутро, тайное, рояль пандориногоз «а что там внутри?» — тот, о котором сказал Фет во внятной только поэту и музыканту, потрясающей своей зрительностью строке:
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали.
2
Вот за этот многоликий — как представлялось Цветаевой-девочке — инструмент в осенние месяцы, когда начинается учебный год, усаживают в различных городах и селах, странах и континентах огромнейшее количество детей-дошкольников и младших школьников, — усаживают и начинают по-разному обучать музыке и фортепианной игре или... одной лишь фортепианной игре. Как сложатся «музыкальные судьбы» этого несметного числа детишек? Здесь скажутся, конечно, многие факторы — социальные, семейные, личные, музыкально-педагогические... Но общую картину будущего предвидеть не так уж трудно: в конце концов, в разных вариантах и с теми или иными поправками она повторяется из поколения в поколение.
1 Пандора — в греческой мифологии прекрасная женщина, созданная Гефестом и наделенная, наряду с рядом положительных и отрицательных черт, огромным любопытством.
Часть начавших обучаться, самая небольшая, станет музыкантами, и, конечно, не только пианистами. Заранее, на стадии начального обучения, определить музыкально-профессиональные возможности детишек — задача, на мой взгляд, не поддающаяся решению, хотя на практике ее и пытаются нередко решать. Конечно, хороший слух, ритм, внимание, понятливость, моторные данные, легкость усвоения и быстрота продвижения (качества, которые, заметим попутно, выявляются не столько при первой проверке, сколько в процессе умного обучения) — все это кое о чем говорит; быть может, — о возможных предпосылках для музыкально-профессионального обучения в будущем, но, кстати говоря, вовсе не о музыкальном даровании, которое предполагает кроме всего прочего особый комплекс творческих качеств человеческой личности.
Другая часть начавших обучаться, не сделавшись профессионалами, так сроднится с музыкой и с фортепиано, что станет «просвещенными любителями», dilletanti, в том высоком смысле, в каком этот термин применялся в давние времена. То обстоятельство, что они смогут сами сыграть — пусть и несовершенно, пусть только для себя — музыкальное произведение, сыграть на инструменте, который предоставляет возможность передать музыку во всей ее полноте, позволит им, быть может, понять нечто весьма существенное, нередко ускользающее из поля внимания неиграющих: живое познание процес-с а музыкального развития и целого как результата этого развития. Не самое ли это важное для глубокого проникновения в музыку?
Некоторые дети — будут ли они заниматься недолго и бросят обучение или пройдут длинный путь музыкальной муштры — в результате уроков фортепианной игры разлюбят, а то и возненавидят музыку, которая поначалу их к себе привлекала. Вина здесь часто — слишком часто! — лежит на педагоге. Впрочем, я об этом не раз писал, и мне остается лишь процитировать самого себя. «Ребенок, любящий петь и подбирать песенки на инструменте, поступает в музыкальную школу. Проходят годы. И вот на очередном испытании он «бойко», «крепко», «активно» играет несколько пьес. В экзаменационной ведомости проставляется высокая оценка... Правда, гладкая или, наоборот, разукрашенная завитушками игра его в первом случае скучна, как обструганные деревяшки, а в другом — приторна. Это никого не смущает — ведь все так хорошо «сделано». Слушающим неведомо, что ученик потерял интерес к музыке, перестал любить ее. Знает это лишь тот, кто учит ребенка, ио то ли не придает этому значения, то ли надеется, что со временем все наладится само собой... Когда же мы наконец поймем, что перед нами педагогический брак и что содеян он — пользуясь давним выражением Б. Асафьева — «обучателем» игры на фортепиано, скрипке, хорового пения и т. д., «обучателем» навыкам ремесла, а не истинным педагогом-музыкантом!»
Кое-кто из начавших обучаться ограничится лишь тем, что в будущем станет бренчать на фортепиано и в подходящем случае протренькает какой-либо танец или легонький аккомпанемент...
Так или иначе, но в сфере педагогического воздействия на начальном этапе фортепианного обучения находятся дети, которые in futurum должны разделиться на две группы: на меньшую — это те, кому суждено стать профессионалами (но, повторяю, не только пианистами и, уж конечно, не только пиа-нистами-виртуозами), и большую — те, кто станет «просвещенными любителями» или попросту хорошо разбирающимися в музыке слушателями.
Да ведь все это азбучные истины, хорошо известные всякому и каждому! Зачем вести разговор об этом? С одной только целью — попытаться ответить на вопрос, возникающий не так уже редко: вести ли обе категории ребятишек одинаково или по-разному (одинаково не в том, конечно, плане, чтобы не считаться с индивидуальными особенностями каждого ребенка, что было бы нелепицей, а в смысле основных принципов работы).
Но педагог не оракул, предсказывающий грядущее, и хотя ¦бы уже поэтому дифференциация ребят на будущих профессионалов (а тем более пианистов-виртуозов) и будущих любителей на этом этапе работы с ними практически невозможна. Следовательно, все должны пройти быстрее или медленнее один и тот же путь. Это во-первых. А во-вторых... Во-вторых, сделаем допущение, что я неправ и что педагог-футуролог как-то сумеет расс(4ртировать своих начинающих обучаться питомцев (опираясь, по-видимому, на какие-то проявления элементарных музыкальных способностей). Пусть так! Но и в этом случае работа с ними должна была бы вестись в смысле общих принципов одинаково.
О каких это общих принципах идет речь? — недоумевает читатель. А вот о каких: всех, всех без исключения надо так обучать, чтобы они могли и хотели стать музицирующими любителями, ибо и будущий профессионал, чтобы быть подлинным профессионалом, должен любить музыку и Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л., «Музыка», 1969, с. 237.
музицирование. Мне как-то даже неловко, что я вынужден повторять этот трюизм. А возвращаться к нему приходится потому, что уже на самых первых ступенях обучения педагоги об этом важнейшем положении забывают и, работая с детьми, проявившими какие-то музыкальные способности, сразу же обращаются к «специализации».
Венгерский композитор Тибор Шараи в докладе на Московской конференции ИСМЕ справедливо заметил: «...В музыке и музыкальном воспитании, точно так же как и в других областях жизни, господствующее положение приобретает специализация. Дают уроки фортепианной игры, пения, виолончели, скрипки;...так складывается хорошая, менее хорошая или плохая практика обучения определенному виду музыкального исполнительства, а собственно музыкальное воспитание все в большей мере теряется». Вот и я так думаю: музыкальное воспитание детей, приступающих к игре на фортепиано, приносят в жерт- ву ранней специализации. И, говоря об общих принципах работы, я имел в виду развитие на фортепианных уроках с начинающими той суммы качеств, которые в свое время я назвал «элементарным музыкальным комплексом»1; он одинаково необходим и профессионалу и любителю.
Но мой оппонент не унимается. Не вы ли, обращается он ко мне, когда-то писали о целенаправленности музыкального обучения, о том, что содержание и методы музыкально-педагогической работы должны во многом определяться ясным пониманием того, к чему готовишь ученика, и предвидением — хотя бы в самых общих чертах — характера его возможной в будущем музыкальной деятельности? Не вы ли указывали, что нельзя учить «вообще», не задумываясь о конце обучения, о той конечной точке, к которой следует подвести ученика?
Да, я писал это и сейчас стою на том. Но, во-первых, здесь, в этой книге, я имею в виду самое начало фортепианного обучения (когда к тому же предугадывание будущего на основе длительного изучения индивидуальных способностей воспитанника еще невозможно). А во-вторых, пародируя в статье, которую имеет в виду мой читатель-оппонент, рассуждение педаго-га-ремесленника, я вложил в его уста такую фразу: «Пусть хорошо сыграет разучиваемую пьесу, об остальном и думать не хочу!» После этого между мной и педагогом-рутинером происходит диалог.
— А игра в четыре руки, а обширный репертуар, а подбирание, а импровизация, а чтение нот?
— Но ведь это отнимает время от «основного» — разучивания пьес к экзамену или концерту!
— А общее музыкальное воспитание и просвещение?
— Это дело специального педагога, пусть этим занимается теоретик.
Мне остается лишь повторить вывод, которым я заключил приведенный диалог: так педагог музыки превращается в учителя игры на фортепиано.
3
Лозунг, брошенный Г. Г. Нейгаузом, — «догнать и перегнать Баха! — не достойная ли это задача для советской музыкальной педагогики» — может, на первый взгляд, представиться неожиданным и сказанным ради красного словца. Неужели же спустя два с лишним столетия мы не сумели подняться до уровня баховской педагогики? А между тем нейгаузовский призыв полон глубочайшего смысла, и ему должен быть придан еще более широкий характер, чем вложил в него — судя по контексту, в котором он приведен и где говорится о единстве художественного и технического начал в исполнительской педагогике, — сам автор.
С одной стороны, для того, чтобы в этом убедиться, а с другой — для того, чтобы проследить за некоторыми из факторов, послуживших причиной широчайшего проникновения фортепиано в быт и в музыкальное обучение, обратимся к истории. Нам нет нужды прибегать здесь к собственным изысканиям и прокладывать новые тропы. Они проложены многими авторами, а в труде музыкально-педагогического и публицистического характера эти исследования в лаконичной форме подытожил Г. Кречмер2. Остается только, изредка его цитируя, пойти по тому же пути.
Вспомним, раз речь идет о педагогике И. С. Баха и его современников, те клавишные инструменты, которые предшествовали фортепиано, — клавесин (чембало) и клавикорд. Примерно до середины XVIII века (или чуть позже) эти инструменты были главным образом инструментами музыкантов (или тех «просвещенных любителей», которые по уровню своих музыкальных знаний, умений и развития были не ниже музыкантов-профессионалов). В быту же господствовало иное («не клавирное») музицирование — игра на лютне, на некоторых духовых инструментах, на смычковых, пение.
К клавиристу предъявлялись тогда особо высокие требования. Достаточно вспомнить слова Ф. Э. Баха: «Мало того, что клавирист, как и любой другой инструменталист, должен легко и по всем правилам исполнять пьесы, написанные для клавира; от него требуется много большего: он должен импровизировать различные фантазии; без малейшей подготовки разрабатывать заданную тему, соблюдая самые строгие правила гармонии и мелодики, он обязан одинаково легко играть в любой тональности, сразу делая безошибочную транспозицию; всякое произведение он должен суметь сыграть с листа, независимо от того, для какого инструмента оно написано; для него обязательно безупречное владение генерал-басом. Далее: от играющего на клавире требуется умение исполнять по цифрованному басу произведение с любым количеством голосов по всем строгим законам гармонии, даже если в цифровом басу имеются ошибки, если приходится восполнять пробелы партитуры...» 1
И в те, и в предшествующие времена клавир играл огромную роль как инструмент сопровождения, и чембалист, как и отметил Ф. Э. Бах, обязан был владеть исполнением генерал-баса, то есть уметь гармонизовать — если нужно, с листа — по проставленной цифровке или без нее. Не представлялось возможным без этого сыграть должным образом и сольную клавирную музыку: ведь и здесь требовалось умение импровизационно дополнить линию баса гармониями. На это было рассчитано, как справедливо пишет Г. Кречмер, «подавляющее число двухголосных пьес Фробергера, Пахельбеля, Кунау, Доменико Скарлатти, Куперена, Муффата-младшего, Генделя и Баха, пьес, которые исполняются и сегодня, но, как правило, играются и разучиваются неверно».
Формулировка Г. Кречмера может быть превратно понята: он говорит о подавляющем числе двухголосных пьес, но, конечно, не обо всех, и вряд лн этот крупный музыковед полагал, скажем, что баховские инвенции нуждаются в дополнительной гармонизации (впрочем, некоторые музыканты-«гармониефилы» так, видимо, и считали, о чем свидетельствует тот факт, что Б. Бёкельмаи приписал гармонический аккомпанемент для исполнения на втором рояле к ряду фуг Баха!),
К тому же клавиристу полагалось не только обладать способностью ex tempore1 гармонизовать и вносить изменения в фактуру, но и владеть искусством орнаментирования, уметь присочинить, особенно в концертах и вариациях, импровизированные фиоритуры, вступления-связки, каденции. И конечно же, справедливо заключение Г. Кречмера о том, что клавирная педагогика и клавирные школы в несравненно меньшей степени имели в виду формирование «техника», чем воспитание хорошего музыканта. Это приметно и в клавирной инструктивной музыке, и прежде всего, конечно, у Баха: есть ли, скажем, возможность в инвенциях (то есть «изобретениях», «выдумках») отделить художественные идеи и поиски новых композиционных форм от чисто педагогических задач — от обучения в неразрывной связи композиторскому и исполнительскому искусствам? Клавирист, кем бы он ни был — профессионалом или «просвещенным любителем», обязан был пройти подлинную музыкальную выучку, овладеть если и не композиторским искусством, то сочинительским ремеслом, ибо он, чем-балист, значительную часть пьес, напечатанных и рукописных, получал в виде эскиза2. И дело тут вовсе не в самом факте — «учили сочинять и импровизировать», — а, пожалуй, еще и в другом, особенно важном: учили музыкальному мышлению, оперированию музыкальным материалом, а не только — в лучшем случае — интонированию этого материала. «Исполнительское» и «композиторское» начала в музыкальной педагогике были, таким образом, слиты друг с другом в нерасторжимой целостности. И этот смысл, а не только мысль об единстве художественного и технического, я хочу вло- 7 жить в формулу Нейгауза о баховской педагогике. «Не зашел ли процесс специализации, — писал я несколько лет тому назад, — слишком далеко и не стал ли он пагубным образом сказываться на музыкальном воспитании и обучении?.. Не следует ли искать некоторых путей сближении исполнительской и композиторской педагогики?»3
Вернемся к истории. Именно с тем периодом в последней трети XVIII века, когда, если иметь в виду широкие круги
1 Без приготовления, немедленно (лат.).
2 Принято считать, что внешняя картина фортепианной записи и ее реальное звучание перестали совпадать с того времени, когда в обиход вошла педализация (записана, скажем, шестнадцатая, а реально должна звучать целая). Это не совсем точно: и в клавирной музыке прошедших времен этого совпадения часто не было и не могло быть — исполнитель завершал эскизную запись.
3 Баренбойм Л. Цит. изд., с. 244.
музыкантов, началось разделение форм их деятельности и исполнительство начало обособляться от сочинительства, совпало время, когда фортепиано — завоевавший гегемонию новый клавишный инструмент — стало внедряться в повседневный быт, входить в широкий обиход и занимать все большее место в музыкальной педагогике. Обусловлено это было рядом причин; на некоторые из них обратил внимание все тот же Германн Кречмер.
Во-первых, примерно с последней трети XVIII века в силу ряда факторов, на которых мы здесь останавливаться не будем, начало проявляться стремление к известному упрощению и популяризации музыки — и не только под влиянием «берлинской школы», и не только в Германии, как указывает Г. Кречмер, но и в ряде других европейских стран. Это стремление сказалось, в частности, и на фортепианной игре в быту и привело к ее облегчению. Вот в каком смысле: «не только в их (композиторов «берлинской школы». — Л. Б.) песнях, — пишет Г. Кречмер, — вместо цифрованного или нецифрованного баса еопровождение было полностью выписано, но и в пьесах, предназначавшихся специально для клавира (клавесина или фортепиано. — Л. Б.) и публиковавшихся в сборниках типа «Музыкальная смесь» и «Всякая музыкальная всячина (вспомним аналогичные сборники и в русской музыкальной практике конца XVIII века. — Л. Б.)... и в других подобных изданиях, текст был напечатан так, как должен был звучать»1. Таким образом, чтобы исполнить эти пьесы, играющий не должен был владеть ни искусством сочинительства, ни умением импровизировать.
Во-вторых, приблизительно в эти же годы в обиход стало входить четырехручное музицирование. Издатели принялись публиковать переложения для фортепиано, так называемые клавираусцуги, в том числе и четырехручные. В деле популяризации фортепиано и фортепианного обучения клавираусцуги и ансамблевая игра на одном инструменте двух партнеров сыграли исключительно большую роль. Именно они, переложения и ансамбли, сообщали любительскому (и, вероятно, не только любительскому) музицированию особую прелесть: ведь клавираусцуги, подобно эстампам, способным дать представление о живописном оригинале, позволяли в фортепианном звучании воссоздавать достаточно сложные музыкальные произведения. Теперь не только музыканты, умевшие читать партитуры, имели возможность знакомиться с такими сочинениями. Осуществить такое ознакомление по четырехручным клавираусцугам (или
1 KretzshmerH. Op. cit., S. 44 (разрядка моя. — Л. Б.).
по весьма облегченным двухручным клавираусцугам) могли й те, кто владел музыкальными азами, умел читать двухстрочную фортепианную партию и обладал элементарной техникой. Благодаря фортепиано перед широкими кругами любителей, обучившихся фортепианной игре, открывались неведомые раньше просторы: при желании они получали возможность ознакомиться с оперной, симфонической и камерной музыкой. Само собой разумеется, что не сразу было издано большое количество клавираусцугов. Процесс этот шел постепенно и регулировался покупательским спросом (как регулируется и сегодня, когда пластинка повсеместно отодвинула клавираусцуг на второй план).
В-третьих, свою роль в процессах, о которых идеть здесь речь, сыграл, как мне представляется, и жанр несложной лирической фортепианной миниатюры, который был вызван к жизни домашним фортепианным музицированием, а затем расцвел, развился и, естественно, оказал плодотворное воздействие на само музицирование.
В-четвертых, в этом контексте было бы ошибочным забывать о блестящем подъеме, начиная с конца XVIII века, «высокой» фортепианной музыки — сонат, вариаций, концертов, что не могло, конечно, пройти бесследно для распространения фортепиано в быту — в музицировании и в педагогике.
Наконец, в-пятых (с этого можно было и начать), — распространявшееся увлечение новым, отвечавшим духу времени инструментом, звучность которого, с одной стороны, способна была передавать «субъективное», «лирическое», «душевное», а с другой — обладала достаточной полнотой...
Таковы, говоря схематично, некоторые из важнейших факторов, повлекших за собой широкое распространение фортепиано и его сильнейшее воздействие на любительское музицирование и музыкальную педагогику.
4
Фортепиано! В честь фортепиано — инструмента гармонии, полнозвучия и многоголосия, широкого звукового диапазона, оркестральных красок, пения и речи, черно-белой графики, живописных колоритов и воздушной перспективы — слагали своей музыкой «дифирамбы» композиторы-исполины разного времени — от Моцарта и Бетховена до Прокофьева и Шостаковича! Кто только из великих не писал для фортепиано, некоторые же — только для фортепиано! А словесные панегирики во славу рояля? Их произносили многие пианисты. Вспомним лишь
о двух — крупнейших. Антон Рубинштейн в конце жизни записал в своем дневнике: «Фортепиано для меня самый любимый инструмент, так как оно представляет собой в музыкальном отношении нечто цельное, всякий же другой инструмент, не исключая человеческого голоса, в музыкальном отношении все же только половина»1. А в молодые годы Рубинштейн писал матери, что именно пианисту «открываются миры и сферы, о которых остальное человечество и не мечтает»2 Спустя ряд лет Ф. Бузони в короткой статье «Будем ценить фортепиано» сказал: «Его недостатки явны, сильны и неоспоримы. Нетяну-щийся звук и беспощадное, жесткое членение на не поддающиеся изменению полутона. Но его преимущества и прерогативы суть маленькие чудеса. Один единственный человек может властвовать здесь над неким целым... Труба может греметь, но не шелестеть, флейта — наоборот. Фортепиано может и то и другое. Оно располагает самыми высокими и самыми низкими из употребительных звуков... И у фортепиано есть еще нечто, только ему одному присущее, неподражаемое средство, отображение небес, луч лунного света — педаль...» 3
Теневые стороны фортепиано, о которых частично упомянул в своем великолепно написанном славословии Бузони, в обучении (особенно в детском — на его начальной стадии!) дают о себе знать весьма явственно. Они таят в себе опасности, грозные опасности. Их нужно преодолеть, больше того, извлечь из них пользу для обучения, иначе музыкальное воспитание с помощью игры на фортепиано обречено на неудачу.
Ребенок, начинающий петь, играть на смычковом или духовом инструменте, учится прежде всего создавать и тянуть звук. Напрягая связки и выдыхая воздух, ведя по струнам смычком, вдувая воздух в корпус духового инструмента, он совершает непрерывное действие, которое и приводит к непрекра-щающемуся звуку. Звучит — пока он продолжает действовать, то есть извлекать звук. Действие и звук составляют для ребенка единство, каждый звук он создает, он его творец.
Вспоминаю в этой связи рассказ французского педагога, маленькие питомцы которого под его руководством сами изготовляли из бамбука нечто вроде свирелей. Конечно, хорошо звучащий самодельный инструмент доставлял много радости. Однако дело не только и даже не столько в том, что это была самоделка. Вот сделано первое отверстие в корпусе инструмента. Ребенок вслушивается и восхищается одним единственным звуком и с помощью ритма создает музыку из одного тона. Проходит время, и высверливается второе отверстие... Сколько радости приносит каждая из этих новых возможностей для элементарного музицирования! Каждый новый звук ценится: он — событие,диво дивное, он открывает новые возможности для музицирования.
Не то у ребенка, севшего за фортепиано: ткнул пальцем в клавишу, и на тебе — готовый, точный выверенный звук, ткнул в другую — другой. Ни чуда сотворения звука (нажал — и зазвучало!), ни чуда его оживления филировкой. «Хотя создатели наших инструментов, — пишет Г. Кречмер, — со всем упорством и в достаточной мере односторонне добиваются «большого тона», все же фортепианному звуку, поскольку он вызывается струнами, по которым ударяют, всегда не хватает существенных свойств музыкального тона...»1 Всегда ли? С этим можно, пожалуй, и не согласиться, если вспомнить игру артистов. Впрочем, Г. Кречмер имеет, вероятно, в виду единичный, отдельно взятый фортепианный звук.
Такова одна из особенностей (и трудностей!) начального фортепианного обучения: ребенку не надо, правда, проходить той стадии, которую не минуешь, скажем, в работе с начинающим скрипачом, — поисков интонационно чистого звука; но фортепиано само по себе нисколько не помогает ребенку ощутить, познать и услышать, как создается музыкальный тон и какие имеются возможности для того, чтобы то ли ровной протяну-тостью, то ли усилением, то ли ослаблением вдохнуть в него жизнь, оживить его. Ряд музыкантов-педагогов вот уже многие годы настаивает на том, чтобы фортепианному обучению предшествовал период пения, освоения элементарной певческой культуры. Обычно ссылаются при этом на необходимость заблаговременно развить музыкальный слух. Все это так, все это верно, но только ли дело в слухе? Не менее важно предварительно познать живой тон, творимый голосом. Г. Кречмер подчеркивал именно эту сторону вопроса и поэтому с такой настойчивостью убеждал еще в начале нашего века, что «современная практика поступает совершенно неправильно, начиная обучение музыке с фортепиано»2.
Звуку, извлекаемому голосом, на скрипке или на кларнете, придает жизненность и обаяние вовсе не только его ровная протяженность или динамическая филировка, но, если пока не касаться артикуляционных моментов, еще одно обстоятельство — интонационная (в узком смысле слова) чуткость звука, которого не сковывает ступеневая темперационная шкала: в зависимости от своего места в музыкальной линии и в ладу он то чуточку повышается, то малость понижается, то снова возвращается в полутоновую шеренгу. Заметим попутно, что художники-пианисты, прибегая к тончайшим динамическим, агогическим и артикуляционным средствам, умеют в нужных случаях создать впечатление интонационного повышения или понижения фортепианного звука.
Но может ли хотя бы некоторые из этих тонкостей услышать и ощутить ребенок, который только приступает к фортепианной игре? При должном руководстве — может! И тут мы попадаем в область музыкально-исполнительского интрнирования, — на этот раз в том широком понимании этого термина, который ему придавал Б. В. Асафьев.
Начнем с «пения» на фортепиано. Сам по себе затухающий звук фортепиано вовсе не «певуч», какими бы «сверхлегатны-ми», «сверхмягкими» и «сверхпевучими» приемами пианист ни играл и как бы всеми этими способами ни старался преодолеть пунктирную фортепианную линию. В свое время, характеризуя педагогику Ф. М. Блуменфельда, я привлекал уже к этому вопросу внимание читателей и хотел бы сейчас напомнить эти строки: «Сыграть певуче — это означало сохранить в инструментальном исполнении идею вокальности, то есть характер выразительности, присущий поющему человеческому голосу. Работая с учениками над вокализацией инструментального исполнения, Блуменфельд всегда стремился воспитать у них очень важное качество — слышание-переживание упругости, сопротивляемости, напряженности мелодических интервалов, иными словами, то переживание, которое возникает у пианистов, когда, интонируя мелодию, они «сопоставляют слухом» различные — то есть большие или меньшие — расстояния между звуками... Пианист должен для этого играть «умными» или, иначе говоря, «слышащими» пальцами. Блуменфельд... очень ценил такие «умные пальцы», «предчувствующие» звуковую высоту тонов и интервальные соотношения между ними» .
Вот в этом, в воспитании «слышащих пальцев», способных «предчувствовать» интервально-ладовые соотношения между тонами — «слышит» же их левая рука скрипача или голосовые связки поющего, — я вижу одну из основных задач фортепианного обучения на его начальной ступени.
И вовсе не для того только, чтобы научить «петь» на фортепиано. Почему, собственно говоря, только «петь», а не «говорить», воспроизводя речевые обороты, речитативы, интонации вопроса, восклицания, повествования и даже — предвижу испуг и негодование педагогов, любящих «бантики» и умиляющихся певучему детскому сюсюканью! — скандирования, столь любимого малыми детьми. Мне как-то доставил немало веселых минут прослушанный урок с начинающими в классе одного из таких поклонников мягкого «пения» на фортепиано вне зависимости от того, что именно произносится. Шла работа над небезызвестной детской песенкой «Василек» (из сборника С. Ляхо-вицкой и Л. Баренбойма). Педагог добивался вокально-распевного исполнения («спой, детка, спой!!»), сам пел «эмоционально» и «с нюансами», расставил лиги и требовал выполнения нисходящей «вилочки» в конце каждой попевки. А упрямый малыш упорно продолжал скандировать каждый звук-слог и с точки зрения смысла и стиля был, конечно, прав-, он, а не педагог, почувствовал истинную — речевую, скандирующую, подчеркнутую — выразительность этой детской песенки-говорка.
И еще одна особенность и сложность фортепианного обучения. Для того чтобы выразительно интонировать не только распевную, но и речевую мелодию, ребенок на первых же уроках должен с помощью педагога научиться слышать фортепианный звук, естественно затихающий и исчезающий, вслушиваться в «жизнь» звука от его возникновения до полного исчезновения. Казалось бы, — короткая «жизнь»? Но сколько здесь, особенно внутри звуковой линии, разных оттенков: то взятый чуть сильнее, да еще в среднем или нижнем регистрах, звук долго-долго тянется; то почти мгновенно улетучивается; то, несмотря на угасание, при связной игре пластично переходит в другой (и пунктирная линия начинает казаться сплошной1); то в сфере отрывистой игры быстро или относительно быстро пропадает. Глубоко убежден, что ребенок полюбит (как это важно!) фортепианный тон, если среди прочего достаточно рано у с л ы ш и т — то есть познает слухом, а не только двигательным приемом! — его, звука, простейшие артикуляционные возможности.
То, что так привлекает к фортепиано — многоэлементность фактуры, возможность передать всю полноту музыки, — оборачивается, особенно на начальной стадии обучения, значительными
1 Собственно говоря, так нередко протекает любое восприятие — не только фортепианной линии и не только музыкальное: в нашем сознании воссоздается целостная линия или целостный образ по отдельным приметам, симптомам и подробностям. Эта особенность нашего восприятия должна быть. Использована на уроках фортепианной игры.
трудностями, которые приходится преодолевать: нелегко малому ребенку услышать-понять и выполнить все составные части фортепианного изложения, даже простейшего. «Именно фортепианная игра, — писал по этому поводу Г. Кречмер, — предъявляет к слуху значительно более высокие требования, чем любое другое обучение музыке, так как уже на очень ранней технической ступени вводятся аккорды, гармонии и другие проблемы многоголосия. Но ведь любое обучение, будь это обучение языкам, науке, ремеслам, искусствам, должно оперировать только понятым и постигнутым материалом»1. Если первая часть этого высказывания бесспорна, то со второй, в которой речь идет о том, что с маленькими учениками должно работать лишь над тем, что они со всей ясностью осознали, я бы не согласился. Не справедливее ли мысль С. Маршака? Вот она: «Ведь не только страницы книг, но и самые простые явления жизни дети начинают понимать не сразу и не целиком»2. Да одни ли дети?
И к тому же, что означает «понятый и постигнутый материал», о котором пишет Г. Кречмер? Разве Постижение ребенком, да и взрослым музыкантом, художественного произведения, требующего для своей полноты охвата многообразных элементов в их взаимных связях, не постепенный процесс, не процесс приближения?
Впрочем, это возражение Г. Кречмеру (но не ему одному — такой же точки зрения придерживались М. Варро и многие другие деятели зарубежной музыкальной педагогики первых трех десятилетий нашего века) вовсе не означает, что, во-первых, на начальных ступенях надо проходить мимо вслушивания-осознания фактуры и элементарного анализа и, во-вторых, — это другая сторона вопроса, — что на первом году обучения не должно быть уделено значительно больше внимания, чем мы это делаем, работе над простейшим материалом, — скажем, над выразительным исполнением на фортепиано однолинейных построений, одноголосных мелодий.
5
С того времени, как фортепиано начало широко входить в художественную практику и в бытовое музицирование, прошло — об этом уже была речь — около двух столетий. Написаны работы разной содержательности и глубины по истории фортепиано, по истории фортепианного исполнительства. Но мне неизвестны обобщающие исследования, посвященные истории детского фортепианного обучения и вообще истории фортепианной педагогики. Впрочем, общая история музыкальной педагогики также ждет еще своего изучения.
Последующие строки, разумеется, не претендуют и не могут претендовать на то, чтобы начать заполнять этот пробел в истории музыкальной культуры. Будет лишь сделана попытка поразмыслить над тем, что должно быть в поле зрения историка детской фортепианной педагогики, и обратить внимание на некоторые тенденции, характерные для ее эволюции.
Осознание трудностей нередко открывает путь к их преодолению. Зададимся поэтому вопросом - почему так нелегко оказалось создать такую историю? Неизвестны имена крупнейших талантливых педагогов-практиков разных стран, обучавших детей фортепианной игре? Нет, эти имена, пусть и не все, мы знаем. Неведомо, как они обучали? На этот вопрос не ответить с такой решительностью, как на предыдущий- о скромной, внешне неприметной и неброской работе истинного педагога и воспитателя (не только музыканта) мы знаем нечто существенное либо в том случае, если сам педагог сумел изложить свои принципы, методы и практические приемы; либо тогда, когда кто-нибудь из учеников смог умно, интересно и конкретно рассказать о своем учителе; либо, наконец, в том случае, если он, учитель, вышел «из тени» благодаря одному из своих выдающихся питомцев и этим привлек к своей деятельности внимание современных или последующих исследователей Так или иначе, но мы располагаем здесь достаточным, хотя и далеко не исчерпывающим материалом.
Продолжим наши вопросы. Разве мы не знакомы с многочисленными теоретико-методическими работами, посвященными детской фортепианной педагогике, с фортепианными школами для начинающих, с фортепианной музыкой, предназначенной для детей, с упражнениями и этюдами? Было бы преувеличением сказать, что все это лежит на поверхности, но перечисленный материал известен, и для его разработки не требуется особо сложных изысканий.
Так в чем же дело? — спросит не искушенный в исследовательских делах читатель: описать в хронологическом порядке один метод работы за другим, одну систему занятий за другой — вот и будет написана история детской фортепианной педагогики! Конечно, само по себе такое описание, собранное и систематизированное, могло бы принести известную пользу. Но это были бы только материалы к истории, может быть нужные и поучительные, но только материалы. Правда, кое-кто пытался, взяв за основу разные системы фортепианно-технических навыков, прививавшихся детям, выстраивать их, системы (именовавшиеся «школами» такого-то и такого-то педагога), в хронологический ряд в наивном убеждении, что таким путем создастся история детского фортепианного обучения. Нужно ли сегодня доказывать, сколь далеко это от подлинной истории?
И сами материалы по истории детской фортепианной педагогики прошлого ставят нередко перед исследователем ряд недоуменных вопросов. Чем вызвано, скажем, многократное возвращение — и вовсе не всегда на новом, высшем витке спирали — к одним и тем же положениям? Допустим, к тому, что следует ориентироваться на музыку, а не на пальцевую гимнастику, что фортепианному обучению должно предшествовать предварительное слуховое развитие, что необходимо обучать чтению нот с листа, а не полагаться на самотек и т. д. и т. п. Может быть, все это вызвано незнанием предшествовавшего опыта и того, что делается в округе? Может быть, убеждением, что новое — это основательно забытое старое? Наконец, быть может, речь идет о поисках новых путей к ранее установленным целям? Бывает, конечно, и так. Но чаще всего эти многочисленные повторы в статьях и в книгах вызваны, как мне представляется, другим.
Во-первых, разрывом, до известной степени естественным, между передовыми педагогами-практиками и методистами, с одной стороны, и широкими кругами педагогов — с другой; разрывом, который чаще пытались заполнить повторением общих положений, а не рекомендациями практически разработанных методов работы и конкретными советами.
И во-вторых, догматизмом и консерватизмом немалого числа педагогов, продолжающих, несмотря на всё и вся, обучать так и только так, как их когда-то обучали, и в чем они утвердились навечно. Пожалуй, нет другой области, в которой не только животворные, но и обомшелые традиции были бы столь долговечны. Мне приходилось уже об этом писать, и да будет мне разрешено повторить сказанное: «Педагога-музыканта подстерегает на жизненном пути ряд «опасностей». Одна из них — самая страшная — обусловлена спецификой его деятельности. Передавая из поколения в поколение общеэстетические и музыкальные традиции, которые педагог впитал с молоком матери и вобрал в себя в период собственного формирования, легко проглядеть, что именно в этих традициях потеряло жизненную силу, поблекло, начало отмирать; можно пройти мимо тех перемен в окружающем мире, которые требуют иного содержания, форм и методов музыкально-педагогической работы. Не потому ли Чехов для своего «человека в футляре» избрад именно педагога?»1 Эти психологические особенности музыкально-педагогического труда не следует игнорировать нц тогда, когда наблюдаешь живую практику, ни тогда, когда обращаешься к истории детского фортепианного обучения.
Но я отвлекся от основного хода своих рассуждений. Речь, напоминаю, шла о том, что материалы по истории детской фортепианной педагогики, сколь бы они интересны и полезны ни были, — еще не ее история. Тут, как в любом историческом исследовании, требуется объяснение фактов, установление их связей и взаимосвязей с другими явлениями общественной жизни и культуры, выяснение их причинности, раскрытие закономер, ностей развития.
Не притязая на полноту, я хотел бы здесь напомнить о некоторых связях. Мимо них не вправе проходить историк детского фортепианного обучения (как, впрочем, и вообще истории музыкальной педагогики).
Во-первых, — о нитях, которые связывают детскую фортепианную педагогику с музыкой определенного периода (разве, скажем, романтическая фортепианная музыка не повлекла за собой попыток внести новшества в детское фортепианное обу, чение?), с национальными особенностями этой музыки, с бытующим в домашнем музицировании и в концертной практике репертуаром, с инструктивной музыкальной литературой для детей — идет ли она вровень или отстает от стилистики передового музыкального творчества (не это ли отставание, характерное, скажем, для первой половины XIX века — до появления шумановского «Альбома для юношества», — заставило Бетховена задуматься над написанием фортепианной школы, а Шопена приступить к созданию такого пособия?).
Во-вторых, не следует забывать о связях между детской фортепианной педагогикой и музыкально-исполнительским искусством той или иной эпохи, его стилистикой, процессами, в нем -происходящими (разве принципы и методы обучения игре на фортепиано, в том числе и детей, во многом не определяются эстетическими идеалами педагогов, их взглядами на задачи и сущность музыкального исполнительства?).
В-третьих, нельзя проходить мимо взаимовлияния детской фортепианной педагогики и бытового музицирования в данном обществе, а также формами организации обучения (институт частных педагогов, музыкальные учебные заведения и их типы).
В-четвертых, нельзя упускать из виду взаимосвязи детской фортепианной педагогики и общего музыкального воспитания в детском саду, в школе, в семье, с одной стороны, и специально-профессионального образования — с другой.
В-пятых, неверно было бы оставлять без внимания взаимосвязи практики детского фортепианного обучения и теоретической фортепианно-методической литературы.
В-шестых, напомню о связях между детской фортепианной педагогикой и общей педагогикой (отмечу здесь, скажем, известное влияние на детскую клавирную педагогику некоторых общепедагогических идей Яна Амоса Коменского и, несколько позже, Руссо ; в XIX веке фортепианная педагогика периодически, «рывками» обращалась к общей педагогике; иной раз общепедагогические принципы и методы механически переносили на детское фортепианное обучение и в результате учителя музыки испытывали разочарование и опять-таки замыкались в своей специальной области; сегодня мы снова — и небезуспешно — адресуемся к интересным идеям и методам, разрабатываемым нашей общей педагогикой).
В-седьмых, важно обратить внимание на связи между детской фортепианной педагогикой и такими науками, изучающими человека, как анатомия, физиология, психофизиология, психология (если в прошлые времена, скажем, в конце XIX столетия, делались попытки использовать в нашей области данные анатомии и физиологии, то, начиная примерно со второго десятилетия нашего века, все большую и большую роль стали играть психофизиология и особенно психология).
В-восьмых, по-видимому, весьма существенны и взаимовлияния различных национальных музыкально-педагогических культур.
Изучение этих «сцеплений», влияний, связей, взаимодействий и создание в итоге этого истории детской фортепианной педагогики (сначала, вероятно, по отдельным странам) — дело будущего, надо надеяться, ближайшего. Но уже сегодня, опираясь на те факты, которые известны, и не пытаясь ни детализировать их, ни создавать исторические схемы и выстраивать их в хронологический «линейный порядок», можно выявить те важнейшие тенденции, которые, нередко причудливо переплетаясь, характеризуют путь детской фортепианной педагогики. Речь может идти, как мне представляется, о трех тенденциях, которые в той или иной форме, порой совсем зачаточной, приметны почти на всех этапах развития детской фортепианной педагогики. Но на некоторых из них та или иная тенденция вырисовывается более четко, выходит на первый план, становится ведущим устремлением.
Первая тенденция. Приобретение фортепианно-технических навыков и их автоматизация — в центре внимания педагога, особенно на начальной стадии работы с учеником. В конце концов, когда речь идет о рассматриваемой тенденции, не в том дело, какие именно приемы прививает педагог своему питомцу1 (приемы эти претерпевают частные или коренные изменения: то это «пальцевая игра», то это «весовая система звукоизвлече-ния», то это «свободная, но организованная рука»...). Важнее другое — самый факт фетишизации техники, понимаемой к тому же весьма узко.
И еще одна, кроме технической, первооснова работы: овладение сведениями, необходимыми для прочтения нотной записи.
Пока ребенок все это не освоит, дорога, ведущая к музыке, частично, а иной раз и полностью перекрывается. Сначала пальцы — голова потом! Сначала точность прочтения нотной «буквы» — исполнение потом! Игра по слуху — в небрежении, а то и под запретом: не приведи господь, ненароком руку испортит! Подражание — «делай, как я делаю!» — основной метод занятий с учеником. Без долбежки (именно долбежки, а не повторения-испытания) нет и продвижения! Нужно так изучить каждую пьеску, чтобы она «хорошо сидела» в пальцах!
Обобщения? Развитие музыкального мышления? Воспитание любви к музыке? С этим можно и подождать. Надо заложить прочный фундамент техники и грамотности (или, как иногда говорят, «профессионализма», хотя, к слову сказать, речь вовсе ведь не идет еще о будущих профессионалах, и к тому же профессионализм — понятие значительно более широкое); все остальное приложится и может быть пока предоставлено самотеку!
Повторяю и подчеркиваю: я говорю об определенной тенденции, а не о хронологически очерченном этапе развития детской фортепианной педагогики. Но не подлежит сомнению, что эта тенденция явственно проявилась в работе многих педагогов первой половины XIX века. Диву даешься1 Только-только, благодаря деятельности французских просветителей и Песталоцци, было привлечено ^внимание к особенностям личности ребенка, с которыми должен считаться учитель. Только что зародился жанр детской инструментальной пьески с характерными и
1 Само по себе это, конечно, весьма существенно!
понятными для ребенка заголовками (вспомним Д. Г. Тюрка). Только несколько десятилетий тому назад вышел из печати трактат Ф. Э. Баха, в котором среди прочего речь шла о важности многостороннего музыкального развития ученика. Ан нет! Виртуозный стиль, представление о механических способах фортепианно-технического совершенствования, муштра — традиционный для тогдашнего общеобразовательного обучения метод усвоения знаний — все это оказало более значительное влияние на широкие круги педагогов-музыкантов.
Вторая тенденция. Спору нет, говорят сторонники иной точки зрения, без овладения элементарными техническими приемами на инструменте не заиграешь; без изучения нотных знаков музыку не прочтешь. Но первооснова — слуховое воспитание, формирование музыкального слуха. Разве можно приступить к обучению фортепианной игре без одновременного или предварительного развития способности воспринимать, понимать и переживать «элементы» музыки — ритмоинтонации? Руке следует повиноваться слуху и интеллекту, подчиняться цели. Музыкальное воспитание должно предшествовать техническому или идти с ним в ногу.
Вдумайтесь, как идет развитие музыкально сверходаренных детей, и пусть это послужит моделью для обучения других: музыка живет в их душе, а затем они ее воплощают на инструменте! Вспомните о «вундеркиндкомплексе Моцарта», который положил в основу своей концепции музыкального обучения К- А. Мартинсен. Или припомните слова Г. Г. Нейгауза: «Прежде чем начать учиться на каком бы то ни было инструменте, обучающийся — будь это ребенок, отрок или взрослый — должен духовно владеть какой-то музыкой: так сказать, хранить ее в своем уме, носить в своей душе и слышать своим слухом. Весь секрет таланта и гения состоит в том, что в его мозгу уже живет полной жизнью музыка раньше, чем он в первый раз прикоснется к клавише или проведет смычком по струне».
Отсюда следуют рекомендации: ввести «дофортепианный», или «донотный», или же и тот и другой периоды занятий с начинающими. Обучение нотной грамоте? Только тогда, когда обозначение звуковой высоты, метра и ритма из абстрактных знаков превратятся в живую реальность и заинтересуют ребенка, когда изучение их будет проводиться на основании многочисленных наблюдений ребенка над музыкой. «Вижу — слышу — играю» — вот та идеальная психологическая схема-триада, о которой не следует забывать педагогу. С первых же шагов обучения ребенка приучают к элементарному музыкальнослуховому анализу. Все, с чем имеет дело ребенок, должно быть предварительно услышано и осознано. Вспомним уже приводившиеся в предыдущем разделе этой главы слова Г. Кречмера: «...любое обучение, будь это обучение языкам, науке, ремеслам, искусствам, должно оперировать только понятым и постигнутым материалом». Бездумная фортепианная игра? Ни в коем случае: фортепианная игра — мыслительный процесс! Дрессура? Это недопустимо: основа обучения — развитие способностей!
Третья тенденция. Она не столько вступает в столкновение с предыдущей (хотя кое-что и оспаривается), сколько расширяет ее границы и, главное, смещает ряд акцентов.
Техника, грамотность, слухо-ритмическое музыкальное развитие, анализ исполняемых пьес, «донотная» и «дофортепиан-ная» стадии обучения — все это необходимо. Но всеопределяю-щий стержень фортепианно-педагогической работы — это воспитание личности ребенка, его «аппарата переживания» (К- Станиславский) и «аппарата осмысления», воспитание — путем развития его творческих способностей и для творческого овладения музыкой и фортепианной игрой. Ведь исполнительское искусство, которому педагог обучает и будущего «просвещенного любителя», и будущего профессионала, — интонационное творчество — творчество на любом уровне подвинутости ученика, и в этом смысле нет разницы, играет ли он простенький народный танец или сложнейшую сонату.
Значит, обучать творчеству? Но разве это возможно? Напрямик, в лоб, может быть, и немыслимо, но можно и должно обучать творчески работать, — скажем, обучать умению поставить задачу, ее осмыслить и проанализировать, понять ее разные стороны и связи, обобщить; обучать способности взглянуть на нее с новой позиции, осуществить, если нужно и возможно, перегруппировку выразительных средств...
И все это с ребенком? Конечно, и притом с первых«же ста-Дий работы. «И пусть пессимисты-педагоги — приведу слова Г. П. Прокофьева — не ссылаются на мнимую непосильность для юного исполнителя интонационной импровизационное» .
Значит, не в умении «хорошо выполнить» заключается главная задача на этой стадии обучения? Нет, на всех стадиях главное — понять и почувствовать, почему, для чего и как надо «выполнить», и этим улучшить саму способность детей к обучению.
Прокофьев Г. П. Формирование музыканта-исполнителя. М., Изд-во АПН, 1956, с. 332.
А повторение и тренировка? Само собой разумеется, это нужно, но повторы и тренаж по возможности должны связываться с чем-то новым, дающим пищу уму и сердцу. Бесконечное же оперирование и переживание одного и того же поощряет мыслительную леность, действует обычно отуп-ляюще и задерживает общее и музыкальное развитие ребенка.
Постановка относительно трудных задач? Обязательно, только это и способно придать интерес обучению и вызвать постоянство творческих устремлений ученика. Автоматизация технических навыков? Конечно, но в той степени, в какой исполнение не ограничится автоматизацией и, напротив, в какой автоматизация освободит внутренние силы для решения новых исполнительско-творческих задач, пусть самых небольших и несложных.
Подражание как метод обучения? Главным образом, как средство, активизирующее слухо-ритмическую сферу, или как модель-толчок для творческого продолжения или переосмысления. Впрочем, и в обучении игре на фортепиано нередко гораздо действеннее не «подражательные» и не прямые, а окольные и обходные, пусть и более протяженные, пути самостоятельного (конечно, под руководством педагога!) освоения знаний и навыков, самостоятельных выводов (самостоятельность требует деятельных собственных усилий, и она же — если ребенку удалось преодолеть минимальный «творческий барьер» — приносит ему удовлетворение и радость). Ведь и для оперирования простейшим музыкальным материалом нужно воспитать умение анализировать, синтезировать, абстрагировать, обобщать-и гибко мыслить. Будем, однако, осторожны: не следует забывать, что и подражание, пусть это и звучит парадоксально, способно научить гибко мыслить и помочь выйти на самостоятельный путь.
Значит, не торопить и не спешить? Конечно! Нельзя перескакивать через естественные стадии творческого развития, можно лишь с некоторыми детьми попытаться их ускорить. Впрочем, непрерывное и неуклонное музыкальное развитие важнее, чем иллюзорная быстрота продвижения.
И наконец, последнее: если не разжечь огонек «влюбленности» в музыку и в оперирование музыкальным материалом, не проводить «уроков восхищения» (Н. Перельман), то воспитать у ребенка творческое начало не удастся. «...Я старался бы высвободить в ребенке творческий порыв и настойчивость, как можно больше возбудить в нем любовь к тому, что его про-
сят сделать» К Разве Шнабель, которому принадлежат эти слова, не прав?
Всем этим не ограничивается, однако, круг вопросов, который подымается сторонниками «третьей тенденции». Мы не упомянули еще об одной важной проблеме: о включении в уроки фортепианной игры простейшего умения сочинительски оперировать музыкальным материалом, сочинять элементарную музыку и импровизировать. Впрочем, об этом уже была речь и к практике такого обучения нам предстоит еще вернуться в следующих главах при анализах современных фортепианных школ для начинающих...
Таковы, если отвлечься от деталей и оставить без внимания отдельные тропы и тропинки, три основные тенденции, которые в самых общих чертах характеризует столбовую дорогу детской фортепианной педагогики.
KOHEЦ ГЛАВЫ И ФPAГMEHTA КНИГИ
|