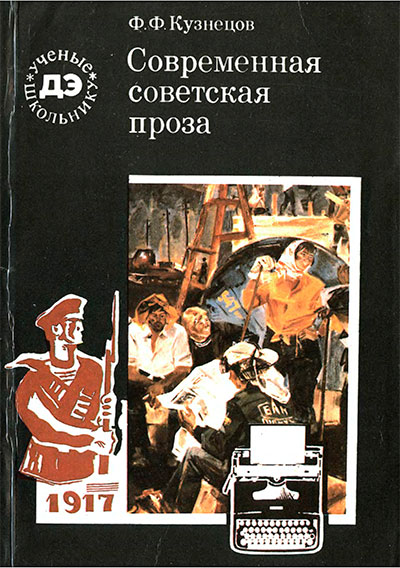|
ФЕЛИКС ФЕОДОСЬЕВИЧ КУЗНЕЦОВ — видный советский критик и литературовед, доктор филологических наук, профессор. Родился в 1931 г. в селе Тарногский городок Вологодской области. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Занимается публицистической, литературно-критической и педагогической деятельностью: работал в редакциях «Литературной газеты», журналов «Знамя» и «Литературное обозрение», в редакции литературно-драматического вещания Гостелерадио СССР; заведующим кафедрой журналистики Университета Дружбы Народов им. П. Лумумбы. С 1976 г. — первый секретарь правления Московской писательской организации, секретарь правления Союза писателей РСФСР и Союза писателей СССР.
Перу Ф. Ф. Кузнецова принадлежат труды по истории русской литературы и журналистики XIX в., в частности: «Публицисты 1860-х годов» (1981), «Нигилисты? Писарев и журнал «Русское слово» (1983); книги, посвященные современной советской литературе, — «Живой источник» (1977), «Перекличка эпох» (1980), «С веком наравне» (1981), «За все в ответе. Нравственные искания в современной прозе и методология критики» (1984) и др.; произведения о школе и воспитании подрастающего поколения для учителей, родителей и учащихся — «Каким быть...» (1962), «Беседы о литературе» (1977), «Размышления о нравственности» (1979), «Мир, время и ты» (1984). Телезрителям он известен как постоянный ведущий цикла «Писатель и жизнь».
Ф. Ф. Кузнецов — лауреат Государственной премии РСФСР им. А. М. Горького и премии Ленинского комсомола. Депутат Верховного Совета РСФСР десятого и одиннадцатого созывов.
Содержание
Юному читетелю 3
Главная книга 5
Вопрошая прошлое... 33
Испытание войной 62
Самая кровная связь 86
Человек дела и дело человека 132
Заключение 155
Любите ли вы читать?
С таким вопросом обратился я к старшеклассникам одной из московских школ. Их бурная, подчеркнуто недоуменная реакция показала, что самой постановкой вопроса они были озадачены и возмущены. Кто в наше время не любит читать?.. А даже если и есть такие, — кто же в этом признается вслух?..
Тогда я задал своим собеседникам следующий вопрос: а что вы любите читать? Ответ на него уже не был столь громогласным. И это понятно — он требовал раздумья. Пришлось конкретизировать его: кто любит читать детскую литературу, кто — детектив и фантастику, кто — классику, а кто — современную советскую и современную зарубежную литературу. Не буду приводить конкретные результаты этого импровизированного исследования, вот лишь общий итог: оказалось, что на первом месте по интересу стоит детектив и фантастика, на втором — серьезная «взрослая» литература, как классическая, так и современная, а вот за «детскую» литературу не проголосовал никто.
Это отнюдь не означает, что старшеклассники не читают произведений, специально написанных для них. У нас прекрасная детская и юношеская литература, имеющая свой, самый широкий круг читателей. Но уровень развития старшеклассников возрастает, и они с большой охотой вводят в круг своего чтения все лучшее из «взрослой» литературы, как классической, так и современной советской и зарубежной.
Подрастающие поколения быстро осваивают в качестве своего, им принадлежащего духовного богатства, по сути дела, все самое чистое, лучшее, самое светлое и, я бы сказал, самое талантливое в литературе. Ведь ни «Как закалялась сталь», ни «Чапаев» и «Повесть о настоящем человеке», ни «Педагогическая поэма», ни «Молодая гвардия» не создавались как произведения сугубо детской или юношеской литературы. То же можно сказать о «Герое нашего времени» и «Повестях Белкина», о «Дон Кихоте» и «Гаргантюа и Пантагрюэле», «Маленьком принце» и десятках, сотнях других книг. Огромное количество классических произведений прозы и поэзии включено в серию «Библиотека мировой литературы для детей».
Из этой закономерности, кстати сказать, исходит и вся программа изучения литературы в школе: критерии подхода к духовному богатству, завещанному нам великими предшественниками, очень высоки. И скажем, русская литература XIX в., так же как и советская классическая и современная литература, изучается в школе по вершинным, лучшим произведениям.
Говорить с молодежью о литературе необходимо всерьез, потому что только на пути серьезных раздумий о литературе и жизни, о своем месте в ней возможно преодоление той инфантильности, которой страдают сегодня некоторые молодые люди.
Современная советская проза в лучших своих образцах, тех именно, которые привлекают внимание и интерес молодых читателей, заключает в себе огромные, пока, к сожалению, недостаточно используемые резервы для воспитания культуры чувств, идейно-нравственного формирования личности, усиления в нашей жизни роли «нравственного фактора». К этому призывает нас XXVII съезд КПСС.
Главная книга
1 «...Если не у каждого, то у большинства писателей есть Главная книга, которая всегда впереди. Самая любимая его, самая заветная, зовущая к себе неодолимо... — сказала в своих «Дневных звездах» О. Берггольц. — Писатель может не знать заранее, в какой форме она воплотится — в поэме ли, в стихах ли, в романе, в воспоминаниях ли, но твердо знает, чем она будет по главной сути своей: знает, что стержнем ее он будет сам, его жизнь, и в первую очередь жизнь его души, путь его совести, становление его сознания, — и всё это неотделимо от жизни народа».
«Исповедью сына века» является Главная книга, и если автор достоин своего времени, то, рассказывая о своем сердце, о самых тайных его движениях, он обязательно расскажет и о сердце родного народа, о главном в его судьбе.
Зрелое гражданское чувство Родины, чувство кровной сопричастности с родной землей, с родным народом — не просто любовь к родным пажитям, лугам и полям, не просто тоска по тому месту на земле, где ты родился и вырос, — но и личная ответственность за судьбы народа, страстное желание борьбы за его лучшую долю.
Родина и коммунизм, судьба народа и Ленин — вот органический сплав тех глубоких и искренних убеждений, которые с такой силой исповедует писательница в «Дневных звездах».
Романтика революционной идейности — что может быть выше и поэтичнее этого? Коммунистическая убежденность — фундамент человеческой личности, основа ее нравственности и морали, ее мироощущения и миросозерцания. «Дневные звезды»
О. Берггольц привлекают глубокой искренностью убеждений, подлинностью веры в народ, в коммунизм, которая сквозит в каждой строчке книги.
И глубоко закономерно, что в своей устремленности к Главной книге, в своих лирических раздумьях о чувстве Родины, о кровной причастности каждого настоящего советского человека к судьбе своей Отчизны, к судьбе нашей идеи писательница как к неоспоримому итогу, а точнее — как к «началу всех начал», приходит к Ленину.
Ленин для О. Берггольц — символ «нашего неукротимого времени... Он давно уже стал неотъемлемой частью сознания и входит в его непрерывное движение». Ее внутреннее восприятие Ленина особенно полно выражено в сцене, где Г. М. Кржижановский, один из авторов плана ГОЭЛРО, показывает ей, юной комсомолке, бюст Ленина.
«Вот он какой был, — промолвил он почти шепотом и очень строго. — Глядите».
«Я, к сожалению, не помню автора этой скульптуры, — пишет О. Берггольц, — но передо мной тоже был «мой» Ленин. Скульптура была очень светлой, даже словно бы светящейся, но не блестящей бронзы, ее поверхность была неровная, шероховатая, выполнена почти щипками — она явственно хранила следы лепки, неостывшего волнения, и это придавало ей особую живость, подлинную трогательность. Необычен был и облик Владимира Ильича, особенно для того времени: из бронзы глянуло на меня из-под небрежно надетой кепки, из поднятого воротника не непреклонное лицо в о ж д я, а озаренное хитроватой, почти озорной улыбкой, подчеркнутое умнейшей прищуркой лицо русского мастерового, вечного труженика, неустанного умельца революции, бесстрашного землепроходца, лицо хорошего, просто-г о человека, глянули, как писал о нем М. Горький, «глаза неутомимого охотника на ложь и горе жизни».
2 Каждый подлинный писатель устремлен к своей Главной книге — самой любимой, самой заветной, самой зовущей, которая всегда впереди. Главная книга советской литературы — книга о Ленине, а следовательно, и о революции. Книга эта пишется многими писателями в течение десятилетий — осно ву ее заложили Горький и Маяковский. Еще на Первом Всесоюзном съезде писателей в 1934 г. Н. Тихонов говорил: у советской литературы «главный герой — строитель бесклассового общества, это — положительный герой, как бы мал и как бы велик он ни был. Во главе главных героев — грандиозный образ Ленина, который многократно повторен поэтами».
Поэтическая Лениниана открывается поэмой B, Маяковского «Владимир Ильич Ленин», стихами В. Брюсова, С. Есенина, Д. Бедного, Н. Асеева Она была продолжена «Домиком в Шушенском»
C. Щипачева, «Балладой о ленинизме» И. Сельвин ского, «Лонжюмо» А. Вознесенского. Ленину посвящали стихи и поэмы украинец П. Тычина и грузин Г. Табидзе, армянин Е. Чаренц и азербайджанец Р. Рза, балкарец К. Кулиев и калмык Д. Кугуль-тинов.
Лениниана в советской прозе началась очерками М. Горького, «Мужицким сказом о Ленине» Л. Сей фуллиной, рассказом «Ленин на охоте» М. Пришвина, рассказом «Рисунок с Ленина» К. Федина и сказом «Солнечный камень» П. Бажова. Она продолжена книгами М. Шагинян, Э. Казакевича, В. Катаева, А. Кононова, 3. Воскресенской, А. Коптелова, С. Дангулова, М. Прилежаевой, С. Алексеева, С. Виноградской и других писателей.
Современная Лениниана в своей совокупности охватывает жизнь Ленина на всех этапах. Романы-хроники М. Шагинян «Семья Ульяновых» и «Первая Всероссийская» посвящены семье, в которой рос Ильич. О Ленине в сибирской ссылке рассказано в романе «Возгорится пламя» А. Коптелова. Годы, завершающие ссылку и предшествующие эмиграции, запечатлены в повестях М. Прилежаевой «Удивительный год» и «Три недели покоя». О времени «Искры» написана повесть 3. Фазина «Нам идти дальше». О Ленине в годы первой русской революции рассказано в книге 3. Воскресенской «Сквозь ледяную мглу». Эмигрантским годам жизни Ленина, и в частности его жизни в Париже, посвящена повесть
В. Катаева «Маленькая железная дверь в стене».
Ленин как строитель нового государства предстает в книгах «Тропа», «Ленин разговаривает с Америкой», «Дипломаты» С. Дангулова, в «Рассказах о Ленине» С. Виноградской.
Успехи нашей Ленинианы очевидны. Ее можно назвать Главной книгой советской литературы, потому что она находится в непрерывном движении, совпадающем с движением жизни, с ростом и движением нашего общественного самосознания. Ибо художническое постижение ленинского гения во всем его масштабе, во всей его глубине, во всей человечности — дело неизмеримо трудное.
Роман «Семья Ульяновых» М. Шагинян заканчивается поздравлением родителей «с новым жителем на земле, Владимиром Ильичем».
Вторая книга М. Шагинян, «Первая Всероссийская», завершается 1873 г. Володе Ульянову было в то время 3 года.
И тем не менее без этих книг М. Шагинян Лениниана была бы неполной. В них исследуются та историческая необходимость, те предопределения, которые сделали неизбежными Революцию и Ленина.
М. Шагинян определяет жанр обеих своих книг как роман-хронику. Это не формальное определение. И «Семья Ульяновых», и «Первая Всероссийская» — книги строго документальной прозы; в основе их — собственные архивные изыскания писательницы, кропотливый и долгий труд историка-исследовате-ля, воплощенный незаурядным талантом автора в цельное художественное произведение.
М. Шагинян представила в романе историю жизни Ильи Николаевича и Марии Александровны Ульяновых, их характеры, их взгляды на жизнь, достоверно воссоздала их внутренний облик, рассказала о жизненном пути Ильи Николаевича Ульянова — его учительстве в Пензе, потом в Нижнем Новгороде и, наконец, в Симбирске, о его педагогических принципах, о подвижническом труде на ниве народного просвещения.
Писательница достигла успеха в той мере, в какой счастливо избежала искуса ложной беллетризации, надуманных сюжетных ходов, различного рода домыслов в изображении семьи Ульяновых. Понимая, что самое дорогое и важное для читателя — историческая доподлинность, полная достоверность, она не побоялась насытить повествование документальным материалом о педагогической деятельности Ильи Николаевича, о жизни России 60 — 70-х гг.
Педагогические принципы И. Н. Ульянова — наставника, учителя, организатора школьного дела, русского педагога-демократа, — утверждает М. Шагцнян, представляют огромный интерес. Последователь Ушинского, ученик гениального математика Лобачевского, он положил в основу своей педагогической деятельности принцип уважения к природе человека, мысль о воспитании как о помощи самой природе, а не насилии над ней, лежащую в основе трудов передовых русских ученых-педагогов.
Писательница отмечает редчайшую деликатность и такт, присущие Илье Николаевичу, — свойства трудные, пишет она, и более редкие, чем талант. Ему было свойственно почти физически чувствовать чужое бытие — характер, натуру, настроение, чувствовать с подлинным внутренним равенством — главным условием деликатности. Таков был дух этой семьи.
Атмосферу гуманности, человечности, активного, деятельного добра, столь свойственную семье Ульяновых, мы ощущаем, читая не только романы-хроники М. Шагинян, но и книгу 3. Воскресенской «Сердце матери».
Рассказы из жизни Марии Александровны Ульяновой, составившие эту книгу, воссоздают жизненный путь незаурядной женщины, посвятившей всю себя детям. Казалось бы, задача скромная: воспитать детей в духе добра, правды, честности и справедливости. Но эта прочная нравственная первооснова, заложенная семьей в пору детства и даже младенчества, и явилась истоком той обостренной гражданской совестливости, которая привела всех братьев и сестер Ульяновых в революцию.
В лучших новеллах книги — «Новый дом», «Зимним вечером», «Карпей» — воссоздана нравственная атмосфера в доме Ульяновых с ее культом честности, душевного такта и здоровья, взаимной доброжелательности, уважения к труду и трудящемуся человеку. 3. Воскресенская показывает, как в атмосфере нравственной чистоты и человечности естественно и неизбежно формируется первичное, изначальное гражданское чувство человека — обостренное неприятие любой несправедливости. Это чувство развивается в первых соприкосновениях детской души с действительностью — с тяжким трудом бурлаков или каторжной Владимиркой, с поэзией Некрасова и Рылеева.
В русское революционное движение шли самые чистые, самые светлые, самые совестливые люди. И не случайно поэтому дети Ильи Николаевича и Марии Александровны Ульяновых выбрали тернистый путь протеста и борьбы.
В рассказе «Письмо» передано тяжелое состояние Марии Александровны и всей семьи, когда они узнали, что Александр арестован как государственный преступник. Вначале мать отказалась этому поверить. «Чистый, благородный Саша, справедливый во всем, он не мог пойти на преступление, стать террористом». Но потом она вспомнила вечер, когда Саша, Аня и Володя, разгоряченные, громко, как клятву, повторяли:
...И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной!..
«Сберегите эти слова в сердце своем», — посоветовала тогда мать своим детям. А на суде (рассказ «Суд») — страшном дне ее жизни — мать окончательно поняла нерушимую связь между совестью сына, его благородством, внутренней чистотой и «преступлением», за которое умного, справедливого Сашу казнили. Она поняла это, слушая последние слова Саши, обращенные не к судьям — к ней, к молодежи, заполнившей улицы вокруг здания суда. Сын говорил о том, что еще в пору ранней молодости у него зародилось смутное чувство недовольства общественным строем, что после изучения общественных и экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя укрепилось, и смутные мечтания о свободе, равенстве и братстве вылились в стремление к действию.
Книга 3. Воскресенской — о том, как вместе со своими детьми мать проходила великую школу борьбы. Как поверила в дело своих детей, ради которого они, отказавшись от благополучной жизни, шли в тюрьмы и ссылки. Наивно думать, будто Мария Александровна прошла этот путь под влиянием марксистской литературы, — ее вело чуткое, любящее, никогда не ошибающееся материнское сердце. Сердцем чувствовала она нравственную правоту своих детей, верность их дела духу деятельного добра, честности и справедливости, в котором воспитывала их с детства, верность духу семьи, основы которого закладывались еще Ильей Николаевичем.
Мария Александровна намного пережила Илью Николаевича. Пройденный ею путь, та духовная близость с детьми, которую она сохраняла до конца дней своих, помогают нам глубже понять и характер Ильи Николаевича Ульянова, равно как и нрав* ственные истоки личности Владимира Ильича Ленина, его братьев и сестер. Дело в том, что одухотворенность семьи Ульяновых, одухотворенность Ильи Николаевича — особого рода: истово и честно относился он к жизни, и прежде всего к своему делу — просвещению народа, видел в этом высокий гражданский, общественный смысл. Этим определялись нравственные качества Ильи Николаевича, вся нравственная атмосфера в доме Ульяновых.
Илья Николаевич Ульянов, с его лысинкой и добрыми-предобрыми глазами, рассказывает в «Семье Ульяновых» М. Шагинян, производил впечатление «покладистого человека, легкого для совместной службы», эдакого «энтузиаста-идеалиста, доверчивого, как дитя», «простой души, какие тянут обыкновенно гуж всерьез и на совесть, один за всех».
Однако впечатление это, утверждает писательница, было обманчивым. Ласковый и мягкий — да. Энтузиаст и бессребреник — конечно. Переложить помаленьку на его плечи всю работу по школьному делу да, кстати, и ответственность — пожалуйста. Но дальше была заминка. Ибо при всей видимой мягкости Илья Николаевич не был ни покладистым для начальства человеком, ни «карасем-идеалистом». Во всей его натуре, во всей его деятельности сослуживцы с первых месяцев его службы в Симбирске почувствовали «твердую основу, не их обыкновения, не их типа». Основа эта проявилась в самом первом поступке Ульянова. Спустя немного времени по приезде, ознакомясь с положением в школах, он разослал по уездам строгое распоряжение: раз навсегда прекратить в классах применение каких бы то ни было физических наказаний. И когда после такого распоряжения Ульянов начал регулярные объезды уездных школ, он не забывал проверять его исполнение, особенно следя за тем, чтобы учителя не ставили детей за провинность на колени — обычай, названный им варварским.
«Всё, что новый инспектор народных училищ начал делать в губернии с первых же дней... было как бы звеном единой обдуманной цепи, развивавшейся без обрыва», — пишет М. Шагинян. В ее романах, особенно в «Первой Всероссийской», документально исследованы и описаны титанический труд и борьба Ильи Николаевича за народную школу, за то, чтобы проломить гигантскую стену невежества и суеверия, нищеты и убожества, нескончаемых обид от царских слуг, на которых нет управы.
Его служба в Симбирске была борьбой — в этом слове нет преувеличения. И в этой борьбе мягкий, ласковый, с виду такой уступчивый — веревки из него вить — Ульянов оказался кремнем, твердыней, человеком системы, последовательности, убеждений, дела. Борьба шла за сердца, за доверие крестьян, чувашей в особенности. За деньги, за средства на народное образование, на строительство школ, оборудование, мебель, которых ни правительство, ни земство не давали. За настоящего народного учителя.
М. Шагинян далека от мысли «модернизировать» этот характер, улучшать его, делать из Ильи Николаевича Ульянова единомышленника революционных демократов — Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Она неоднократно подчеркивает, что Илья Николаевич не был революционером. Он был «мирным тружеником». Человеком глубоко и искренне верующим. Но этот «вечный труженик», справедливо пишет М. Шагинян, был «плоть от плоти судьбы народной». Прежде всего по рождению, по биографии своей: до конца дней своих помнил он сухие, старые пальцы отца, наколотые портняжной иглой, пальцы астраханского портного, который только к шестидесяти годам выбился из нищеты.
Но не только по рождению Илья Николаевич был плоть от плоти судьбы народной. Он принадлежал ей большой душой, израненной совестью своей. Он был подлинным русским интеллигентом. Само слово «интеллигенция» возникло в России и вошло в английский, французский словари как калька с русского. Не образовательный ценз и не мера интеллектуальности — свойства необходимые, но недостаточные — определяли сущность того социального явления, которое называлось русской демократической интеллигенцией. Главным здесь были качества нравственные, качества духовности, одухотворенности, проистекающие из чувства кровной сопричастности к жизни и судьбе народа, подвижнического служения ему.
Образование, наука, знание в глазах лучших представителей разночинной интеллигенции, потом и трудом приобщавшихся к этим плодам цивилизации, были не самоцелью, но условием гражданского,
нравственного развития личности, не средством корысти и эгоизма, но возможностью сторицей вернуть долг народу, бескорыстно служить ему. Интеллигентом человек становился по мере того, как под влиянием знаний, образования и воздействия жизни в нем формировалось гражданское самосознание, пробуждалась гражданская совесть.
Книги М. Шагинян — не хроники семейной жизни Ульяновых. Это хроники социальные, исторические. Причем социальная, общественная, гражданская атмосфера жизни России 60 — 70-х гг. отнюдь не исторический фон, но та органическая, естественная среда, тот живительный воздух эпохи, в котором формировался характер отца Ленина. С первых страниц «Семьи Ульяновых» читатель погружается в пульсирующее время 60-х гг. XIX в. Крестьянское восстание в Бездне, волнения в Пензенской губернии, охваченное заревами бунтов Поволжье, равно как проповеди Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Писарева, могучими токами пронизывают жизнь Пензенского дворянского института, где преподает физику Илья Николаевич Ульянов.
Смерть Добролюбова, которая «потрясла Илью Николаевича», арест Чернышевского и прощание с ним, выстрел Каракозова в Александра II, вызвавший волну тяжелой реакции, первые жаркие споры будущих народников на пороге 1873 г., перед первым «хождением в народ», — все это присутствует в романе не как инородное тело, нет!
Это не значит, что Илья Николаевич Ульянов сердцем и умом принимал революционный путь преобразования действительности, на который стремились направить Россию публицисты «Современника». Он брал в «Современнике» то, что было близко ему. «Учить, учить надо, идти с букварем к народу... У Добролюбова то и хорошо, что он просветитель
народа...» — так откладывались в сознании Ильи Николаевича выступления «Современника».
Чернышевский, Добролюбов, Писарев, публицисты-демократы 60-х гг. воспитывали революционно мыслящих людей. Их страстная проповедь вкупе с могущественным гласом русской литературы нравственно сформировала целый культурный слой разночинной, демократической, просветительной интеллигенции России второй половины XIX в., той самой интеллигенции, к которой принадлежал и Илья Николаевич Ульянов. Именно их усилиями «по всей стране поднималась волна интереса к народу», святого, подвижнического отношения к нему. Они сделали демократическое миросозерцание, демократическую нравственность наиболее авторитетными, преобладающими в обществе. И хотя демократически настроенные интеллигенты тех лет по-разному понимали свой долг перед народом — одни стремились просветить народ, другие шли в народ, чтобы готовить его к революции, третьи проповедовали непременно взрыв, восстание, полагая, что в народе уже все назрело для этого, — при всех этих различиях они были «одинаковы в чувстве долга перед народом». В том самом чувстве, которое и составляло нравственную основу, было истоком высокой духовности передовой русской интеллигенции.
Как видите, романы М. Шагинян по смыслу и значению шире их темы. Задачей автора было выявить органическую преемственность эпохи Ленина делу великих предшественников, вождей и наставников передовой русской интеллигенции прошлого века, глубинные народные, демократические корни Ленина в России.
Сам Ленин свидетельствовал, что до знакомства с сочинениями Маркса, Энгельса, Плеханова решающее влияние имел на него Чернышевский, а началось оно с работы «Что делать?». «Величайшая заслуга Чернышевского в том, — говорил Ильич, — что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления».
Книги М. Шагинян художественной правдой убеждают нас в органичности и закономерности революции и Ленина для России. Главной задачей писательницы — этому посвящено и документальное постижение ею характера Ильи Николаевича Ульянова, и художественное воссоздание облика русской демократической интеллигенции, всей духовной атмосферы, ее формировавшей, — было исследовать нравственные корни, нравственные предпосылки Ленина и ленинизма.
Задачу эту М. Шагинян стремилась разрешить в полном соответствии с духом ленинского творчества и, в частности, с ленинским отношением к культурным и нравственным ценностям, к демократическому и просветительному наследству, с его глубоким, выношенным уважением к «таким предшественникам русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов», с его мыслью о «всемирном значении» русской литературы.
«Семья Ульяновых» и «Первая Всероссийская» тугими, незримыми нитями связаны с последующими работами М. Шагинян, посвященными уже непосредственно Ленину: « Воспитание коммуниста», «По следам Ильича», «В Библиотеке Британского музея», «Рождество в Сорренто». Эти документальные очерки составили книгу — «Четыре урока у Ленина».
В своих работах, посвященных непосредственно Ленину, М. Шагинян полностью отказалась от беллетризации. Ленина, этого «величайшего человека эпохи», которого она на всю жизнь заключила «в сердце и разум», писательница «никогда, ни разу в жизни не видела». Она шла к постижению Ленина частично «по его следам», следам его пребывания в Италии или в Лондоне, но главное — через написанное им и о нем или же через взамоотношения Ленина с другими людьми, например с Горьким (очерк «Рождество в Сорренто»). Работы М. Шагинян о Ленине — удивительный сплав очерка, отмеченного присущей писательнице зоркостью глаза, и размышлений о Ленине, о жизни, о себе; это не столько пластическое воспроизведение облика Ленина, сколько лирическое, философское, публицистическое осмысление его, осмысление на взрывных, подчас совершенно неожиданных ассоциативных связях, где стержнем (или осью) сидит человеческое «я» писательницы.
Книга М. Шагинян родственна по духу и жанру повести В. Катаева «Маленькая железная дверь в стене», — правда, у Катаева ярче присутствует изобразительное, а у М. Шагинян мыслительное начало.
«Тема Ленина огромна, необъятна, и эта книга не исторический очерк, не роман, даже не рассказ. Это размышления, страницы путевых тетрадей, воспоминания. Точнее всего, лирический дневник, не больше. Но и не меньше», — определял В. Катаев своеобразный жанр книги, где личность самого писателя, равно как и его ощущение «Ленин — мой современник», также является стержнем (или осью) повествования.
В. Катаев. «Маленькая железная дверь в стене».
Художник Б. Диодоров
И лирический дневник В. Катаева, и лирический дневник М. Шагинян возникли в результате путешествий по ленинским местам: если В. Катаев прослеживает возможный путь Ленина с улицы Мари Роз до Национальной библиотеки в Париже, то М. Шагинян идет по стопам Ленина с улицы, где он жил, до Британского музея в Лондоне. В. Катаев отправляется вслед за Лениным в партийную школу Лонжюмо и в горьковские места на Капри, М. Шагинян едет в Италию или на побережье Франции, чтобы разыскать домик, где летом 1910 г. отдыхал Ленин. Разнятся маршруты. Разнится жизненный опыт писателей, их творческая индивидуальность. И это главное: постижение Ленина, казалось бы, на одном пути ведут две очень разные, своеобразные, масштабные писательские личности. Вот почему здесь нет повторения, но присутствует родственность. Родственность лиризма, публицистичности, философичности, ярко выраженного личного начала в постижении ленинской темы. Родственность «ключа» в подходе к ленинской теме: любовь к Ленину и соразмерная ей ответственность.
Каждый большой, подлинный писатель, приступая к теме о Ленине, стремится освободиться от штампов, трафаретов мышления, чтобы с максимумом зоркости и приближения к истине увидеть своего, «живого» Ленина.
У М. Шагинян также свой Ленин. Ее притягивает в первую очередь личность Ленина, духовный масштаб этой гигантской личности и ее нравственная суть. Писательница видит, ощущает теплоту личности Ильича, его человечность и доброту в специфически ленинских качествах. Это активная человечность и доброта, а еще точнее — социально активная человечность и доброта.
«Тут больше, чем обыкновенная старая доброта, — писала она в очерке «Воспитание коммуниста». — И ответная любовь людей к Ленину неизмеримо больше простой ответной любви за простую, обыкновенную доброту».
Любовь к людям! Чувство, обращенное в действие, в революционную борьбу во имя счастья народа. Такова основа ленинской нравственности. Это нравственность в высшем, истинно человеческом, гражданском смысле. Ей присущи принципиально новые качества: результативность, действенность,
полная уверенность в скорой победе, научные методы и пути борьбы. «...Я не могу представить его себе без этой прекрасной мечты о будущем счастье всех людей, о светлой, радостной жизни...» — писал о руководящем нравственном чувстве Ленина М. Горький.
Эти горьковские строки из статьи «Владимир Ильич Ленин», опубликованной в журнале «Коммунистический Интернационал» в 1920 г., занимают в очерке М. Шагинян особое, ключевое место. Дело в том, что опубликованная при жизни Ленина, человека предельной скромности, статья эта вызвала гнев Ильича и даже решение ЦК, указывающее на неуместность подобных статей и запрещающее впредь помещать их в журнале. А за три недели до смерти Ильич, писала Н. К. Крупская М. Горькому, «попросил перечесть ему эту статью. Когда я читала ему ее, он слушал с глубоким вниманием...». Шесть лет спустя Крупская в письме Горькому вновь вспоминала о том, как вслух читала Ленину эту горьковскую статью: «Стоит у меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал».
«Почему Ленин в тягостные дни болезни, когда он уже ни говорить, ни читать не мог, захотел прослушать давным-давно знакомую, порядком обозлившую его статью старого друга?» — размышляет М. Шагинян.
Заглянуть в тот миг в его душу нельзя, говорит писательница, но ей кажется, она уверена, что это одно из последних желаний Ленина было связано с потребностью оглянуться на себя ‘самого, задуматься о своем прошлом и о себе как о человеке, мыслившем, боровшемся, страдавшем, любившем.
Бережно и вдумчиво исследует она это движение души Ленина и по справедливости сетует, «как до сйх пор относимся мы к человеческому в биографии Ленина, покрыв непроницаемой шторкой то самое «окно в даль», куда перед смертью смотрел уходящий взгляд человека — Ленина».
Полностью принимая горьковскую концепцию нравственной основы ленинского характера: «ос-
новная цель всей жизни Ленина — общечеловеческое благо», — М. Шагинян спорит с мыслью М. Горького об аскетизме Ленина. Ленин ненавидел аскетизм, он страстно любил жизнь, утверждает писательница. Он прошел через благодарную личную любовь. Он даже о К. Марксе и Ф. Энгельсе страстно писал: «Я все еще «влюблен» в Маркса и Энгельса, и никакой хулы на них выносить не могу спокойно».
«Огромная жизнь прожита, но не аскетическая. Жизнь на отказах — да, на «отречении», на том великом отказе от увлекательного, захватывающего, отвлекающего, личного во имя народного счастья, — великого творческого счастья главной любви, главной темы жизни».
Таков единственно возможный ответ о нравственном смысле жизни Ленина. Основа, суть нравственности Ленина вырастала из той подвижнической демократической среды, к которой принадлежал его отец, Илья Николаевич Ульянов.
Отрицая нравственность, взятую вне человеческого общества, Ленин говорил на III Всероссийском съезде комсомола: «...нравственность — это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое общество коммунистов». И далее: «В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма».
В этих чеканных формулировках вмещен и осмыслен весь нравственный, духовный опыт русской революции, для которой нравственность начиналась не с прописей и заповедей, но с подвижнического служения личности общечеловеческому благу, благу трудящегося народа. Только это и делало человека высокодуховной, истинно нравственной личностью. А поскольку история неопровержимо отождествила понятие общечеловеческого блага — цели и смысла жизни нравственной личности — с реальным гуманизмом, т. е. коммунизмом, нравственным человеком, по убеждению Ленина, может быть только тот, кто смысл собственной жизни видит в «борьбе за укрепление и завершение коммунизма».
Ленинское понимание нравственности было выстрадано прежде всего на его собственном огромном опыте, опыте борьбы его партии. Но не только. Оно было выстрадано опытом всей русской революции, начиная с Радищева, декабристов и Герцена, оно органично и естественно росло из жизни прошлой и настоящей.
Постигая духовный облик Ленина, М. Шагинян это осознает вполне: невозможно изолировать его от истории, от предшествующей работы человеческого духа, высшей точкой развития которого явился марксизм.
Масштаб ленинского духа определялся незаурядными качествами его гражданской совести и интеллекта, тем, что он был величайший революционер, посвятивший всего себя человеческому благу, и одновременно — величайший мыслитель.
«Ленин был великим диалектиком, ненавидевшим все стоячее, и особенно остановившееся, обезжизнен-ное слово», — пишет М. Шагинян.
В очерке «В Библиотеке Британского музея» М. Шагинян вводит читателя в лабораторию ленинского духа, стремится постичь отношение Ленина к разуму, к знанию, к интеллектуальным ценностям.
«Кто хочет хорошо понять человека Ленина, вжиться в его характер, тому не миновать глубокого раздумья о роли библиотеки в сложной ленинской жизни», — замечает писательница.
В том, как читал Ленин книги, М. Шагинян видит проявление чего-то более общего: глубоко уважительного отношения Ильича к «тысячелетиям человеческой мысли», к культуре, знанию, к духовным — художественным и интеллектуальным — ценностям.
Эта мысль резко прочерчена ею в документальной лирической повести «Рождество в Сорренто». В этой повести, являющейся сплавом публицистических раздумий, научного исследования и лирического дневника, писательница стремится постичь сложность драматических и высоких взаимоотношений Максима Горького и Владимира Ильича. Она рассказывает о предсмертной «встрече памятью» этих двух великих людей, — «встрече и в самом деле... удивительной». Потому что не только Ленин перед смертью обратился мыслью к Горькому — помните строки Крупской: «...слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал...»? — но и Горький, по свидетельству лечившего его врача Сперанского, перед самой смертью «несколько раз вспоминал Ленина». Писательница ничего не утаивает в трудной дружбе Ленина и Горького: ни ошибок писателя,.не раз оказывавшегося в стане противников Ленина, а в минуту усталости и раздражения даже заявившего М. Шагинян: «Я не марксист»; ни суровой, бескомпромиссной критики Лениным непоследовательности Горького.
«Но, ругаясь бешено, во всю мощь своей кипучей натуры, Ленин никогда не поднимал руку на Горького, на свою любовь к Горькому», — пишет М. Шагинян.
«За что Ленин любил Горького?» — задается вопросом писательница. И отвечает: «...за то любил он Горького, и в этом глубочайшая разгадка их взаимоотношений, их дружбы, что он был ему жизненно нужен. Ошибутся те, кто думает, что в своей с ним переписке один только Ленин учил Горького и был односторонне нужен Горькому. Вчитавшись в каждое слово этой переписки, начинаешь чувствовать, каким необходимым был мятущийся, отступающий, упрямый, впечатлительный, яркий Горький для Ильича, обтачивавшего свои мысли об эту дружбу, об ответы, казалось бы, такого несхожего, разного, чуждого человека, — политику нужен художник, как воздух, как хлеб, как правой ноге нужна левая...»
Очень глубокое наблюдение! За ним — принципиальное отношение Ленина к литературе, к художественным ценностям, которые должны, по его убеждению, принадлежать народу, «уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс», «объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их», «пробуждать в них художников и развивать их».
Такой взгляд на литературу и искусство, на их великую роль в созидании нового общества органичен для Ленина с его глубоким и всеобъемлющим уважением к тысячелетней работе человеческого духа, таланта, знания, ума. Уважением, выраженным в Чеканно ясных словах: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».
Отвечая на вопрос о задачах молодежи в первые революционные годы, Ленин говорил, что ответ «можно было бы выразить одним словом: задача состоит в том, чтобы учиться».
Еще не отгремели залпы гражданской войны, разруха, голод и нищета терзали страну, когда с трибуны III съезда комсомола прозвучал этот пламенный призыв к молодежи: «Учиться!» Его речь была не только непреходящим напутствием молодежи, но и ответом тем псевдореволюционерам мелкобуржуазного толка, которые революционную, пролетарскую культуру сектантски противопоставляли духовным завоеваниям прошлого. Отстаивая все «ценное в более чем двухтысячелетием развитии человеческой мысли и культуры», Ленин утверждал, что социалистическому обществу нужна «не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры».
Эта непримиримость к мещанскому нигилизму в отношении культуры, интеллигенции, науки, знания, в отношении духовных, нравственных и интеллектуальных ценностей была не просто продуманной и последовательной политикой, но производным от личности Ильича. Гигантский духовный масштаб его личности питался не только его подвижничеством во имя революции, во имя человеческого блага, но и огромным объемом знаний, уровнем его интеллекта и энциклопедической образованностью. В этом он также был сыном своего времени, наследником и продолжателем высоких традиций передовой русской интеллигенции, демократической русской культуры, великого нашего просветительства.
Логика мысли художника и исследователя ведет М. Шагинян от читального зала Библиотеки Британского музея, где долгие месяцы упорно трудился Ленин, к его первым политическим боям за революционную марксистскую партию в России, и прежде всего к его бою с «экономистами».
Анализ борьбы Ленина с «экономистами» для М. Шагинян не самоцель. «Особое, не всегда и не всем заметное качество произведений Ленина, — проницательно замечает она, — это, как я считаю, диалектическое сочетание знака времени и места, т. е. фактора сугубо исторического, который нельзя отнести или применить ни к какому другому времени и месту без искажения его смысла, и фактора абсолютно истинного, предельно правильного, который будет истинным и правильным в применении к любому времени и месту».
Писательница обращается к борьбе Ленина с «экономизмом», к его работе «Что делать?» ради второго: ее интересует в данном случае не столько решение Лениным практических революционных задач, сколько «самый ход... и особенности его борьбы за теорию», т. е. то, что «будет истинным и правильным в применении к любому времени и месту».
М. Шагинян справедливо видит в этом необходимость остро современную. Вспоминая «священное» для нее время своей юности, 20-е гг., годы «глубокого увлечения» молодежи и. людей ее возраста «теорией», она пишет: «Красота и увлекательность теории была огнем, пожиравшим наши сердца в вузах, на рабфаках, в специальных школах, какой была, например, Плановая академия, куда я поступила, чтоб переучиваться. Изумительная, музыкальная прелесть второго тома «Капитала» Маркса поглощала меня вечерами, как никакое другое наслаждение от искусства. Диалектический материализм в «обращении капитала» воспринимался как художественный, как фуга Ба-
ха... Больно и жалко видеть, как далеки многие из современных молодых людей от этого пьянящего увлечения человеческой мыслью!»
Писательница винит в этом не только их, она считает, что «виноваты в этом отчасти мы сами. Научить человечество мыслить по-новому, раскрыть перед ним все безмерное богатство идей Ленина — дело великого умения и великого горения. Есть времена, когда теория, всякая теория, мертвеет, слеживается в догму, превращается из яркого, пронизанного жизнью учения в сухой и черствый катехизис; есть времена, когда начетническое, неумное и равнодушное, слепое начальственное отношение к теории как к оружию для тормоза мысли вызывает резкую ответную реакцию у народа и особенно у молодежи — против всякой теории, за стихийное «нутро». А у нас в России соблазны «нутра» всегда были особенно сильны».
Писательница кропотливо исследует, сколь последовательно боролся за живую, ищущую человеческую мысль, как воспитывал уважение к книге, к чтению, к теоретическому знанию Ленин.
В полемике с апологетами нутра и стихийности, напоминает М. Шагинян, он не уставал повторять, что и теоретическое рождение социализма возникло отнюдь не из стихийности революционного движения: социализм привнесен в это движение извне, и не самими рабочими, а мыслящей и даже — Ленин не убоялся сказать — «буржуазной» интеллигенцией, поскольку никакой другой тогда еще не существовало.
«Учение же социализма, — писал он, — выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного социализма К. Маркс и Ф. Энгельс принадлежали и сами по своему социальному положению к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционносоциалистической интеллигенции».
Глубокое понимание этой закономерности и позволило М. Шагинян в ее романах-хрониках, в ее очерковой прозе последних лет правдиво и доказательно сказать об исторической почве, на которой возрос гений Ленина, а главное — наметить реальные контуры духовных масштабов величественной личности Ильича.
Вопрошая прошлое...
1. В современной советской литературе развиваются и крепнут традиции историко-революционной прозы, раскрывающей романтику и благородство революционных идеалов, воспитывающей уважение к гражданским убеждениям, формирующей миросозерцание, идейное отношение к жизни, коммунистический взгляд на мир.
«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем», — писал В. Г. Белинский. Забота об истинных ценностях отечественной культуры, о нравственной, облагораживающей, воспитательной роли родной истории, об уважении к земле своих предков всегда имела и имеет первостепенное значение для литературы, для всей духовной жизни общества.
На развороте: А. и С. Ткачевы «В годы коллективизации» (фрагмент)
Внимание и бережность ко всем истинным ценностям минувшего завещал нам Ленин, отстоявший принцип преемственности всего лучшего в мировой и национальной культуре в борьбе с нигилизмом пролеткультовских и прочих «ультрареволюционных», а на самом деле — мелкобуржуазных теоретиков.
Но что считать лучшим, высоким и истинным в наших национальных традициях? В поисках ответа на этот жизненный и важный вопрос нам следует руководствоваться ленинским принципом историзма: рассматривать каждое явление прошлого только исторически и только в связи с другими явлениями, т. е. принципом социально-классового, историко-диалектического подхода к прошлому.
Уважение к истории не означает слепой любви к минувшему. Оно с необходимостью включает в себя еще и уважительное отношение к правде, к истине исторического процесса, предполагает то самое качество, которое в высшей степени всегда было присуще нашей науке, нашей литературе, нашему миросозерцанию в целом и которое именуется историзмом.
Историзм современной литературы проявляется не только, а может быть, и не столько в теоретических, критических спорах об истории и народности, сколько в непосредственном творческом процессе, в книгах, в устремленности нащей прозы к эпическому постижению судеб народа, совершившего революцию и построившего социализм.
Пожалуй, с самой большой силой и убедительностью зрелое, развитое чувство истории и народности в нашей литературе проявилось в книгах о революции и Великой Отечественной войне. За этим — потребность глубоко современная и гуманистическая: вглядеться в духовные и нравственные ценности советского человека и общества, формировавшиеся исторически и с особой силой проявившие себя в часы крайнего, смертного испытания.
Эта потребность выражает духовные нужды нашего времени, когда столь явственно обозначилось стремление людей прикоснуться к первоосновам, осмыслить жизнь и свое место в ней, соотнести современную нам действительность с идеалами дедов и отцов, понять исторические судьбы народа в соотношении с личной судьбой и судьбой человечества. Этим, думается, продиктованы особая роль и значение в нашей литературе социального романа. Заметный рост интереса к жанрам романно-эпическим, мне представляется, неразрывно связан с тем углублением историзма и народности, которое характерно для советской литературы последних лет.
2. Роман Г. Маркова «Сибирь» переносит нас в предреволюционную эпоху, на просторы таежной Сибири, в самые глубины народной и в первую очередь крестьянской жизни. Автор романов «Строго-вы», «Соль земли», «Отец и сын», посвященных сибирскому краю, где он родился и вырос, Г. Марков все дальше расширяет сферу художнического исследования родной земли.
«Российское могущество прирастать будет Сибирью». Только гений мог сказать слова, мудрость которых рассчитана на века... Улавливаю в сих словах о Сибири прежде всего патриотическую гордость Ломоносова за свой народ... Все больше и больше задумываюсь: кто, какой общественный слой в состоянии поднять производительные силы Сибири, вдохнуть в ее просторы жизнь и действие, на деле осуществить гениальный завет Михайлы Ломоносова?!» — размышляет в романе «Сибирь» русский ученый-демократ Венедикт Петрович Лихачев, отдавший жизнь исследованию этого края.
Убедителен вывод, к которому приходит в романе этот человек, повторивший в своем духовном развитии путь И. Мечникова и К. Тимирязева: «Мечусь и терзаюсь в раздумьях и, как ни прикидываю, вижу одну лишь силу, способную взять на себя титаническую работу, — партию эсдеков — большевиков. Есть у нее для этого и ум, и отвага, и смелость, и корни ее уходят глубоко в народ, и потому за ней будущее».
Вывод этот подтвержден не только действием романа, но и всем последующим развитием жизни, и в нем — глубокая современность книги, посвященной, казалось бы, столь далеким предреволюционным временам, поре 1916 — 1917 гг. Современность «Сибири» Г. Маркова прежде всего — в масштабности и глубине писательской мысли о судьбах этого легендарного края и его трудящихся людей в канун Великого Октября.
Сибирь, утверждает своим романом Г. Марков, ее просторы и масштабы, ее прошлое, настоящее и будущее заключают в себе такие возможности и человеческие деяния, такие уникальные человеческие характеры и могучие человеческие страсти, что литература при всем том, что уже ею сделано, может считать себя в огромном долгу перед этой землей. Его собственный роман, на взгляд писателя, лишь одна из первых сегодняшних попыток нашей литературы вернуть народу этот долг.
Следует отдать должное Г. Маркову: в предложенном им художественном решении поставленных проблем он счастливо избежал многих опасностей, которые подстерегают художника на этом пути. Речь идет прежде всего о ложно понимаемой романтизации Сибири, когда на первый план выходит тема русского Клондайка, оборачивающаяся живописанием не столько социальных, сколько биологических страстей и «нутряных» характеров, поставленных в исключительные, будто бы чисто «сибирские» обстоятельства.
Г. Марков — глубокий знаток и пристальный исследователь веками складывавшегося колоритнейшего уклада сибирской народной жизни. При этом он умеет передать не только исторически обусловленное своеобразие этой и в самом деле совершенно особенной и неповторимой жизни, но и глубочайшие социальные контрасты и противоречия ее.
Страницы, рисующие жизнь и быт старой сибирской деревни, ее людей, могучие кержацкие характеры, — лучшие в книге. Писатель знает эту жизнь, ее труд и быт биографически.
Тема природы, ее богатств, ее значения для человека и человечества звучит в романе исключительно современно. Богатейшая сибирская природа в представлении писателя фактор не только экономический, обусловливающий могущество страны, но и нравственный, очеловечивающий людские души. Хозяйское, рачительное отношение к природе, столь характерное в романе для охотника Степана Лукьянова или поселенца Федота Федотовича, с одной стороны, для профессора Лихачева и его племянника, ссыльного большевика Ивана Акимова, с другой, осмысляется автором как естественное проявление трудовой нравственности, неотъемлемой от души народной. Оно самым решительным образом противостоит тому хищничеству по отношению к природе и человеку, которое свойственно миру собственничества, представленному в романе в первую очередь семейством Епифана Криворуко-ва, беззастенчиво рвущимся к богатству, даже если это богатство добыто на костях людей.
Роман «Сибирь» принципиально важен для современности авторским убеждением в том, что коммунистическая мораль и нравственность, пролетарская культура в целом, говоря ленинскими словами, «не является выскочившей неизвестно откуда», что коммунисты пришли в мир как достойные наследники и продолжатели тех гуманистических начал в отношении к природе и человеку, которые были выработаны трудом и борьбой народных масс на протяжении тысячелетий.
Гуманизм и человечность трудовой народной нравственности олицетворены в романе в таких характерах, как старая Мамика, сохранившая в своей старости ясный ум и чистую совесть, правившая непререкаемый нравственный суд над жителями своего села. «Человека бедного и униженного она всегда защитит», — говорит охотник Лукьянов; потому-то и недолюбливают, но одновременно и боятся Ма-мику лукьяновские богачи. В центре романа — такие ясные и чистые по своим нравственным устоям и потому могучие и сильные народные характеры, как охотник Степан Лукьянов, натура талантливая и одухотворенная, социально активная, естественно и органично тянувшаяся к культуре, знаниям, что и определяет меру его неукоснительного авторитета среди жителей Лукьяновки.
Сила таких характеров, как Степан Лукьянов или старая Мамика, нравственная. Характеры эти воплощают в представлении Г. Маркова душу трудового народа, его разум, а не предрассудок. За ними — гуманистические, истинно человеческие ценности жизни, а потому и будущее.
В романе «Сибирь», духом своим спорящим с сентиментально-романтическим флером в отношении к старой сибирской деревне, правдиво показана вся сложность процессов классовой дифференциации жизни той поры. Такие персонажи, как Епи-фан Криворуков или староста Филимон Селезнев, подпевающий лукьяновским богатеям, — это ведь характеры также исконно сибирские, но не им при-
надлежит будущее. В романе выделяется силой и страстностью первая часть второй книги — «Поля», — рассказывающая о драматической судьбе дочери фельдшера Горбякова, вышедшей замуж за сына Епифана Криворукова, о ее поездке с тестем в Васюганскую тайгу, куда тот направился «деньгу загребать». Поездка эта, характеры упырей-скопцов, безжалостно обманывающих остяков, испепеленная наживой душа Епифана обрисованы в романе мастерски. Перед внутренним взором Поли открывается такое человеческое падение, такая бессовестность, что она приходит к бесповоротному решению — порвать с «криворуковским миром», «миром несправедливости и обмана».
Так обозначается в романе водораздел борьбы — не только классовой, но и духовной, нравственной, гуманистической. Водораздел, по одну сторону которого — мир «криворуковский», мир стяжательства и хищничества, жестокости, бессовестности и несправедливости, а по другую — мир правды и добра, труда и борьбы, истины и справедливости. Внутренняя, художественно доказанная в романе закономерность состоит в том, что этот мир, мир истинной человечности, объединяет в себе лучшее и человечное: старую Мамику и Степана Лукьянова, Полю и юную революционерку Катю Ксенофонтову, фельдшера-большевика Горбякова и бегущего из ссылки коммуниста Ивана Акимова и его учителя, крупнейшего исследователя Сибири профессора Лихачева.
В полном соответствии с правдой жизни писатель показывает, что самые яркие и самые совестливые, богатые душой и сильные умом личности в народе тянутся к большевикам, находятся в их рядах или же к ним идут. Ибо мировоззрение ленинской партии выражает самые заветные чаяния трудящегося народа, самые светлые его черты, оно аккумулирует социальный, нравственный, духовный опыт народных масс и поэтому близко, понятно, дорого им.
Гуманистическая суть этих идеалов, говорит своим романом Г. Марков, убеждала умы и сердца и таких честных русских интеллигентов, как профессор Лихачев. «Не вздумай, любезный отрок Ванька, вообразить, — пишет он своему племяннику Ивану Акимову, — что ты обратил меня в свою веру. Дошел до нее сам, дотумкал собственным умом». Собственным умом понял подлинный русский интеллигент, профессор Лихачев, что без революции «родная земля не очистится от скверны», что «иначе бесталанные люди — всякого рода мерзавцы и самозванцы — будут продолжать топтать мой народ, изгиляться над его великой и прекрасной душой, взнуздывать его в пору благородных порывов, глушить его высокие стремления».
Роман Г. Маркова «Сибирь» — глубоко патриотическая книга. И патриотизм ее — в утверждении социальной и нравственной неизбежности революции на просторах России, в утверждении социализма как той главной и определяющей силы, которая на деле осуществляет гениальный завет Ми-хайлы Ломоносова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью».
Есть глубокий смысл в том, что по прошествии десятилетий советская литература снова и снова всматривается в грозовую романтику революционных лет. Она показывает, на какие нравственные вершины подняла революция внешне неприметных, рядовых трудящихся людей, таких, как Прав-доха — полуграмотный деревенский мальчонка, один из многочисленных селькоров «Крестьянской газеты» (рассказ А. Глебова «Правдоха»), работник угрозыска комсомолец Венька Малышев (повесть П. Нилина «Жестокость»), вчерашний крас-
ноармеец, учитель Дюйшен (повесть Ч. Айтматова «Первый учитель»).
Молодых читателей сегодня не могут не интересовать книги, посвященные началу нашего революционного пути, раскрывающие нравственную красоту идеалов революции, их гуманизм и одухотворенность.
Вспомним в этой связи такие выдающиеся классические произведения советской литературы, как «Чапаев» Д. Фурманова и «Железный поток» А. Серафимовича, «Как закалялась сталь» Н. Островского и «Поднятая целина» М. Шолохова. Герои этих книг вошли в литературу из жизни и вернулись в жизнь как пример одухотворенности. Высота духа этих героев предопределена их идейностью и гражданственностью. Смыслом жизни для них были самоотверженность и борьба, цель которой — счастье всех простых людей на земле.
В пламени революции, в боях гражданской войны, в труде и созидании первых пятилеток, в схватке с фашизмом ковались характеры новых людей, революционеров, подвижников. В открытом классовом конфликте с миром эксплуатации, с варварством фашизма открывался людям во всей своей одухотворенности этот тип подлинно человеческого характера, аккумулировавший в себе нравственные и идейные ценности социализма. Это был героический характер, выражающий самые прогрессивные, передовые тенденции времени, именно потому он стал ведущим героем нашей литературы.
Современная советская проза продолжает исследование героических характеров, рождавшихся в пламени революции, в сражениях Отечественной войны.
Ярко представлена историко-революционная тема последнего времени романом С. Залыгина «Соленая Падь». Роман этот, посвященный гражданской войне в Сибири, не просто «возвращение к теме». Продолжая своих предшественников, С. Залыгин с позиций сегодняшнего дня исследует и осмысляет революционную эпоху, под современным углом зрения художнически осваивает новые, неразведанные пласты жизни.
Внимание писателя приковано к судьбам крестьянства в революции. Крестьянская война с Колчаком в Сибири, жизнь крестьянской партизанской республики в селе Соленая Падь и окружающих его деревнях — такова сюжетная основа романа.
Написанию романа предшествовал длительный, кропотливый труд исследователя-историка. С. Залыгин не побоялся насытить повествование огромным количеством подлинных документов из времен гражданской войны с Колчаком на просторах Сибири, страницами цитировал подлинники всевозможных воззваний, донесений, манифестов и листовок той поры.
Пафосом книги, ее художественной идеей, отнюдь не заданной, но выпытанной у жизни, естественно выросшей из материала и воплощенной в характеры, в ткань повествования, является мысль, знание, убеждение автора в том, что Октябрьская революция и Советская власть были единственно возможной исторической дорогой и судьбой для самых глубинных масс трудящихся, в данном случае — сибирского крестьянства. Что революционная, ленинская идея не была чем-то внешним, извне навязанным исконной, народной жизни, но, наоборот, встречно зрела в глубинах действительности и обернулась в революционные годы всенародным порывом в будущее.
В постижении народного характера Октябрьской
С. Залыгин. «Соленая Падь».
Художник Б. Шукаев
социалистической революции, гражданского характера гражданской войны — пафос, художественный смысл романа.
Вот почему так важны для Залыгина исторические факты и самые разнообразные документы, в которых и сегодня обнаженно ощущается обжигающий напор революционной стихии, порыв, мощь и сила всесокрушающей энергии поднимающихся на борьбу масс.
Тайна романа, а точнее, великая тайна времени в том, что все эти воззвания и прокламации, донесения и приказы по Объединенной Крестьянской Красной Армии в контексте повествования вдруг начинают звучать как художественные документы эпохи. Настолько высок был творческий порыв масс, их ликующее революционное вдохновение, что сквозь корявые, неуклюжие строки доподлинных воззваний, приказов и манифестов, сочинявшихся полуграмотными крестьянами, вчерашними писарями, учителями и прочими крестьянскими интеллигентами, и сегодня с органной силой звучит музыка революции, могучая поэзия народной жизни той очистительной, революционной поры. Это тот камертон, по которому талантливый художник настроил весь роман, сумев не только в полнокровных характерах, эпических сценах и картинах народной жизни, но и в языке произведения, в речи действующих лиц, в общей эмоциональной атмосфере, неуловимо господствующей в произведении и сообщающей ему редкую своеобычность, передать дух, музыку, поэзию того времени.
Со страниц произведения встает облик революционного народа, образ времени, ощущаемый С. Залыгиным с большой художественной чуткостью и полнотой. От документов и фактов истории, от вполне реальных жизненных прототипов, от исторически достоверной, неопровержимой конкретики шел С. Залыгин к художественному обобщению, к ярким, жизненным характерам своих героев, к его, залыгин-ской, партизанской, крестьянской республике Соленая Падь. Он шел путем подлинного художника, стремясь сохранить и воплотить в слове историческую правду времени во всем ее аромате, буйном колорите красок и одновременно — во всех драматических, а порой и трагических противоречиях.
И пусть на карте Сибири не существует села с названием Соленая Падь, пусть в перечне героев гражданской войны мы не встретим имен главнокомандующего Объединенной Крестьянской Красной Армией Мещерякова, комиссара этой армии, крестьянского интеллигента большевика Петровича, других народных вожаков — будь то Кондратьев или Довгаль, — их имена, как и судьба их крестьянской республики, станут отныне достоянием исто-, рии, памяти людской. Ибо такова сила правдивого художественного слова: в этих типических характерах и столь же типических обстоятельствах художник заново воссоздал то, что было, — тот трудный исторический выбор, который сделало русское крестьянство в гражданскую войну. Художник не просто запечатлел поворот крестьянской массы к революции, к большевикам, решивший, по словам Ленина, судьбу Советской власти в нашей стране. Он попытался дать ответ, почему это неминуемо должно было произойти.
Ответ на этот вопрос коренится в конфликте между главкомом Мещеряковым и начальником главного штаба республики Соленая Падь Брусенковым. Истоки этого конфликта — в ограниченности, ущербности мелкобуржуазной революционности, которую и представляет в романе Брусенков. С. Залыгин исследует антигуманную природу того узколобого мелкобуржуазного революционаризма, который принес столько бед Веньке Малышеву и грозит бедой, недоверием, арестом Ефрему Мещерякову. Иван Брусен-ков искренне предан революции. Но его понимание революционного долга (и в этом проявляется ограниченность мелкобуржуазного сознания) отмечено сектантской узостью и прямолинейным примитивизмом. «Почему это — не можешь ты без врагов, нужны они тебе, как воздух? — спрашивает его Мещеряков. — И что бы ты делал посреди одних только друзей — угадать невозможно!» По сути дела, Бру-сенков с его жестокостью и подозрительностью, с его жаждой власти и нетерпимостью к инакомыслящим, который «и на своих тоже кровавыми глазами глядит», — такой Брусенков отрицает ленинский, гуманистический идеал революции и компрометирует его в глазах народа. Ибо «исстрадался народ за века по человеческому, — размышляет Мещеряков. — Ныне человеческое учуяли, хотим его все больше и больше, все сильнее и сильнее! Ибо народ восстал. Он же за справедливость восстал!» — говорит Брусенкову осужденный им на смерть и освобожденный Мещеряковым крестьянин Власихин.
Потому-то и встают на защиту Советской власти не только мужики, но старики и дети, что она, по словам того же Власихина, «от справедливости происходила», «человеческое» в мир несла. И даже, говорит один из героев романа, «когда бы Советская власть падала под ударом темной силы не только в Сибири, но по всей России, она и тогда восстановилась бы повсюду, потому что люди уже видели ее однажды и поняли ее!». Современность звучания романа С. Залыгина прежде всего в этом — в выявлении высокого гуманизма и человечности идеалов революции и народной войны: «...Она сама по себе чистая и благородная, такой не бывало еще. Она за окончательную справедливость, и не для кого-нибудь, а именно для народа», — снова и снова в споре с Брусенковым и брусенковщиной отстаивает свое понимание революции Мещеряков. Гуманизм и благородство революционной идеи, ее справедливость и человечность воплощены в характере крестьянского главкома Ефрема Мещерякова, в той позиции, которую занимают в споре Мещерякова с Бру-сенковым большевики Петрович, Кондратьев, Довгаль.
Реврлюция и совершилась ради торжества правды и справедливости на земле. Мораль революции — новая мораль времени — наследует и развивает подлинно народную нравственность, противостоящую бесчеловечным нравам собственничества.
«Первый учитель» — назвал одну из своих повестей Чингиз Айтматов. Ее герой — вчерашний красноармеец Дюйшен, в армии научившийся читать и писать, народный учитель из далеких 20-х гг. В потертой солдатской шинели приезжает он в забытый богом киргизский аул. Свой урок учитель Дюйшен начал с того, что показал портрет человека: «Это Ленин».
Подвижническое дело Дюйшена в 20-х гг. не могло быть чистым просветительством. Учить детей грамоте в киргизской глуши — значило бороться за Советскую власть, за утверждение ленинских идей, за новую жизнь.
«Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами аула, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир», — говорит о своем первом учителе знатная женщина Киргизии, академик Алтынай Сулейманова, от лица которой ведется в повести рассказ.
Это была трудная, с риском для жизни борьба. О ней рассказано в книге с такой страстью, с такой правдивостью, с такой художественной достоверностью, что, как это всегда бывает с произведением подлинного искусства, полуграмотный учитель Дюйшен воспринимается не как «придуманный», литературный персонаж, а как реальный, живой человек. Его судьба вызывает боль и радость, его поступки будят чувства, размышления, переживания, думы. Это думы о революционном времени, о его людях. За каждым поступком, за каждым словом Дюй-шена — характер коммуниста-ленинца 20-х гг. Характер, который вобрал в себя многое: идейность и убежденность, беззаветность духа, революционное подвижничество наших отцов.
Романтика революционного характера — это покоряющая ум и сердце людей сила, которая сделала Павку Корчагина и Чапаева, Давыдова и Нагульнова одними из популярнейших героев в современной мировой литературе.
Шолоховский Давыдов и его соратники — Раз-метнов и Нагульнов вошли в сознание миллионов людей как типический характер революционера-ком-муниста. Мировая популярность «Поднятой целины» по истокам своим родственна славе фильмов «Броненосец Потемкин», «Чапаев». В подлинно художественной форме здесь раскрыта самая важная, главенствующая нравственная черта характера коммунистов-ленинцев: красота и обаяние революционной убежденности, коммунистической идейности наших отцов.
«Ты! Вражеский голос! Мне мало крови пустили! ... Но, если понадобится, я за партию... Я за свою партию, за дело рабочих всю кровь отдам! Слышишь ты, кулацкая гадина? Всю, до последней капли», — бросает в напряженной тишине в лицо врагу в «Поднятой целине» Давыдов.
Характер Давыдова в полном смысле слова типический характер, глубоко и полно выражающий
свою эпоху. «Я, товарищи, сам — рабочий Красно-путиловского завода. Меня послала к вам наша Коммунистическая партия и рабочий класс, чтобы помочь вам организовать колхоз и уничтожить кулака как общего нашего кровососа», — представляется Давыдов казакам. И далее в полной драматизма истории борьбы за колхоз в хуторе Гремячий Лог раскрывается героический характер Давыдова как посланца партии, убежденного коммуниста-ленинца.
Он раскрывается в непримиримости Давыдова к врагам и в безмерной любви к людям, к трудовому народу: пусть темному, забитому, не всегда понимающему его. Вспомним сцену, когда женщины безжалостно избивают Давыдова, требуя от него ключей от амбаров с семенным хлебом, а он водит их по селу в почти бессознательном от боли и унижения состоянии, но не отдает ключей.
В этой сцене — весь Давыдов, с его мужеством и любовью к людям, ради счастья которых он готов на всё. И сколько благородства, доброго юмора, понимания людей и жизни сквозило в словах Давыдова, когда он несколько дней спустя на общем собрании, в присутствии краснеющих до слез женщин рассказывал, как его избивали за то, что он хотел сберечь для них же семенной хлеб...
Неуступчивая, бескомпромиссная революционная твердость характера, сочетающаяся с мягкостью, подлинным благородством в отношении к людям, и делает Давыдова рыцарем революции, завоевывающим сердца людей. Бго идеалы, его коммунистические убеждения неотрывны от труда, от его жизни. При всем том это вполне реальный, в живой, сочной и яркой плоти выписанный характер.
Главное, что притягивает к себе в Давыдове, — тот несгибаемый идейный стержень внутри, та романтика и красота революционной убежденности, которая и делает его человеком полета, — человеком, который, по меткому слову деда Аржанова, всю жизнь «вскачь живет». В его поступках ощущается четкая цель, высокий революционный смысл.
Близкой по жизненному материалу, по внутреннему пафосу шолоховской «Поднятой целине» видится мне «Полесская хроника» белорусского писателя И. Мележа, состоящая из двух книг: «Люди на болоте» и «Дыхание грозы».
И. Мележ обратился здесь к эпохе коллективизации, причем он всматривается в это сравнительно недавнее прошлое нашей страны, обогащенный всем историческим опытом последующих десятилетий. И хотя действие в романе происходит в основном в маленькой деревеньке Курени, затерянной в глуши Полесья, судьба героев, белорусских кресть-ян-полещуков, выражает социальные судьбы нашей страны, судьбы деревни, в противоречиях и борьбе прорывавшейся к новой, колхозной, социалистической жизни.
Коллективизация осмысляется в романе как закономерный и неизбежный этап социалистической революции, развитие и углубление ее. Писатель создает типические характеры людей, совершавших эту революцию в деревне, инициаторов коллективизации, крестьян-коммунистов, большевиков — Апей-ки, Миканора и других. Они ведут настоящий классовый бой, хотя этот бой и разворачивается не на полях сражений, а в быту и труде, в душах людей. Им противостоит злобный, опытный и умный враг, многовековой инстинкт собственничества, стяжательства, наживы, персонифицированный в романе в таких выразительных характерах, как Зубрич, как кулак Глушак и его сын Евхим.
Образ Апейки — один из самых впечатляющих образов коммунистов в советской литературе. Его сила — в глубоких и органических связях с народом, он родился в этих глухих местах и всей судьбой своей принадлежит им. И вместе с тем время выковало в нем чувство гражданской, подлинно коммунистической ответственности за судьбы не только своей родной деревни, родных полесских мест, но и за судьбы всех людей. Коммунистические убеждения, к которым подвела Апейку трудовая жизнь, необыкновенно раздвинули его жизненные горизонты, укрупнили его как личность, сделали подлинным вожаком масс.
Именно такие Апейки и были центральными, ведущими фигурами в борьбе за новую жизнь. Писатель правдиво показывает, до какой степени нелегко было Апейке на этом небывалом повороте истории, когда ломался тысячелетний уклад народной жизни, уходило в Лету старое, привычное, ставшее родным, несмотря на всю свою замшелость, старокрестьянское бытие. Но как бы ни было Апейке трудно, «вместе с беспокойством, с вопросами, вставшими перед ним, — пишет Мележ, — неизменно жило в Апейке ощущение большого простора, который начал видеться шире и глубже, который волновал обещанием необыкновенных, чрезвычайных событий... Понимая, что путь непрост и что нелегко будет ему и всем, кто двинулся по этому пути, Апейка в то же время знал, что путь этот единственно верен, что другого нет и не будет, что в труде, хлопотах его родится прекрасное — иная, новая деревня, ее завтрашний день».
Эта вера в будущее, высокая осмысленность существования роднит сближает между собой таких, казалось бы, разных людей, как малограмотный учитель 20-х гг. Дюйшен, или крестьянин-полещук Апейка, или болыневик-путиловец Давыдов, или совсем юный селькор Правдоха из рассказа П. Глебова.
Правдоха пока один в своей глухой, темной, недоброй к новому деревне начала 20-х гг. Он живет в нищей, нетопленной избе вместе с голодной, ворчливой бабкой, но твердо знает, ради чего живет: ради правды на Земле. И прозвище — Правдоха — он получил за свою открытую, воинственную приверженность к правде, за свою готовность постоять за нее.
Он борется за правду самым действенным образом — обращаясь за помощью к Советской власти, в боях за которую сложил голову его отец. Ученическим крупным почерком на грязноватых листках в клетку и в косую Правдоха пишет заметки в газету обо всем, что, с его точки зрения, нарушает правду Советской власти.
Писатель создает трогательный образ юного правдоискателя, подлинного рыцаря правды, как назвала его трагически погибшая учительница. Образ этой учительницы, которая, собственно, и сделала Правдоху таким, незримо присутствует в рассказе. Чистая, как родничок, эта юная подвижница приехала в забытый богом темный уголок с ясной и определенной целью: «Переделать деревню по-ленински!» В ее нравственном облике предельно четко отразилось все самое светлое, что дала людям Октябрьская революция. Лучше всего на свете правда, ясное утро, чистая вода, говорила она Прав дохе.
«У меня душа только тогда спокойна, когда я по правде живу», — говорил Правдоха. Это были не только его убеждения. Такой была его жизнь. Вокруг него клубится ненависть и злоба тех, с кем он, шестнадцатилетний паренек, ведет войну. Силы неравные; против мужественного мальчика сплотились и местное кулачье, и растленные душой руководители волисполкома и сельсовета. По письму Правдохи двое из начальников, погубивших девуш-ку-учительницу, привлечены к ответственности, а третий, главное местное начальство, Борзунов, выгорожен его дружком, следователем, и не только
гуляет на свободе, но буквально царствует в этих местах. Правдоха делает всё, чтобы добиться наказания и этого облеченного властью преступника.
«Я еще с ними повоюю, еще насыплю им булавок в карман, — говорил Правдоха. Его широко расставленные карие глаза сейчас были очень темны и красивы. — И ничего они со мной не сделают, потому, что народ за меня. Боится, запуган, а как что — ко мне. Покойником эта банда меня сделать может, а поддужным не сделает, нет. — Он снова помолчал, внимательно разглядывая пламя лучины. — Может, я и правда на свете не жительник. Кто знает! Ну и пусть. Не тот больше живет, кто дольше прожил». Таков Правдоха.
И хотя вражеский удар камнем в висок настигает его, Правдоха выходит победителем из этой схватки: Борзунов и Мавгура понесли заслуженное наказание. «Страна и партия благодарны ему за бесстрашную борьбу со злом, за то, что он укрепил упавшую было веру в Советскую власть в своем глухом углу», — пишет автор.
Что привлекает нас в Правдохе, делает этого паренька человеком подвига, притягательным примером жизни для многих и многих людей?
Чистота и твердость убеждений, незыблемость веры в ленинскую правду на земле. В его нравственном облике воплотились существеннейшие черты нового человека, сформированного атмосферой Октября. При всей трогательной наивности облика шестнадцатилетнего крестьянского мальчика это подлинно революционный характер, из тех, о которых сказал в свое время поэт:
Гвозди бы делать из этих людей, Крепче бы не было в мире гвоздей.
Людей, подобных Правдохе, воспитали время и героические подвижники его — такие, как его учи-
тельница Елизавета Иннокентьевна Лебедева, как вчерашний красноармеец Дюйшен, они несли людям ясный свет революции.
3. Революция начиналась экспроприацией экспроприаторов. Но она начиналась и борьбой за души людей, и эта борьба часто была трагической.
Мельком, как о чем-то привычном, обыденном, рассказывается в «Жестокости» П. Нилина: «В деревне Сказываевой, что вон еле виднеется у самого края леса, недавно заживо распяли на кресте молоденькую приезжую учительницу. Говорят, она хотела организовать здесь комсомольскую ячейку...»
Об этом факте лютой жестокости узнает во время поездки по уезду работник уголовного розыска Венька Малышев. Он не знает, что жестокость старого мира, цепко охраняющего свое существование, подстерегает и его.
Десятки раз мог погибнуть Малышев в схватке с врагом. Но гибнет он не в открытом бою: он пускает себе пулю в лоб, скошенный из-за угла подлостью, черным предательством.
С большой проникновенностью, напряженной внутренней тревогой написаны в повести страницы о самоубийстве Веньки Малышева, о его похоронах, когда все обыватели города высыпали на улицу, чтобы поглядеть, как хоронят комсомольца, «застрелившегося из-за любви».
Но не из-за любви застрелился Венька Малышев!
Повесть П. Нилина с большой психологической достоверностью раскрывает общую коллизию того времени — борьбу жестокости старого мира и ленинской, революционной человечности.
П. Нилин. «Жестокость».
Художник Ф. Махонин
Добра, правды и совести взыскует герой повести П. Нилина «Жестокость». «Совесть? Что касается совести, как ты ее понимаешь, и всякого правдоискательства, так я это предоставляю разным вульгаризаторам вроде тебя, товарищ Малышев. Меня христианская мораль не интересует», — отвечает ему журналист Яков Узелков. По мнению Узелкова, любовь к людям, доброта, честность, совесть — все это мораль не революционная, но христианская. И комсомолец Малышев, который не может жить бесчестно и поступать против своей совести, «заражен», по мнению Узелкова, «так называемой христианской моралью».
Одним махом зачислил Узелков совесть, честность, правду, доброту в епархию христианской морали. Не задумываясь, подарил эти общечеловеческие моральные нормы отцам благочинным...
А так как человек этот, по свидетельству автора, говорил только «правильные слова» и обычно «от имени высшей силы», произнося могучее слово «мы», многие верили ему. И вместо того чтобы осмыслить эти духовные ценности с революционных позиций и вернуть их по принадлежности трудовому народу, отдавали их на вооружение идейному врагу.
Значение повести П. Нилина «Жестокость» — в утверждении нравственных, духовных завоеваний революции, ее совести, ее гуманности, ее доброты.
Революция не отменила общечеловеческих нравственных норм, вырабатывавшихся трудовым народом в течение веков. Напротив, она взяла эти высокие нормы нравственности, попираемые в эксплуататорском обществе, на свое вооружение, с тем чтобы обогатить их новым, коммунистическим содержанием, сделать их нормой взаимоотношений между всеми людьми и народами.
Венька Малышев верит в революцию, в Ленина, в Советскую власть глубоко и распахнуто. Он живет «искренним убеждением, что все умные мастеровые люди, где бы они ни находились, должны стоять за Советскую власть. И если они почему-нибудь против Советской власти, — значит, в их мозгу есть какая-то ошибка».
Это убеждение и заставило Веньку так долго и самоотверженно бороться за душу Лазаря Баукина, крестьянина-бедняка, волею случая попавшего в белобандитскую шайку. Презирая опасность, он ходил за Лазарем Баукиным и другими, подобными Баукину, мужиками по опасным таежным тропам, убеждал их, спорил с ними и добился своего.
Что заставило Малышева идти на этот смертельный риск и неделями пропадать в тайге, забираться в самое логово бандитов? Ведь он это делал скорее вопреки, чем благодаря своему начальству? Что заставляло его пробираться в глубины заскорузлой души Лазаря Баукина и воевать за то светлое, что теплилось в сердцевине ее? Ведь Лазарь Баукин чуть не убил в бою Веньку Малышева, а потом ушел из угрозыска...
Что двигало этим удивительно чистым и справедливым человеком в его беззаветной, исполненной добра к людям жизни? Убеждение. Истинно коммунистическое убеждение, которое было естественной плотью его души и характера: «Мы за всё отвечаем, что есть и что будет при нас». И еще: «Нас всё касается. И мы за всё отвечаем, кто бы что ни делал». Эта любимая мысль Веньки Малышева, которую он повторяет по разным поводам неоднократно, и составляет идейный стержень его характера. Его совестью была любовь к людям, та ленинская, коммунистическая любовь, которая пробуждает человеческое достоинство, готовность к борьбе во имя справедливости.
Идейность и нравственность неразделимы. Человеческая совесть — эмоция общественная. Чем выше и определеннее общественные идеалы человека, чем сильнее в нем гражданское начало, стремление служить народу и людям, тем неподкупнее и строже его совесть.
Характеры Веньки Малышева и Правдохи, Давыдова и учителя Дюйшена открывают нравственную красоту идеалов революции, красоту и обаяние ее людей, провозвестников новых человеческих отношений на Земле. Истинность их принципов и убеждений, ставших плотью души следовавшего за ними поколения, выдержали вскоре самую трудную и неопровержимую проверку — проверку войной.
Испытание войной
1. Вот уже сорок лет прошло со времени окончания Великой Отечественной войны. И чем дальше отходим мы от дней войны, тем ярче величие ратного подвига советских людей, тем значительнее Победа — не только для минувшего, но и для современности. Для прошлого, настоящего и будущего.
Отечественная война выявила, высветила идейные и нравственные ценности революции как основы внутренней крепости человека, всего советского народа.
«Мое поколение росло, овеянное романтикой революции и гражданской войны. Любимой нашей песней была «Каховка», любимым фильмом — «Чапаев», любимой книгой — «Как закалялась сталь». Не они ли — светловская девушка в походной шинели, отчаянный легендарный комдив, суровый, неистовый Павка Корчагин — привели нас в сорок первом году в райкомы и военкоматы с требованием
отправить на фронт?» — так ответила на вопрос о связи прошлого с современностью поэтесса Ю. Друнина, всей жизненной и творческой биографией своей связанная с военной порой. Ответила, чтобы задать свой вопрос: разве сегодняшняя молодежь «не должна быть влюбленной в героев Великой Отечественной войны так же, как мы, мальчики и девочки, родившиеся в двадцатых, были влюблены в героев гражданской войны?.. Разве наша молодежь не должна почувствовать красоту фронтовой дружбы и задуматься над природой той особой высокой нравственности души, которая бросала человека на вражескую амбразуру? Ведь освободительная война это — не только смерть, кровь и страдания. Это еще и гигантские взлеты человеческого духа — бескорыстия, самоотверженности, героизма».
Война была особой эпохой, особым рубежом в жизни нашего народа и всего человечества. «Бывали и раньше войны, кончались — и всё оставалось по-прежнему. Эта война не между государствами. Это идет война с фашизмом за жизнь на земле, чтобы не быть тысячелетнему рабству, поименованному тысячелетним рейхом», — говорит главный герой повести Г. Бакланова «Пядь земли» лейтенант Мотовилов.
Война была конечным, крайним испытанием духовной прочности советского человека и всего нашего народа. Испытанием на разрыв. «Она поставила человека на край бездны, как будто проверяла, на что он способен, чем он жив, где берет силы» (Н. Тихонов). Она выявила предел возможностей и советского человека, и социалистического общества.
Особенность современного литературного процесса в том, что сегодня наши писатели всматриваются прежде всего в духовные, нравственные истоки нашей Победы, показывают, с какой явственностью и неопровержимостью выявила трагедия войны духовные и нравственные ценности, силу духа советского человека. «Избавить мир, планету от чумы — вот гуманизм, и гуманисты мы», — писала в ту пору в «Пулковском меридиане» В. Инбер. «Мир хочет знать, кто мы такие. Восток и Запад спрашивают: кто ты такой, советский человек?» — задавал вопрос в «Волоколамском шоссе» А. Бек.
Вобрав в себя и обогатив духовные традиции революции и гражданской войны, традиции ленинской революционной идейности, великое испытание военных лет стало новой точкой отсчета, новым критерием человеческого поведения для будущих поколений. Небывалой силы ток идет в наше сегодня из этого героического прошлого. Ток идейности, духовности, кристальной нравственной чистоты.
Мы были высоки, русоволосы,
Вы в книгах прочитаете, как миф.
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
(Н. Майоров)
Так обращается к нам не вернувшийся с фронта молодой поэт, выражая душу родившихся в двадцатом. Тех, кто продолжал дело Веньки Малышева, кто впитал воздух социализма в свою плоть и кровь.
Мы, лобастые мальчики Невиданной революции,
В десять лет — мечтатели,
В четырнадцать — забияки и поэты,
В двадцать пять — внесенные в смертные реляции.
(П. Коган)
Это было идейное поколение в самом высоком и точном значении слова. Именно оно преградило путь врагу.
Современность звучания творчества поэтов и прозаиков военного поколения именно в том, что они выразили «связь времен», идейную, духовную преемственность жизни, что они документально запечатлели пульс, пафос своего времени, пламя души «мальчиков» 40-х гг., которому мы наследуем. Их творчество дает возможность прикоснуться к истокам того мужества, которое проявили на войне «лобастые мальчики невиданной революции».
И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «человек».
(Н. Майоров)
В этих удивительно точных словах — истоки подвига, совершенного советским народом в Великую Отечественную войну. Наша победа в войне — прежде всего победа духовная. И книги о людях, выигравших войну, — это одновременно и книги о духовных ценностях революции. Пусть до поры до времени эта духовность, гуманизм, достоинство и человечность проявляются в быту, в повседневности человеческих отношений. Но приходит час — и нравственные ценности человека становятся оружием в бою, доброта, идейность, любовь делают человека героем.
2. «Капитан Новиков? Новиков!.. Тот мальчик? Не верю! Не верю! Не может быть! — почти крикнул Гулько, ударил кулаком по столу так, что подскочили карандаши на карте, и отвернулся к стене с красными, полными слез глазами». Командиру
дивизиона майору Гулько и нам, читателям повести Ю. Бондарева «Последние залпы», невозможно поверить, что капитана Новикова, этого «полувзрослого-пол у мальчика», самого молодого капитана в полку, нет в живых.
Капитан Новиков ушел из жизни, не узнав почти ничего. «По-настоящему я не жил... Всю жизнь, иногда кажется, воевал. Где-то там, все в бездне лет, один курс Горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в одну строчку. В настоящем — одни подбитые танки», — говорит он любимой за несколько часов до гибели. Он понял, что любил Лену, несколько раньше, когда выносил ее, раненую, из зоны огня, «первый раз в жизни чувствуя плотное, весомое прикосновение женского тела...».
В эту деталь вдуматься надо. Майор Гулько имел полное право обращаться к нему со своим сентиментальным, горестным: «Держись, мой мальчик», так раздражавшим Новикова «ненужной интеллигентской нежностью». В таком обращении звучала интонация любви, нежности и удивления перед этим двадцатилетним мальчиком, прямо со школьной скамьи попавшим на фронт и с честью выдержавшим нечеловеческое испытание войной.
Лейтенант Травкин из «Звезды» Эм. Казакевича, капитан Новиков из «Последних залпов» Ю. Бондарева, старший лейтенант Мотовилов из «Пяди земли» Г. Бакланова — все они почти одногодки, мальчишки, ровесники Октября.
Впрочем, нет, не мальчик капитан Новиков, когда он в упоении жестокого боя ведет артиллерийскую дуэль с немецкими танками и в мире уже не существует ничего, кроме черного зрачка танкового дула и немца с зорко-быстрыми движениями, наводящего дуло: «Он или я?.. Он или я?..»
Не мальчик капитан Новиков и в нравственном поединке с лейтенантом Овчинниковым, который, не выдержав нервного напряжения, ушел от разбитых орудий, оставил раненых. Бесжалостный, непрощающий взгляд Новикова, выстрелы брошенной им батареи, которая каким-то чудом сражалась с врагом, заставили Овчинникова истерически рвануться назад, на смерть, в сторону орудий. Предельно выразительно написана сцена, когда Овчинников, не пригибаясь, в рост бежит по полю, не видя приближающихся немцев, когда перед Новиковым встает страшный нравственный выбор: увидеть, как враги пленят его боевого товарища, или нажать гашетку... «Что это? Зачем? Что там?» — мелькнуло с обжигающей болью у Новикова, отдернувшего палец от спускового крючка. И в ту же минуту, поняв, почему не стреляли по Овчинникову немцы («Да, да, хотели взять живым, им нужен «язык»), он, еще не веря, что делает («Зачем? Я не имею права! Не имею!..»), нажал спусковой крючок — весь диск вылетел одной длинной строчкой».
Новиков не знает, что Овчинников остался жив, чтобы погибнуть, мужественно погибнуть в немецком тылу. Он думает, что убил Овчинникова, и мучается вопросом, имел ли он право на этот выстрел, дал ли бы он другому человеку право в похожей ситуации застрелить себя. И отвечает твердо: «Да, дал бы...» Он чувствует — этот выстрел как будто от всех отделил его и вместе с тем заставил людей осознать всю меру его ответственности: «Он распоряжается их жизнью, судьбой во имя чего-то неизмеримо огромного, того, что знал, чувствовал сам Новиков и все, кто был рядом с ним».
Солдаты меньше всего думают о молодости Новикова — они любят его и беспрекословно верят в него. Они берегут его от смерти: «Пропадем без вас, товарищ капитан!» Бойцы чувствуют в нем мужественную, зрелую силу, которая дает Новикову право вести за собой людей. Истоки внутренней силы Новикова — не только в его личной храбрости, но прежде всего в том, что вся его жизнь — и люди это чувствовали — была служением чему-то неизмеримо огромному: воинскому долгу, долгу перед Родиной. Это чувство огромной внутренней ответственности — за исход дела, за судьбы людей, которые ему доверены, — и делает Новикова гораздо старше своих лет, старше его ровесника лейтенанта Алешина, который начал войну позже, чем он, и был по-юношески влюблен в своего капитана, подражал Новикову как старшему по годам и опыту. Алешин не знал, что был почти одногодком Новикову. Новиков не смог, не имел права сохранить в душе то, что осталось у Алешина: непосредственность молодости, умение жить и поступать по первому впечатлению. Все три года войны он, слишком рано ставший офицером, рано начавший командовать людьми, думал больше о других, чем о себе. Это-то и сделало его тем Новиковым, которого мы видим на страницах книги: крайне сдержанным, мрачноватым и даже суровым, разговаривающим с людьми «своим обычным грубоватым тоном, который так не шел к его мальчишески юному, всегда бледному лицу».
Вспоминаются слова из «Студенческих тетрадей» покойного М. Щеглова: «Мы... в лагере Добра прирожденно, и это во всяком случае предопределяет все наши раздумья и поступки».
Эти слова с полной убежденностью могли сказать и Венька Малышев, и капитан Новиков, любой настоящий советский человек.
Как контрастирует эта мысль со словами немецкого пленного из повести «Пядь земли» Г. Бакланова:
«Мы никогда не слышали о человечности. Поощрялась жестокость, жестокость, жестокость!.. Две тысячи лет учило христианство смирению, любви к ближнему. И ничего не добились... И взошло зло».
Нет, для нас неприемлемо христианское понимание добра, христианская «любовь к ближнему». Наше понимание добра активно, революционно: оно включает в себя борьбу с силами зла во имя счастья людей и «науку ненависти» — ненависти к лютому врагу.
Бывают обстоятельства, когда во имя торжества добра необходима суровость. Таковы истоки суровости капитана Новикова в жестоких обстоятельствах войны. Его суровость всегда высоконравственна, она служит добру. Именно суровость, твердость и требовательность Новикова сделали трусливого Ремешкова солдатом, приучили его к ощущению прочности человеческой жизни на войне. Ощущению, без которого Ремешков неминуемо бы погиб. Суровость, требовательность Новикова к себе и другим помогают вести трудную войну с врагом. Они — следствие огромного чувства ответственности Новикова перед собой, обществом и перед людьми.
Война была высшей нравственной проверкой поколения, сформированного социализмом. Вот почему в книгах советских писателей уделяется такое большое внимание нравственным конфликтам войны.
«Во взводе у меня есть человек, которого я ненавижу: Мезенцев. Он — рядовой, я — офицер, я должен относиться к нему справедливо. Я ненавижу его», — признается герой повести Г. Бакланова «Пядь земли» старший лейтенант Мотовилов.
Мотовилов не приемлет Мезенцева за то, что он «из той породы людей, за которых все трудное, все опасное в жизни делают другие: и воевали за него другие, и умирали за него другие, и он даже уверен в этом своем праве».
Мотовилов, Новиков, Кондратьев ненавидят всё мелкое, эгоистическое, шкурническое в душах людей. Они особенно непримиримы к шкурничеству на войне:
«За тех, кто жалеет себя в бою, другие расплачиваются кровью». Это закон войны. Вот почему так важны на фронте коллективизм, товарищество, чувство ответственности перед людьми. Вот почему так беспощаден Новиков к Овчинникову, оставившему под огнем своих раненых товарищей: он нарушил самую первую, нравственную заповедь войны. «С первых сознательных дней никто из нас не жил ради одного себя. Революция, светом которой было озарено наше детство, звала нас думать обо всем человечестве, жить ради него», — размышляет старший лейтенант Мотовилов. Мезенцев с давних пор привык думать только о своем личном благополучии, заботиться только о себе. Вот почему, хотя он в одно время с Мотовиловым и Новиковым учился в школе, сидел на тех же комсомольских собраниях и выступал, быть может, на них с правильными речами, — он для Мотовилова чужой. Мотовилов знает, что эгоизм и своекорыстие Мезенцева способны толкнуть его не только на трусость, но и на любое предательство. Мотовилов уверен, что по своим «внутренним качествам» Мезенцев готов служить даже немцам, хотя с «внешней стороны» у него как будто все «благополучно». Обязанностью своей совести Мотовилов считает доказать людям, что Мезенцев «мерзавец», ибо, говорит Мотовилов, «мы не только с фашизмом воюем, мы воюем и за то, чтобы после войны жизнь на земле была человечной, правдивой и чистой».
Мотовилова и Новикова сближает с Венькой Малышевым то, что они — ленинцы по своим нравственным устоям, по философии жизни, по плоти характера.
Осмысление героических характеров в трагедийных обстоятельствах войны Ю. Бондарев продолжил в романе «Горячий снег», где исследована история одного из больших сражений Отечественной войны — от замысла, как он зреет в Ставке, до реализации на плацдарме. Лучшие страницы романа, пожалуй, не имеющие равных в современной «военной» прозе, — батальные сцены танкового боя, эти фантасмагорические, ирреальные картины столкновения сотен машин и орудий, столпотворения огня и стали, — и все это должен выдержать человек. И выстоять. И победить.
Читая роман, испытываешь потрясение перед безграничностью возможностей человеческого самоотвержения и подвига в сопротивлении злу.
Б. Васильев. «Л зори здесь тихие...».
Художник М. Дисогорский
Повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие...» написана в ином, в сравнении с романом Бондарева, лирическом ключе. 4
Повесть Б. Васильева — о подвиге пяти девушек, которые под водительством старшины Баскова приняли бой с группой фашистских диверсантов, с шестнадцатью головорезами, вооруженными до зубов. О потрясении, которое пережил разведчик-сибиряк, охотник, старшина Басков, повидавший всякого на своем веку, но никогда не думавший, что рядом с девчонками воевать будет, что столько нечеловеческого, того, что за чертой, эти девочки выдюжить могут, что придется одну за другой провожать их в дальнюю, бессрочную дорогу. И это, как многое другое, записал Федот Евграфыч Басков на счет врагу, который законы человеческие переступил и себя вне закона поставил.
Может показаться, что ситуация эта — за пределами возможного. Но за пределами человеческих возможностей была война, в которой мы тем не менее выстояли и победили. Из столкновения невозможного, беспредельно трудного, стоящего за привычной чертой и реально осуществленного нашим народом, рядовым советским человеком, солдатом и тружеником, и рождается озарение подвига Великой Отечественной войны, постигаемого нашей литературой.
Что может быть трагичнее ситуации, когда одна за другой гибнут в трудном, неравном бою с диверсантами пятеро будущих матерей? «Положил ведь я вас, всех пятерых положил, — говорит Федот Басков. — А за что? За десяток фрицев?.. Пока война — понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно? Что ответить, когда спросят: что же это вы, мужики, мам наших от пуль сберечь не смогли?!!» — «Не надо, — отвечает ему смертельно раненая Рита Осянина. — Мы Родину защищали, ее. Не мучь себя».
Тема преемственности, наследования, адресованная поколениям, которые придут в жизнь после войны, органична для повести «А зори здесь тихие...». Какая горечь звучит в словах Васкова: «Стихи читала, а главное, детишек могла бы нарожать, а они бы внуков и правнуков, и не оборвалась бы ниточка. А они по этой ниточке ножом...» Обаяние женственности, незащищенности, чистоты и бесстрашия с необыкновенной заостренностью — до комка в горле — обнажает всю несправедливую, нестерпимую, слепую жестокость войны. И одновременно высветляет, закаляет душу.
Такие произведения, как «Горячий снег», «А зори здесь тихие...», открывают нам не только жестокую беспощадность войны, но и меру героизма, мужества, самоотверженности наших солдат. Они свидетельствуют, что солдаты знали, за что «льется кровь».
Эти произведения заставляют задумываться о главном: какова же должна быть ценность того, за что с таким бесстрашием и самоотвержением лили кровь, шли на смерть, на муки миллионы советских людей.
Сопереживая муке сержанта Васкова или генерала Бессонова, мы скорбим вместе с ними, ужасаемся смерти будущих матерей, поражаемся силе духа, терпению, выносливости и мужеству мальчиков-артиллеристов, выдержавших бешеный натиск танков врага. И ясно понимаем, что твердо знали, ради чего шли на смерть, эти девчонки и мальчишки из «ревущих сороковых».
Они защищали Родину!
Этим все сказано.
3. Чем объяснить, что прошло уже четыре десятилетия, как мы победили, а наши писатели и наши читатели снова и снова с неослабевающим вниманием и интересом обращаются к подвигу советского народа в годы войны?
Видимо, существует какая-то общественная, нравственная потребность, заставляющая нас возвращаться в эту героическую и трагическую пору!..
В этике существует тезис об обязывающем значении смерти: смерть человеческая — это конечная, исчерпывающая проверка личности, перед лицом смерти человек не волен солгать. Такой — конечной и исчерпывающей — проверкой стала для всего народа и каждого советского человека Великая Отечественная война.
Война, как, пожалуй, ничто другое, выявила наши, советские, социалистические и духовные ценности, продемонстрировав всему миру, что эти ценности в первую очередь идейные, коммунистические.
И если попытаться выразить пафос советской литературы, посвященной войне, то пафос этот в конечном счете в том и заключается, чтобы исследовать, выявить, утвердить идейные, духовные, нравственные истоки нашей победы. Не случайно лучшие произведения о войне последних лет — это вместе с тем и книги острейшего нравственно-психологического анализа, книги сложнейших нравственных конфликтов.
Современная проза о войне постигает тайну воинского подвига самопожертвования — высшего проявления человеческого духа, человеческой духовности. Почему в повести В. Быкова «Сотников» Рыбак предал, а Сотников выстоял, выдержал самую страшную проверку из всех возможных? Ответ — в самом характере Сотникова, коммуниста в истинном смысле слова. Сотников превосходит Рыбака силой духовной, внутренней, нравственной, он просто неизмеримо более зрелый внутренне человек, он неизмеримо крупнее, масштабнее Рыбака как личность. И вот этот масштаб духовной, «внутренней», говоря добролюбовскими словами, личности Сот-никова определяется силой и мощью его убеждений, зрелостью его идеи. Революционной, коммунистической идеи. Той самой идеи, которая одухотворяет героев романа «Берег» Ю. Бондарева.
Роман «Берег», при всей приверженности автора к прозе традиционной — произведение остросовременное. Писатель страстно утверждает здесь сегодняшний гуманистический взгляд на события минувшей войны — и шире: на движение истории, на судьбу послевоенного мира и человека. В романе, пожалуй, впервые в полную мощь проявилась
не сегодня наметившаяся тяга автора к прозе нравственно-философской. Философская мысль романа высекается смелым художническим сближением, я бы сказал, перекрестом таких далеких и разных берегов, как мир сегодняшний и время войны, и одновременно — берега отечественного, родного и дальнего, чужеземного, чужого.
Правда, входить в роман трудно. Первоначальная характеристика двух советских литераторов, приехавших по приглашению некой фрау Герберт на встречу и дискуссию в Федеративную Республику Германии, где они когда-то воевали, и теперь в растерянности постигающих, как разлагается «западный мир», не во всем убеждает. Великая Отечественная война для писателя — пережитое, а современный «Запад» — -- лишь увиденное. Вот откуда, думается, эта разница в уровне, различия в художественных решениях в «военном» и «зарубежном» пластах повествования.
Возможен спор и вокруг тех или иных утверждений писателя Никитина, высказанных им в дискуссии, — спор этот начался уже в романе неодобрительными репликами его попутчика и оппонента, писателя Самсонова. Бесспорно, однако, что роман «Берег» не только шаг вперед в творчестве самого Бондарева, но и одно из заметнейших явлений в советской литературе последних лет. В нем, как, впрочем, и в прежних произведениях писателя, с особой резкостью проявилось присущее Бондареву мастерство в изображении войны. На сей раз — в ситуации, когда война практически уже закончилась, остались считанные ее дни. Дни, которые герои романа проводят на заслуженном, после взятия Берлина, отдыхе, в тенистом и тихом городке Венигс-дорф. Эти неправдоподобно благостные и разлагающие, говорится в романе, «дни вдали от войны, без ежеминутной опасности, когда всеми ожидалось: вот-вот нечто огромное должно измениться на земле, навсегда ослепить радостной синевой завоеванного и возвращенного мира», обернулись для героев романа трагедией последних боев и последних смертей.
Очевиден в романе крепнущий психологизм бон-даревской прозы, проявляющийся в умении бесстрашно поставить человека в обстоятельства предельных, крайних нравственных испытаний — ими, как известно, особенно богата была война. Через такие испытания и проходят, выявляя свои идейные и нравственные убеждения, главные герои романа: лейтенант (а потом — писатель) Никитин, его друг — лейтенант Княжко.
Однако самое важное и, думается, новое качество прозы Бондарева, в полную силу обнаружившее себя в романе «Берег», — в глубине и силе философской мысли писателя о человеке и истории, о судьбах гуманизма и человечности после того нечеловеческого испытания, которое вынесли люди в минувшей войне. Эта философская мысль, пронизывающая повествование, придает ему размах, драматизм и полемичность, делает роман по-современному интересным.
Роман «Берег» значителен и важен сегодня именно тем, что всем своим содержанием, высокогуманистическим и этическим пафосом он вмешивается в основной философский и идеологический спор современности: спор о человеке и его предназначении.
Нельзя не поддержать писателя в этом его стремлении вмешаться в идеологическую борьбу современной эпохи. Борьба эта всеобъемлюща и своеобразна, постижение ее средствами искусства многогранно. В романе «Берег» постигается один ее аспект — духовно-нравственный. В заключительной части романа герои ведут открытую, прямую дискуссию, причем с искусным противником. Они спорят о коренных ценностях жизни и человека, о концепции мира, в наибольшей степени отвечающей стремлениям и чаяниям людей. В ходе этой дискуссии, как бы документально воспроизведенной в романе, с полной очевидностью выявляются две взаимоисключающие и противоположные модели общества, в соревновании которых все большее значение приобретают, утверждает писатель, не только материальные, экономические, но и духовные, нравственные потенции и ценности.
Писатель показывает, что это — с тревогой — понимают и наши противники. «Западная Германия после войны (на американских капиталах, добавим мы от себя. — Ф. К.) как свинья зажралась, и мозги ее все больше оплывают жиром. Обыватели живут в одурманивающем мире товаров и превращаются в бездушные машины потребления... Прагматизм подчиняет всё. Истоки и модель — Америка», — говорит в дискуссии, передающейся по западногерманскому телевидению, главный оппонент Никитина, критик и публицист Дицман. Но он полагает, что конечная цель социалистической революции — также «холодильники для всех».
«Революция — это отрицание безнравственности и утверждение нравственности, то есть вера в человека, и борьба, и, конечно, совесть, как руководство к действию», — отвечает Дицману Никитин. Ответ этот современен и точен, ибо развитой, зрелый социализм принципиально отличен от западного «общества потребления» также и богатой и наполненной духовной, нравственной жизнью, все более полно и всесторонне реализуемым гуманистическим потенциалом.
Гуманистический потенциал социализма, резервы человечности советского образа жизни с особой, неопровержимой силой проявились в годы крайнего, предельного испытания души человека и всего народа — в Великую Отечественную войну. Об этом в первую очередь роман «Берег».
Как уже говорилось, Бондарев испытывает нравственность и человечность своих героев на крайнем пределе. Бели говорить о романе «Берег» в целом, то таким испытанием для его героев — солдат и офицеров Советской Армии — явилась встреча с противником не только на поле боя, но и в глубоком, уже освобожденном ими немецком тылу, встреча не только с солдатами, но и населением поверженной фашистской Германии. Встреча после всего нечеловечески страшного и ужасного, что творили фашисты в нашем тылу, на временно оккупированной советской (и не только советской) земле. Советский воин-освободитель, солдат, пришедший сюда от Москвы пешком с истерзанной болью и ненавистью душой, с памятью, кровоточащей от надругательств и зверств фашистов, — вот тема центральной части романа «Берег».
Можцо ли представить испытание на гуманизм и человечность труднее этого, если вспомнить о том, что было?! Ведь каждая частица памяти взывала к мщению. И может быть, одна из самых удивительных тайн в истории, утверждает своим романом Ю. Бондарев, — то человеческое достоинство и мудрая, высокая нравственная сила, с которой армия наша, армия страны социализма, выдержала это испытание.
Подтверждение тому — и тот гнев, то презрение, доходящие до неистовства, с глубокой психологической правдой показанные в романе, по отношению к тем немногим, кто оскорблял в час победного торжества нравственное чувство воина-освободителя, кто не выдерживал в этих трудных условиях проверки на человечность. Таков в романе прежде всего сержант Меженин с его нагловатой ухмылкой
и «холодной пустынинкой» в глазах, воплощающий в себе «выпирающую» силу зла и «незастенчивый цинизм», особенно опасные в условиях войны. В чем-то существенном не выдерживает этой проверки и комбат Гранатуров, в обстоятельствах нечеловеческих испытаний и напряжений до конца не сохранивший в себе человека, завершавший войну с опаленной, опустошенной душой. Правда, тому есть объяснение, но, полагает писатель, не оправдание.
Гранатуров, сообщается в романе, почти никогда никому не рассказывал о трагической судьбе его семьи в Смоленске, где отец его был директором школы, а мать учительницей, но Никитин, знавший об этом, понимал и с тревогой наблюдал, как при встрече с пленным врагом, даже мальчишкой из вервольфа, мобилизованным Гитлером на защиту Берлина в последние недели войны, маялся и страшно менялся Гранатуров. Никитин «никогда не замечал^ этого ослепленного, яркого, звериного проявления в нем, и почему-то мелькнула мысль, что одним ударом Гранатуров легко мог бы убить человека. Но это звериное, темное, неосмысленное проявилось и у Меженина там, с немкой, в мансарде, — точно бы зараза насилия полыхнувшим пламенем внезапно прошло от него к Гранатурову, как проходит безумие по толпе, слитно опьяненной жаждой мщения при встрече человеческого существа, вовсе не сильного, растерянного, несущего в себе понятие врага, — поверженный враг, еще жалко сопротивляясь, порой вызывает ненависть более острую, чем враг сильный».
Обуянный такого рода местью, в опьянении вседозволенности и, как ему кажется, безнаказанности, Меженин с легкостью переступает черту человеческого, выявляя темную бездну своей души, — и натыкается на сталь нравственного возмездия, бескомпромиссного суда своих же боевых товарищей. Достоверно, сочно и зло написанный характер Меженина с предельной точностью истолкован автором и заклеймен не только авторским судом, но и презрением читателя. Этот характер, отношение к нему — тоже своего рода оселок, на котором выявляются в романе гуманизм и нравственность Советской Армии, освободившей от фашизма народы Бвропы и самой Германии.
И все-таки центральной фигурой романа, определяющей меру вещей, меру нравственности героев его, видится мне лейтенант Княжко, характер редкой красоты и силы. Это натура рыцарственно благородная, по ослепительности накала нравственных своих качеств заставляющая вспомнить Алешу Карамазова, только Алешу, ушедшего в революцию, из ненаписанного Достоевским продолжения «Братьев Карамазовых». Он воплощает в себе вековую мечту русского гуманизма о совершенном человеке будущего, мечту, выраженную Достоевским в следующих прекрасных словах: «Самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть... признак высочайшего развития личности... Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер можно только при самом сильном развитии личности».
Характером этим, равно как и прямыми публицистическими доказательствами в споре с западно-германским оппонентом, Ю. Бондарев доказывает чрезвычайно важную для нашего времени мысль: мы — наследники всего лучшего и ценного в предшествующем духовном и нравственном, гуманистическом развитии человечества, наследники и продолжатели на качественно новом витке исторической спирали.
Именно здесь пролегает черта, разделяющая писателей Никитина и Самсонова: Самсонов не готов к тому разговору, который навязывают двум советским писателям их противники, не готов и боится его, ему не хватает уверенности в себе, уверенности в споре по столь сложным и трудным вопросам времени.
Спор в романе идет о гуманистическом наследии русской культуры и всего человечества. Никитин яростно отрицает попытку Дицмана присвоить это наследие себе — в целях парадоксальных: для обоснования собственной бездуховности и безнравственности. В современный идеологический спор, утверждается в романе «Берег», вовлечена вся история духовного развития человечества, спор идет по самым сложным и глубоким категориям развития человеческого духа, — и мы не можем не выиграть этот спор. Не можем не выиграть прежде всего потому, что решаем его практически, в жизни, — доказательством тому и служат такие характеры, как Княжко.
В характере этом, на взгляд писателя, воплотились лучшие традиции отечественной культуры, демократической русской интеллигенции, недаром автор так настойчиво подчеркивает высокую интеллигентность этого юноши. Но не только. Характер Княжко, столь близкий к идеальному, мог бы показаться книжным, если бы мы не знали в жизни этих «лобастых мальчиков невиданной революции», подвижников и идеалистов, родившихся в двадцатых, по прежним книгам того же Ю. Бондарева, В. Быкова, Г. Бакланова, поэтов не вернувшихся с войны — М. Кульчицкого, Н. Майорова, П. Когана, по многочисленным мемуарам, воспоминаниям и просто устным рассказам об этом первом поколении людей, выращенных революцией и социализмом и почти полностью оставшихся там, на полях Великой Отечественной войны. Это было поколение идейное в самом точном значении этого слова, символом, идеальным воплощением его и предстает на страницах романа «Берег» лейтенант Княжко. Характер, полный не только жизненной, но и художественной правды, он станет в ряд с такими признанными героями нашей жизни и наших книг, как Павка Корчагин Н. Островского и Давыдов М. Шолохова, как молодогвардейцы и Мересьев, как Венька Малышев из «Жестокости» П. Нилина и учитель Дюй-шен из повести «Первый учитель» Ч. Айтматова, Сотников из одноименной повести В. Быкова...
Мы ощущаем непререкаемую нравственную власть лейтенанта Княжко в батарее, которой командует Гранатуров, в самые драматические, страшные порой моменты, — когда опьяненный жаждой мести Гранатуров готов унизить своих боевых товарищей и себя расправой над слабым, ничтожным и безоружным противником или же свести низкие счеты с девушкой, которая любит Княжко и не отвечает Гра-натурову взаимностью. Истоки этой нравственной власти Княжко — в предельном чувстве справедливости и воспитанном им в себе безукоризненном бесстрашии, нравственном и воинском мужестве.
ОКульминация романа — подвиг Княжко, подвиг бесстрашия, мужества, человечности, совершенный им из убеждения, что нельзя без необходимости проливать человеческую кровь. Когда группа юнцов, терроризируемых эсэсовцами, в безумии страха и паники пыталась обороняться от окруживших ее советских частей, — Княжко сделал то, что, как считал, обязан был сделать, и ни Никитин, ни Ме-женин, ни командир батареи Гранатуров не в силах были бы остановить его. «Он что? Ангел у вас? Святой? Да кому это нужно?» — в растерянности вопрошал пехотный капитан Перлин, которому батарея Княжко пришла на помощь в этом бою.
«Выстрелов не было. Воющие крики людей не затихали в лесничестве. Княжко, невысокий, узкий в талии, спокойный с виду, сам теперь похожий на мальчика, шел по поляне, размеренно и гибко ступал сапожками по траве, размахивая носовым платком». Он шел на смерть, чтобы спасти окруженных в здании лесничества немецких юнцов, обреченных при сопротивлении на верную смерть, шел, пока не появился, неуверенно и робко,, опущенный из окна мансарды белый лоскуток и не исчез вновь, после чего «нечеловеческий, задохнувшийся крик глухо прокатился в глубине мансарды», и в то же мгновение раздался выстрел орудия и встречные автоматные очереди из окон мансарды, несущие смерть...
«Таких людей, как лейтенант Княжко, я больше не встречал в жизни, мне не хватает его до сих пор», — скажет десятилетия спустя Никитин Эмме, как оказалось, той самой госпоже Герберт, которая пригласила Никитина на литературную встречу в Гамбург. Но то, что Княжко был, так же как была безумная, прекрасная, романтическая любовь Никитина и Эммы, и был брат Эммы, тот самый юнец из вервольфа, которого спасли от бессмысленной расправы Гранатурова Никитин и Княжко, была та нравственная атмосфера добра, которую принесли населению Германии советские воины-освободители, и была бескомпромиссность к любому злу, противоречащему этой атмосфере, для нашего народа естественной, — все это звучало для нее — и для читателя — как самые веские, пусть и невысказанные, аргументы в споре советского писателя Никитина с западногерманским критиком Дицманом. В споре, который бесспорно выигрывает Никитин. А следовательно, и советский писатель Ю. Бондарев.
Пусть не на все поставленные автором нравственно-философские проблемы времени мы найдем в романе убедившие нас ответы, в самой постановке их — современность романа «Берег» и его долгая жизнь.
Самая кровная связь
1. Одно из ведущих направлений в нравственнофилософских исканиях, которые столь напряженно и последовательно ведет сегодня советская литература, составляет проза о деревне.
Интерес к деревне был всегда традиционным для русской литературы, начиная с Радищева и Карамзина. Жизнь крестьянства, народа всегда питала живительными соками нашу отечественную культуру, великую русскую литературу XIX в.
Однако, помимо традиции возникли, по-видимо-му, и какие-то современные обстоятельства и общественные потребности, которые сделали тему деревни, земледельческого труда в советской литературе одной из главенствующих.
Предтечей тому явился «овечкинский» период в развитии нашего очерка, когда в публицистике В. Овечкина, С. Залыгина, А. Калинина в середине 50-х гг. были явственно обнажены экономические противоречия колхозной действительности тех лет.
В прозе та же тенденция проявила себя в ту пору в остро социальных повестях и рассказах, посвященных деревне, принадлежащих перу В. Тендрякова, Г. Троепольского, А. Яшина и других.
Разработанная партией программа подъема сельского хозяйства страны обострила общественный интерес к теме деревни в литературе, к творчеству таких прозаиков, как Ф. Абрамов, М. Алексеев, В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин, Б. Можаев, Е. Носов, С. Крутилин, В. Шукшин, В. Солоухин и другие.
Судьбы деревни исследуются как в прозе лирической, так и в прозе социально-аналитической. Назову хотя бы роман «Пряслины» и повести «Пелагея» и «Алька» Ф. Абрамова, «Память земли» В. Фоменко, «Вишневый омут», «Карюха» и «Драчуны» М. Алексеева, «Материнское поле» и «Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматова...
При всех своих жанровых различиях и разнообразии творческих индивидуальностей эту прозу — и «лирическую», и «аналитическую» — объединяет обостренное чувство историзма, стремление вглядеться в судьбы деревни. Проза о прошлом нашей деревни запечатлела в полный рост крестьянина, колхозника, выдержавшего испытание войной и экономическими трудностями предвоенных и послевоенных лет и ни в чем не поступившегося духовно, сохранившего мощь и красоту своего нравственного характера, характера работника, преобразователя, хозяина родной земли. Она воспитывает любовь и уважение к земледельческому труду.
Вне жгучего, кровного биографического родства писателя с тем миром народной крестьянской жизни, о котором он пишет, вне глубинных, личностных связей его с народной культурой, связей, конечно же, не только непосредственных, но и опосредованных, через традиции, слово и дух русской литературы, нам не понять Ф. Абрамова, равно как и многих других современных наших прозаиков.
Проза Ф. Абрамова (романы, посвященные Пека-шину, с особой ясностью высветили это) — не «крестьянская», не «деревенская», но героическая, раскрывающая подвиг нашего народа, подвиг нашего крестьянства в трагедийную пору войны. Две зимы и три лета, прошедшие после победы, а они, как известно, легли в основу его второго романа, — это ведь тоже страшная плата народа, крестьянства за разруху и беды войны. Это были годы, когда в Пекашине по-прежнему не было хлеба и не хватало семян, по-прежнему дохла скотина от бескормицы
На развороте: Н. Брышев «Хлебное поле»
(фрагмент)
«и по-прежнему, завидев на дороге почтальоншу Улю, мертвели бабы: война кончилась, а похоронные еще приходили». В бескомпромиссной жизненной правде, ни на йоту не утаивающей всей драматичности испытаний, выпавших на долю советского народа на фронте и в тылу, и в частности в глухих северных деревнях, — тайна эмоционального воздействия романов Ф. Абрамова на читателей.
По складу своего таланта Ф. Абрамов — бытописатель, он щедр на чисто бытовые детали и подробности, ибо знает, любит и умеет воспроизвести быт северной русской деревни. Под пером писателя-реалиста краски архангельской деревни военных лет сильнее, чем любые публицистические отступления, передают всю меру человеческих страданий и людского героизма тех трагических лет.
Не мудрствуя лукаво, не выписывая замысловатого сюжета, писатель, казалось бы, ведет бесхитростную летопись военной жизни одного северного колхоза, маленькой архангельской деревеньки Пека-шино. Но под пером подлинного, большого писателя эта летопись становится волнующим художественным документом эпохи. Это апофеоз народной жизни, апофеоз подвига бескорыстия русского крестьянства, совершенного им в пору коллективизации и войны. В эту военную пору, пишет Абрамов, приоткрылось в нашем народе «что-то большое и важное, без чего невозможно понять русского человека». Писатель внимательно всматривается в характеры своих героев — Михаила Пряслина, его сестры Лизки, их матери Анны, председательши Анфисы Петровны, в чем-то главном очень близкой и родственной эпическому, монументальному характеру русской женщины, старой крестьянки Василисы Мелентьевны, открытой писателем в его повести «Деревянные кони». Это все тот же народный женский тип, о котором писал Н. А. Некрасов: «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Женская доля, женское сердце, подвиг труда русской женщины в годы войны — одна из ведущих тем творчества Ф. Абрамова. Перед пекашинской крестьянкой секретарь райкома партии Новожилов «на колени стать готов». «Я бы ей при жизни памятник поставил, — объясняет он инструктору райкома Лукашину. — Ну-ка! Сколько человек в Пе-кашине на войну взяли? Человек шестьдесят. А поля засеяны? Сеноуборка к концу? Да ведь это понимаешь, что? Ну как если бы бабы заново шестьдесят мужиков родили...».
По характерам, по отношению к жизни, по языку проза Ф. Абрамова глубоко и подлинно национальна. Без аффектации, без полемики, естественно и органично, как дыхание, утверждаются здесь ценности нашего национального, народного характера. И когда автор устами одного из своих героев — Лукашина говорит, что он «смотрел на них, вслушивался в их простые, наивные слова, и сердце его изнемогало от любви и ласки к этим измученным, не знающим себе цены людям», мы вслушиваемся с волнением в эту интонацию чисто русской речи, издавна отождествляющую понятия «жалеть» и «любить».
Русский национальный характер, осмысляемый Ф. Абрамовым, — это советский характер. Такова принципиальная позиция писателя. Верный правде военных лет, писатель раскрывает, как много значила для людей партия. Вступление в партию, в комсомол — это праздник, событие в жизни и для Анфисы Петровны, и для Михаила Пряслина. Об этих событиях, памятных всем, пережившим то время, рассказывается в книге с полной, волнующей достоверностью. И столь же достоверны, человечны и жизненны образы партийных работников военной поры, тех самых «районщиков», которые делили с народом все тяготы жизни военных лет и брали на свою душу еще большее: ответственность. Ответственность перед высшим: перед фронтом, перед победой, ради нее державших свое сердце, свою «жалостливость» в узде... Возьмем ли мы секретаря райкома Новожилова, инструктора райкома, а потом председателя пекашинского колхоза Лукашина, уполномоченного Гаврилы Ганичева — «улыбайся, агитируй, хотя бы у тебя при этом кишки лопались от голода» — или, наконец, кузнеца Илью Нетесова, «партейного бессребреника, подвижника», — все они исповедовали одну веру, один нравственный постулат: «Нет, коммунист тот, кто может сказать — я умирал столько, сколько и вы, и даже больше, мое брюхо кричало от голода так же, как ваше; вы ходили босые, оборванные — ия. Всю чашу горя и страданий испил я с вами — во всем и до конца!»
Такие люди, как Лукашин, Анфиса Петровна, Илья Нетесов, — нравственные ориентиры для Михаила Пряслина, оставшегося в четырнадцать лет за отца в многодетной семье и за мужика в колхозе. «Да, бабы! — подтверждает председательша Анфиса Петровна, — за первого мужика Михаил всю войну выстоял. За первого!» Характер Михаила Пряслина, исполненный обаяния и нравственного здоровья, являющийся, вне всякого преувеличения, открытием писателя, — это воистину типический характер времени, характер, точно и правдиво очерченный. Это подлинно народный и вместе с тем глубоко советский характер, вобравший в себя все лучшее из нравственной традиции народа и сформированный нравственным опытом нового, колхозного труда. Это проявляется прежде всего в социальной, гражданской активности Михаила Пряслина, в его чувстве хозяина родной земли в своей артели, но не в меныпейг степени — ив сердце, совести его сестры Лизки, чей характер — также одно из важнейших открытий Ф. Абрамова.
Герои романов Ф. Абрамова не просто крестьяне, но колхозники, именно так, и только так, мыслят они себя. Его романы являются художественным исследованием не просто крестьянской — колхозной жизни, исследованием такого нового социального явления народной действительности, как колхоз. Художник, обладающий бесценным даром постижения народной жизни в ее движении, не мог, естественно, пройти мимо тех новых реальных форм ее существования, в которых эта народная, крестьянская жизнь выдержала испытание войной.
Проза Ф. Абрамова — социальная, исследовательская и остро конфликтная проза при кажущейся ее покойности. Социальным духом своим она спорит с односторонним, сентиментально-романтическим взглядом на прежнюю крестьянскую Русь. Глубокое уважение и любовь к миру крестьянской жизни, его давнему («Деревянные кони») и недавнему («Братья и сестры», «Две зимы и три лета») прошлому, к тому, как душа и совесть народа проявились в годы войны, сочетается у писателя-реалиста с трезвым пониманием исторической ограниченности старой, патриархальной психологии, собственнических начал в ней. Противоречивость прежней крестьянской натуры (с одной стороны — труженик, а с другой — собственник) явственно видна в романе, хотя бы в противостоянии Михаила и Егорши, который, «как жеребец — играючи идет по жизни». Впрочем, Егоршу не сведешь к пережиткам собственничества, в нем куда больше, пожалуй, «нажит-ков», он вполне современен в формах проявления своего эгоизма. Мы встречаемся в трилогии и с другими характерами, в современных формах проявляющими дух социального эгоизма, корысти и собственничества: с хитрым и прижимистым богатеем-«активистом» Федором Капитоновичем, с его приятелем, заведующим райзо Федуловым, обиравшим колхозы, с председателем колхоза, сменившим Анфису и разорившим артель, Першиным и т. д. Эти характеры, выражающие современные модификации собственнической психологии, не просты для анализа.
Мелкособственническая психология с ее живучестью и способностью к приспособлению и мимикрии сегодня обретает и в деревне, и в городе самые неожиданные подчас лики. Но она по-прежнему социальное зло жизни, наш главный противник, исток и причина многих драм и трагедий — об этом с предельной ясностью сказано в романах Ф. Абрамова. Но если там эта тема была лишь одной из немногих, то в его повестях, также составивших своеобразную дилогию, — «Пелагея» и «Алька» — исследование драмы крестьянской души, разрываемой пополам, бьющейся в тисках жизненного противоречия между высоким и низким, истиной и заблуждением, становится главной задачей писателя.
Драма пекарихи Пелагеи уходит корнями в самые первые послевоенные годы, в ту самую пору, когда «люди, как чуда, ждали победы. Все, все изменится. На другой же день... А как изменится, когда вся страна в развалинах?..». И невозможно было досыта накормить, одеть и обуть людей сразу же после такой страшной войны.
И в то же время с окончанием войны, и это хорошо показано в романе «Две зимы и три лета», начало что-то естественно и неумолимо меняться в жизни. «Раньше, еще полгода назад, все было просто, — рассуждает в романе Анфиса Петровна. — Война. Вся деревня сбита в один кулак. А теперь кулак расползается. Каждый палец кричит: жить хочу! По-своему, на особицу».
Именно в ту пору и начинала «на особицу» жить Пелагея. А встречаемся мы с ней в повести, когда она подводит житейские итоги. Как оказалось, плачевные итоги. Осталась Пелагея на старости лет одна-одинешенька, похоронив мужа, которого мучила всю жизнь, и потеряв сбежавшую от нее в город с лейтенантом дочь. Одна — со всем своим богатством, ради которого убивалась, которое копила всю жизнь. Криком вырывается из сердца этот вопрос: «Господи! На это ушла ее жизнь?» Жизнь, в которой было всё: и надорвавший ее, от зари до зари непосильный для человека труд, и измена мужу — расчетливая, рассчитанная плата за хлебное место пекарихи, и голод, и холод, и сноровка да хитрость крестьянская, порой — за гранью дозволенного, когда, заполучив пекарню, она бросила «свое хлебное воинство» на завоевание нужных, полезных ей людей, и мало кто мог устоять «против ее хлеба легкого, вкусного, душистого и сытного». Сколько было положено не только физических — нравственных сил, сколько сделано уступок совести?! И ради чего? Ради вот этих крепдешинов да ситцев, ради всего того, что ныне тряпками зовется?
«А кто, кто виноват, что эти тряпки застили ей и жизнь, и мужа, и все на свете?» — с болью спрашивает Пелагея, пытаясь объяснить себе свою судьбу. Попробуй пройти мимо этого объяснения! Пелагея вспоминает голод — голод войны, первых послевоенных лет, голод неурожаев — треть жизни она и семья голодали! И был один во все эти годы товар, на который можно было достать хлеба, — тряпки... «Годами загребала, — признается она себе в повести, — не могла остановиться. Потому что думала: не ситец, не шелк в сундуки складывает, а саму жизнь. Сытые дни про запас. Для дочери, для мужа, для себя...» А оказалось — ив этом расплата, наказание ее, — ни мужу, ни дочери, ни ей самой эти сундуки не нужны...
Характер Пелагеи предстает в повести Ф. Абрамова как характер драматический. Эта драма, завершающаяся уже в наши, «сытые» для деревни дни, с полной очевидностью выявляет главную ущербность собственничества, которому уступила в трудный момент своей жизни Пелагея, — его бездуховность, обессмысливающую жизнь.
Но бездуховность собственничества — в этом сложность Пелагеи, мимо которой опять-таки не пройдешь! — нимало не исчерпывает ее объемного, крупного, противоречивого характера. Ибо при всем том итоги жизни Пелагеи никак не сводятся к тряпкам да сундукам. И не случайно тропка, по которой десятилетиями бегала она из дома на пекарню, после ее смерти зовется в деревне Паладьиной межой. «Никто, как деревня стоит, не прошел по ней, сколько она прошла». Ибо была Паладья прежде всего труженицей — об этом в повести сказано поэтично и любовно, с тем низким поклоном колхозной женщине за ее подвиг труда, с каким умеет и считает должным писать Ф. Абрамов. И хоть за два десятилетия труда пекарихи она и дня не отдыхала, а сколько раз за эти годы перекладывали печь на пекарне, не выдерживали кирпичи, лопались, именно тут, в этом изнуряющем труде на благо людям видела она смысл своего существования, высокую осмысленность бытия.
И вообще, замечает писатель, она в жизни ни о чем и ни о ком не тосковала, как о пекарне. Даже об Альке, родной дочери. И когда перед смертью шла проститься с пекарней — «чистая, благостная — вечером накануне сходила в баню, будто к богомолью готовилась». И была прибита тем, как без нее — в грязи и беспорядке — эта пекарня содержится.
Духовный, нравственный смысл труда, как деяния, высветляющего, облагораживающего душу, радость осмысленного, как мы говорим даже — творческого, труда, доступны далеко не каждому человеку. Как трудно постигает Алька, приехавшая пос-
ле смерти матери на побывку домой, эту, казалось бы, немудреную истину: «Неужели же испечь хороший хлеб — это и есть самая большая человеческая радость? А у матери, как запомнила Алька, не было другой радости. И только в те дни добрела и улыбалась (хоть и на ногах стоять не могла), когда хлеб удавался».
И конечно же, драма Пелагеи не столько вина, сколько беда и расплата за отступления от самой себя. В Альке — не только драма, но и вопрос, важнейший вопрос, который ставит писатель перед современным читателем.
Повесть «Алька» мне кажется написанной не в полную силу писательских возможностей, не вровень с повестью «Пелагея» или романом «Две зимы и три лета»: есть в ней беглость, поспешность. Но есть и свой нерв, сегодняшний, повторяю, наисовременнейший вопрос. Писатель, чуткий к движению народной жизни, не мог пройти мимо того нового, что в последнее десятилетие пришло в эту жизнь. И в «Пелагее» (время действия — середина 60-х гг.) и особенно в «Альке» (70-е гг.) мы встречаем деревню нынешнюю, т. е. богатую, где вопрос о куске хлеба давно и окончательно решен. Пришла в деревню эта — сказочной в войну казалась — сытая пора. Помните: «Когда война кончится — вот заживем... Дома выстроим новые, в каждом доме корова, овцы будут... и хлеба — сколько хошь хлеба». Но не нужны Алевтине ни корова, ни овцы, да и дом материнский казался не нужен: велела продать. А что ей нужно!.. Для счастья, для покоя в душе, для совести своей?.. Тряпки, наряды, легкий заработок да веселая жизнь?.. Не мало ли?..
И почему, унаследовав от матери стыдное, за что недолюбливали ее в деревне, тот самый собственнический, хоть и на новый манер, эгоизм, она вдруг утратила высокое — поглощенность делом, которое больше тебя, подлинно человеческим трудом? И не потому ли бьется она в истерике, в слезах («тетка, тетка... пошто меня никто не любит?»), не потому ли чувствует вину перед матерью и даже в память о ней решает остаться в колхозе. Но это решение падает под напором суетности, привычки «красиво жить».
Ответ на вопрос, поставленный в этой повести, содержится и в «Альке», а главное — во всем творчестве писателя. Что, точнее, кто сильнее всего ранит Альку, бередит ее душу, делает ее несчастной? Как это не покажется странным, мать, пример ее жизни, стыд перед памятью о ней. А еще ближайшая подруга ее — доярка Лидка да ее муж Митя, когда-то страдавший по Альке. Вовсе не потому, что «прибарахлилась Лидка знатно», как отметила про себя Алька, побывав у подруги в гостях, а потому, что сам Митя, чем-то очень напоминающий Мишку Пряслина, вся атмосфера в его доме потрясли, ранили сердце Альки человечностью и чистотой.
Душевная неприкаянность Альки — в ее отъеди-ненности от подлинного, большого мира народной трудовой жизни. Однако и на Алькиной судьбе писатель вовсе не ставит крест. Ее метания в значительной степени реакция на аскетизм жизни родителей, матери, отодвинувшей в сторону всё, кроме труда и боязни черного дня. Алька не хочет так жить. Да ей и не надо так жить, время другое. А вот как жить, чтобы не было стыдно перед матерью и людьми, Алька пока не знает. Но мы видим, хотя бы и по ее работе на покосе, что это истинная дочь Пелагеи. И потому верим, что — в городе ли, в деревне — Алька найдет себя.
Книги Ф. Абрамова составили художественную хронику колхозной, а в конечном счете народной жизни, строго и точно очерченную как исторически,
так и географически. В них исследуется жизнь северной, архангельской деревни в ее конкретно-историческом движении, в реальности тех жизненных проблем, которые вставали перед ней на каждом новом этапе ее исторического существования.
Тетралогия «Пряслины» — своего рода эпопея жизни архангельского села, в котором Ф. Абрамов родился и вырос, куда вернулся с фронта после ранения в военные годы, где долгое время жил и работал и где похоронен после безвременной кончины. Писатель относится к Пекашину с чувством кровной сопричастности и верной, сыновней любви к нему.
Действие третьей книги Ф. Абрамова — «Пути-перепутья» — разворачивается всего пять-шесть лет спустя после испепеляющей войны. Там действуют те же герои — Михаил и Лиза Пряслины, Степан Андреянович, Анфиса Минина, Илья Нетесов, Петр Житов, подлинно русские и подлинно советские характеры, выдержавшие испытания войной и отстоявшие наши, социалистические нравственные ценности, ни в малом не согнувшиеся, ни в чем не поступившиеся душой.
Жизнь, изображенная в романах Ф. Абрамова, по невиданному напряжению физических и духовных сил, по мере трудностей и испытаний — за гранью обычных человеческих возможностей. Если бы писатель умолчал, утаил действительный масштаб народных трудностей и испытаний военных и первых послевоенных лет, он бы принизил своих героев. Принизил подвиг народа, совершенный им в годы Отечественной войны. Велика была цена победы!.. И хоть верит председатель пекашинского колхоза Лукашин: «Будет, будет сытно в Пекашине, обязательно будет...» — по-прежнему проблема хлеба насущного — главная для пекашинских крестьян.
Однако набирают силу мирные дни, естественна устремленность пекашинцев к жизни иной, нормальной, естественной: ведь не признаешь же нормой для человеческого существования бремя войны, когда пекашинские крестьяне отдавали для фронта всё... Но почему задерживается время перемен? И можно ли только войной и ее последствиями объяснить экономические трудности и то неблагополучие, которые продолжают донимать пекашинцев?.. Таков вопрос, который вольно или невольно зарождается в умах и сердцах героев романа, в первую очередь коммунистов: Лукашина, Подрезова, Анфисы Мининой, Петра Житова и других. Вопрос, в котором они порой боятся себе признаться, который для них мучительно труден, но неотвратим.
В романе «Пути-перепутья» писатель как раз исследует то сложное время в судьбе родного Пека-шина, когда сама жизнь в противоречиях ее развития ставила на очередь дня именно этот вопрос. Вопрос о путях развития колхозного производства, о необходимости совершенствования методов экономического руководства деревней, принципов хозяйствования на земле. Пафос романа Ф. Абрамова именно в этом — не только в утверждении героического труда крестьянства в начале 50-х гг., но и в исследовании того, как именно в то время, медленно, постепенно, в противоречиях и борьбе, вызревало в глубинах народной жизни благотворное сознание необходимости перемен.
Открытием писателя стал образ Подрезова, партийного вожака военных и послевоенных лет. Нарисованный им характер первого секретаря Пинежского райкома партии исполнен драматизма и противоречий. Отношение к нему автора и читателя глубоко диалектично. Ф. Абрамов всем сердцем любит своего Подрезова, хотя и предъявляет ему достаточно суровый счет. Роман «Пути-перепутья» —
прощание с Подрезовым и одновременно — низкий поклон ему. Прощание — потому, что новое время требовало и новых людей, новых, более современных методов руководства, которыми Подрезов овладеть не в состоянии. Низкий поклон — потому, что писатель (а вместе с ним, естественно, и читатель) исполнен глубочайшего уважения к этому по-настоящему крупному и сильному характеру, его истовости, нравственной чистоте, силе его коммунистических убеждений. Такой взгляд на Подрезова точен и справедлив.
Не вина, а беда Подрезова, что движение жизни опережает его. В восемь лет встав за верстак, в семнадцать он стал председателем сельсовета. В войну секретарь Пинежского райкома не только всех людей знал поименно — лошадей знал по кличкам. Его волей в первую очередь коммунисты Пинеги «фронт в войну держали». Властный, беспрекословный человек, он любил тем не менее, чтобы «с ним спорили, возражали, доказывая свою правоту». А сам любил доказать правоту на деле, благо «всё умел делать сам: пахать, сеять, косить, молотить, рубить лес, орудовать багром, строить дома, ходить на медведя, закидывать невод. И надо сказать, людей это завораживало. Лучше всякой агитации действовало».
Так в чем же драма секретаря Подрезова? В чем суть его конфликта с молодым инженером Заруд-ным, директором Сотюжского леспромхоза, предприятия, с которым связано все будущее Пинеги? Сам Подрезов объясняет свои беды, беды своего четырехклассного образования так: «... Там, где бензин, я пасую. Я только в тех машинах разбираюсь, которые от копыта заводятся». Зарудный обвиняет его в непонимании того, что «в лесной промышленности наступила новая эпоха, — по сути дела, эпоха технической революции», а это значит, и в руково детве районной экономикой надо «с лошади пересесть на трактор, на автомобиль». А «окрик да кнут трактор и автомобиль не понимают. Их маминым словом с места не сдвинешь...» И когда Зарудный «своим молодым, звонким голосом» говорит «об отставании от требований времени руководства, о необходимости нового, более смелого и широкого взгляда на жизнь», Подрезову нечего ему возразить.
Его спор с Зарудным, как и собственные сомнения и чаяния об «установлении правильных отношений с деревней», в конечном счете, явления одного порядка, предвестники и провозвестники перемен, которые зрели в глубинах народной жизни и которые несли с собой в Пинегу не только сытость и зажиточность, но и новый характер труда, новый быт, новые методы хозяйствования и руководства экономикой, новые взаимоотношения между людьми.
Самое начало этого драматического и длительного исторического процесса, необходимость его и запечатлел в своем романе Ф. Абрамов. Роман «Пути-перепутья» завершается убежденными словами Ильи Нетесова о том, что «жизнь теперь повернет к лучшему». Слова эти в полную силу звучат в душе Михаила Пряслина, к которому упрямо возвращается мысль автора:
«...Перед глазами его вставала родная страна. Громадная, вся в зеленой опуши зеленей.
И вот он в эти тяжкие годы вместе с пекашин-скими бабами поднимал ее из развалин, отстраивал, поил и кормил города. И новое, горделивое чувство хозяина росло и крепло в нем».
Эти слова были как бы мостом, перебрасывающим повествование к четвертой, заключительной части эпопеи — роману «Дом».
Ф. Абрамов обратился здесь к жгучим социальным проблемам сегодняшнего дня. В романе показана жизнь современной колхозной деревни, и в самом деле «повернутая к лучшему». Жизнь сытая и обеспеченная, однако заключающая в себе новые, очень сложные и острые проблемы. И связаны эти проблемы прежде всего с отношением к труду, с агрессией потребительских настроений, затронувших душу какой-то части пекашинских крестьян. Здесь главная коллизия романа «Дом», мучающая душу Михаила Пряслина.
Он не может без внутреннего страдания и боли видеть, как из-за нерадивости руководства совхоза, возглавляемого жуликом Таборским, гибнут пашни и зарастают кустарником сенокосы, с таким трудом отвоеванные когда-то у леса пекашинскими крестьянами. Это нерадивое отношение к делу, равнодушие и потребительство, угнездившееся благодаря Таборскому в душах иных его односельчан, гнетет Михаила Пряслина. Ведь именно бескорыстие и высоконравственное отношение его земляков к колхозному труду помогли выстоять им в пору самых тяжких испытаний военных лет. Так неужели теперь, когда в деревню пришел материальный достаток, отдавать души людские равнодушию и потребительству?
И Михаил Пряслин не просто мается, но как умеет, ведет свой бой с Таборским, чтобы заставить каждого честно относиться к своему делу, к своему труду. Ох, как трудно дается ему этот бой! И от неумения, и от одиночества поначалу в этой борьбе, где противник использует любые наветы, любую демагогию, ложь и клевету. Не отсюда ли и раздражительность, тяжесть характера, вдруг проявившиеся в Михаиле Пряслине? Очень уж сильна в нем эта внутренняя боль — за непорядки в родном совхозе, очень велико желание повернуть дело к лучшему, более разумному и эффективному, честному и деловому хозяйничанью на земле, а результатов
его неумелой, переходящей уже в личную ненависть борьбы все нет и нет...
Социальная зоркость художника, одним из первых выразившего эту устремленность всех советских людей к порядку и честному отношению к труду, проявилась и в том, что в романе «Дом» поставлен наиважнейший и наиострейший вопрос об умении, искусстве такого рода борьбы.
В романе выведен интереснейший характер молодого механизатора Виктора Нетесова, «немца», как зовут его в деревне из-за педантичного отношения к порядку, дисциплине, результативности труда, интеллигентного человека, не в пример многим другим односельчанам образованного, не приемлющего никакой внутренней распущенности и анархизма и вместе с тем столь же непримиримого врага Таборского и его жизненных принципов, как и Михаил Пряслин. Но Виктор Нетесов, не желающий мириться с очковтирательством и воровством Таборского, умеет вести борьбу с этим злом жизни «по всем правилам военного искусства» и с помощью молодого агронома Сони, других односельчан одерживает в этой борьбе верх. То, что оказалось не по силам Михаилу Пряслину, у которого, при всем его огромном нравственном потенциале, тем не менее «у самого с производственной дисциплиной минус», к удивлению Пряслина, сделал этот мальчишка, с его рациональным, умелым, предельно честным и глубоко профессиональным отношением к труду. И не только сделал это, но и у самого Пряслина «веру в человека воскресил».
Молодой управляющий отделением пекашинского совхоза Виктор Нетесов, по мысли автора, прямой воспреемник наследия Михаила Пряслина, но уже на новом витке исторической спирали. И в конце романа — гроза, приговор, неумолимый конец Таборским и «таборовщине» в нашей жизни. Хотя характер этот нарисован автором далеко не с той мерой проникновения в глубь души, как образ Михаила Пряслина, появление его в книге углубляет тот исторический оптимизм, которым проникнута тетралогия Ф. Абрамова.
2 Суровая правда жизни, острота и принципиальность в постановке ее проблем сочетаются в лучших произведениях прозы о деревне с глубокой поэтичностью и лиризмом, философским осмыслением действительности.
В советской литературе все насущнее, все пронзительнее звучит чувство родной земли, поэзии природы, требование любви и уважения к земледельческому труду.
Пожалуй, одним из первых певцов темы русской природы в современной литературе следует назвать В. Солоухина. Его «Каплю росы», как и «Владимирские проселки», трудно причислить к какому-то определенному жанру — это не повесть, не роман, не очерки, а скорее, как определяет в одном месте сам автор, «лирические записки». В них рассказывается о жизни и быте маленького села Олепино. Это совсем крохотное, ничем особенным не отличающееся, обыкновенное владимирское село, в нем всего 36 дворов. Но В. Солоухину необходимо было рассказать нам именно о нем: «Село Олепино — одно для меня на всей земле, я в нем родился и вырос». Его книга — своеобразное путешествие в «самую дивную из всех волшебных стран — страну детства. Ключи от нее заброшены так далеко, потеряны так безвозвратно, что никогда, никогда, хотя бы одним глазком, хотя бы одну пустяковую тропинку не увидишь до конца жизни. Впрочем, в той стране не может быть пустяковой тропинки. Все там полно значения и смысла. Человек, позабывший, что было там и как было там, позабывший даже про то, что это когда-то было, самый бедный человек на земле».
Где расположена твоя дивная, волшебная страна детства, читатель? Если она там, где, казалось, огромная (а на самом деле совсем маленькая) гора от села к реке, где песчаный обрыв над рекой, где совсем неподалеку огромный и страшный лес, в котором обитают «разбойники», — «Капля росы» поможет ощутить непроходящую прелесть родных тебе сельских мест. А если твое детство связано с городским двором — книга Солоухина расскажет о запахе, цвете и звуках сельщины, и сердце твое защемит от грусти, от острого желания ощутить, почувствовать, узнать силу сказочного волшебства, о котором повествуется в книге. Повествуется с такой душевной теплотой и поэтичностью, что книга полностью берет в полон и неотрывно ведет за собой.
В прозе В. Солоухина, как и в прозе В. Белова, полной мерой звучит поэзия родной земли, поэзия сельской жизни, крестьянского труда. Пожалуй, острее всего красоту крестьянского труда чувствуют деревенские ребятишки. И может быть, одна из главных причин удачи книг прозы В. Солоухина в том, что он рассказал о поэзии крестьянского труда через восприятие своего детства. Многое устарело в этом восприятии, потому что детство писателя пришлось еще на довоенные годы, а сколько появилось после этого в колхозной деревне новых, невиданных ранее примет! Но в том-то и ценность этой книги, что В. Солоухин рассказывает здесь только о том, что сам пережил, перечувствовал, что успел увидеть и полюбить на родной земле. И, судя по книге, мало что запечатлелось в его памяти и сознании с такой же силой и яркостью ощущения, как первые встречи с «великими колхозными работами» — уборкой и молотьбой хлеба, севом, косьбой.
Вслед за «лирическими записками», посвященными родному Олепину В. Солоухина, появилась книга С. Крутилина «Липяги», очень близкая по духу, по аромату и вместе с тем отличная от солоухинской. Что это — повесть? Нет. Роман? Нет. В «Липягах» отсутствует какой бы то ни было цельный, сквозной сюжет. Это скорее цикл лирических новелл. Значит, сборник рассказов? Ни в коем случае. «Липяги» — книга цельная, единая, она пронизана одним настроением, одной любовью, и эта любовь — древнее среднерусское село Липяги, люди, которые его населяют.
«Записки сельского учителя» — так определил автор свою книгу. И хотя мы подозреваем, что сельский учитель Андрей Васильевич, который ведет рассказ, лицо вымышленное, и хотя мы понимаем, что имеем дело с прозой художественной, а не документальной, невозможно избавиться от ощущения, что летопись села Липяги, которую ведет местный учитель, не вымысел, а документ. Что существует и в самом деле на берегу реки Липяговки, впадающей в Теменку (а Теменка — в Чернавку, Чернавка — в Непрядву, ту самую Непрядву, на берегу которой собиралось русское ратное войско перед Куликовой битвой), существует много сотен лет это село Липяги, и в нем живет учитель Андрей Васильевич и его земляки.
«Липяги» С. Крутилина трогают нас тем, что в них воссоздан поэтический образ родных ему мест, поэтический образ древней, исконной земли русской.
Одна из новелл книги называется «Баллада о колодце». Это и в самом деле баллада, написанная строго и возвышенно, баллада о колодезных журавлях, о том, сколько песен и прибауток сложено в народе про эти криницы, копани, журавли, о том, как извека берегли и блюли их жители села.
«Липяги» С. Крутилина — это проза, при всем ее лиризме, суровая, трезво правдивая, трудная. И в этом главное отличие ее от «Капли росы» В. Солоухина. В «Капле росы» также слышались отзвуки трудностей, которые переживала деревня в ту пору. И все-таки социальные начала жизни в поэтической книге В. Солоухина были приглушены. Книга С. Крутилина полна раздумий о том, как вывести деревню на дорогу более счастливой жизни.
Залогом тому являются люди, жители, труженики Липягов — дед Печенов, кузнец Бирюк, крестный Авданя, тракторист Назарка. Писатель рассказывает о них с той любовью, окрашенной теплым юмором, веселой, доброй шуткой, мягкой улыбкой, с какой говорят только о родных людях. Не случайно одна из глав книги — «Тише едешь — дальше будешь», о шутнике и балагуре Авдане, наполненная добродушным юмором, смехом, заканчивается шутливым размышлением о том, как бы хорошо поставить памятник колхознику Авдане.
А потом мысль автора идет дальше, и шутка перерастает в серьезное — он размышляет, что справедливее поставить такой памятник русской женщине. На гранитном постаменте во весь рост стоит фигура женщины, отлитая из бронзы. Лицо ее должно чем-то напоминать лицо матери — милое, красивое и чуточку грустное. «Однако не в выражении лица, не в стати должно заключаться главное. Главное должно быть в руках. Мне кажется, что у этой бронзовой фигуры должны быть руки, чем-то схожие с руками сестры моей Марьи, огромные-пре-огромные, со вздутыми венами; и она, эта бронзовая Марья, должна не скрывать их, а гордиться
ими, должна впереди, перед собой держать их, чтобы последующие поколения липяговцев, проходя мимо, снимали шапку перед этими руками».
Трудно назвать в истории русской словесности время, когда деревня, крестьянский, колхозный труд вызывали бы к жизни столько общественно значимых, талантливых произведений, когда бы наблюдался такой пристальный читательский и литературно-критический интерес к теме деревни в литературе, как в наше время.
Ф. Абрамов, В. Астафьев, М. Алексеев, В. Белов, Е. Носов, В. Шукшин, Б. Можаев, В. Распутин, С. Крутилин — все они могли бы с законной гордостью сказать о себе те самые слова, которые написал в рассказе «Угощаю рябиной» А. Яшин: «Я есть сын крестьянина... Меня касается всё, что делается на этой земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал, на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога».
И если говорить о верности прозаиков, пишущих о деревне, трудовой, народной жизни, — а они эту верность и проявляют, и декларируют, — то особо следует сказать об их отношении к слову, к языку.
Слово в прозе В. Белова, как и в прозе В. Астафьева, Е. Носова, С. Крутилина, Б. Можаева, В. Можа-ева, В. Шукшина, не просто первоэлемент литературы. Оно несет самостоятельную нравственно-эстетическую функцию: его емкая, щедрая взволнованность и самобытность выражают душу народа, одухотворенность народного бытия.
Язык — первоэлемент литературы. Удивителен язык прозы В. Белова. Мы говорим порой о том или ином писателе: он хорошо слышит народную речь. О Белове так сказать нельзя: народный, исконно русский язык — его стихия, естество. Его рассказы завораживают пленительной, чистой, пахучей вязью истинно народной речи. Они наполнены любовью к родной природе, к русской отчей деревне, уважением к труду земледельца. Остро чувствует Белов запахи северного леса, скупые краски северорусского пейзажа, особый говор северорусских деревень. О деревенском труде он пишет настолько осязаемо, что кажется: человек, ни разу в жизни не державший вил, сможет, прочитав картину сенокоса в повести «Деревня Бердяйка», метать стога. Мало кто умеет в современной нашей литературе с такой естественностью и проникновенностью передать изначальное — поэзию труда земледельца, красоту творений рук человеческих. Труд в его рассказах и в самом деле предстает как творчество, как колдовство, как таинство — именно с таким ощущением читаешь страницы повести «Деревня Бердяйка», где деревенские плотники ставят дом.
Не иссякает, не может прерваться животворная традиция русской словесности, связанная с именами Н. А. Некрасова и Г. И. Успенского, И. А. Бунина и М. М. Пришвина, А. Т. Твардовского и А. Я. Яшина. В последние годы в литературу нашу пришли писатели, достойно продолжающие эту традицию народности. Писатели, которые спорят не только с равнодушием к миру народной жизни, но и со спекулятивно показным отношением к ней. Ибо не в эстетском любовании экзотикой русской деревни, не в воспевании родников, березок и других внешних атрибутов села — истинная народность литературы. Все это — псевдонародность, потому что за ней нет ни глубокого знания современной народной жизни, ни внутренней заинтересованности ее нелегкой судьбой. Надо ли опровергать подобное понимание «народности», начисто игнорирующее коренные социальные изменения в нашей стране, в результате которых само понятие «народ» качественно изменилось, наполнилось новым содержанием.
Лучшие произведения литературы последних лет, посвященные деревне, как правило, остро социальны по духу, сутью своей спорят с внесоциальным и несовременным пониманием народности. В прозе В. Белова, так же как и в прозе Ф. Абрамова, в полную силу проявилась не только любовь к миру деревни, знание ее быта, ее людей, но и боль за те несовершенства жизни, за все те тяготы экономического (и не только экономического) характера, которые переживала деревня, в особенности северная деревня, в послевоенные десятилетия. Именно об этом — повесть «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», «За тремя волоками».
Но, казалось бы, ушли в небытие тягостные обстоятельства колхозной жизни послевоенных лет, а проза эта сохраняет свое сугубо современное звучание, бередит душу, волнует сердце!
Почему? Какой нерв гражданского, общественного, человеческого сознания бередит, тревожит она? В чем ее острая необходимость, непреходящий смысл? В конечном счете — в постановке того тревожного вопроса, которым, помните, обрывается лирическое признание В. Белова в верной любви его к родным, сельским краям: «Тихая моя родина, ты все также не даешь мне стареть и врачуешь мою душу своей зеленой тишиной! Но будет ли предел тишине...»
В рассказах В. Белова (и не только его) обостренно звучит вот эта тревожная мысль: а вдруг «отмашет время еще какие-то полстолетия, и березы понадобятся одним лишь песням?..»
Белов с пристрастием спрашивает себя: «Может
быть, так оно и надо... Исчезают деревни, а взамен рождаются веселые, шумные города?..»
Этот вопрос глубоко современен, ибо он о судьбе заповедной страны — деревни, ее традиционного духовного уклада и — шире — о судьбе природы в наш современный век. Необходимости ее сохранения и защиты. Вопрос, имеющий принципиальное значение для последующего развития нашей культуры и цивилизации, для формирования духовного фундамента коммунистического общества. Этот вопрос ставит сама жизнь в современную эпоху, эпоху бурных социальных и научно-технических преобразований.
Нельзя недооценивать всей важности подлинно гуманистической постановки этого вопроса: о ценностях природы, труда и преобразования земли, о поэзии и красоте мира в наш век. Это — наше, социалистическое, коммунистическое право, забота и обязанность — думать о том, какой оставим мы землю потомкам, последующим поколениям. Но столь же важно не только поставить — найти верный и точный, с максимальным приближением к исторической истине ответ на этот вопрос.
Наша лирическая проза о деревне в известном смысле слова — эмоциональная реакция, рефлексия ума и сердца на тот гигантский, тектонический общественный сдвиг, который именуется научно-технической революцией. «Привычное дело» с все возрастающей резкостью обнажает свой глубокий идейно-художественный пафос. Суть его — судьба деревни и ее ценностей в XX в., в условиях глубочайших социальных и научно-технических сдвигов и изменений. И более широко: соотношение природы как человеческой ценности и, говоря горьковскими словами, «второй природы», т. е. социально-технической среды, созданной самим же человеком во имя своего блага.
Постановка этого круга вопросов нашей литературой закономерна и своевременна. Все возрастающее ускорение процессов научно-технической революции и связанные с этим урбанизация жизни, интенсификация труда и, в частности, индустриализация земледелия исторически неизбежны, необратимы, для человечества — обязательны. Без этого человеческое общество ни развиваться, ни выжить попросту не в состоянии. Во всем мире идут эти процессы, и в частности индустриализация земледельческого труда, резкое сокращение количества людей на земле, которые кормят остальных, а следовательно, и коренное изменение всего облика, уклада деревни.
Это отражается и в экономической политике партии в деревне, со всей ясностью сформулированной в Продовольственной программе, в документах XXVII съезда и новой редакции Программы КПСС. Резервы научно-технической революции партия сопрягает с возможностями социалистического земледелия.
Индустриальный, экономический, исторический прогресс деревни с особой остротой ставит перед ней сегодня проблему духовных и нравственных ценностей. Не о сене для коровы заботится современный крестьянин, но еще и о хлебе для души! Забота об этом, как и забота о родной природе, о ее лесах и лугах, забота о том, чтобы и в условиях научно-технической революции сохранить нашу землю в сохранности для будущих поколений, чтобы березы в будущем были так же нужны людям, как и песня, — дело святое, гражданское, дело партийной и государственной важности. Поставив нравственные искания современной литературы в этот социально-философский контекст эпохи, мы глубже и полнее их поймем.
Право — и обязанность! — литературы понять, осмыслить, запечатлеть на полотне и то, что уходит, и то, что нарождается. Но здесь важна позиция писателя! Будет ли она соответствовать стремлениям и чаяниям крестьянства, всего советского народа, или же будет ретроспективной, сентиментально-романтической. В первом случае литература даст реальную, истинную картину исторических судеб нашей деревни в ее развитии, правдиво, трезво воссоздаст деревню старую, уходящую, при этом бережно отнесется к ее подлинным, гуманистическим, природным ценностям и вместе с тем откроет новые типические характеры и обстоятельства, выражающие жизнь в динамике ее развития. Во втором картина жизни будет смещена, искажена, сдвинута в прошлое, представленное в явно идеализированном, идиллическом, сентиментально-романтическом свете.
Обе эти крайности противоречат не только ленинским принципам отношения к крестьянству, но и коренным традициям русской и советской литературы, сочетавшей любовь к народу, к крестьянству с предельно трезвым, глубоко правдивым воспроизведением жизни, быта, характеров его.
Обратимся в этой связи к еще одной современной повести из деревенской жизни, в чем-то очень близкой «Привычному делу» В. Белова, — «Последнему сроку» В. Распутина. О жизни и смерти крестьянки Анны, о ее детях, собравшихся вместе, чтобы проводить восьмидесятилетнюю мать в последний путь. За свою жизнь старуха рожала много и любила рожать, рассказывается в повести, но теперь в живых у нее осталось пятеро: три дочери и два сына. У младшего, Михаила, который один из всех не уехал из деревни, старуха и доживала свой век.
Она не боялась умереть. «Больше тратить в себе ей нечего, выкипела до последней капельки. А что, спрашивается, видела она в своей жизни? Всегда одно и то же: теребили о чем-нибудь ребятишки, кричала скотина, ждал огород, а еще работа в поле, в лесу, в колхозе — вечная круговерть, в которой ей некогда было вздохнуть и оглядеться по сторонам, задержать в глазах и душе красоту земли и неба».
Скромный и вовсе не новый сюжет, обыденный материал — так откуда же ощущение радости, которое оставляет эта повесть?..
В свое время уже «Деньги для Марии» В. Распутина обратили внимание читателя и критики на молодого сибирского прозаика.
Характер старухи Анны принадлежит к тому социальному типу, который исследован и В. Беловым в его «Привычном деле», в ряде произведений Ф. Абрамова, В. Астафьева, Е. Носова. Это типический народный характер, образ деревенской женщины, вынесшей на своих плечах, выдюжившей терпением и трудом и голодное детство, и страшное испытание войной, и неустроенность послевоенных лет. Выстоявшей на всех ветрах — и не загрубевшей, не очерствевшей душой.
Эта внутренняя безмерная доброта и деликатность старухи Анны, почти детская незащищенность ее, незамутненность нравственной чистоты и человечности, сохранивших себя в самых трудных жизненных условиях, с большой художественной правдой и без тени сентиментальности переданы в повести.
Но смертью старухи Анны, а вернее, жизнью ее поверяются в повести не только она, но и ее дети. Для них смерть матери — трагедия, высокая трагедия, потому что мать уходит из жизни, отдав им, людям, всё, что могла. Для автора ее трагедией,
точнее, драмой является то, что дети ее — Люся, Варвара, Илья, Михаил — не выдержали этой проверки на человеческое. Суровым приговором по самому большому счету завершается эта столь скромная по жизненному материалу повесть. Суть ее, в предельном сокращении, такова. Слетевшись с разных концов света по телеграмме Михаила, чтобы проводить в последний путь родную мать, они нечаянно, нежданно даруют ей последний срок: радость матери, обнаружившей у своей постели столь далеких от нее и по-прежнему дорогих ее сердцу детей, такова, что она никак не может умереть. И совестится этого, тихо радуясь вместе с тем последнему своему счастью, совестится того, что держит детей всех тут, у себя, отрывает от важных дел, как будто есть у них дело более важное...
С мудрым юмором, добротой, человечностью, а главное, с полной психологической точностью описывает В. Распутин эти последние дни своей старухи, пребывающей в несколько трагикомическом положении в самом точном смысле этого слова. И столь же естествен, художнически полнокровен второй пласт повествования — переживания, поведение старухиных детей, в кои веки собравшихся воедино, чтобы — по извечной человеческой традиции — отдать матери последний сыновний и дочерний долг. Здесь В. Распутин человечен и правдив. Без тени фальши, без натяжек показывает он их естественное горе, к которому они уже заранее подготовили себя, и неожиданную радость, и тщательно скрываемую друг от друга наступившую растерянность от неожиданного поворота дел. Все новые и новые, почти неприметные штрихи готовят этот, оказывающийся вовсе не неожиданным финал, который и ставит все точки над «и». В повести как бы копится нечто мелкое, недостойное, стыдное для человека, имя чему — суета. Суета, оборачивающаяся не просто
пошлостью, а нравственным преступлением, потому что ее мелкотравчатость делает черными последние часы и минуты умирающей матери, расстающегося с жизнью человека.
Самое страшное — в тех наигранных, лживых словах, с которыми прощаются они с матерью, в глубине души отлично зная, что это последние слова: «И не обижайся на нас. Так надо». Надо не по закону человечности, а по закону суеты. По душевной тупости, внутренней заскорузлости, а проще — недостатку доброты.
— Выздоравливай, мама. И не думай ни о какой смерти.
Ночью мать умерла.
Итак, нравственный суд завершен. Вопрос поставлен. Немалой важности вопрос, об угрозе бездуховности, обесчеловечивающей людей. И в этом — ценность повести В. Распутина.
Один из лучших эпизодов в повести — тот, где рассказывается, как на другой же день после приезда Люся отправилась в лес. Эта прогулка по окрестным, таким знакомым и уже забытым местам была для нее и путешествием в прошлое, и мучительно резким, больным и сладостным воспоминанием. Прогулка эта описана с редкой пронзительностью и волнует, как немногие страницы в книге. Вглядываясь сквозь увеличительное стекло искусства в смятенную душу Люси, для которой это путешествие в прошлое одновременно и праздник, и мука, и кара, писатель намеренно гиперболизирует ее переживания. «Бежать, бежать, — твердила она. — Зачем, ну зачем она вылезла из деревни? Кто ее сюда гнал? Что она здесь забыла? «Забыла»?! Мысль вдруг задержалась на этом слове и придвинула его к Люсе ближе. Забыла... Вот оно, наконец, то, что, не открываясь, почти с самого начала изводило ее какой-то молчаливой давней виной, за которую придется держать ответ. В самом деле, — там, в городе, в своей новой жизни, Люся все забыла — и воскресники по весне, когда заготавливали дрова, и поля, где работала, и завалившегося Игреньку, и случай у черемухового куста, и многое-многое другое, что бывало еще раньше, — забыла совсем, до пустоты...»
Размышление это — ключевое для идейной структуры повести. И — бесспорное, если иметь в виду мысль о Родине, Отчизне, кровной связи с землей, где ты родился и вырос, как духовном истоке человеческой личности.
Из глубин народной жизни растет и творчество такого самобытного талантливого прозаика, как В. Астафьев.
Из его биографического очерка «Сопричастный всему живому» мы узнаем, что свой первый рассказ — «Гражданский человек» — он написал во время ночного дежурства на колбасном заводе, где работал грузчиком и сторожем. За его плечами было к тому времени голодное, сиротское сибирское детство, детский дом в Игарке, ФЗО, фронт, ранения, тяжелый физический труд — и шесть классов образования. Таковы были «горьковские университеты» начинающего писателя.
Когда читаешь подряд книги В. Астафьева, начиная с тех, в которых он состоялся как писатель, — повести «Перевал», «Стародуб», «Звездопад», «Кража», «Последний поклон», «Пастух и пастушка», «Царь-рыба», сборники его рассказов, — воочию видишь, как бурно рос этот самобытный писатель, какими внутренними толчками развивался его талант.
Мальчишка, деревенский подросток в обстоятельствах горя и беды — такова сквозная линия в творчестве В. Астафьева, в его повестях, посвященных в основном трудному и героическому времени военных и предвоенных лет. И в «Перевале», повести
о мальчике-сироте Ильке и его жизни среди добрых людей, и в «Краже», и в «Последнем поклоне», и, наконец, в «Звездопаде» и «Пастухе и пастушке», — по сути, один развивающийся, детский, отроческий, юношеский характер, характер нашего современника, упрямо прорастающий сквозь все жизненные невзгоды и испытания голодом, холодом, сиротством и, наконец, войной — к свету, любви, добру. И столько трудного, а подчас и страшного, жестокого выпадает на долю этого столь любимого нами героя астафьевских повестей, что, казалось , бы, проза его должна дочерна выжигать душу. А между тем она просветляет ее, более того, высекает в твоей душе свет.
В чем тайна этого? Ответ на вопрос в какой-то степени заключен в своеобразнейшей «Оде русскому огороду» — лирико-патетическом повествовании, во многом публицистически продолжающем ту же тему о том же мальчике в трудных жизненных обстоятельствах, только не о горестях, а о счастье его. О счастье быть и ощущать себя сопричастным всему живому, о таинстве слияния его с этим живым — в людях ли, в природе, которая занимает в творчестве В. Астафьева огромное место, в тех токах жизни и труда, которые с ранних лет, невзирая на все препоны, питают его душу, учат главному предназначению человека — «творить добро».
«Память моя!.. — вновь обращается он к самому себе в этом патетическом повествовании (где в сравнении с «Кражей» или «Перевалом» намеренно изменены акценты), — ...воскреси, — слышишь! — воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него». Чем же так дорог этот мальчик далеких, ушедших и таких трудных лет сегодняшнему Виктору Астафьеву? Он дорог ему не просто как пленительное воспоминание детства, он ведет за собой писателя (а следовательно, и читателя) «туда, где на истинной земле жили воистину родные люди, умевшие тебя любить просто так, просто за то, что ты есть ты, и знающие одну-единственную плату — ответную любовь».
«Озаренный солнцем» астафьевский мальчик своего рода волшебный поводырь в творчество писателя, в тот самый мир природы и труда, где в трудных, подчас трагических житейских обстоятельствах (вспомним «Перевал», «Кражу», «Последний поклон») он жил тем не менее на «истинной» земле, в окружении истинных, родных людей, руководствовавшихся в отношении к нему естественным нравственным законом жизни — человеческой совестью.
Труд и природа в нерасторжимом единстве, труд и природа как образ Родины, как воплощение человечности — вот герой большинства книг В. Астафьева. Его проза — ив этом ее философское значение — есть исполненное любви и верности, но при всем том и глубокой объективности художественное исследование трудовой народной жизни, народной нравственности, подымающейся порой, в особенности на страницах, посвященных испытанию войной, до высот подлинного апофеоза.
В развитии и изменениях, в реальных противоречиях движения в будущее и предстает в лучших произведениях В. Астафьева народная трудовая сибирская жизнь. Вот почему крутая, обжигающая ненависть писателя к социальному и нравственному злу, в том числе к язве собственничества, патриархальной дикости, которые подтачивали в прошлом трудовые нравственные устои деревни, органически соединяется в его творчестве с пламенным чувством любви к труженикам, в чьих душах — свет подлинной человечности, сплав общечеловеческой и новой гражданской нравственности.
Ключевым произведением в творчестве В. Астафьева является его повесть «Последний поклон». Это книга новелл и рассказов автобиографического характера, складывавшаяся постепенно и объединенная, наконец, в единое повествование, в обширную панораму народной, крестьянской жизни 30 — 40-х гг.
Идейным, нравственным центром этого повествования о большой крестьянской семье Потылиных является бабушка героя Катерина Петровна — характер подлинно народный, крупный, достоверный, живой. В цикле новелл, посвященных сибирскому детству писателя, разворачивается лирическая летопись огромного чалдонского семейства, да и всей деревни. И не просто летопись, но еще и страстное признание в любви к России и обнаженная исповедь, позволяющая прикоснуться к тайная тайных — внутреннему миру героев этой автобиографической и, следовательно, документальной повести, тем нравственным уставам, по которым они правят жизнь. Мы соприкасаемся с миром широким и светлым, исполненным добра, любви и уважения к людям. Не некоего абстрактного, но социально активного, деятельного добра. Автор стремится воссоздать на страницах повести истинный облик дорогой его сердцу родины.
Принципиально важна для книги новелла «Фотография, на которой меня нет» — о сельской школе, о деревенских учителях. Глубокой и безукоризненной правдой дышат строки, рассказывающие о подвижничестве сельских учителей 20 — 30-х гг., о всеобщем и молчаливом уважении деревни к своим наставникам, о трогательной и ласковой заботе, которую проявляли к ним крестьяне.
В. Астафьев опирается на те чистые начала в народной нравственности, формировавшиеся трудом человека на земле, которые противостояли духу собственничества, социального эгоизма, внутренней заскорузлости, также проявлявшим себя в противо-
речивой крестьянской душе. Он показывает, что нравственность того же Бориса Костяева, главного героя повести «Пастух и пастушка», посвященной войне, или внутренний мир героя автобиографической повести «Последний поклон» возникали не на пустом месте. Напротив, духовная прочность этих характеров определяется также и тем, что они наследовали могучую нравственную традицию, что выросли на почве народной культуры. Сила и прочность советского характера, столь ярко проявившего себя в годы войны, — в его глубинных исторических корнях, в органической слитности социалистического мировоззрения с многовековыми чаяниями людей труда, с лучшими, высокими традициями родной земли. Именно в этом — советском, народном характере, воплощенном ли в Катерине Петровне и ее многочисленных детях или в Борисе Костяе-ве и бойцах его взвода, в героях «Царь-рыбы», и олицетворяется в книгах В. Астафьева его родина, вчерашняя, сегодняшняя и завтрашняя Россия.
При всем богатстве современного литературного процесса «Царь-рыба» В. Астафьева поражает воображение, как, по всей вероятности, поразила бы воображение современного путешественника описываемая в книге отдаленная, глубиннейшая, енисейская Сибирь.
Впечатление такое, будто кусок жизни — странной, дикой, тяжкой и прекрасной — заговорил о себе, разверз свои тайны, приоткрыл завесу, изначально отделявшую его от других. Это ощущение самораскрытия мира, изображенного в «Царь-рыбе», проистекает не только из манеры повествования, лишенного жесткой сюжетной организации. Главное здесь — облик и образ автора, его внутреннее состояние, авторская позиция, проявляющаяся в почти полном слиянии, растворении в том мире, о котором повествуется в книге, в чувстве кровной принадлежности к этому миру, в ощущении себя полномочным представителем его.
Впрочем, подобное впечатление вместе с тем и обманчиво: оно плод не только действительно кровной сопричастности автора к изображаемой им действительности, но и следствие немалого художественного мастерства В. Астафьева. Ибо за неприхотливостью и мнимой бессюжетностью этого «повествования в рассказах», при, казалось бы, почти полном слиянии, самоотождествлении автора с жизнью и характерами, им описываемыми, тем не менее твердо ощущается осознанная, выношенная и выстраданная, причем глубоко современная гуманистическая позиция. Позиция человека, перестрадавшего не только чувством, но и мыслью коренные, главенствующие духовно-нравственные проблемы века, пропустившего через себя немалое количество непосредственного и опосредованного человеческого опыта. Позиция отнюдь не тождественная жизненным позициям героев, хотя и растущая из глубин жизни народной, вобравшая в себя многовековую мудрость родного народа и обогащенная работой отечественной и мировой мысли, пропущенной через чувство и мысль собственные.
В этом непростом единстве богатейшего собственного жизненного опыта, опыта народного, дающих писателю незаурядное, редкое по объему непосредственное знание жизни, и опыта опосредованного, именуемого знанием, культурой, мыслью, особенность творчества В. Астафьева в целом.
В движении к профессионализму, к которому столь трудно шел В. Астафьев, формировалась личность писателя. Масштаб этой личности и определил своеобразие прозы В. Астафьева, литературный, общественный масштаб его «Царь-рыбы». Это книга философской, вернее (если допустимо переосмысление и осовременивание старинных терминов), натурфилософской прозы, однозначное, однолинейное истолкование которой обедняет и, по сути дела, убивает ее. Книга, за которой не просто индивидуальный жизненный опыт, но страдание духа ее автора. Два могучих человеческих чувства составляют основу книги, суть авторского отношения к жизни, им изображаемой: любовь и боль. Боль, временами переходящую в стыд или гнев по отношению к тому, что насилует эту жизнь, искажает и уродует ее.
Читая рассказ за рассказом — «Бойе», «У золотой карги», «Рыбак Грохотало», «Уха на Боганиде», «Поминки», «Сон о белых горах» и другие, ты погружаешься в жизнь, ни на что не похожую, о которой не прочитаешь в книгах, потому что некому было раньше написать о ней, путем творческих командировок ее не узнаешь, да и невозможны командировки даже в недальнее прошлое. Жизнь в чем-то дикую, многотрудную и опасную, исполненную высокого и низкого, прекрасного и ужасного, ибо редко где человеку противостоит природа столь же суровая и неприступная, как в тех местах. Ты встречаешься здесь со своеобразными человеческими характерами и чрезвычайными, исключительными жизненными обстоятельствами, требующими от человека немалого мужества и жизненной силы, умения выкладываться до конца.
И столь же крупно, масштабно, трогая за живое, выявляет писатель то высокое и подлинно человеческое, что живет в душах этих людей, в каких бы тяжких жизненных обстоятельствах они ни находились. А герои его, как правило, далеки от идеальных. «Простодушные северные люди» здесь живут и сосуществуют рядом с «арестантами», которые прошли через таежный огонь, воду и медные трубы, однако хранят тем не менее в основании души своей груз человечности, который мучает их совесть и заставляет поступать по-людски. Даже са-
мые отпетые из них, пишет В. Астафьев, способны на «сердечное высветление, приходящее к человеку, который делает добро и удовлетворяется сознанием, что он еще способен его делать. И не потерян, значит, для семьи, для дома, для той, другой, утраченной жизни».
Эта способность «делать добро» и отличает героев В. Астафьева, подымая их порой, как то случилось с охотником и рыбаком Акимкой, до подвига самопожертвования в тайге. Их человеческие качества и определяют ту нравственную стойкость, устойчивость, которые с такой силой проявились в годы войны, — вспомним дивизии сибиряков, намертво стоявшие под Москвой; в них, наверное, были, могли во всяком случае быть многие из героев В. Астафьева.
Черно-белым контрастом рисует писатель характеры иные, утратившие эту нравственную остойчивость и устойчивость, в хищническом своем эгоизме утратившие связь с народом и землей. В страстном неприятии такого рода характеров, — скажем, бессердечного индивидуалиста Гоги Герцева или браконьеров-отпускников, приехавших грабить Енисей из далеких столиц, — писатель утрачивает подчас даже чувство художественной меры, переходит на фельетонный стиль.
Философия человека и его ценностей, которую утверждает автор «Царь-рыбы», обнаженно полемична и пристрастна. В основе ценностей человеческой личности, по убеждению В. Астафьева, лежит человеческий труд. «Душевная связь» людей, главное, что их объединяет в жизни, — «работа».
Повесть «Царь-рыба» В. Астафьева полна боли и негодования против браконьерства во всех видах и формах его проявления. Об этом и такие публицистически гневные новеллы книги, как «Летит черное перо», «Туруханская лилия». С болью пишет В. Ас-
тафьев о том, что в течение веков деды и прадеды привыкли жить по «самондравному» закону: что хочу, то в тайге и ворочу! Кто, как искоренит эту давнюю страшную привычку хозяйствовать в лесу, как в чужом дворе? Привычку, оборачивающуюся подчас массовым браконьерством, а точнее, мародерством в глубинных, а потому беззащитных недрах тайги. Но, пожалуй, еще больший ущерб природе наносит бездумное хозяйничанье, стремление «заарканить» природу во что бы то ни стало.
Впрочем, было бы непростительной узостью трактовать «Царь-рыбу» В. Астафьева в чисто экологическом плане, лишь как произведение, ратующее за сохранение окружающей человека природной среды. Природа важна для В. Астафьева постольку, поскольку она необходима для человека, для его тела и души.
Его главная забота и тревога — человек. Тот человек, который ему дорог и близок, которого он знал по годам детства и отрочества, которого он вновь встретил в своей недавней поездке по родным местам. «Переменилась моя родная Сибирь, и всё переменилось, — заключает свое повествование писатель. — Всё течет, всё изменяется! Так было. Так есть. Так будет». Выдержит ли испытание этими переменами не только сибирская природа, но и возросший на ее лоне простодушный северный человек?
Вопрос этот оставлен в книге без ответа, он — открыт, ибо ответ на него в силах дать только сама жизнь.
Но он поставлен, сформулирован, потому что тревожит писателя. Слишком уж круты перемены, причем материально — в лучшую, несоизмеримо лучшую сторону. Достаточно сравнить голодное, страшное, нищее детство Акимки и нашу сегодняшнюю благополучную, сытую жизнь. Цивилизованную — от транзисторов и телевизоров до мощных лодочных моторов «Вихрь» — жизнь, которая пришла и на берега Енисея.
Так в чем же тревоги, беспокойство, вопрос?.. «...Что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем?» — завершает книгу писатель.
Он мучается тем, как сохранить в этой новой, цивилизованной, благополучной жизни те общечеловеческие, гуманистические ценности нравственности, которые, несмотря ни на какие испытания, делали Акимок людьми. Как, приобретя новое, не растратить старое? Как сделать так, чтобы человек и внутренне соответствовал этим внешним переменам, чтобы его нравственность не поддавалась духовному браконьерству, чтобы человеческую совесть не оттеснил дух собственничества и стяжательства, умело использующий в своих целях даже технический прогресс?
Наследуя традиции великой русской литературы, современная советская проза о деревне опирается на те чистые начала народной нравственности, которые формировались трудом человека и которые противостояли духу собственничества, социального эгоизма, всему тому, что было следствием социальных условий, неравноправных общественных отношений. Она доказывает, что наша новая, социалистическая нравственность уходит корнями в то лучшее, что было накоплено трудящимся народом на протяжении тысячелетий. Наша литература настойчиво утверждает, что прочность духовных основ советского человека определяется тем, что он унаследовал могучую нравственную традицию, вырос на почве богатейшей народной культуры, формировавшейся трудом, борьбой, преображением земли. Стойкость советского характера, проявившего себя в годы войны, — в органической слитности социалистической идейности с лучшими вековыми традициями народной нравственности. Именно в таком советском, народном характере и олицетворяется в книгах о нашей деревне Родина — вчерашняя, сегодняшняя и завтрашняя Россия.
Человек дела и дело человека
1 ...Как принял начальник Черноярского сплавного участка Владимир Алексеевич Аленочкин новых работников — молодых инженеров Максима Ковалева и Бориса Егорова в повести В. Липатова «Черный Яр»? Он не развертывал перед ними сияющих перспектив, а вместо этого повел на берег реки, усадил на бревна, сел сам.
« — Вот что, коллеги-инженеры!.. — сказал он. — По современным романам и повестям, мне, начальнику, — он ткнул пальцем себе в грудь, — положено быть консерватором. А вам, молодым инженерам, велено быть передовыми людьми. Я должен зажимать новое, передовое!.. Так?
— Так, — сказал Максим.
— А коли так, то сразу объявляю, что я не консерватор. — Аленочкин торжественно поднял палец. — Я обеими руками, — тут он поднял для верности вторую руку, — я обеими руками голосую за новое и передовое».
Вот он какой, Аленочкин! Он отлично знает, каким должен быть современный передовой руководитель и изо всех сил старается походить на него. Всё — и лицо, и осанка, и свободные жесты — выдают в нем руководителя прогрессивного, волевого, энергичного, внимательного к людям, к делу, борца за новое. И дела у него идут хорошо: вот уже несколько лет участок в передовых. Чего же более? И что тут удивительного, что молодой специалист Максим Ковалев с первых же дней увидел в Аленочкине отличного руководителя и настоящего человека?
Его понимает лишь сестра жены, старая учительница Софья Борисовна, — «идеалистка», как с насмешкой зовет ее Аленочкин.
Маленькая, худенькая, с остро торчащими лопатками, по-девчоночьи порывиста и суетлива, хотя ей уже за пятьдесят. В повести она обрисована несколькими штрихами, но нам хорошо знаком этот тип людей по жизни и по литературе. Комсомольцы 20-х гг., сумевшие пронести через всю жизнь непорочность убеждений и юношескую чистоту души.
Она обостренно чувствует безыдейность Аленочкина, понимает, что, несмотря на маскировку, Аленочкин — «мещанин в душе и мыслях», только «мещанин высокой марки, не из тех мещан, которых можно узнать по канарейке и вышитым салфеточкам». Она мучается почти полной невозможностью «припереть к стенке» Аленочкина.
Быть может, в основе поединка Софьи Борисовны и Аленочкина именно это: неприятие «идеалисткой» 20-х гг. «приличной обстановки», естественной для нашего времени?
В таком случае многое можно возразить Софье Борисовне. И прежде всего то, что рост благополучия советских людей — норма жизни нашего общества.
Но нет, приличная обстановка в квартире Аленочкина волнует Софью Борисовну не сама по себе, а потому, что для Аленочкина в ней — смысл жизни!
Смысл жизни, закамуфлированный правильными, высокими словами. Этот камуфляж и делает поединок с Аленочкиным таким трудным.
«... Безобразие, — вдруг громко говорит Владина развороте: В. Попков «Строители Братска»
(фрагмент)
мир Алексеевич и, положив газету, строго постукивает по ней пальцами. — За такие дела надо судить! Безобразие!..
Владимир Алексеевич делает руками гневное движение.
— Объем заготовок мяса по области увеличен на шестнадцать процентов, а холодильное хозяйство... — Он раздраженно мнет газету. — А холодильное хозяйство сокращено. Погибло пятьдесят тонн мяса!».
Подобные речи, которые выдают в нем радетеля за общее дело, Аленочкин произносит специально для Софьи Борисовны и людей, ей подобных. У него целая система поведения, тщательно продуманная и выверенная. Безыдейный и беспринципный человечек рядится в тогу борца за интересы народа. Он — и чуткий руководитель, и охранитель основ, и убежденный новатор. Он — инициатор того, чтобы огромный, десятитонный погрузочный кран, только что полученный участком, включить в эксплуатацию на три недели раньше срока: «Мы должны сделать почти невозможное, товарищи! И мы сделаем!»
Аленочкин идет на риск: подобное решение грозит невыполнением плана, потерей премиальных. Но он идет на него. Почему? Из убеждения? Нет. Потому что в конечном счете ему это — выгодно. Выгодно слыть идейным, партийным и передовым. Выгодно слыть борцом за новое. Выгодно числиться на хорошем счету в управлении.
Обыватель и тонкий приспособленец, Аленочкин искусно использует для себя прогрессивные принципы времени: принцип материальной заинтересованности, поддержку нашей партией и государством всего передового, нового, прогрессивного.
В романе В. Липатова «И это все о нем...» мы встречаем фигуру мастера Гасилова, являющего собой как бы слепок с Аленочкина. Борьба с «гасиловщиной», т. е. современным мещанством, — центральная проблема романа.
С вниманием естествоиспытателя, со страстью бойца исследует В. Липатов различные виды социального эгоизма, все глубже вглядывается в сегодняшнюю психологию индивидуалиста, обывателя. И что особенно важно: Липатов исследует поведение мещанина не только в быту, но и в острейших конфликтах и коллизиях современного труда.
Индивидуализм — это порождение психологии мещанства — далеко не всегда открыто связан с жаждой наживы и приобретательства. Доминантой характера Клима Самгина является не стяжательство, но индивидуализм, испепеливший его душу. Стихия психологии мещанства сложна и многообразна. Сюда входят различные компоненты. Не только стяжательство, не только приспособленчество, не только карьеризм, но и пошлость, цинизм, духовная убогость и ограниченность, душевная черствость, равнодушие к человеку.
Не на голом месте возник в творчестве Липатова социальный тип современного мещанина, воплощенный им в характерах Аленочкина и Гасилова. В одной из самых первых своих повестей — «Шестеро» — В. Липатов нащупывает характер, побитый молью индивидуализма. Это тракторист Гулин, вкупе с пятью товарищами перегоняющий тракторы в глубинный леспромхоз. Живет в нем неутоленное стремление стоять над людьми, первенствовать, командовать. А когда приходит час трудного испытания на человеческую прочность, Гулин ломается. В чем причина этой хлипкости? Быть может, он физически слабее своих товарищей по бригаде? Нет, дело в том, что природная сила не подкреплена у Гулина чувством ответственности перед коллективом, чувством долга перед обществом. Всю жизнь Гулин беспокоится только о самом себе.
Так же намерена прожить свою жизнь Виктория Перелыгина из повести В. Липатова «Стрежень».
Совсем юная девчонка, вчерашняя десятиклассница, она поступает в рыболовецкую бригаду, чтобы заработать рекомендацию в вуз. На первый, невнимательный взгляд Виктория Перелыгина — чуть ли не «положительная» героиня времени. Сильная, волевая, энергичная, хорошо знающая, чего она хочет. Виктория со всей искренностью повторяет известные слова Николая Островского о том, что жизнь нужно прожить «так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Эти слова вызывают у нее желание «идти по жизни гордо, решительно, добиться многого, стать большим человеком».
Неожиданны для Виктории слова старого рыбака Евстигнея: «Не знаю, не знаю — врачом, пожалуй, не станешь. Нет, не станешь! Не дадим пока документа. Нет, не дадим! С первого класса тебе, Перелыгина, придется начинать!» Виктории страшно. Ей не понятно, о каком «первом» классе говорит этот старый человек. «В первый класс жизни пойдешь... жизни тебя учить станем!»
Викторию надо учить азам человеческого поведения: доброте, чуткости, вниманию к людям. Эти качества у нее в зачаточном состоянии. Из таких вот эгоистов и индивидуалистов и вырастают люди, подобные Аленочкину, Гасилову или механику Изюмину в повести В. Липатова «Глухая мята».
Для Изюмина не существует никаких иных, кро ме своекорыстных, стимулов жизни и труда: творчество, товарищество, ответственность перед обществом — все это лишь высокие и громкие слова. Впрочем, он успешно пользовался ими, когда делал собственную карьеру. Изюмин — это тот же Аленочкин, только Аленочкин пока преуспевает, а Изюмин уже сгорел...
Не знают лесозаготовители, что Изюмин — бывший главный механик соседнего леспромхоза. Что еще недавно гремел по области и срывал бурные аплодисменты на совещании после «эффектных, умных, идейных выступлений», но был снят с работы и исключен из партии «за администрирование, карьеризм, пренебрежение к нуждам рабочих». А теперь сам попросился на трудный ответственный участок, чтобы работой, делом исправить ошибки, восстановиться в партии, начинать карьеру сначала.
Не знают, но чувствуют что-то чужое, недоброе в характере этого красивого, умного, волевого человека, отличного механика, дисциплинированного работника. Будто ржавь источает этот человек — при всей своей старательности, дисциплинированности, внешней лояльности к коллективу.
Долгое время не может понять его Григорий Семенов, бригадир, ухватить умом ту силу, которая противостоит ему в бригаде. «Сила незримая, неизвестная, но противоположная его усилиям». Эта сила — карьеристская психология Изюмина, которая видит смысл жизни лишь в собственном успехе, в утверждении себя. С обывательской, мещанской философией жизни механика Изюмина и идет в повести «Глухая мята» напряженный, непримиримый спор. Этот спор, собственно, проходит, с неодинаковой мерой успеха, через все творчество В. Липатова, начиная от ранних его повестей и кончая романом «И это все о нем...».
Излюбленная липатовская тема борьбы с мещанством соединена с детективным сюжетом. Впрочем, сюжет этот в романе, так же как и его повестях о «деревенском» детективе Анискине, не самоцель. Он подчинен решению нравственной задачи: выяснению тех социально-психологических обстоятельств, которые привели в итоге к гибели комсомольца Евгения Столетова.
Допросы свидетелей, которые ведет следователь Прохоров, дотошные его изыскания и составляют замысловатый, искусно построенный сюжет романа, по мере развития которого раскрывается как характер трагически погибшего Евгения Столетова, так и обстоятельства, которые привели его к гибели. Обстоятельства эти, как выясняется, не были уголовно наказуемыми, но могли и должны быть подвергнуты строгому этическому суду.
Вчерашний десятиклассник Женя Столетов погиб в схватке с мещанством, воплощенным в романе в образе мастера лесоразработок Петра Петровича Гаси лова, под началом которого Женя работал и в дочь которого Людмилу был влюблен. Он погиб в результате несчастного случая. Однако не эта ситуация и не детективная линия, связанная с бывшим уголовником Аркадием Заварзиным, которого подозревают в убийстве Столетова, составляют, по замыслу автора, суть романа, существо дела. Суть романа — в противостоянии Столетова и Гасилова.
Комсомольцы во главе с Женей приняли решение добиваться освобождения Гасилова от занимаемой должности. Разговор этот во многом повторяет сцену из повести «Черный Яр», где Аленочкин, сидя на бревне, беседует с молодежью, только разговор этот состоялся не на берегу, а в кабинете, где на современном поролоновом диване сидел человек с оте-чески-добрым, ласковым, доброжелательным, веселым лицом. «Не говоря ни слова, он взял Женьку Столетова за руку, не сильно потянув, посадил рядом с собой, а Борису Маслову показал место по другую сторону от себя. Пахло от Петра Петровича чем-то теплым и домашним, крупные складки упитанного лица источали уют и покой...» Помните Аленочкина? Гасилов, как и его литературный предшественник, всем своим видом и продуманной системой фраз стремился внушить своим молодым собеседникам, что он — не тот, за кого его принимают.
Однако развитие разговора комсомольцев с Гаси-ловым и финал его резко отличны от того, чем кончился разговор Максима Ковалева и Бориса Егорова с Аленочкиным. Если Максим Ковалев из «Черного Яра» и не помышлял вступать с Аленочкиным в борьбу, он не был готов граждански к этому, то Евгений Столетов и его друзья пришли к Гасилову именно для того, чтобы объявить ему войну. Комсомольцы приняли решение добиваться освобождения прославленного «передовика производства» Гасилова от занимаемой должности, до победного конца бороться с «гасиловщиной».
Евгений Столетов в романе «И это все о нем...» был задуман писателем как характер, воплощающий прежде всего гражданские начала жизни. Он достойный наследник революционных традиций своего деда, Егора Семеновича, героя гражданской войны. Дед воспитывал Евгения в ненависти к мещанству.
Столетов называет Гасилова «мещанином на простейших электронных лампах», имея в виду элементарность его сугубо эгоистических целей. Однако «гасиловщина» обладает огромной притягательной и деморализующей силой, разлагающей, развращающей людей. При видимой «современности» форм ее существования она сохраняет свою «окуровскую», бездуховную, хотя и притягательную для нищих духом людей, суть. Когда технорук Петухов взирает на своего подчиненного, мастера леса Гасилова, в его глазах, сообщает писатель, легко читаются две четкие, откровенно бесстыдные, голые мысли — восторженное: «Вот как надо жить!» — и мрачное, почти угрожающее, непоколебимое: «Ладно, ладно! Я скоро буду жить еще лучше!»
Духовную, подлинно одухотворенную силу времени и призван воплотить Евгений Столетов. Он задуман как характер героический. Такие парни, как Евгений Столетов, в минувшую войну бросались
грудью на доты... Евгений не бросался на дот... Он погиб в борьбе с мещанством, которое в его созна нии отождествлялось с «гасиловщиной».
Советская литература смелее и глубже всматривается в такого рода характеры, выражающие веду щий социальный тип времени реального социализма и научно-технической революции. Она верна в этом традициям литературы социалистического реализма, утвердившей в мировом литературном процессе эстетику созидательного труда. Вспомним «Мать» М. Горького и «Поднятую целину» М. Шолохова, героев Ф. Гладкова, А. Малышкина, публицистику М. Шагинян, романы о людях первых пятилеток...
В. Иванов в своих записных книжках писал: «В чем особенность нашего времени? По-видимому, в том, что обращается особо пристальное внимание на человека труда и на то, как он трудится. Вернее сказать, на того, кто хорошо — или сверх хорошо — трудится, умеет трудиться...»
О таких людях — «Далеко от Москвы» В. Ажаева и «Кружилиха» В. Пановой, «Битва в пути» Г. Николаевой и «Знакомьтесь, Балуев!» В. Кожевникова, «Утоление жажды» Ю. Трифонова и «Иду на грозу» Д. Гранина, «Территория» О. Куваева и «Юность в Железнодольске» Н. Воронова, циклы романов о рабочем классе В. Попова и М. Колесникова...
Всмотримся внимательно в произведения, авторы которых в последние годы и даже десятилетия шли к постижению ведущего героя современности, и с полной очевидностью увидим и поймем, что конфликты в этих произведениях носят не просто производственный, но социально-нравственный характер.
В романе «Утоление жажды» Ю. Трифонова немало вдохновенно написанных страниц, посвящен-
ных массовому героизму людей, например самоотверженной борьбе строителей с прорвавшейся водной стихией. Но прозаику особенно важно было проследить, какие нравственные и психологические залоги подготовили этот подвиг тысяч людей. В пристальном внимании к духовному, нравственному миру покорителей пустыни, к нравственным, психологическим конфликтам их труда — своеобразие романа Ю. Трифонова.
Мы в полную меру ощущаем дыхание огромной стройки, масштабы «дела» — «огромного, гораздо больше старости, больше разлук и болезней и всего остального, что приходится испытать человеку». Мы видим людей этого «дела», которые отдают делу всё: здоровье, душу, разум, сердце. Таков начальник стройки Ермасов, начальник участка «Пионерный» Карабаш, его правая рука — инженер Гохберг, строители Мартин Егере, Бяшим Мурадов, Беки Эссенов. Люди крутые, сильные, своеобразные, романтики нашей эпохи.
Конфликт враждующих сторон в романе «Утоление жажды» — технический, производственный, трудовой. И одновременно это конфликт идейный, нравственный. Спор идет по коренным вопросам бытия: как жить, ради чего жить?
Ермасов и Карабаш отстаивают партийное, честное отношение к порученному им делу. Они живут этим делом. Это люди принципов и убеждений. И вдобавок люди творческие. Меньше всего они озабочены личным преуспеванием, больше всего — темпами и качеством строительства. Они всерьез служат людям, обществу. Это коллективисты, бессребреники, новые люди времени.
Для их антагонистов — карьериста Хорева, чинуши и бюрократа Лузгина — интересы дела и общества полностью подчинены заботе о личном благополучии. Отсюда их беспринципность, безыдейность и карьеризм. Они приспособленцы и обыватели, ловко маскирующие высокими и громкими словами свою эгоистическую суть. Они умеют служить и прислуживать, но не умеют работать. Люди того склада, к которому принадлежат Карабаш и Ермасов, — инициативные, творческие, для Лузгина и Хорева опасны. Прав писатель, замечая, что главные причины вражды Ермасова с Хоревым и ему подобными «были гораздо глубже», чем представлялось: «Они отражали ту борьбу и ломку, которая происходила повсюду, иногда открыто, но большею частью замаскированно, скрытно и даже иной раз бессознательно. Люди спорили о крутизне откосов, о дамбах, но на самом деле это были споры о времени».
& Особенностью советской литературы является все более глубокое проникновение в реальную сложность нравственных противоречий действительности, все большая острота зрения в исследовании духовных коллизий, проявляющих себя в самых разных сферах жизни общества.
Время ускорения объективного развития повышает в цене качества образованности, деловитости. Но оно столь же резко повышает в цене и качества нравственные, неразрывно связанные с социальной сферой жизни, — совесть, честность, человечность, принципиальность, сознательность и убежденность, качества борца за социальный и научно-технический прогресс.
В романе Д. Гранина «Иду на грозу» нам открывается таинственный, неизведанный, романтический мир современной физики — мир дерзаний, поисков и открытий. Роман убеждает: и в этом мире идет своя, беспощадная нравственная борьба между под-
10. Трифонов. «Утоление жажды».
Художник Н. Усачев
линными учеными, настоящими людьми, каким был Дан, каким является Крылов, и карьеристами, обывателями, посредственностями в науке, как Денисов, Агатов или Лагунов. Не способные к творчеству, всеми правдами-неправдами добивающиеся административной карьеры в науке, они едва не пустили под откос, ради маленьких своекорыстных устремлений, научный поиск Тулина и Крылова, пытающихся найти эффективный путь разрушения грозы.
В характерах Агатова, Денисова и Лагунова много общего с Аленочкиным В. Липатова, Хоревым и Лузгиным Ю. Трифонова, и прежде всего хищный интерес к жизни, прикрытый, замаскированный искусной социальной демагогией.
И тем не менее нерв произведения — не в этой лобовой схватке сил добра и зла. Он — в сопоставлении характеров двух друзей, физиков Крылова и Тулина. В том внутреннем споре, который долгое время, не сознавая того, они ведут. Крылов поклоняется Тулину, этому магу и волшебнику, общительному человеку, блестяще талантливому, четко организованному, абсолютно уверенному в себе.
«Куда бы Тулин ни шел, ветер всегда дул ему в спину, такси светили зелеными огнями, девушки улыбались ему, а мужчины завидовали». Его удачливость и уверенность в себе вполне обоснованны: он многое может, он может почти всё, так считает он сам, так считают другие. С покровительственной нежностью относится он к другу студенческих лет — неловкому, непрактичному, медлительному тугодуму Крылову. Видимо, такова уж его судьба — всю жизнь опекать этого рохлю, этого «лунатика», как прозвали Крылова на заводе, куда он попал, исключенный за пропуски лекций из института. И Крылов принимает это как должное — он, как и многие, влюблен в Тулина. Но даже ради него он не в силах
поступиться принципами — остаться в институте старого профессора Голицына, который мешает работе Тулина и, по мнению Крылова, занимает консервативные позиции. Тулину Крылов нужен у Голицына — свой человек в стане противника! Он обрушивает на Крылова весь свой сарказм, свою убийственную иронию («Кому помогает твое донкихотство, ты всем только мешаешь и портишь!») и как будто ударяется «о что-то неподатливо твердое, как кость».
«Как же мне идти к Голицыну, если я не согласен с ним и ты, Олег, с ним не согласен? От тебя отказаться? Но тут... тут мне и от самого себя надо отказаться. Раз у меня есть убеждения, я должен отстаивать их, а если я не сумел, то уж тогда лучше уйду, чем в сделку вступать». И он уходит — в тот самый момент, когда Голицын предложил ему возглавить лабораторию.
« Раз у меня есть убеждения, я должен отстаивать их» — вот та основа характера Крылова, нечто твердое, как металл, обо что ударяется Тулин. По мере развития событий в романе всё отчетливее выявляется принципиальное различие научных и жизненных позиций Тулина и Крылова.
Крылов — человек принципов, человек убеждений. Быть верным самому себе — это его природа, его естество. Он не может лгать ни в большом, ни в малом. Его стремление к правде, к честности переросло в нечто большее — в общественную, гражданскую, а следовательно, и научную принципиальность. Измена себе, измена принципам и убеждениям — для него акт противоестественный и потому невозможный. Это самое тяжкое и беспощадное наказание для его совести.
Крылов это понял после невольной измены своему учителю Дану: когда он под влиянием Лагунова, утратив веру в результативность поисков болыпого ученого, уехал на год в кругосветное путешествие на корабле «Витязь». За время путешествия Дан умер, противники его одержали победу и готовы приласкать любимого ученика Дана, в трудную минуту оставившего своего учителя. А для Крылова всё случившееся было трагедией. Тяжелой нравственной трагедией.
Коллизия Крылова и Тулина — это коллизия принципиальности и оппортунизма. Она раскрывает нравственную основу научного подвига, которая всегда — в бескомпромиссном стремлении к правде, к истине. Дан был великий ученый потому, что «он был прежде всего человек». Настоящий человек. «Стать человеком, прежде всего человеком» — к этому стремится Крылов. Его предельно честное, мужественное поведение, его бескомпромиссная борьба за правду в науке становится мерилом' нравственной ценности для героев романа. «Запустил я себя как личность», — думает противник Крылова — генерал Южин, наблюдая, с каким самозабвением и мужеством отстаивает Крылов то, что считает истиной. В армии Южина всегда считали храбрецом. Но тут он понял, что военная храбрость совсем не то, что гражданская, и что гражданскому мужеству ему, храброму генералу Южину, надо учиться у Крылова.
Крылов — подлинный, настоящий, большой ученый. И причина тому не только его талант. Крылов — большой, настоящий, мужественный человек. Верность убеждениям и принципам, верность себе для него естественна и необходима, как дыхание. В этом его сила. В этом его неизмеримое преимущество перед Тулиным — оно обнажилось до очевидности в минуту решающего испытания.
Гибель самолета во время полетов в грозу помогла противникам Тулина — Агатову и Логинову, возглавившим комиссию по расследованию причин аварии, прикрыть исследование грозы. Катастрофа повергла наземь волшебника и мага Тулина. У него не хватило сил защищать свою собственную идею. Он предал ее. И это предательство обнажило истоки оппортунизма Тулина, ущербность его жизненной позиции. Оно показало, что главным для Тулина, в отличие от Крылова, была не истина, но личный успех.
Тулин и в самом деле талантлив. Дальнейшая работа над темой — а Крылов, несмотря на предательство Тулина и решение комиссии, продолжил работу над ней — убедила его, насколько близко подходил Тулин к цели. И хотя не хватало основательности, серьезности в аргументации, он «обладал, конечно, исключительной интуицией, каким-то особым внутренним зрением». И несмотря на это — такова трагедия Тулина, — он не мог быть большим, настоящим ученым. Потому что не был настоящим человеком. Был «подонком», думал только о себе и способен был на подлость, на предательство. Философия жизни, которую исповедует он, не гражданская и в конечном счете узкоэгоистическая. Цель его деятельности — личный успех. В сравнении с Крыловым, который меньше всего думает о личном успехе и весь поглощен делом, поиском истины, Тулин просто мелкий человек.
Крылов — человек безукоризненного, рыцарского морального кодекса, новый человек нашей эпохи. Это-то и дает ему нравственную красоту и силу духа. Истоки крыловского характера — его принципиальность и неуступчивость, его поглощенность делом, а не собой, его кремневая нравственная чистота — где-то там, в 20 — 30-х гг. Крылов — современный наследник учителя Дюйшена, Веньки Малышева и Правдохи, боевой юности военных годов...
Это и есть корчагинский характер наших дней. Но его героизм особого рода: это героизм гражданской честности. Героизм, проявляющий себя в обстоятельствах повседневности, в ситуациях трудовых будней, он требует совершенно особого мужества — мужества гражданского, духовной и идейной зрелости, умения в любых обстоятельствах быть верным принципам, верным себе.
Роман О. Куваева «Территория» посвящен, казалось, обстоятельствам исключительным и даже экзотическим. Это роман о геологах, золотоискателях, их тяжелой и героической работе на Дальнем Севере, на территории «Северостроя».
В романе разворачивается борьба умов, стратегий, а в конечном счете — борьба двух разных подходов к делу: профессионального, талантливого и бесталанного, обывательского. Именно эта борьба и придает роману нравственный, гражданский пафос.
В центре повествования — характер молодого геолога Сергея Бакланова, характер интересный и значительный.
Но действительным героем романа является незаурядный геолог Чинков, «шаман золотоискатель-ства», его борьба. Чинков знает, где найти золото и как найти его. Но для этого Будде, как зовут Чинко-ва северостроевцы, надо победить не только природу, сопротивление сверхдальнего Севера на отведенной его управлению территории, во многих местах которой не ступала нога человека. Ему надо победить еще и сопротивление главного инженера «Северостроя» Робыкина, сделавшего карьеру несмотря на свою заурядность. Воевать с Робыкиным, свидетельствует роман, порой ничуть не легче, чем воевать с безлюдной и опасной тундрой.
Читатель с увлечением следит за извилистыми
О. Куваев. «Территория».
Художник В. Гольдяев
и трудными перипетиями борьбы Чинкова, борьбы, в которой правил нет, потому что для Робыкина цель оправдывает средства, а цель его в том, чтобы оставаться наверху. Робыкин не брезгует ничем, вплоть до политических наветов на своего противника: «Чинков действует точь-в-точь как капиталистический аферист... Даже в условиях капитализма его ждало бы банкротство и суд. В наших условиях Чинкову прежде всего придется отвечать по партийной и служебной линии».
Чтобы противостоять такому противнику, требуется многое, и прежде всего освоить тактику этой борьбы, борьбы особой, ни на что не похожей, овладевать которой учил коммунистов когда-то Ленин. Сила Чинкова в том, что он владеет искусством борьбы с робыкиными в совершенстве, ничуть не хуже, чем тайнами своей золотоискательской профессии.
Не будем пересказывать все перипетии упорной борьбы, в которой Чинкову пришлось мобилизовать все свое упорство, хитрость, безжалостный, суровый расчет, немалое тактическое искусство, незаурядный талант организатора, авторитет руководителя, увлечь на подвиг весь такой трудный, разнохарактерный коллектив. Чинков вырвал эту победу, преодолев сопротивление природы и сопротивление робыкиных.
Сосредоточим внимание на том, что мучает Чинкова — и автора. А мучает их вопрос о смысле жизни и нравственности.
Как Чинкову сохранить в этой жизни, в этой борьбе верность себе? Отвечая ударом на удар, исхитряясь и ловча, чтобы помочь делу, Советской власти, — как в этой борьбе сохранить нравственность?
Циник Гурин даже видит в Чинкове своего поля ягодку: «Есть цель. Есть ум. И абсолютно нет предрассудков, именуемых этикой». Сам Чинков с грустью говорит о себе, отвергая «глупую и невежественную» кличку, прилипшую к нему: «Я, знаете, специально почитал жизнеописание Гаутамы, прозванного позднее Буддой. Мы с ним антиподы. Он был человеком высоких нравственных начал, а я, знаете, грешен. Нет заповеди, которую бы я не нарушил. Он проповедовал созерцание и невмешательство в суетные дела мира, а я вмешиваюсь и суетлив. Он был святым, а меня сочтет ли кто за элементарного праведника?»
За этой внешней, горькой иронией Чинкова над «высокими нравственными правилами» мы ощущаем фундамент подлинной нравственности. Понимание того, что «стопроцентная добродетель пока достигнута только в легенде, но, если ты веруешь в грубую ярость твоей работы, стоит жить».
Настолько обогатилось духовно, нравственно это слово — работа — для наших современников, какой огромный заключает оно в себе сегодня смысл! Герои О. Куваева с изумлением думают о той «силе, которая заставляет их рисковать, тревожиться, лезть на рожон... Силой этой называлась работа. Но что такое работа? Кто может дать этому краткое и всеобъемлющее определение? Страсть? Способ самоутверждения? Необходимость? Способность выжить? Игра? Твоя функция в обществе? И так далее, до бесконечности».
Таков внутренний фундамент духовности и нравственности Чинкова, таких людей, как Чинков. Их все больше и больше появляется в нашей литературе. Вспомним Ермасова из «Утоления жажды» Ю. Трифонова: «...Если нет дела, которое любй!нь, которое больше тебя, больше твоих радостей, больше твоих несчастий, тогда нет смысла жить». Дело, о котором говорит Ермасов, которым поглощены герои романа «Территория», может быть только делом для людей. Делом «не во имя денег, так как они знали, что такое шальные деньги во время работы» на «Территории», даже не во имя долга, так как настоящий долг сидит в сущности человека, а не в словесных формулировках, не ради славы, а ради того непознанного, во имя чего зачинается и проходит индивидуальная жизнь человека». Во имя осмысленности бытия.
Этот путь к осмысленности, одухотворенности человеческого существования возможен лишь для тех, кто преодолел в себе эгоистическую замкнутость, кто устоял против гипноза приобретательства и безопасных уютных истин, кто открыл свою душу широким общественным интересам. Лишь в приобщении к общему делу, в коллективном сознательном труде, в работе на благо людей, общества человек с наибольшей полнотой раскрывается как личность, находит смысл существования, духовно обогащает себя. Одухотворенность человеческой личности определяется прежде всего мерой ее причастности к неотложным заботам общества, объемом общественных интересов, преодолением собственного эгоизма, индивидуализма, богатством и разнообразием социальных связей и отношений с людьми.
В одном своем интервью «Литературной газете» известный советский ученый, академик А. Н. Несмеянов заметил: «Нравственность бывает разная не только у разных обществ, но и у разных людей. Почтенный в буржуазном обществе коммерсант у нас считался бы эксплуататором и спекулянтом...»
Истина, скажете вы, элементарная... Но чтобы понять проблему до конца, полезно бывает иногда вернуться к азам, к истокам, к первоэлементам, не боясь упреков в элементарности.
Нравственность вырабатывается в труде, в отношении к делу, и характер ее определяется социальным качеством труда, стимулами труда, отношением человека к делу.
Новая, социалистическая, а впоследствии коммунистическая нравственность и психология растут в конечном счете из принципиально новых общественных, социальных, экономических взаимоотношений людей. Новая нравственность не только обусловливается новым качеством труда, но и проявляется прежде всего в нем, в свою очередь воздействуя на него.
Вот почему конфликт новой и старой морали обнаруживает себя прежде всего в труде. Человек и его дело — это не только производственные, но и нравственные отношения в условиях социализма. Отношение к делу: честное или бесчестное, корыстное или бескорыстное, творческое или бездушно-бюрократическое, высокообщественное или карьеристско-индивидуалистическое — и есть критерий основных жизненных принципов человека, его духовности или бездуховности, его философии жизни и понимания себя.
Гражданственность — вот альфа и омега нашего времени, продолжение традиций революционной идейности в современных формах труда и борьбы. Гражданственность в наших социалистических условиях есть важнейшая составляющая человеческой одухотворенности. Гражданское отношение к жизни и к делу — это путь наиболее полного выявления творческих возможностей человеческой личности. Социальная активность, продиктованная общественной сознательностью, нравственное отношение к своему делу, личная ответственность за то, что происходит вокруг, готовность на борьбу за истину и справедливость, за общественные интересы — таковы черты подлинно социалистической личности, которые как воздух необходимы нашему времени. Время требует, чтобы каждый чувствовал себя гражданином в полном смысле этого слова, заинтересованным в общенародном деле и несущим за него свою долю ответственности.
Литература наша чутко реагирует на эту современную потребность, раскрывая гражданские начала как определяющие духовную структуру личности передового человека наших дней, утверждая чувство социальной ответственности за судьбы народа, общества, государства.
За всё в ответе — определил гражданскую суть характера советского человека А. Т. Твардовский.
Стремление к тому, чтобы каждый труженик чувствовал себя хозяином в своем колхозе, на своем заводе и, более того, представителем страны, неотделимо в жизни и литературе от его противодействия и борьбы со всем тем внутренним и внешним, что мешает формированию и проявлению в человеке социальной активности, гражданского отношения к жизни. Борьбы, которая, в зависимости от результатов, ускоряет или замедляет ход общественного развития, потому что мелкобуржуазная, мещанская философия жизни, противостоящая нравственности гражданской, не только главный источник бездуховности, но и тормоз общественного прогресса. Современный гражданский характер в советской литературе раскрывается в противостоянии тем социальным явлениям, которые можно обозначить формулой «мертвый хватает живого». Это борьба с социальным эгоизмом мещанина, приспосабливающегося к социалистическим условиям существования, с мелкобуржуазным анархизмом и распущенностью, отвергающими дисциплину, с обывательским «моя хата с краю», с карьеризмом и бюрократизмом, убивающими инициативу, самостоятельность и самодеятельность тружеников.
Гражданское мужество дается порой нелегко. И обязанность литературы — готовить молодых к гражданскому подвигу. Молодые должны знать, что жизнь противоречива и сложна. Она далека от райской идиллии, она по-прежнему — борьба. И быть принципиальным, убежденным, граждански честным человеком совсем не просто, это не награда, не отличие, но преданное служение, служение идее, долгу, собственной совести, в конечном счете — обществу и народу. Но каким бы трудным ни был этот путь, и мало надежды, что по нему придешь к преуспеванию и покою, он единственный, на котором ты сможешь остаться человеком.
Вот почему столь важно для воспитания и самовоспитания молодых знание жизни. Идеалистическое воспитание, когда жизнь представляется райскими кущами, в которых остается только срывать плоды, — одна из причин разочарования, скепсиса, уныния иных молодых. Столкнувшись с реальной действительностью, они начинают обвинять весь мир. Из восторженных идеалистов они легко превращаются в нытиков, а то и циников. Причина тому чаще всего в слабости основ гражданского самосознания, в отсутствии реального и точного представления о трудностях и противоречиях реальной действительности, в неумении самостоятельно осмыслять эти трудности, вырабатывать мужественную позицию в борьбе.
Вот почему такое важное значение для воспитания молодежи имеет высокое слово «идейность» в истинном, ленинском понимании его. Идейность должна вырабатывать в душах молодых людей презрение к приобретательству, жажду подлинных духовных ценностей, высоких гражданских убеждений. Чем лучше, чем обеспеченнее мы будем жить, тем большее значение будет приобретать уважение к тому, что является подлинными человеческими ценностями.
«Предметы роскоши, комфорта, дорогие модные вещи только тогда имеют право на существование в руках владельца, когда они явились побочным результатом больших усилий человека в сфере совсем иной деятельности, — пишет В. Розов. — Поясняю: молодой человек увлечен математикой, это его призвание, его страсть, его творческий смысл жизни. Он добивается серьезных успехов в избранной им области знаний, завоевывает признание людей, труд его оплачивается высоко, и, когда он окружает себя ценными, дорогими вещами, это не кажется вульгарным, потому что не они для него главное. А если бы в юности этот же человек направлял свою умственную, духовную и даже физическую энергию не на науку, а на жадное желание иметь модные ботинки и рубашки, на покупку какого-нибудь дорогого транзистора или магнитофона — поскольку это, мол, признаки преуспевания, — то с уверенностью можно сказать, что не было бы чудесного ученого, а в лучшем случае был бы лишний спекулянт от науки... Я хочу, чтобы каждый человек был свободен от материального недостатка, но недопустимо, когда погоня за материальными благами жизни становится самим смыслом жизни. Это абсурд и чертовщина!»
Это, пожалуй, хуже, чем абсурд и чертовщина. Это предательство по отношению ко всему истинно человеческому, по отношению к человеку, по отношению к духовным ценностям человечества. Перестройка нашего общественного сознания в духе решений XXVII съезда КПСС требует от каждого — если он стремится быть граждански честным человеком — идейности и убежденности, продолжения той борьбы за торжество коммунистических, революционных идеалов, которую начинали наши деды и отцы.
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) —
творческая студия БК-МТГК.
|