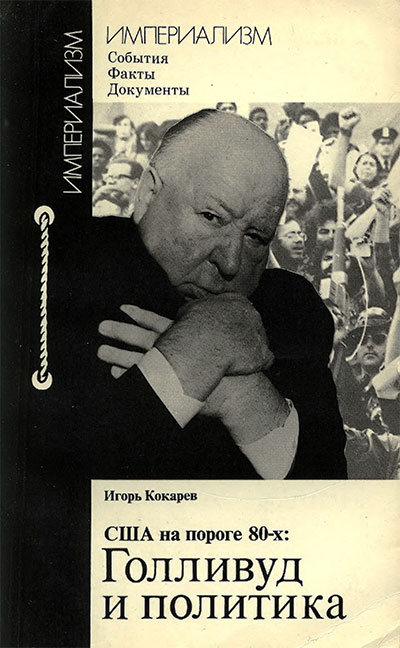Полный текст книги
ПРЕДИСЛОВИЕ
О кино пишут разные книги — теоретические, исторические, публицистические. Пишут также книги об отдельных мастерах киноискусства и даже об отдельных фильмах. Книга, лежащая перед читателем, посвящена кино как историческому документу. Известно, что в одежде, манерах, формах общения зримо запечатлевается на экране облик времени. И в житейских конфликтах, и в характерах людей, и в насущных проблемах здесь проглядывает то, чем люди жили, о чем думали, беспокоились, по поводу чего огорчались или радовались. Для такого взгляда на американское кино (назовем его социологическим), кажется, самое подходящее время.
Как отмечалось в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии, «современный капитализм, эксплуататорская природа которого не изменилась, во многом отличается от того, каким он был в начале и даже в середине XX века. Под влиянием и на фоне научно-технической революции еще острее становится конфликт между гигантски выросшими производительными силами и частнособственническим характером общественных отношений. Здесь и увеличение безработицы, обострение всего комплекса социальных проблем. Традиционные формы консерватизма уступают место авторитарным тенденциям». Понятно, что тенденции эти не могли не затронуть и кинематограф. Пожалуй, впервые в США экран так ярко и откровенно обнажил человеческий драматизм переживаемых буржуазным сознанием исторических перемен.
1 Горбачев М. С. Политический доклад Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза. М., 1986, с. 15 — 16.
Никогда еще видеокультура не претендовала на столь важную роль в политической и культурной жизни общества, не проявляла столь въедливого интереса к повседневным мыслям и чувствам американцев, обеспокоенных непредвиденными историческими переменами. Никогда еще само американское общество не переживало столь стремительной эрозии своих духовных ценностей, ибо «ни в один другой период своего существования человечество не испытывало такого давления фальши и обмана, как сейчас»
Кинотелеэкран в США — это своеобразный щуп настроений, испытательный полигон для мировоззренческих программ левого и правого толка, пестрота и противоречивость которых говорят о кризисном состоянии американского общества.
Оставаясь идеологической монополией правящего класса, Голливуд идейно и художественно оформляет прежде всего социальные ощущения и чувства «средней Америки» — сытого большинства, которое еще не расстается с основными принципами американизма: индивидуализмом, частным предпринимательством и рыночной экономикой. В то же время перестроившийся Голливуд теперь стремится учитывать активность и других социальных слоев, нередко уступает их стремлению выразить на экране свои собственные умонастроения, но так, чтобы они не вышли за рамки буржуазной идеологии.
Сегодня не только марксисты утверждают взаимосвязь искусства и жизни. Многие идеологи пытаются разобраться в хаосе несравнимых по идейно-художественным качествам фильмов, понять, как пульсирует в нем общественное сознание. За пестротой сюжетов, конфликтов и характеров социологи, историки, политологи стремятся разглядеть не только жизнеподобие, но и движение социальной психологии масс, понять уловленную художниками логику поведения, ее психологическую мотивировку, а затем докопаться и до социальных типов, сменяющих друг друга на исторической сцене.
Например, стоит всмотреться во взбалмошных, но инстинктивно антибуржуазных, нравственно чистых и одиноких героев Дастина Хоффмана, сыгранных им на протяжении почти двух десятилетий начиная с «Выпускника», «Полночного ковбоя» и «Маленького большого человека» до знакомых советскому зрителю «Крамер против Крамера» и «Тутси», чтобы увидеть черты и эволюцию того бунтарски-романтического типа личности, который родился в недрах контркультуры 60-х и с поправками на время дожил до 80-х. Или выстроить в ряд деятельных общественниц — героинь Джейн Фонды, появившихся на экранах не в легкомысленной эротической «Барбарелле», то есть не с начала ее коммерческой карьеры «кинозвезды», а лишь с 70-х годов в таких полных гражданского пафоса фильмах, как «Джулия», «Возвращение домой», «Китайский синдром», «Электрический всадник», «С 9-ти до 5-ти», чтобы нам раскрылся духовный облик новой американской женщины — общественной деятельницы, разбуженной в американке 70 — 80-х годов подъемом феминистского движения. Или же, с другой стороны, вывести на крупный план суперме-нов-карателей Клинта Иствуда, все беззаконней и кровожадней борющихся с уличной преступностью в городских вестернах вроде «Грязного Гарри» и «Смеющегося полицейского», чтобы нам в лицо заглянул отлакированный лик американского фашизма.
А разве случайны на американском экране 70-х годов мотивы ретро в таких картинах, как «Последний киносеанс», «Американские зарисовки», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», и десятках других, проникнутых грустными интонациями увядания? Разве не отразили они в эпоху кризисов стихийный отход национального духа от рекламного американского оптимизма? Так что если мы хотим понять, как и почему такие картины появились на свет, нам придется заглянуть за экран.
Кстати сказать, может быть, потому иной наш зритель попадает под дурное влияние западных фильмов, подхватывая образцы чуждого нам поведения, что просто не умеет вписать их в тот социальный контекст, где они родились, не стремится понять логику породившей их морали. Забывает, что в основе этих фильмов лежит принципиально противоположная нашей система ценностей, иной образ жизни и совсем другие проблемы. Эта склонность воспринимать явления чужой культуры сквозь призму культурных традиций и опыта своего народа называется в социологии этноцентризмом и означает тот элементарный факт, что «отправным пунктом восприятия и оценки чужих обычаев, нравов и т. д. является опыт своей собственной этнической группы; речь здесь идет не об определенной системе взглядов, а, скорее, о некотором неосознанном чувстве, которое окрашивает наши восприятия и представления»1. Нам кажется, что так, как у нас, — норма, а все остальное — отклонение от нее. Но ведь где-то как раз наша норма считается отклонением!
Советский социолог И. Кон, рассматривая явление этноцентризма, отмечает в нем и такую особенность: в одних случаях люди подсознательно отдают предпочтение своему образу жизни перед всеми остальными, а в других — обнаруживают нечто вроде комплекса неполноценности, благоговея перед всем чужеземным. В условиях напряженного сосуществования государств с различными социально-политическими системами и обострения идеологической борьбы этноцентризм как социальнопсихологическое явление требует осознанной корректировки, так как в первом случае — безоглядного охаивания «не нашего» — он оглупляет идеологического противника, сужает плацдарм взаимного доверия между народами, а во втором случае — некритического переноса на родную почву заведомо чужеродных ценностей — ведет к неоправданным потерям в идеологическом воспитании.
Вспомним, как бывает: американский (итальянский, французский — в данном случае все равно!) фильм, попадая в наш прокат, меняя нередко еще и свое название и неповторимые интонации актерской речи при дублировании, утрачивает свойственный художественному произведению подтекст, свою общественно-политическую актуальность, которые, скорее всего, и обеспечили ему популярность там, на его родине. К примеру, очень насмешившая американцев интеллектуальная комедия Вуди Аллена «Уснувший» (1973), о человеке, проснувшемся в XXI веке, у нас показалась бы не смешной, так как в большинстве ее шуток содержались намеки на личные недостатки известных в США лиц и на особенности конкретных политических ситуаций.
Или возьмем пример из практики нашего проката. Дело было во Владивостоке. В зале обычного кинотеатра шло обсуждение американского фильма «Крамер против Крамера». На вопрос ведущего, почему героиня — молодая женщина — без всяких видимых причин уходит из совершенно благополучной семьи, кто-то из зала кратко бросил: «Потому что с жиру бесится!» Зал рассмеялся, поддержав таким образом неожиданный ответ. Кстати сказать, не такой уж и неожиданный. В самом
1 Кон И. К проблеме национального характера. — В кн.: История и психология. М., «Наука», 1971, с. 127.
деле, что показывают? И любящий, и любимый, и непьющий муж, очаровательный здоровый ребенок, уютная квартира с достатком, — по нашим соображениям, для разрушения семьи здесь нет видимых причин. Вот и получается, что немотивированный для нашего здравого смысла уход героини из семьи оставляет зрителя равнодушным к ее внутренней жизни, ослабляя тем самым интерес к картине, которая, между прочим, в 1979 году стала в США чемпионом кассовых сборов, опередив все боевики и галактические суперприключения.
Что же касается образа главного героя — скромного дизайнера, оставшегося отцом-одиночкой и вынужденного уйти с хорошо оплачиваемой, но отнимающей много времени работы ради малолетнего сына, то здесь для нашего зрителя, наоборот, нет никаких вопросов. Просто не на чем взгляд остановить: меняет человек работу по семейным обстоятельствам. Подумаешь, дело житейское... Кому из нас не приходилось ради семьи приносить в жертву свои интересы! Но в том-то и дело, что привычное для нас, для нашей морали, для американца 70-х годов оказывается смелым отходом от культурной традиции. Стоит вспомнить, как пробуждалось в это время самосознание американской женщины, как распространялись идеи «добровольного опрощения», чтобы стал понятным и успех картины, и мотивы поступков персонажей, и многие другие тонкости этой, как сразу выясняется, очень актуальной и даже политической картины.
Оказывается, во-первых, что в мотивах поступка героини — острая потребность раскрыть себя как личность. Так иллюстрируется один из лозунгов феминистского движения 70-х годов за женское равноправие. Причем, и это уже знак приближения консерватизма 80-х, в авторском отношении ощущается неодобрение таких крайних способов самоутверждения личности женщины через разрушение семьи. Во-вторых, поведение главного героя — это тоже вызов традициям. На этот раз — этике успеха. Двести лет капитализм учил американца деловой предприимчивости. Согласно этой этике герой фильма, очутившись в положении отца-одиночки, должен был рваться вверх по служебной лестнице с еще большей прытью, чтобы заработать для покинутого матерью ребенка на профессиональный уход нянек и надлежащее воспитание, словом, на все, что можно купить ребенку за доллары. Но герой Хоффмана предлагает принципиально иную линию поведения, согласно которой предпочтение безоговорочно отдается не купленной, а настоящей, пусть поначалу неумелой, но отцовской заботе о ребенке, хотя ради этого отцу приходится поступиться карьерой, выгодной работой. И то, что такая картина о симпатичном «непрактичном» отце нашла отклик у американского зрителя, говорит о идущих в обществе поисках альтернативных ценностей больше, чем иные многословные доказательства политологов.
Ну а что же владивостокский зритель? Тот зал, в котором шло обсуждение фильма, довольно быстро изменил свое отношение к нему, как только разглядел проблематику и остроту поднимаемых в нем проблем для современной Америки. Фильм из непритязательной мелодрамы превратился в художественный документ эпохи: теперь он показывал, как пробивают себе дорогу в американском обществе привычные для нас гуманистические нормы морали и нравственности.
Тогда подумалось: если культурный обмен между странами осуществляется ради мира и взаимопонимания, то не лучший ли это путь к цели — не примерять западный фильм «на себя», а постараться глубже понять «их», ощутить упругую силу социальной психологии другого народа, который развивается по своим законам. Для этого немного и надо: вернуть произведение в его родной контекст.
Конечно, копаться в потемках чужой, да еще не родственной тебе души — занятие иногда малоприятное, но это все же лучше бесплодных перепалок в духе классического «сам съешь!». Поэтому, чтобы избежать некритического переноса чуждых нам проблем и идей на нашу почву, есть только одно средство — научиться рассматривать их в контексте не нашей жизни, а той, где они родились. Как просто! И как трудно! Ибо если этот контекст с полуслова угадывается там и тогда, где и когда произведение рождалось, то здесь этот контекст еще надо сперва отыскать и показать зрителю, которому в темноте зрительного зала порой совсем не до Америки. И все же такая предварительная работа необходима. Без нее произведение войдет в наш культурный фонд автоматически, как ложный фрагмент нашего собственного опыта, потому что в акте восприятия, нескорректированного вовремя, мобилизуется прежде всего он, а не чужой, который известен хуже и вспоминается реже.
Теперь, оглядываясь на прошедшие 70-е годы, без особого преувеличения можно сказать, что не в последнюю очередь благодаря голливудским фильмам в короткий срок в США была создана благоприятная психологическая атмосфера для консервативного поворота огромной страны вправо. Советскому зрителю, который через зкран вглядывается в лицо народа, живущего по другим, во многом противоположным принципам и законам, небезынтересно узнать, как, под каким видом и в каких одежках вошел в американский дом рейгановский ультраконсерватизм. Почему трудности и проблемы, с которыми столкнулась Америка 70-х годов, привели к подъему неоконсервативной волны, а не, скажем, к мобилизации левых, прогрессивных сил? Или какое психологическое обоснование получило очередное оживление имперского мышления, варварская логика которого допускает самоубийственный рейгановский милитаризм, а вместе с ним и разнузданный антисоветизм, и политику государственного терроризма, и многое другое, что не укладывается в наши представления о цивилизованном обществе. И еще. Было бы недостаточно, рассказывая нашему читателю о мироощущении, свойственном разным слоям американцев, оперировать только теми американскими фильмами, которые ему известны по прокату в СССР. Не только потому, что этих фильмов маловато (американцы показывают нас у себя и того меньше). Но и потому, что прежде всего на экранах нашей страны по возможности представлена лишь лучшая часть американского кино, которая характеризует далеко не весь идеологический спектр американского общества. А сколько там картин, представляющих откровенно реакционную идеологию!
Голливуд теперь нередко затрагивает серьезные вопросы, но с каких точек зрения и в чьих интересах — вот вопросы, на которые не мешало бы иметь ясные ответы, коль скоро кино приобретает все больший вес в политике.
Чаще всего выходит как раз так, что в советском кинопрокате наш зритель знакомится с прогрессивнодемократическим и социально-критическим направлениями американской культуры, в то время как в газетах и в программе «Время» он видит политические заявления и политические акции этой империалистической державы, продиктованные другой, реакционной буржуазной моралью, защищающей узкокорыстные классовые интересы господствующей элиты этой страны.
Поскольку в задачу книги в какой-то степени входит объяснение подобного разрыва между действиями руководящих кругов США и чаяниями прогрессивной Америки, постольку автор обращается к фильмам, где отражены и иные взгляды на жизнь, где господствующей идеологией затронуты наиболее глубокие уровни общественной психологии, уходящие корнями вглубь двухсотлетней истории США. Нельзя, по-видимому, игнорировать общественный резонанс правых фильмов в Соединенных Штатах, настойчивое муссирование их прессой, что само по себе свидетельствует о живучести выраженных в них представлений, оценок, норм, идеалов, предложенных экраном социальных типов и моделей поведения. Тем более что их влияние по нынешним временам весьма ощутимо в политическом процессе США, от хода которого зависят и судьбы этой страны и, возможно, само существование человеческой цивилизации, поставленной под угрозу ядерного уничтожения.
Такая попытка проследить по фильмам без малого двух десятилетий эволюцию общественного сознания не могла бы осуществиться, если бы не заметное усиление интереса отечественной американистики к явлениям социальной психологии. В работах Советских ученых в последние годы систематизированы и типы политического сознания, характерные для Соединенных Штатов послевоенного периода, дан анализ социальной психологии классов США. Особенно выделяются коллективный труд ученых Института США и Канады АН СССР «Современное политическое сознание в США» (М., «Наука», 1980) и монография «Социальная психология классов» (под руководством Г. Г. Дилигенского. М., «Мысль», 1985). Они помогают увидеть скрытую взаимосвязь объективных перемен, произошедших в условиях жизни американцев, их отражение в летучем эфире общественной психологии и направляющие усилия идеологической «машины», что в конечном итоге и помогает объективно оценить эволюцию реального массового сознания этого общества.
Осмыслению идейно-нравственного содержания многих анализируемых автором картин помогли обстоятельные работы ведущих советских киноведов и критиков (В. Баскакова, А. Караганова, Г. Капралова, Р. Соболева, Е. Карцевой, К. Разлогова, Я. Березницкого и других), в которых дана принципиальная марксистская оценка тенденций «нового» Голливуда.
Неоценимую помощь в концептуальной организации книги оказали автору его коллеги по Институту США и Канады, в первую очередь Я. Н. Керемецкий и Б. Н. Люберецкая, которым автор глубоко признателен.
ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ ГОЛЛИВУДА: КРИЗИС ИНСТИТУТОВ
В 1979 году в США вышла любопытная книга под названием «Важнейшие фильмы. Кинематограф и наше столетие» — фундаментальный труд о фильмах как зеркале социальных перемен. Взвешивая с исторической дистанции общественное значение известных произведений кинематографа, ее авторы кинокритик Уильям Вулф и Лилиан Крэмэр Вулф выбрали из мирового кинематографа 38 картин начиная с 1915 года по наши дни. Таким образом, в книгу вошли картины, которые, на их взгляд, «оказали особое влияние на кино как на искусство и развлечение; внесли решительные изменения в стиль и содержание фильмов; открыли новые направления; оказали существенное воздействие на наши язык, привычки и образ жизни; передали дух эпохи; отразили важнейшие события времени; были предметом национальных дискуссий; сломали какие-то табу и барьеры; расширили наши горизонты или предложили новые формы выражения»
Логика эклектического мышления и пестрота критериев фундаментальности у буржуазных исследователей сказались на строгости отбора фильмов: рядом с «Броненосцем «Потемкин» Сергея Эйзенштейна оказалась скандальная порнопродукция «Глубокая глотка», с шедевром Чаплина «Новые времена» соседствует фильм ужасов «Франкенштейн»... Книга открывается фильмом Д. Гриффита «Рождение нации» (1915), в котором авторы, отмечая художественные достижения, видят концентрированное выражение расовых предрассудков той эпохи. Тут же, оставляя в стороне критерии социальной значимости, они выделяют малозначимую картину студии «Уорнер бра-зерс» «Певец джаза» (1927) как первую звуковую картину мирового кино. Среди действительно выдающихся фильмов американского кино в книге характеризуются «Новые времена» Чарли Чаплина как воплощение духа депрессии и деперсонализации, «Тропою грома» (1940) Джона
1 Wolf W., Wolf L. К. Landmark Films. The Cinema and our century. New York — London, Paddington Press, 1979, p. 10.
Форда — редчайший для Голливуда пример социального критицизма, «Песни под дождем» (1952) Джина Келли и Стэнли Донэна, символизирующие «золотой век» американского мюзикла, «Доктор Стрейнджлав» (1964) Стэнли Кубрика — черная комедия, заклеймившая безумие «холодной войны», «Беспечный ездок» (1969) Дэнниса Хоппера — символ контркультуры в кинематографе, «Шикарная песня славного Суитбека» (1971) Мелвина Ван Пибблза — девятый вал неистового негритянского кино, «Нэшвилл» (1975) Роберта Олтмэна — политическая сатира, знаменующая для авторов книги дальнейшее раскрепощение художественной формы.
Интересно, что каждый раздел книги Вулфов напоминает читателю о социально-историческом фоне времени, так как авторы остроумно предваряют анализ фильмов общей хронологической картиной очередного десятилетия Америки, набросанной крупными штрихами — важнейшими политическими событиями, определяющими, по их мнению, физиономию времени. Поскольку и наша цель в какой-то степени сквозь призму фильмов увидеть время, мы не устояли перед искушением заглянуть в книгу Вулфов, а именно и прежде всего в ту главу, которая посвящена интересующему нас времени — 70-м годам. Вот какие определяющие события увидели в этом десятилетии авторы:
— расстрел национальными гвардейцами четырех студентов в государственном университете в Кенте, штат Огайо, — 4 мая 1970 года;
— убийство полицией двух черных студентов в государственном колледже в Джексоне, штат Миссисипи, — 14 мая 1970 года;
— смерть генерала Де Голля, президента Франции, — 9 ноября 1970 года;
— принятие закона, допускающего к избирательным урнам молодых американцев, достигших 18 лет, —
1970 год;
— арест 13,5 тысяч участников небывалого массового антивоенного похода на Вашингтон — 2 — 5 мая 1971 года;
— публикация Даниэлем Элсбергом в газете «Нью-Йорк тайме» секретных документов Пентагона о тайных планах войны в Индокитае — июнь 1971 года;
— кровавая бойня в нью-йоркской тюрьме «Аттика», где вооруженными силами США при подавлении мятежа было убито 43 заключенных, сотни ранено, — сентябрь
1971 года;
— официальный визит президента Никсона в Китай — 20 февраля 1972 года;
— покушение на ультраправого политического деятеля, губернатора Алабамы, расиста Джорджа Уоллеса — 15 мая 1972 года;
— арест пяти взломщиков в штаб-квартире демократической партии в отеле «Уотергейт» при попытке установить подслушивающие аппараты — 17 июня 1972 года;
— победа на президентских выборах республиканца Никсона над демократом Макговерном. Никсон становится президентом США на второй срок — 7 ноября 1972 года;
— подписание Парижских соглашений об окончании войны во Вьетнаме — 28 января 1973 года;
— смерть Пабло Пикассо — 1973 год;
— убийство законного президента Чили Сальвадора Альенде во время фашистского путча, поддержанного американским ЦРУ, — 11 сентября 1973 года;
— четвертая арабо-израильская война на Ближнем Востоке — 6 — 24 октября 1973 года;
— отставка вице-президента США Спиро Агню в связи с обвинением его в уклонении от уплаты налогов — 10 октября 1973 года;
— объявление арабскими странами — экспортерами нефти нефтяного эмбарго США — 17 октября 1973 года;
— установление национального бейсбольного рекорда любимцем публики Аороном с результатом 715 очков — 8 апреля 1974 года;
— начало слушаний в конгрессе США по поводу импичмента президента Никсона — 9 мая 1974 года;
— убийство неизвестным расистом матери Мартина Лютера Кинга во время богослужения в церкви — 30 июня 1974 года;
— Никсон — первый в истории США президент, который вынужден уйти в отставку под угрозой импичмента, — 9 августа 1974 года;
— официальное избавление Никсона от суда президентом Фордом — 8 сентября 1974 года;
— в США впервые за тринадцать лет — 6,5 миллиона человек безработных — 1975 год;
— осуждение высших чиновников Белого дома Г.-Р. Холдемана, Дж. Эрлихмана, Дж. Митчелла, Ч. Колсона на различные сроки тюремного заключения по делу «Уотергейт» — 1 января 1975 года;
— отставка из Верховного суда по болезни престарелого судьи Уильяма О. Дугласа — 1975 год;
— арест дочери газетного магната Патриции Херст, сбежавшей несколько лет назад от родителей в военную левацкую организацию, — 1975 год;
— смерть испанского диктатора Франко — 1975 год;
— появление новых доказательств нарушений законов секретными ведомствами ЦРУ и ФБР — 1975 год;
— смерть Джоу Эньлая в Пекине — 1976 год;
— победа Джимми Картера в борьбе за пост президента США — 2 ноября 1976 года;
— гибель южноафриканского лидера Стивена Бико в полицейских застенках — 1977 год;
— визит президента Египта С адата в Израиль для мирных переговоров с премьер-министром Бегином — 19 — 21 января 1977 года;
— рождение в Англии первого в мире ребенка, зачатого искусственным способом, — 1978 год;
— впервые за 445 лет римским папой Иоанном Павлом II становится поляк, духовное лицо не итальянского происхождения, — 1978 год;
— более 900 членов секты «Народный храм» совершают массовое самоубийство в Джонстауне, Гайана, по приказу своего духовного наставника Джонса — 18 ноября 1978 года;
— президент Картер объявляет об установлении дипломатических отношений между США и Китаем — 1 января 1979 года;
— шах Ирана выезжает в США на каникулы, вслед за чем начинается исламская революция, изгнавшая США из Ирана, — 16 января 1979 года;
— военное нападение Китая на Вьетнам — 17 февраля 1979 года;
— подписание соглашения между Египтом и Израилем в Кэмп-Дэвиде — 26 марта 1979 года;
— катастрофа на ядерной электростанции в Пенсильвании, в результате чего произошла утечка радиоактивных веществ, представлявших смертельную угрозу населению трех городов, — 28 марта 1979 года;
— признание комиссией палаты представителей заговора, связанного с убийством президента Кеннеди, — 2 июня 1979 года;
— победа тори на выборах в Великобритании; впервые в истории европейских стран женщина, Маргарет Тэтчер, становится главой государства — 3 мая 1979 года. Такими видят 70-е годы Вулфы...
Что-то странное ощущается при беглом взгляде на набросанную Вулфами картину десятилетия. Конечно, ее по-своему украшают события вроде рождения в Англии внематочного ребенка или прощения президентом Фордом «провинившегося» Никсона. Но при этом упущена такая «малость», как разрядка международной напряженности, по которой скорее всего и запомнится человечеству это десятилетие, не говоря уже об интенсивной динамике советско-американских отношений, связанной с признанием ведущими западными специалистами военного паритета между США и СССР. Здесь можно было бы упомянуть официальный визит в США главы Советского государства в июне 1973 года, подписание 23 — 24 ноября 1974 года во Владивостоке Совместного советско-американского заявления об ОСВ-2, а также венскую встречу глав правительств США и СССР, на которой был подписан Договор между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений. Выпало из поля зрения американских авторов и эпохальное Совещание в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе...
Авторы «не заметили» событий, открывавших дорогу к мирному будущему всей планеты, событий, которыми тогда жил мир. Впрочем, американская пропаганда всегда непропорционально мало внимания уделяла Советскому Союзу и советско-американским отношениям как вопросам периферийным. Лишь к концу 70-х годов встревожился американский обыватель, когда официальная пропаганда снова усиленно стала стращать его «коммунистической угрозой». Когда же размещение американских ракет с ядерными боеголовками в Европе вызвало там небывалую волну массового антивоенного движения, она докатилась в 1981 — 1983 годах и до США, бумерангом ударила по рейгановскому антисоветизму, заставив президента по крайней мере смягчить тон, изобразить из себя миротворца. Вот и стали многие американцы, раньше весьма далекие от политики, то и дело с тревогой поглядывать на небо: океан больше не гарантировал безопасность. Теперь советско-американские отношения переместились в центр общественного внимания, а угрожающие планы «звездных войн» президента Рейгана объединили в борьбе за мир ранее враждовавшие между собой общественные силы.
Так что выпусти супруги Вулф свой труд сейчас, в политической панораме нынешнего времени, думается, были бы кое-какие упоминания, например, о грандиозной антивоенной демонстрации 1982 года в Вашингтоне, о знаменитом пасторском послании американских католических епископов о войне и мире, осудившем ядерную войну и концепцию нанесения Соединенными Штатами ядерного удара первыми, о гибели в Бейруте от взрыва бомбы 241 американского военнослужащего, заставившей правительство США вывести оттуда морских пехотинцев...
Но книга вышла в 1979 году. И касаясь картины лишь предыдущего десятилетия, мы тем не менее вынуждены заметить, что она грешит искажениями не только в сфере международных отношений, но и в вопросах, касающихся внутренней жизни США. Сошлемся здесь на авторитеты. «В конце 70-х годов американская система, казалось, вышла из-под контроля, — писал в своей книге «Народная история Соединенных Штатов» американский либеральный историк Говард Зинн. — Убегающий капитализм, убегающая технология, убегающий милитаризм, убегающее от народа правительство. Преступность вышла из-под контроля, рак, цены, налоги и безработица стали неконтролируемыми. Автокатастрофы, упадок городов, развал семьи — все вышло из-под контроля. Гонка ядерного вооружения в том числе. И люди, кажется, почувствовали все это» х.
Авторы не увидели, к примеру, того, что кризис 1973 — 1975 годов был крупнейшим со времен «Великой депрессии» 30-х годов и означал дискредитацию в общественном сознании государственного регулирования капиталистической экономики. Не заметили они и тяжелых духовных последствий войны во Вьетнаме, нашедших свое выражение в так называемом «вьетнамском синдроме» — сочетании гражданских чувств вины, стыда и позора, испытываемых американцами за собственную страну. Эволюцию сознания своих соотечественников от экстатического патриотизма к этому тягостному синдрому с большим мужеством и искренностью показал режиссер Хэл Эшби в фильме 1978 года «Возвращение домой», который Вулфы даже не упоминают. А ведь скандал, разразившийся в 1979 году на церемонии вручения наград Американской киноакадемии Джейн Фонде и Джону Войту за лучшую женскую и мужскую роль в этом фильме, свидетельствовал о большом накале общественных страстей вокруг «вьетнамского синдрома».
Много неприятностей в 70-е годы обрушилось на рядового американца. Они подрывали национальный дух,
1 Zinn Н. A People’s History of the United States. New York, “Harper and Row”, 1982, p. 579.
веру в будущее, усугубляли душевный разлад, развивали общенациональный комплекс неполноценности. Именно к преодолению этого комплекса отчаянно стремился президент Картер, настолько отчаянно, что решился пуститься на поразительную для главы государства военную авантюру — террористическую акцию по вооруженному освобождению американских заложников, содержавшихся «стражами исламской революции» в глубине Ирана. И об этом в книге Вулфов — ни слова.
Стоит, пожалуй, процитировать искушенного в политике Тома Хэйдена, бывшего лидера студенческого движения в США, оказавшего, кстати сказать, личное влияние на духовную эволюцию Джейн Фонды. Гораздо более точную и масштабную картину десятилетия он дает в своей книге «Американское будущее»: «Если существовал поворотный пункт, зафиксировавший расстройство, необратимое для нашей системы, то это была середина 70-х годов. Поражение во Вьетнаме, нефтяное эмбарго стран ОПЕК, «Уотергейт» — все это были сокрушительные удары по американскому самодовольству, но также и метафоры перемен, происходящих во всем мире. Остальная часть человечества перестала быть вторым классом, мир больше не выглядел задним двором Америки. Человечество требует и добивается более равного распределения власти и ресурсов. По американской психологии американской исключительности нанесен сокрушительный удар. Для американской экономики, базировавшейся на дешевой энергии и обширных открытых рынках, это фундаментальный вызов... Американское будущее будет заложено либо теми, кто попытается восстановить прошлое чего бы это ни стоило, либо теми, кто выковывает новое вйдение американского предназначения, свободное от имперских амбиций»х.
Конечно, судьба дочери Рэндольфа Херста для политической и культурной истории страны имеет «непреходящее» значение, равно как и смерть Джоу Эньлая в Пекине. Но мы все же не преминем заметить, что принятое в июне 1978 года в Калифорнии после бурного референдума так называемое «Предложение 13» о сокращении местных налогов для истории США важнее. Важнее потому, что этот открытый бунт недовольных средних слоев против все возраставших налогов означал начало поворота страны вправо, то есть движение вспять
1 Hayden Т. The American Future. New Visions Beyond Old Frontiers. Boston, South End Press, 1980, p. 3.
от принципов регулирования, принятых «государством благосостояния». Поворот, который, как известно, привел в 1980 году на пост президента радикального консерватора Рональда Рейгана.
Так что в целом это десятилетие, между всплеском демократических движений за гражданские права 60-х годов и атакой правых в начале 80-х, вместило в себя гораздо больше, чем увидели авторы «Выдающихся фильмов».
Здесь самое место вспомнить о читателе, который вправе спросить: а где же кино? А оно рядом, и в каждой его клеточке-кадре пульсирует время, о котором мы говорили выше. Чтобы в этом убедиться, достаточно взять любой из мало-мальски значительных фильмов минувшего десятилетия. Из одних только фильмов, не прибегая к статистике и экономическим выкладкам, можно составить впечатляющую картину упадка главных политических институтов США, картину кризиса, увиденного в полном смысле слова глазами самих американцев. Как заметил критик П. Циммерман в 1974 году: «Есть какая-то жестокая ирония в том, что, пока руководство киностудий мечется в поисках эскапистских развлечений, лучшие кинематографисты живописуют Америку, прогнившую до сердцевины». Примечательно и немаловажно то обстоятельство, что эти «лучшие кинематографисты» при этом выражали по преимуществу взгляды не вчерашних бунтарей из мелкобуржуазной молодежи, названных «недовольным меньшинством», а сегодняшней «средней Америки», этого нового «недовольного большинства», у которого после «Уотергейта» укреплялось ощущение, что Вашингтон слишком долго пытался справиться с кризисом и большей частью делал это плохо.
Итак, обратимся к кино. В самом начале десятилетия появился фильм, который буквально потряс американцев. Собрав более 86 миллионов долларов, он и сегодня, спустя пятнадцать лет, остается в десятке самых кассовых фильмов за всю историю американского кино. Как произведение искусства его оценила Американская киноакадемия, присудив ему в 1972 году три «Оскара» — за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую мужскую роль. Сценаристом его был писатель Марио Пьюзо, получившим «Оскара» актером — Марлон Брандо, а фильм назывался «Крестный отец»2. Режиссер фильма, тогда еще мало кому известный Фрэнсис Форд Коппола, показав мафию как обычное коммерческое предприятие, руководимое обычными деловыми людьми, осмелился посягнуть сразу на два института — большой бизнес и организованную преступность. Он стремился придать респектабельность организованной преступности, не пугать очередной раз зрителя кровожадными убийцами-гангстерами, а покорить обаянием Марлона Брандо, которому была отдана роль могущественного главы мафии Корлеоне. Гангстерский эпос? Да. Но и нет! Ибо в кинобиографии гангстерской династии дона Корлеоне мафия впервые публично предстает как крупное деловое предприятие. Такие эффекты, как отрубленная голова любимой лошади в постели строптивого голливудского режиссера, пуля, пущенная в лоб сопернику за ресторанным столиком, по мысли автора, не должны были заслонять хронику каждодневной, будничной работы организации дона Корлеоне и его наследников. Никакой экзотики: деловые совещания, ленчи, спичи респектабельных господ, расход-приход, холодный финансовый расчет и четкая бухгалтерия «черного» бизнеса. В свою очередь и официальный, респектабельный бизнес с его всесокрушающей аморальной страстью к прибыли в фильме Копполы очень походил на мафию. Правда, Э. Саррис в соответствии с духом времени даже упрекнул Копполу в уступках коммерции и отметил известную сбалансированность критического пафоса фильма. «Я убежден, — писал он в 1972 году, — что «Крестный отец» был бы более фундаментальным произведением, если бы Коппола проявил больше интереса (и, возможно, мужества) к тем частям книги, где преступление трактовалось как продвижение капитализма и как непременная черта шоу-бизнеса»
И все же в фокусе общественного внимания фильм потому, пожалуй, и оказался, что эпическое полотно Копполы связывало общим подходом к делу, едиными моральными, а вернее сказать, аморальными нормами могущественные корпорации — опору американской экономики — и могущественную американскую мафию. Бизнес есть бизнес. И как таковой он неизбежно разрушает личность: ее нравственные принципы, ее душевное равновесие, способность чувствовать и любить по-человевыяснилось, что большая ее часть была использована еще в 1958 году в итальянском фильме «Фортунелла».
1 Sarris A. Politics and Cinema. New York, Columbia University Press, 1978, p. 29.
Успех фильма в широкой аудитории был вполне объясним. С одной стороны, опросы общественного мнения неуклонно показывали растущее осознание материального неравенства. На вопрос: «Считаете ли вы, что богатые становятся богаче, а бедные — беднее?» — люди отвечали год от году все категоричней: «Да!» О чем свидетельствуют цифры: в 1961 году так ответили 45, 1968-м — 54, 1971-м — 62, 1972-м — 68, 1973-м — 76 процентов опрошенных1. С другой стороны, по мере наступления крупного капитала, фиксировалось и падение доверия к государству, явно охраняющему его интересы. Опросы подтверждали, что в массах распространяется кризис доверия ко всем основным институтам общества: неудовлетворительно функционировали полиция и суд, системы образования и здравоохранения, исполнительная власть и конгресс. Через все десятилетие в аранжировке возрастающей жестокости, цинизма и беззакония в десятках фильмов как левого, так и ультраправого направления от «Французского связного» (1972) У. Фридкина и «Серпико» (1973) С. Люмета до «Ночных ястребов» (1981) Б. Малмута, «Владыки города» (1981) того же Люмета и «Границы» (1982) Тони Ричардсона проходит тема дискредитации авторитета блюстителей законности. На этой теме, весьма болезненной для американцев из-за устрашающего роста преступности на улицах, не раз столкнутся разные идейные течения и политические силы Америки. От антипатии к бездеятельной и коррумпированной полиции (вспомним конфликт шоферов с вымогателем-полицейским в картине С. Пекинпа «Автоколонна», шедшей в нашем прокате под названием «Конвой») до надежды на эффективного полицейского-супермена, наводящего порядок по законам военного времени, — вот диапазон этой тематики (речь о ней, однако, впереди).
Бурно реагировал кинематографии на падение доверия населения к секретным ведомствам правительства — ФБР и ЦРУ. Их зловещая тень давно нависла над эфемерной неприкосновенностью частной жизни американцев в виде негласных досье на миллионы по дозрев а1 Цит. по кн.: Петровская М. США: политика сквозь призму опросов. М., «Международные отношения», 1982, с. 131.
Наслышаны были американцы и об организации политических заговоров, о фактах государственного терроризма, оставившего свои грязные следы в покушениях на Кастро, Каддафи, Лумумбу, Че Гевару, об участии США в фашистском перевороте в Чили со злодейским убийством законного президента страны доктора Сальвадора Альенде. Стараниями «разгребателей грязи» в американской прессе все это доводилось до сведения общественности. Престиж «фирмы» (так именуют ЦРУ на своем жаргоне агенты этой зловещей организации) падал все десятилетие. А безотчетный страх перед тайным ее могуществом возрастал по мере того, как становились известными новые и новые факты о секретном субсидировании послушных американской правящей элите политических партий и органов информации в разных странах, о тайных поставках оружия подрывным силам, состоящим в оппозиции законным, но не угодным США правительствам, и т. п.
Потому неудивительно, что Голливуд даже в самой коммерческой продукции все смелей политизирует обычные детективы, вытесняя из стандартной фабулы «полицейские и воры» стереотипных персонажей — грабителя банков и ювелирных магазинов — наемным профессиона-лом-убийцей, агентом ФБР или секретным агентом других многочисленных таинственных разведывательных или террористских организаций. Один за другим на разном уровне художественного и политического осмысления следуют картины, погружающие зрителя в мрак некоей «второй реальности», якобы существующей рядом с обычной жизнью обывателя. Мрачной, непостижимой реальности тайных, опасных для человечества сделок, подкупа должностных лиц, тотальной слежки, подслушивания частных телефонных разговоров, глобальных политических заговоров, закулисных действий каких-то конкурирующих разведорганов. И не будет преувеличением сказать, что политические детективы 70 — 80-х годов вселяли в сознание зрителей не уважение к охранительным и разведывательным органам своего правительства, а страх, самый настоящий животный страх перед их неконтролируемым могуществом. Таким образом, к разоблачительным материалам, публикуемым в прессе, кино прибавляло эмоций того же параноидного порядка. Жизнь, впрочем, не замедлила подлить масла в огонь.
Коппола снимал «Разговор», небольшой по объему и затратам, но психологически впечатляющий фильм, между двумя частями «Крестного отца», в преддверии «Уотергейта» — политического скандала, которому предстояло вскоре разразиться в Вашингтоне. Прямо из жизни перешел в фильм весь набор шпионских страстей, разыгравшихся на самом высшем уровне Белого дома: в «Уотергейте» фигурировали, как известно, и секретные фонды, и взлом штаб-квартиры конкурирующей политической партии, и микроподслушивающие устройства, и бесследно исчезнувшие государственные документы, и анонимные угрозы, и запугивание. Скандал на весь мир наконец завершился арестом ближайших помощников президента США.
Режиссер как будто чувствовал, что нарастающее в стране напряжение должно вот-вот как-то разрядиться. И нашел ему кинематографический аналог, удивительно точно моделирующий социальную психологию момента. Его камерный психологический триллер о помешательстве на почве профессиональных нервных перегрузок инженера по электронным подслушивающим устройствам заслуженно получил в Каннах премию и европейскую известность. Зрители узнали собственные комплексы неполноценности в судьбе героя, который, выполняя секретные частные заказы на установку подслушивающих устройств, оказывается невольно настолько втянутым в чужие отношения, конфликты и преступления, что в конце концов перестает быть нейтральным лицом. И запутавшись в сетях своей аморальной профессии, впадает в безумие, круша собственную квартиру в поисках скрытых за плинтусами и обоями микрофонов и телекамер.
С приходом Рейгана Голливуд по инерции продолжает поддерживать в общественном сознании безотчетный страх перед большой политикой, в которой тайно совершаются запланированные убийства и явственно ощущается безграничное могущество современных «рыцарей плаща и кинжала». Разве не об этом «Прокол» — очередной триллер Брайана Де Пальмы, снятый им в 1981 году в традициях классика фильмов-ужасов Альфреда Хичкока? Любого американца фабула этого фильма заставляет вспомнить еще одно нашумевшее политическое событие более чем десятилетней давности: загадочный несчастный случай с сенатором Эдвардом Кеннеди на мосту реки Чаппакуик, который тогда так ловко и надолго выбил энергичного сенатора-демократа из кандидатов в президенты США. Одиночный выстрел в ночной тиши по шине автомобиля, мчащегося по мосту, сливается с хлопком разорванной пулей шины. Машина на скорости уходит под воду. И снова тишина. Так якобы с несчастного случая завязываются драматические события этого фильма: таинственные агенты, ликвидировавшие автомобиль с сенатором, неотвратимо сжимают кольцо смерти вокруг оставшейся в живых его длинноногой спутницы и случайно спасшего ее звукооператора — ловца ночных звуков на электронную аппаратуру, с помощью которой, кстати, ему удается обнаружить записавшееся на пленку свидетельство преступления, вернее, политического убийства. Режиссер все внимание уделяет созданию зыбкой атмосферы страха и неопределенной опасности, возникающей из окружающих человека ночных звуков.
«Прокол» — не политический фильм. И Брайан Де Пальма, один из зачинателей эстетики «нового» Голливуда, похоже, не ставил своей целью вмешиваться в большую политику. Но самый факт, что для сюжета гиньоля он выбирает не привычную сексопатологию, не маниакальное убийство, как делалось в подобных фильмах раньше, а политический заговор, оказывается верным знаком неугасшего общественного интереса к теме всевластия правительственной бюрократии. Ее, кстати, охотно развивал и сам президент Рейган, демагогически поддерживая принцип консерваторов: «То правительство лучше, которое меньше правит».
Мишенью уничтожающей критики в разгар национального самобичевания стал в кино и символ американской демократии — якобы «независимая» от власти имущих и от политики свободная пресса США, то есть, по существу, средства массовой информации в целом. Они призваны, согласно конституции, охранять демократию от злоупотреблений властью и периодически разгребать «грязь» большой политики. Пресса по американской традиции разделения власти — ее четвертая ветвь, не подотчетная никому — ни конгрессу, ни Белому дому, ни Верховному суду. Она служит только своему читателю, чье внимание, а точнее говоря, чья покупательная способность — единственная ее забота. Телевидение, эта электронная пресса Америки, действительно заставляет с собой считаться не только рядовых политиков, но и самого президента США. И мощь средств массовой информации, их роль в политическом процессе в современной Америке действительно возрастает. Но сценарист
Пэдди Чаевский и режиссер Сидней Люмет в своем фильме «Телесеть» не оставляют камня на камне от мифа о бескорыстном служении телевидения общественным интересам. Они сатирически показывают пружины внутренней жизни частной телевизионной компании во всей ее антигуманной, доведенной до крайности корыстной сути. Зритель видит чудовищную фантасмагорию безнравственности там, где главная цель — высокий рейтинг1, то есть в конце концов прибыль. Она в корне извращает изначальную функцию этого важнейшего института демократии.
Политикой здесь действительно никто не интересуется. Команда интеллектуалов, служащих верой и правдой коммерческим целям компании, готова на любую авантюру и так называемую «творческую смелость», чтобы поднять рейтинг своих передач. Сенсация, эта ежедневная пища прожорливого телеспрута, толкает циничных профессионалов шоу-бизнеса на сговор с левацкой организацией террористов только для того, например, чтобы опередить полицию и показать зрителям документально снятое ограбление банка. Коммерческим целям служит и увольнение постаревшего телекомментатора, чья личная драма при умелом манипулировании ею превращается в трагический спектакль. Уволенный человек в отчаянии выплескивает прямо в объектив телекамеры всю свою горечь, выкрикивая проклятия студии, которой он отдал всю жизнь. И в сердцах обещает телезрителям от безысходности застрелиться у всех на глазах. Судьба, однако, сыграла злую шутку с бедным Говардом Биллом (так зовут телекомментатора, которого блестяще сыграл Питер Финч). Телесеть неожиданно завалили телеграммы, оглушили телефонные звонки: зрители требовали дать Биллу слово и право сделать то, что он хочет! И что же? Дали! Обезумевший от новой роли Говард еще несколько раз откладывал выполнение своего обещания, веселя оживившуюся аудиторию своими истериками по поводу «Америки, сидящей по уши в дерьме», пока руководители этого безумного, но неожиданно прибыльного шоу не исчерпали его возможностей и не прикончили несчастного Говарда прямо во время эфира руками ранее купленных ими леваков-террористов.
Еще одной мишенью Голливуда становится другой важный институт американской политической системы — армия США. Пока шли военные действия, критические настроения в адрес Пентагона и военной машины в целом могли пробиться на экран лишь в эзоповом языке иносказательного стиля таких картин, как гротеск «Уловка-22» или комедия «черного» юмора «Военно-полевой госпиталь». Когда же в 1974 году Парижские соглашения положили конец этой позорной для США войны, на осмысление ее духовных последствий с либеральнодемократических позиций уже не оставалось времени. Страну заносило вправо, и на экраны успели прорваться в 1976 году только фильм «Возвращение домой» Хэла Эшби да в 1977 году картина «Герои» Джереми Пола Кагана с Салли Филд в одной из главных ролей. С американской армией удалось еще пошутить Стивену Спилбергу в музыкально-каскадной комедии «1941», напоминающей своей стилистикой абсурда давний английский фильм «Мистер Питкин в тылу врага». Но в этой издевке над расхлябанностью сан-францисского гарнизона, разложившегося в бездействии настолько, что военнослужащие забывают, с какой стороны подходить к танку и как заводится самолет, уже сквозят консервативные нотки упрека и призыва к повышению боеготовности, а отнюдь не настроения сторонников разоружения.
Так что критическое отношение к армии Голливуд в основном выражал в самом начале 70-х. Уместно остановиться на трех фильмах лишь одного, 1970 года. Это «Герои Келли» Брайена Хаттона, «Уловка-22» Майка Николса и «Военно-полевой госпиталь» Роберта Олтмэна. Ни один из них, правда, не касался непосредственно Вьетнама: в тот момент Голливуд не решался оскорблять чувства ура-патриотов из «молчаливого большинства», ибо там поддерживали идею «войны до победного конца». Кинобизнес не желал и конфронтации с Пентагоном. Первые два фильма были сделаны на материале второй мировой войны, в третьем вспоминалась война в Корее. Но все три в разной стилистике дружно хоронили миф о доблестной американской армии, развеивали остатки патриотического пыла и веры в справедливость ее действий. Как точно показал в своей книге «Отблески времени» Ян Березницкий, в «Героях Келли» солдаты «второго фронта» действовали как преступники: они шуровали по немецким тылам, не боевые задания выполняя, а лихо, по-ковбойски, грабя, что плохо лежит, например брошенный банк в лотарингском городке Клер-мон, в котором случайно оказался подготовленный нацистами к вывозу из Германии золотой запас в 16 миллионов долларов. И несмотря на то что позиция самого режиссера мало чем отличалась от отношения к войне рядового американской армии Келли, разудалый этот фильм камня на камне не оставлял от боевого духа американской армии.
И три молодых хирурга из университетских кругов в «Военно-полевом госпитале» тоже не отличаются ни боевым пылом, ни патриотическими чувствами. Оперируя раненных в трех милях от передовой (действие происходит в Корее и, как свидетельствует приколоченный к дереву указатель, в 6718,5 милях от нью-йоркской пресвитерианской больницы!), они и вовсе не желают знать воинской дисциплины. Но их бесшабашное веселье около тел искалеченных и убитых на корейском фронте соотечественников символизирует не столько профессиональный цинизм, сколько декларируемую ими непричастность к жестокости и бессмысленности происходящего. Здесь начальник госпиталя проводит рабочее время на рыбалке, здесь вместо донорской крови в холодильниках хранится выпивка, здесь закусывают прямо на операционных столах среди вывернутых наизнанку внутренностей, а свободные от операций медсестры днем и ночью гуляют по постелям. Вся эстетика фильма выражает таким образом неуважение к воинской дисциплине и презрение к официальной пропаганде, призывающей американских парней умирать неизвестно за чьи интересы на чужой земле за тысячи миль от собственной родины.
Несмотря на то что фильм впрямую не касался Вьетнама, он, как и следовало ожидать, был запрещен к показу в американской армии. Зато пользовался большим успехом у зрителя и в прокате по США собрал немало — около 37 миллионов долларов.
Дальше — больше. Наивный пилот американских ВВС в знаменитой «Уловке-22» становится бравым солдатом Швейком американской культуры, классическим художественным образом, который уже навсегда останется памятником корыстному абсурду военно-бюрократической машины. Абсурд здесь заложен в самую основу военного аппарата: приказ бомбить мирные итальянские поселки с вручением наград за неизвестно как выполненное задание, поставка женщин в переполненный солдатней прифронтовой город, живые в списках убитых и убитые в списках живых, спекуляция лекарствами и интендантским имуществом, наконец апофеоз абсурда — бомбежка собственного американского аэродрома по контракту с противником... А все прибыли достаются таинственномогущественному коммерческому предприятию, во главе которого стоит вкрадчивый, приятной наружности скромный интендант военной столовой.
Этот стилистически сложный, принципиально некоммерческий фильм тем не менее нашел и своего зрителя и своего критика. Он собрал 12,5 миллионов долларов, а в прессе сразу вызвал оживленные отклики. Он несомненно отвечал духу массовых антимилитаристских выступлений, поднимавшихся тогда всюду. Недаром в рецензии на него американский критик не преминул заметить: «Если бы в современном фильме какой-нибудь солдат вдруг разразился бы патриотической речью, мы приняли бы его за контуженного».
Что и говорить, убедительная вырисовывается в кино панорама упадка общественно-политической системы, двести лет считавшейся путеводной звездой человечества... Но, однако, и это еще не все!
Развенчанию подлежал и краеугольный камень американской буржуазной демократии — избирательная система США. Ее все более дорогостоящие и театрализованные предвыборные шоу-кампании, где специалисты по рекламе устраивают многомесячные соревнования сконструированных ими образов кандидатов, давно искусственно возбуждают американцев. Свое отношение к выборам американские избиратели не раз демонстрировали и раньше неучастием в голосовании. Но в 70-х годах, как известно, очередных президентов США выбирала лишь половина тех, кто имел право голоса: другую половину не устраивал ни один из кандидатов. Голливуду просто ничего не надо было выдумывать. Еще в 1972 году один из любимцев американской кинокритики, социальный режиссер Майкл Ритчи снял своего «Кандидата». По свежим следам «осады Чикаго» — побоища, устроенного полицией во время бурного съезда демократической партии 1968 года, на котором левые силы, поддержанные студентами, пытались выдвинуть своего кандидата в президенты — демократа Юджина Маккарти, — Ритчи дал убийственную зарисовку типичной избирательной кампании и ее махинаций. Очень уместна она была в то время, эта картина о том, как в атмосфере профессиональной большой политики разлагается поначалу честный, наи1 На экране Америка. М., «Прогресс», 1978, с. 168.
Вот к лохматому молодому адвокату Биллу Маккэю — радикалу из местных левых организаций, давно причиняющих беспокойство властям, — подсаживается дьявол-искуситель в облике добродушного профессионального политического менеджера: «Ну, чего ты добился? На пустыре высадили деревья? В городе наконец открыли муниципальную клинику? И ты счастлив? Моллюски тоже счастливы. А тем временем Джермон сидит в своих комитетах и расправляется с землей, нефтью, налогами...» — нашептывает он молодому активисту. За сим следует деловое предложение: его, популярного общественного адвоката, местная политическая машина выдвинет кандидатом на место Джермона. Эта машина и организует всю избирательную кампанию. Маккэю надо только выучить свою роль — и неутомимо трудиться на митингах, бриффингах, пресс-конференциях, аудиенциях, стараясь не испортить впечатления и не разрушить свой образ умеренного защитника интересов народа. И Мак-кэй, поверивший в возможность радикальных перемен именем закона, ввязывается в «большую политику». Вскоре он превращается помимо своей воли в марионетку, с помощью которой кем-то за ее спиной ведется тонкая политическая игра, заключаются тайные компромиссы, осуществляется манипулирование общественным мнением. В финале победивший на выборах, но и выжатый как лимон, уже совсем послушный Маккэй, оставшись в опустевшем штабе своей избирательной машины, испуганно обращается к своим политическим нянькам: «Ну и что же дальше делать?»
Характерно, что этот фильм создавался людьми, знакомыми с политикой. Сценарист Джереми Ларнер был составителем речей для выдвиженца молодежи либерала Юджина Маккарти. Сам Ритчи участвовал в разных избирательных кампаниях в качестве режиссера кинороликов политической рекламы. Многие персонажи фильма имеют сходство с известными политическими советниками и специалистами, которых в США называют «делателями королей». Например, актер Питер Бойл соединил в своем персонаже — политическом боссе, соблазняющем наивного Маккэя, — черты Ричарда Годвина и Ричарда Аурелио, менеджеров политической кампании мэра Нью-Йорка Джона Линдсея. История Маккэя, которого играет знаменитый Роберт Рэдфорд, напоминает судьбу губернатора Калифорнии Джерри Брауна. А внешнее сходство этого сверхпопулярного в США актера с Робертом Кеннеди позволяло нагрузить картину еще и многозначительными дополнительными ассоциациями.
Между прочим, авторы рассматривали свой фильм как средство политического воздействия и рассчитывали выпустить его к Национальному съезду демократической партии в период выборов 1972 года. Сатирические краски картины, ее критическая направленность в адрес бюрократизированной технологии власти должны были поддержать выдвигавшиеся левыми на съезде требования демократизации партийной машины, дабы восстановить доверие к главному институту американской демократии — выборам, в которых к тому времени участвовало все меньше и меньше избирателей, использовавших абсентизм (неучастие) как форму политического протеста.
Еще дальше в критическом пафосе в адрес избирательной машины США продвинулся фильм Роберта Ол-тмэна «Нэшвилл», вышедший уже в 1975 году. Это беспощадная сатира на то, во что превратились в США избирательные кампании, на которые выбрасываются миллионы долларов. Американцы не удивились, когда им подали на экране в канун двухсотлетия США политическую кампанию как грандиозную ярмарку по продаже кандидатов. Это царство шоу-бизнеса, шумный музыкальный фестиваль, где каждый участник и гость обуреваемы страстями, абсолютно не имеющими отношения ни к политике, ни к кандидату. И хотя имя одного «избранника народа» — Холла Филиппа Уоркера — пестрит везде, на чем останавливается взгляд, только снующий всюду неутомимый микроавтобус, обвешанный политической рекламой и снабженный радиоустановкой, напоминает о цели кампании. Он одиноко кружит по Нэшвиллу — карнавальному городу — от одной гремящей эстрады к другой и хрипит один и тот же никому не интересный текст о «партии перемен, которая обещает стране новые корни».
Выдвинутый на «Оскара», «Нэшвилл» попадает и в упоминавшуюся книгу Вулфов как киносимвол 70-х годов, как «гигантский хэппенинг, полный комических и трагических интонаций, развлекающий, потрясающий, эффектный и размышляющий мюзикл» каким-то образом причастный ко всему тому, что американцы пережили в это полное развенчанных иллюзий десятилетие. В финале, когда по выступающему перед многотысячной аудиторией из зрительских рядов бьет автоматная очередь, зал в ужасе цепенеет. Но шок длится недолго. Сориентировавшись, свой шанс немедленно использует самозванная певица, которая тут же занимает освободившееся на сцене место и под вой санитарных машин пытается успокоить растерянную толпу беззаботной разудалой песенкой «Это меня не беспокоит». И публика, только что ставшая свидетельницей убийства, с готовностью начинает подпевать истеричной девице. «Фильм в своем духе олицетворяет динамичность (вот оно что! — И.К.) страны, увидевшей за короткое время убийство Джона и Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, Малколма Икс, покушение на Джеральда Форда и правого популиста Джорджа Уоллеса» — писали в своей книге Вулфы, не желая сгущать краски.
Напомним, что только за год до выхода на экран «Нэшвилла» Америку поразил политический скандал, вошедший в историю как «Уотергейт». При всем цинизме, с которым американцы всегда относились к политикам, эта беспрецедентная дискредитация главы правительства США потрясла нацию, отозвалась в общественном сознании комплексами очередной раз уязвленного национального достоинства. Голливуд, разумеется, не мог не использовать в своих целях скандал как бесплатную рекламу очередного политического триллера. Тут же заблаговременно покупается право экранизации еще находившейся в наборе сенсационной книги-дневника ставших знаменитыми журналистов из «Вашингтон-пост» Боба Вудворда и Карла Бернстайна. История предпринятого лично ими (а значит, «свободной» прессой) расследования грязных политических махинаций в борьбе за власть команды президента Никсона в ходе избирательной кампании 1972 года и легла в основу зловещего политического детектива в стиле «реконструкции факта» «Вся президентская рать».
Зритель видит, как отважные репортеры — «разгре-батели грязи» на свой страх и риск разматывают нити глубоко законспирированных преступных операций Белого дома по подрыву позиций соперников из демократической партии. Документальная достоверность сюжета, подлинность всех действующих лиц, часть из которых ко времени выхода фильма все же попала ненадолго из Белого дома за решетку, обеспечили этому вовсе не развлекательному, политическому по сути фильму сверхбольшую для содержательного кино популярность: «Вся президентская рать» приносит в 1976 году своим хозяевам 30 миллионов долларов. Конечно, Голливуд и официальная пропаганда не преминули патриотически осмыслить пережитый нацией шок. Фильм превращал национальный позор в демонстрацию живучести американской системы, в торжество «четвертой ветви власти», неусыпно стоящей на страже демократии прессы. Но так или иначе фильм Алана Пакулы, как и книга под тем же названием, не выглядел жизнеутверждающим. И то и другое произведение было пронизано пессимизмом и страхом...
Еще одно кинематографическое свидетельство массового падения престижа президентской власти мог видеть и советский зритель — речь идет о показанном в свое время по Центральному телевидению американском фильме «Ангар-18» (1980). На этот раз в жанре научно-фантастического триллера, используя интерес публики к НЛО — неопознанным летающим объектам, режиссер Джеймс Конуэй строит детективную интригу фильма на заговоре американского правительства против прогресса и человечества: ради своекорыстных интересов во время избирательной кампании правительство преступно пытается скрыть от общественности факт приземления на территории США «летающей тарелки». По приказу из Белого дома убирают одного за другим лишних свидетелей, среди них гордость нации — американских космонавтов, а затем уничтожают ракетным залпом и самого посланца Космоса вместе с вступившими в контакт с ним учеными. «Ангар-18», таким образом, это критика даже не в адрес очередного «плохого» президента — это резкое проявление растущего недоверия американцев к самому институту федеральной власти, к централизованной бюрократической машине, управляемой профессионалами политиканами, за которыми нужен глаз да глаз.
И нет здесь никакой особой гражданской смелости Голливуда, секрета, почему Голливуд с такой яростью обрушился на высшие эшелоны власти, на вашингтонское правительство. Достаточно вспомнить, что вся стратегия избирательной кампании Джимми Картера 1976 года строилась на броском лозунге «Человек против бюрократической машины». «Человеком» был не запятнавший себя связями с Белым домом, с большой политикой и крупным бизнесом фермер из Джорджии. Он был, правда, миллионером, этот фермер, но не владельцем транснациональной корпорации, избирался губернатором, но у себя на Юге, а не в Вашингтоне, а главное, хорошо знал эту провинциальную, выведенную из себя, рассерженную «среднюю Америку».
Ее психологический портрет 70-х годов, ее живой облик, внутренний мир и человеческие «достоинства» были, в свою очередь, в полной мере отражены в самой близкой кинематографу области общественных отношений, в сфере морали, семьи и быта. «Революционная» ломка, которую в 60-х годах произвела здесь молодежная контркультура, отстаивавшая этику предельного самовыражения личности и сексуальной раскрепощенности, порядком расшатала кинотрадиции в изображении семейных отношений, любви, женских характеров. На экране столичного кинотеатра было теперь на что посмотреть неискушенному провинциалу и в дневное и в ночное время. Чего стоит одна только «Глубокая глотка» (1972) некоего Джерри Герарда, этот своеобразный рекорд в порноизации американской культуры: заботы и похождения сексуально неудовлетворенной девицы, обнаружившей клитор не на обычном месте, а в... своем горле, стали предметом внимания всей нации. Не имевшая никакого отношения к искусству, не помышлявшая о карьере актрисы, некая медсестра Линда Лавлэйс смело взялась за эту «роль» и вдруг стала, как это ни дико звучит, настоящей «звездой». Ее интервьюировали газеты и журналы, радио и телевидение, ее сделали популярным персонажем эстрадных шуток и политических памфлетов, придав тем самым непристойности респектабельность. Вскоре ее внимания уже добивались мужчины и, шутка ли сказать, Каннский кинофестиваль...
А статистика между тем беспристрастно фиксировала распад семейных отношений — фундамента общественной структуры. Число одиноких людей с 1970 по 1982 год выросло на 75 процентов: из 83,5 миллиона американских семей более 15 процентов состоит теперь из... одного человека. В США живет 7,5 миллиона одиноких стариков, втрое больше стало одиноких американцев до 25 лет и вчетверо (!) больше одиночек в самом «брачном» возрасте — от 25 до 34 лет. Число лиц, никогда не вступавших в брак, возросло за это время на 115 процентов, число разводов — на 151 процент, число одиноких мужчин достигло 7,3 миллиона. Это при том, что одиноких женщин намного больше, так как 3/5 одиночек — это именно они, в том числе и матери-одиночки. С 1970 года их стало больше на 367 процентов1.
1 Все эти подсчеты произвел журнал «Ньюсуик», опубликовавший
Грустной этой статистике скорее созвучна не «Глубокая глотка», а минорная кинематографическая сюита на темы неприкаянной старости в перенапряженном, перенаселенном мире, звучащая в фильме Пола Мазурского «Гарри и Тонто». Режиссер, в 1974 году получивший за этот фильм премию в тех же Каннах, с щемящей грустью рисует в «Гарри и Тонто» одинокую старость выселенного из своей квартиры за неуплату пенсионера, скитающегося по своим неустроенным детям с единственным согревающим его одиночество существом — котом Тонто.
Атрофию моральных норм, скреплявших незыблемый, казалось, оплот индивидуализма, главную ячейку общества — семью, демонстрирует с присущей ему критической язвительностью в фильме «Свадьба» Роберт Олтмэн, этот самый продуктивный либеральный художник 70-х годов. Ухитрившись собрать за свадебным столом более пятидесяти персонажей сразу в единый гудящий улей, он показывает зрителю столько современных социальных типов, что их хватило бы, пожалуй, на все американские фильмы этого года. За внешней респектабельностью и благополучием этих представителей «среднего класса» Америки налицо признаки деградации. Мать жениха — неизлечимая наркоманка, которой домашний врач то и дело тайком вкалывает шприц морфия; отец — безвольная игрушка в руках богатой и властной тещи, смерть которой он ждет с затаенным нетерпением; тетка — еще один семейный отросток под общей крышей — сжигаема позорной и тщательно скрываемой похотливой страстью к слуге-негру. Брат невесты — эпилептик, старшая сестра беременна от жениха младшенькой, мать мечется в поисках случайных связей и тут же на свадьбе настойчиво навязывается сластолюбивому толстяку, родственнику жениха. Епископ, приглашенный для совершения обряда, от старости забывает молитву. Доктор весь вечер озабочен лишь тем, чтобы из одной руки не выпустить стакан виски, а из другой — грудь какой-нибудь из проходящих мимо девиц. «Все мы одиноки, как параллельные линии», — вслух резонерствует сама с собой захмелевшая дряхлая подруга хозяйки дома, не догадываясь, что та, к которой то и дело почтительно поднимаются в спальню родственники и самые почтенные гости, их не слышит. Хозяйка дома умерла еще утром, и посетители отвешивают поклоны хладному телу, о чем знают доктор и ближайшие наследники, решившие не портить праздника такой «досадной» помехой.
Вот каких фильмов «не заметили» в своем собственном американском кинематографе Уильям и Лилиан Вулф, искавшие киновехи 70-х годов. Но из песни слова не выкинешь. Американцы сами зафиксировали на пленке удручающую панораму того, чем была их страна к завершению войны во Вьетнаме, навсегда запечатлели для потомков черты эпохи «Уотергейта», увиденные глазами «среднего американца». Мы лишь воспользовались наиболее известными работами, чтобы, выстроив их в ряд, явить читателю облик тогдашней Америки, чтобы показать тот исторический момент, когда политическая система Соединенных Штатов остановила свою эволюцию в русле демократических реформ, вырванных трудящимися в 60-х годах, и повернула вспять, в старое русло хищнического американского индивидуализма, стихии рыночных отношений, испугавшись роста гигантского, неуправляемого, централизованного бюрократического аппарата.
К чему это приведет, покажет будущее. Американский прогнозист Дэниел Янкелович, президент фирмы «Янкелович, Скелли энд Уайт», занимающийся исследованием общественного мнения, в беседе «Американские ценности: перемены и стабильность», опубликованной журналом «Паблик опиньон», предвещал в 1984 году: «Хотя старая система стала сдавать, она по крайней мере была системой. Сейчас она в опасности. Пока что-то новое ее заменит, будет немало путаницы. Когда в верхах видны разногласия, первой реакцией многих становится: «Чума на оба ваши дома!». Пока же, считал социолог, американцы «должны чуть больше думать, чуть меньше покупать, знать, где отступить... быть более искусными в борьбе за успех, более гибкими в понимании успеха и более терпимыми к другим. Таковы новые правила»2. Изменения в умонастроениях американцев, по мнению Янкеловича, проявляются, скорее всего, в фундаментальном пересмотре отношения к своему правительству, в пересмотре конечных целей потребительской цивилизации, в большем внимании к нематериальной стороне «качества жизни», в отказе от былых чрезмерных надежд на будущее.
Психологическую болезненность перестройки американского общественного сознания Г. Арбатов справедливо усматривал в исключительности предшествовавшего кризису послевоенного периода, когда сложилась редкая совокупность неповторимо благоприятных для США условий. Америка оказалась после второй мировой войны самой богатой и могущественной державой мира, не испытавшей кошмара войны. У американцев возникло представление, будто бы в мире наступил «американский век», в самих США — вечное «просперити». Тогда казалось, что США могут чуть ли не все и всех купить, подавить или в крайнем случае уничтожить.
0 том, что подобная историческая ситуация может быть и кратковременной, проходящей, многие американцы, естественно, и не думали. Сложившийся порядок вещей казался им естественным и вечным. А когда на глазах одного поколения он неожиданно стал разрушаться, ни одна из имевшихся в арсенале буржуазной идеологии теоретических концепций не смогла этот ход истории ни предсказать, ни объяснить иначе, как «скатыванием к коллективизму и социализму», а то и просто коммунистическим заговором. Отсюда — новая волна скрытых и явных антикоммунистических и антисоветских интонаций в голливудских фильмах, игнорирование признаков оздоровления международного климата. Впрочем, об этом — отдельный разговор.
Теперь, расширяя панораму фильмов 70-х — 80-х годов, постепенно перейдем от констатации кризиса, зафиксированного киноискусством, к психологии его переживания, осознания и изживания разными слоями общества и посмотрим, как разные идейно-политические силы стараются примениться к особенностям социальной психологии масс, овладеть их духовным потенциалом, расщепить энергию социальной критики и недовольства на отдельные потоки и придать ей направление, заданное идейнополитическими течениями буржуазной идеологии от самых левых до самых правых ее флангов, заставить эту энергию служить сохранению основ американского капи1 Арбатов Г. Вступая в 80-е... М., Изд-во АПН, 1983, с. 22, 102.
тализма. Как мы увидим ниже, для этих задач сегодня тот фильм хорош, который «работает», то есть задевает сердца и умы, овладевает вниманием миллионов. Поднаторел нынче голливудский коммерсант, стал политиком и пропагандистом. Не прошла зря школа избирательных кампаний последних десятилетий, в которых кинематографисты учились в рекламных фильмах продавать образ «хорошего» президента. Накопился опыт работы с общественностью по облагораживанию образа корпораций. В условиях буржуазных свобод научился капитализм манипулировать плюралистической демократией — до поры до времени, конечно. А времена меняются быстро. Сегодня вот время наивных развлекателей прошло. Голливуд вступил в активную фазу борьбы за раскаленную, подвижную плазму общественного сознания. Напомним: в 1984 году Рейгана избрали на второй срок, хотя к урнам вышло лишь 52,9 процента избирателей. Однако из них 40 процентов составляли те, кто считал, что состояние американской экономики стало хуже, чем четыре года назад, и эти избиратели проголосовали в соотношении 4:1 за Мондейла. Рейган победил благодаря тому, что 60 процентов голосовавших увидели в экономике перемены к лучшему — они-то и отдали свои голоса президенту (соотношение 6:1). А на промежуточных выборах 1986 года партия Рейгана проиграла...
ОТ МОДЫ НА «РЕТРО» К ПОЛИТИЧЕСКОМУ КОНСЕРВАТИЗМУ
Обозревая кинематографическую панораму 70-х годов, неизбежно приходишь к выводу: в духовной культуре десятилетия не было другого более четко оформленного стиля, кроме стиля «ретро». Как-то само собой, незаметно, то ли усилиями модельеров, своевольно навязавших моду на старомодное в одеждах и прическах, то ли заражающими ритмами воскресшего рок-н-ролла, то ли еще какой-то скрытой механикой массового «психического заражения» обаянием прожитой нацией жизни духовный климат насыщался притягательными знаками недавнего прошлого, томительными воспоминаниями о тех беспечных временах, которые предшествовали негритянскому и студенческому бунтам 60-х, Вьетнаму и «Уотергейту»...
В 70-е годы режиссеры и художники кино, казалось, соревновались в мастерстве передачи неуловимого аромата и образов Америки послевоенной эпохи «процветания». На экране воцарились старые «форды» и «паккарды», широкие клеши у мужчин, поднятые плечи у женщин, взбитые коки и букли и мелодии, мелодии самодовольной Америки времен автомобильного бума и магнетического Элвиса Пресли. Образы старых фильмов, талантливые и не очень талантливые стилизации, волны полузабытых музыкальных тем и сентиментальных воспоминаний об ушедшей молодости пьянили «среднего американца». Память, разбуженная и томящая, влекла назад, окутывала романтическим флером невозвратные 40-е и 50-е годы.
Что же было в этом времени магнетического? Ведь для человечества, приходившего в себя после самой разрушительной и жестокой войны с фашизмом, Америка 50-х прежде всего была символом «холодной войны», маккартизма и узколобого антикоммунизма. Многие еще помнят, как в 1947 году тогдашний министр юстиции Том Кларк публиковал список действующих в США «подрывных» организаций. Клеймо Верховного суда сразу подрывало к ним доверие населения и резко снизило тогда их активность. В 1949 году из федерации профсоюзов АФТ был исключен объединенный профсоюз рабочих электрической, радио- и механической промышленности и еще десять других прогрессивных союзов за их отказ поддержать правительственную политику «холодной войны». Новый председатель АФТ, Джордж Мини, осыпая бранью американских коммунистов, в 1952 году кричал: «Да, я пойду и дам клятву в том, что не принадлежу и не буду принадлежать к этим обожателям России, ненавистникам Америки!»1
Стало невозможным снимать и прокатывать в рабочих аудиториях документальные фильмы о рабочих забастовках, о профсоюзном движении. Когда в 1951 году занесенные в «черные списки» Герберт Бибирман, Пол Джарико и Майкл Уилсон взялись за фильм «Соль земли» — художественную интерпретацию знаменитой стачки на медных рудниках в Мексике, то, несмотря на финансовую поддержку и сотрудничество с профсоюзом, фильм снимался в невероятно сложных условиях. Съемочную группу буквально терроризировал местный комитет бдительности в Нью-Мексико, ведущую актрису мексиканку Розарию Ревуэльтас депортировали до окончания съемок, кинолаборатории по всей стране отказывались обрабатывать пленку и т. д. А когда фильм наконец был закончен, только горстка владельцев кинотеатров отважилась на его показ. Босс голливудского профсоюза Рой Брейер запретил своим киномеханикам крутить эту пленку где бы то ни было, а Американский легион угрожал пикетами тем кинотеатрам, где намеревались его показать. В Голливуде начались репрессии, о которых в разгар ностальгического бума 70-х честно напомнят американцам ретрофильмы «Какими мы были» (1973) и «Подставное лицо» (1976).
И тем не менее, как это ни парадоксально, в американское общественное сознание 50-е годы вошли как «золотой век» американского капитализма. Они были омрачены тенью маккартизма, но среднего обывателя маккартизм не очень затронул, так как всей тяжестью он обрушился на интеллигенцию и активистов рабочего движения с наиболее высоким уровнем политического сознания, значительная часть которых принадлежала к Коммунистической партии США. Напомним, что в 30-х и 40-х годах левые играли активную роль в Голливуде — особенно их влияние ощущалось в Гильдии сценаристов, возглавлявшейся в первые годы ее существования известным голливудским радикалом Джоном Говардом Лоусоном. В те годы в Голливуде действовали антифашистские организации (голливудская антинацистская лига насчитывала около 5 тысяч членов); Комитет киноактеров, созданный в поддержку республиканской Испании и Китая, борющегося против Японии (с такими фигурами во главе, как Лилиан Хэллман и Доротти Паркер); Кинематографический демократический комитет, выдвинувший на пост губернатора штата Калифорния в 1938 году сторонника «нового курса» либерала Колберта Олсона; Мобилизационный комитет писателей Голливуда, 3,5 тысячи членов которого снабжали национальные пропагандистские ведомства в течение войны антигитлеровскими материалами и стимулировали создание социальных фильмов; голливудский Совет по вопросам искусства, науки и профессий, который активно участвовал в избирательной кампании 1948 года за кандидата прогрессивной партии Генри Уоллеса и выступал против «черных списков» в киноиндустрии.
Большим влиянием и авторитетом в тот период в Голливуде пользовалась Коммунистическая партия США, привлекавшая своей открытой антифашистской позицией, принципиальной защитой интересов трудящихся, лучших деятелей американской культуры. Именно тогда компания «Уорнер бразерс» снимает такие остросоциальные фильмы, как «Враг общества», «Я — беглый каторжник», «Черный легион», «Жизнь Эмиля Золя», «Касабланка», «Миссия в Москву», и другие. Эта студия даже завоевывает репутацию сторонника «нового курса» и активно выпускает фильмы по самым серьезным социальным проблемам — безработица, угроза фашизма, линчевание, организованная преступность.
В октябре 1943 года более 1200 кинодеятелей собрались на конгресс писателей и драматургов, посвященный общественному долгу деятелей культуры во время и после войны. С его трибуны продюсер Даррил Занук призвал сценаристов создавать сценарии, реалистически отражающие «события войны и царящую панику, социальные перемены и депрессию, голод, несправедливость и варварство, в каком бы обличил они не скрывались» Согласно опросу, проведенному журналом «Филм дэйли» в конце 1943 года, 62 процента журналистов, пишущих о кино, согласились, что экран должен отражать противоречивые и спорные социальные и политические темы.
Известный прогрессивный американский писатель Альберт Мальц писал об этом времени: «Это был период гораздо большей гармонии и согласия между различными политическими взглядами — левыми и центристскими, чем, скажем, в 30-х годах или позже, после 1946 года. Потому что каждый был антифашистом, за исключением самого экстремистского правого крыла. Так что если сценарист левых убеждений брался за антифашистский фильм о войне, у него не возникали проблемы ни с продюсером, ни со студией, ни с аудиторией. Такая это была эпохах.
С этой эпохой и торопилась распрощаться сытая послевоенная Америка с помощью маккартистского мракобесия и антикоммунизма. Экономика после войны была на подъеме. Для «среднего американца» имело значение лишь то, что в 50-х годах у него вновь возродилась вера в «американскую мечту». У многих тогда появились шансы. Американский капитализм, выйдя из кризиса 30-х и приобретя небывалое военно-экономическое могущество во время второй мировой войны, создавал экономическую базу для повышения жизненного уровня масс, прежде всего квалифицированного рабочего класса. Многие в тот период продвинулись по лестнице доходов, тем самым уменьшив социальную дистанцию между представителями буржуазии и основной массой рабочих и служащих. В 50-е годы в американском сознании окрепла надежда на то, что США способны стирать границы между классами и создавать так называемое «бесклассовое общество среднего класса».
Уверенность эту больше всего питал экономический рост, который какое-то время создавал такой большой «пирог» доходов, что его вполне хватало с помощью государственного регулирования и крупным и мелким собственникам и «белым» и «синим воротничкам». Люди обзаводились вещами. Реальная заработная плата проявляла тенденцию стабильного роста, и массы приобретали товары, ранее доступные лишь высшему классу. Эти товары стали рассматриваться как символ благополучия, как знаки принадлежности к средним слоям, так называемому «среднему классу».
1 Talbot D., Sheutlin В. Creative Differences, p. 22.
Именно в 50-е годы в американском обществе появилось чувство самодовольства, развился социальный и политический конформизм. Опросы показывали, что подавляющее большинство поддерживало политику власть имущих, психологически интегрировалось в систему, что ценности американизма укрепились. В стране создалась затхлая атмосфера самоуспокоенности, потребительства.
Как раз ее-то и передал в 1971 году в своем фильме «Последний киносеанс» Питер Богданович, сам, кстати говоря, и не предполагавший сначала большого общественного значения своей работы. Но фильму суждено было стать отправной точкой ретро-течения в американском кинематографе, течения, заметим, идейно далеко не однопланового, сложного по своим психологическим посылкам и политическим последствиям. Сам Богданович обратился к прошлому потому, что годы его собственной юности были лучшим материалом для начинающего кинематографиста. Да и не такого уж начинающего. Богданович начинал-то с кинокритики, хорошо знал и свое американское и европейское кино, был не чужд интеллектуальных влияний и экспериментов в области авторского кино. С другой стороны, начало 70-х годов для отбунтовавшего поколения было временем не только разочарований, но и подведения итогов «бурного десятилетия», временем уроков, которые следовало извлечь из прошлого. Общественное сознание терзалось саморефлек-сией, влекло молодых художников к размышлениям над судьбами послевоенного поколения, безуспешно боровшегося за новые идеалы.
К истокам бунта 60-х обращена лента Богдановича. Она не претендует на социально-политический анализ эпохи «просперити», на вскрытие язв относительной бедности и бесправия в мире процветания. Нет в ней подземного гула нарастающего социального напряжения в среде черных американцев, быстро превращавшихся в те годы из забитых арендаторов и издольщиков Юга в членов рабочего класса больших городов Севера и Северо-Востока и сразу попадавших под пресс сверхэксплуатации. Но тем не менее с первого взгляда на экран каждый зритель понимал, откуда в фильме атмосфера запустения, царящая в провинциальном городке Юга, обескровленном большими промышленными корпорациями метрополий, этот осенний ветер, выметающий последние листья с опустевших улиц, грустные серые пейзажи окраин, снятые на черно-белой пленке, омертвевшие отношения немногочисленных его жителей.
Действие фильма происходит в течение года в захудалом техасском городке Анарена в 1951 году, где, не устояв под натиском телевидения, закрывается единственный городской кинотеатр и в конце концов умирает его старый хозяин Сэм, он же владелец биллиардной и кафе — трех здесь единственных культурных центров. Подростки, стоящие на пороге совершеннолетия, — его главные действующие лица. Они беснуются со скуки в затхлой атмосфере этого провинциального мирка, задыхаются среди алчности, несбыточных честолюбивых планов, двуличия, слепого повиновения условностям и полного безразличия к почитаемым когда-то законам чести.
Санни — капитан школьной футбольной команды, пытаясь завоевать благосклонность красавицы Джейси, тем временем спит с тоскующей, средних лет женой своего футбольного тренера, а потом и вовсе уходит из городка сначала на нефтепромыслы, а оттуда — в армию, на корейскую войну. Сама Джейси, стремясь к выгодному браку, настойчиво пытается избавиться от не представляющей уже никакой ценности девственности, тянется к богатым юнцам в полной готовности использовать для кратковременного успеха свое красивое тело, путается с пожилым любовником своей матери, а ее большие глаза продолжают искать среди, в сущности, безразличных ей мужчин того, кто даст ей финансовую независимость.
Единственным носителем традиционных моральных устоев времен американских пионеров, хранящим светлую память о романтическом Западе и кодексе чести ковбоев, остается потрепанный жизнью, но не сдавший позиций Сэм. Он еще пытается оказать влияние на подростков, в его кинотеатре они смотрят старые ковбойские фильмы о настоящих героях прошлого, но в Анаре-не, как писала тогда критика, «рано наступает духовная смерть». С уходом Сэма здесь исчезают последние следы человечности. Кинотеатр ненадолго переживает своего владельца. На последнем перед закрытием сеансе показывают «Красную реку», и крик ковбоя: «Собирайтесь в путь, пора гнать скот!» — отдается томительным эхом ушедших эпох в ушах тех, кто смотрит из зала 1971 года на подростков анемичных 50-х.
Критики высоко оценили «Последний киносеанс». Бывшего киноисторика Богдановича поспешили сравнить с классиком французского кино Жаном Ренуаром, его картину ставили рядом с «Гражданином Кейном» Орсона Уэллса по глубине осмысления эпохи. Богданович и в самом деле прорвался к нестандартному, глубинному представлению о временах «процветания», разглядел в «счастливом» недавнем прошлом, в годах своей юности, которая пришлась на расцвет «американского века», знаки духовного загнивания, сытое убожество «американской мечты». Вместо рекламного фасада «просперити» вспомнилась унылая бездуховность, та самая бездуховность, которая и заставила в конце концов «потерянное» поколение превратиться в «бунтующее». Однако в «Последнем киносеансе» предвестия бунта еще нет. В нем есть лишь атмосфера духовного удушья, приметные знаки застоя и вырождения американского духа.
Не приходится сомневаться в причинах общественного внимания к фильму: художник явно соотносил с 50-ми годами упадочнические настроения, господствовавшие в американском обществе начала 70-х. Бесконечно долго тянулись уотергейтские слушания, американские солдаты, осуждаемые своими соотечественниками, бесславно гибли во Вьетнаме, и уставшим от политики людям так хотелось, чтобы явился наконец он — «обыкновенный герой», который встанет и скажет правду раз и навсегда». Статья под названием «Американский герой, где же он?» из журнала «Нью-Йорк» как раз и полна сетований по поводу безвременья и измельчания идеала. Самокритично и точно в ней передана нынешняя девальвация ценностей. Раньше американцы считали: «Если вы умеете выносить превратности судьбы, это называется мужеством». Теперь говорят: «Если вы можете заставить других выносить их вместо вас, это называется умением жить». Синдром деградации героев, правда, определяется в статье лишь как внутренняя болезнь сознания: «Больше всего американцев в это время беспокоит собственное состояние, и в конечном счете они пожинают плоды своего бессилия и неспособности действовать». Характерно, что при этом журнал патетически напоминает читателям о киногероях былых времен: «То, что мы уже успели забыть об американском духе, нам могут напомнить Купер, Фонда, Стюарт и, конечно, Гейбл...»1.
Богданович обратился к истокам бунта, принесшего разочарование, чтобы вернуть соотечественников на круги своя, а Джордж Лукас, примерно в то же время взявшийся за тот же материал, развернул их лицом к 60-м, еще не прожить ками и потому
деньги и славу — он был согрет надеждой. В «Американнесущим надежду. И принес ему и ских зарисовках» снова та же провинциальная среда, очень похожая на Анарену или на городок Модесто, где вырос сам Лукас: те же подростки на автомашинах, снующие ночь напролет взад-вперед по главной улице вокруг драйв-ина, кинотеатра для автомобилистов, где они периодически заправляются едой, выпивкой, зрелищем и девочками, чтобы дальше продолжать свое бесконечное кружение наперегонки по отданному во власть их автострастей городку. И будет надежда...
Если двадцативосьмилетний Лукас что и знал в жизни к моменту работы над фильмом, вскоре принесшим ему славу, то это как раз и были эти автострасти, чуть не стоившие ему жизни в 1962 году, когда он оказался в больнице с проломленным черепом и перемятыми ребрами. «Я пытался воссоздать на экране то, что еще десять лет назад было единственным содержанием моей собственной жизни», — признавался застигнутый врасплох успехом своей первой картины молодой автор. В Модесто для подростков в начале 60-х годов автомобили были особым стилем, формой существования. «Танец, выполняемый постоянным кружением автомобилей, был в этот период ритуалом под названием «курсирование». Бесконечный парад мальчишек, вертевшихся вокруг на фирменных сверкающих, пламенеющих, отливающих лунным светом машинах по, казалось, покинутому взрослыми, одурманенному жарой городку... Движение сверкающих хромом автомашин представало некоей феерической хореографией»1, — писал он в литературной разработке к фильму в 1971 году.
Четыре года, в свое время отданные автострасти самим Лукасом, сконцентрировались в конце концов в одну ночь, показанную в его фильме. Сюжет его в самом деле более чем прост: четверо приятелей от семнадцати до двадцати лет, выросшие здесь вместе, застают себя на жизненном распутье. Пришло время расставания с юностью, в которой так много значили тогда владение автомобилем, рок-музыка и секс. Для детей — телевизор, для прихожан — кино, для молодежи — ночные автомобильные бдения, фланирование под «нон-стоп», музыкальные программы знаменитого тогда Джека Вулфмана, чью радиостанцию узнавал в конце 5Q-X годов любой подросток от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Двое из друзей собираются покинуть родной кров и уехать на учебу в большой город. Третий ни за что не хочет расстаться с титулом короля местных автотрасс, четвертый только млеет от счастья, получив наконец ключи от доверенной ему на время машины друга.
И хотя городок в конце концов покидает лишь один из четверых по имени Карт, Лукасу удается передать в фильме ощущение конца одной эпохи, которой принадлежали его персонажи, и приближение другой, полной надежд, борьбы и самоотверженности. Смутная тоска по иной жизни находит воплощение в видении Карта: прекрасная незнакомка в белом лимузине то и дело является ему на езженых-переезженых улицах, манит куда-то за собой и исчезает в недосягаемой близости всякий раз, когда он уже рядом. И когда Карт, наконец, улетает на авиалайнере в большой мир, белая машина тоже выезжает из города по бегущей под самолетом дороге, как бы символизируя правильность выбора. Так разрешается нравственный «конфликт между жаждой освобождения и конформизмом», о котором писали тогда прозорливые критики. «Герой мой покидает застойную жизнь страны апатии и бездействия ради страны радикальных действий»1, — объяснял Лукас после выхода фильма на экраны.
Почти через десять лет, уже в другой духовной атмосфере, картиной «Четверо друзей» Артур Пэнн точно так же из глухой провинции выведет в большой свет своего героя Данилу, чтобы пройти с ним через долгие годы скитаний по бурным перекатам 60-х и вернуть его в послевьетнамскую, послеуотергейтскую пору обратно, в тихий провинциальный городок его детства, но уже с обломанными крыльями. Лукас снимает свой фильм в стране, где еще в разгаре антивоенные демонстрации и американцы ничего не знают ни об «Уотергейте», ни о надвигающемся экономическом кризисе. Тем более не догадываются об этом его герои. Картина пробуждала у зрителей 70-х годов воспоминание о надеждах на радикальные перемены, возвращала их к духу «бунтующего десятилетия» Америки, напоминая о том, как все начиналось. Лукас говорил: «Я усматриваю в 50-х годах оптимизм. Тем более что это уже подступы к 60-м, то есть — это эра Кеннеди, время моего возмужания, эра оптимизма, а не самодовольства. Это было время и Мартина Лютера Кинга». Это было начало пути тех, кто «последние десять лет бились головами об стену и чьи мозги и кровь еще не высохли на тротуарах»
Премьера «Американских зарисовок» состоялась 1 августа 1973 года, и уже через шесть месяцев стало ясно, что Лукас снял самый прибыльный в истории Голливуда фильм. Прямые расходы на его съемки составили 775 тысяч долларов плюс 500 тысяч на печать копий, объявления и рекламу. Доходы же студии «Юнивэрсл», обладавшей правами его проката, составили 56 миллионов долларов или, как подсчитали финансисты, на каждый доллар вложений в этот фильм студия получила 50 долларов прибыли. В целом же цена проданных на него билетов по всем кинотеатрам в США и за рубежом через год достигла 117 миллионов долларов. Успех открыл Лукасу неограниченные кредиты у больших студий, которые, к сожалению, быстро убедили новичка отказаться от «авторского» стиля и попробовать силы в многомиллионных постановках с использованием всех возможностей современной кинотехники. Так спустя несколько лет появились «Звездные войны»...
Было бы упрощением представлять моду на «ретро» в американском кино 70-х годов как заранее запланированное или рассчитанное в мозговых центрах кинокорпораций направление. Рыночное искусство предоставляет художника самому себе. Эта свобода пробиваться в одиночку сквозь рыночную стихию, через сопротивление продюсеров и прокатчиков, каждый из которых рвет себе долю в прибылях, по-своему разумеет запросы зрителя и блюдет свой идеологический интерес.
Здесь поиск насущных тем, проблем, конфликтов и авторской позиции идет вслепую и не в глубинах собственной души художника (каким бы «авторским» ни выглядело его произведение), а в зыбкой изменяющейся плазме общественного сознания, в противоречиях социальной психологии многих слоев общества. Здесь для коммерческого успеха надо поймать — как в перекрестие прицела — средоточие общественного интереса. И не только. Надо еще попасть в узкую зону консенсуса (общего согласия). Надо еще и улучить момент наивысшего подъема этого интереса, ибо, как хорошо знают те, кто имеет дело с рынком, «дорога ложка к обеду», а не до и не после...
Еще в 1966 году Артур Пэнн снимает гангстерский фильм в костюмах и антураже 30-х годов. Его «Бонни и
Клайд» являет собой удачный пример доподлинной реконструкции на экране мельчайших деталей давней жизни, начиная от облика старых улиц и кончая манерой, в которой изъясняются между собой герои. И сами герои — Бонни Паркер и Клайд Барроу — тоже реальные персонажи преступного мира 30-х годов. Словом, в фильме Пэнна есть все, из чего мог бы сложиться стиль «ретро». Но нет в нем главного — самого прошлого. Содержание жизни и суть взаимоотношений одинокого, вышибленного из жизни паренька и влюбленной в него подружки имеют отношение к чему угодно, только не к 30-м годам. Они несомненно принадлежат 60-м всеми своими жизненными принципами, которыми руководствуются в своих действиях и чувствах. И не гангстеры они по своей натуре. Они самые обычные люди, грабящие банки так же буднично, как другие работают в них, а по существу те же бунтари, которых к тому времени уже немало было на улицах Америки.
Зато осознанно стремился к реконструкции мироощущения той инфантильной и застойной в духовном отношении эпохи в самом начале 70-х годов Роберт Муллиган. Он погружается в волны воспоминаний о собственном отрочестве, не заботясь о философской или хотя бы психологической связи времен. Его «Лето сорок второго» (1971) отличается камерностью чувств и почти полной изолированностью от какого бы то ни было социального фона. На малолюдном островке у побережья Новой Англии трое школьников, отправленных на каникулы к дальним родственникам, воюют со скукой среди песчаных дюн, пасторальных пейзажей и мелодий беспечного южного лета. Подростки то тайком читают выкраденную у взрослых книгу о сексе, то с дрожью в коленках покупают «пакетики» у местного аптекаря, то шарят потными руками в темноте кинозала по мягкому девичьему телу, а то и гоняются за всякой возможностью добиться своего за ближайшей песчаной дюной. Вот они издали подглядывают за своими соседями — молоденькой Дороти и влюбленным в нее нетерпеливым мужем, и эта чужая страсть испепеляет душу юного героя.
Как нежданные ностальгические слезы накатываются на автора воспоминания о первой любви пятнадцатилетнего подростка к двадцатидвухлетней загадочной Дороти, заплаканной, закоченевшей от горя Дороти, проводившей на какую-то далекую войну мужа и очень скоро получившей весть о его гибели. Эта неосознанная первая любовь, на которой замыкается сюжет, внезапная — в минуту отчаяния — близость, которой он так тогда и не понял, смазывают социальный фокус картины о детстве, которое пришлось на разгар второй мировой войны, глухо грохотавшей где-то далеко за пределами американского континента. Похоже, автор искренне умиляется казусам и открытиям своего героя, сосредоточенного на процессе полового созревания. Что ж, эти милые казусы заметно придали фильму пикантности, но они же и создали на экране ту социальную невесомость, в которой ничего, кроме наивной инфантильности, не просматривалось.
«Лето сорок второго» разительно отличалось от молодежных контркультурных фильмов эпохи массовых демократических движений умиротворенностью и гармонией чувств. Уставшим от политических распрей и рискованных экспериментов с моралью зрителям Муллиган предлагал наивный мир еще не тронутого житейскими бурями подростка, как бы возвращал их в непорочное детство. Фильм так и воспринимался тогда зрителями, о чем свидетельствуют непосредственные впечатления от него советского журналиста, обозревателя «Комсомольской правды» А. Пумпянского, находившегося тогда в США: «Как мало достается американскому зрителю просто чистых картин, которые бы лучились надеждой и светом. «Лето сорок второго» — такая картина... Авторы словно услышали тихую мелодию детства, которая все-таки живет где-то в недрах тебя и которую обычно заглушают уличные шумы повседневных забот, и проиграли ее тебе на ухо — негромко и чисто»1.
В данном случае мелодию детства 50-х заглушили уличные шумы негритянских, студенческих, антивоенных демонстраций 60-х, а потом» вполне осязаемые повседневные заботы 70-х. Да и то сказать, «просто чистых картин» в искусстве не бывает. Они всегда — отражение той или иной, может быть, еще глубоко скрытой тенденции общественного сознания. Муллиган, работая над фильмом, по всей видимости, смутно угадывал нарождающуюся в потрепанных 60-ми душах соотечественников тоску по прошлому, тягу к некоему очищению. Но «очистил» свой фильм настолько, что получил справедливый упрек со стороны проницательного критика: «О сороковых годах нам напоминают не только события на экране, но и звучание самого фильма, во многом передающего аромат картин сороковых годов с их безмятежностью, спокойной уверенностью и эмоциональ1 Цит. по кн.: На экране Америка, с. 332.
ной наполненностью... Однако живой родник, сверкающий точными наблюдениями над комичным и болезненным отношением подростков к приобретаемому жизненному опыту — наблюдениями, в целом позволяющими считать этот фильм хорошим, — неожиданно иссякает, и такой резкий нажим на тормоза дает основания предполагать, что сценарист Рочер и по сей день не разобрался в своем отношении к случившемуся с ним в то лето. Молчание Герми свидетельствует не о зрелости его нового мироощущения, а о неспособности автора расстаться с нежно лелеемой наивной фантазией»
Что касается упоминавшихся картин Богдановича и Лукаса, то в отличие от фильма Муллигана художественно и общественно значимыми их делает как раз наличие второго плана — подразумеваемого авторами будущего, из которого они и смотрят вместе со зрителями на своих инфантильных героев, уже зная их дальнейшую историческую судьбу.
Еще большую идейную нагрузку несут ретро-фильмы Сиднея Поллака и Мартина Ритта. В них главное — не скрупулезность в восстановлении бытовых примет времени, а осмысление его в масштабе эпохи, реконструирование политической атмосферы, в которой тогда бесчинствовал и бушевал маккартизм. По воспроизведению макрокосма американской жизни, по восстановлению характерных черт духовной эволюции людей, чьи жизненные пути пересеклись с путями политической истории страны, картины «Какими мы были» (1973) и «Подставное лицо» (1976) бесспорно принадлежат к достижениям стиля «ретро». Ибо в них есть не только бережно восстановленное прошлое, но и послание (message) ныне живущим, которых кое-кто уже снова был готов ввергнуть в маккартизм образца 70-х годов.
Сидней Поллак, как и Мартин Ритт, вспоминая ушедшую эпоху, выходит за рамки незрелых эмоций и чувств подростков 50-х. В 1973 году он расширяет масштабы воспоминаний фильмом «Какими мы были», растворяя без остатка камерную грусть по ушедшей молодости в горькой правде о времени, которое навсегда останется в политической истории Америки черным периодом разгула маккартизма. Поллак знаком советскому зрителю по необыкновенно впечатляющему фильму «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» с Джейн Фондой в главной роли. Жестокая пытка голода1 На экране Америка, с. 355.
ющих жертв «великой депрессии» 30-х годов танцевальным конкурсом-марафоном за горсть обещанных, но не отданных победителю монет, пожалуй, не тема для Голливуда. И все же волей талантливого мастера она превращается на экране в метафору скорее не американской, а европейской школы кино. В фильме создан образ беспощадной к людям цивилизации, где никто совершенно искренне не видит ничего дурного и аморального в том, чтобы и из тягчайшего горя людского выжимать доходы. Чтобы не быть многословным, спросим себя, читатель: могли бы мы с вами как ни в чем не бывало сидеть и азартно аплодировать смерти на манеже, и не напоминают ли все эти танцы в старом бараке еврейский оркестрик на плацу в Бухенвальде?
«Какими мы были» — ретро-фильм. Но он одновременно и политическое кино, через психологию героев и эволюцию их взаимоотношений восстанавливающее то мрачное для Америки время взаимных доносов и тотального запугивания. Картина эта — о слабости духа, который был сломлен тогда у многих одной лишь угрозой личному благополучию, простого увольнения с работы. Она об унизительном конформизме от страха. Это рассказ о начинающем голливудском драматурге, который ради карьеры отказывается от себя, поступается своими идеалами и любовью. Проходят годы, герой Роберта Рэдфорда уходит далеко вверх по лестнице приобретений, потеряв навсегда лишь «пустяк» — свою любовь, а вместе с ней и душевный покой, и уважение к себе. А его любовь... Эта суматошная женщина, которую увлеченно играет знаменитая певица и актриса Барбра Стрейзанд, так и остается верной идеалам юности. Она и теперь, десятилетие спустя, упорно раздает прохожим «красные» листовки на том же углу, где он оставил ее когда-то... 25 миллионов долларов собраны этим отнюдь не развлекательным фильмом, думается, не только благодаря занятым в нем «звездам», но и самокритичному взгляду зрителей в прошлое, где маккартизм навсегда оставил свои черные метки.
В 1976 году, когда в паруса времени уже дули консервативные ветры, об опасности эпидемии под названием «better dead than red» («лучше мертвый, чем красный») напомнил и ретро-фильм Мартина Ритта «Подставное лицо». Как сам Мартин Ритт, так и сценарист Уолтер Бернстайн когда-то хлебнули горя, попав в «черные списки» Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности в Голливуде. Потому рассказанная ими нелепая история об упрямом малом, кассире из окологолливудского кафе-забегаловки, ловко надувавшем голливудских боссов тем, что выдавал им за свои сценарии уволенных «красных» драматургов, не только смешит. Известный комический актер Вуди Аллен в роли простака, впутанного волей случая в мир продюсеров, «звезд», жертв «охоты за ведьмами», судей, членов сенатской комиссии и выступающего там в роли знаменитого драматурга, не написавшего на самом деле ни строки, создает необычайно сильный характер. На общем фоне реалистично прописанной эпохи тотального запугивания и подозрительности, корейской войны и казни «кремлевских шпионов» Розенбергов, эхо которой прокатилось по всему миру, проступает обаятельный образ Иванушки-дурачка по-американски, оказавшегося не по зубам маккартистским ищейкам. А бесстрастные, непроницаемые лица членов Комиссии, доводящей до самоубийства людей талантливых, но слабых духом, еще раз напомнили американцам, куда однажды завел нацию фашиствующий сенатор своей идеей-фикс о коммунистическом заговоре.
«Подставное лицо», таким образом, можно рассматривать как выражение отрицательного отношения к антикоммунизму значительной части либеральной интеллигенции США. А вот по рецензии на этот фильм леворадикальной газеты «Гардиан» можно судить о точке зрения тех, кто в американском политическом спектре находится левее либералов. Рецензент газеты писал: «Реальная проблема не в том, что антикоммунисты — зло. Это так, ибо, как ни верти, с их точки зрения и в самом деле коммунисты представляют смертельную угрозу американскому монополистическому капитализму. Но влияние антикоммунизма на массы никогда не будет уничтожено простым разъяснением, что революционеры «невиновны». Оно будет уничтожено, когда коммунисты покажут, что истинная цель «охоты на ведьм» — увековечивание роли монополистического капитала, оправдание агрессии и контрреволюции (как в Корее и Вьетнаме) и лишение рабочего класса талантливых революционных руководителей. Другими словами, задача разрушения идеологии антикоммунизма слишком серьезна для того, чтобы оставлять ее либералам, которые в лучшем случае могут дойти до «Подставного лица», но не дальше». Мысль в принципе верная. Но, к сожалению, не учитывающая уровня развития реального политического сознания в США, настроений «молчаливого большинства» — Америки средних слоев.
Этим настроениям отвечало пробившееся вскоре в ретро-фильмах более облегченное коммерческое течение, суть которого в стилизации под старые, любимые американцами фильмы. Воплощением изысканного развлечения в стиле «ретро» стала вышедшая в 1973 году пародия на гангстерские фильмы 30-х годов «Афера» Джорджа Роя Хилла. Опытный режиссер сумел не оскорбить правду о «великой депрессии» легкомысленной фанта-зией-эксцентрикой на тему «как хорошо быть славным малым с ловкими пальцами». В фильме все, кажется, движется, пританцовывает под музыку. В фортепианных «рэгтаймах» Скотта Джоплина 30-х годов чудится лукавый смех персонажей этого плутовского сюжета из жизни преступного мира старого Чикаго. В головокружительных махинациях пары картежных шулеров, этих поэтов уголовщины, со смаком надувающих другого уголовника, более опасного и влиятельного, чем они, сверкает обаяние двух великолепных актеров — Роберта Рэдфорда, по-прежнему выступающего в мальчишеском амплуа, и Пола Ньюмэна, играющего уставшего от жизни профессионала. В изобретательных и стремительно сменяющих друг друга эпизодах карточной игры в поезде со зловещим главарем подпольного синдиката Нью-Йорка, в рискованной афере с фиктивной букмекерской конторой в наспех переоборудованном баре — всюду конфликты разрешаются не кровавой резней соперников, а изящной игрой ума, интеллектуальным поединком. «Беспроблемным фильмом с увлекательным сюжетом» назвала его Джудит Крайст, и, видимо, эти качества «Аферы», восстанавливающие у зрителей времен «Уотергейта» и Вьетнама доброе расположение духа всемогущей само-иронией, и побудили Американскую киноакадемию избрать его лучшим фильмом 1974 года с вручением сразу семи «Оскаров».
Голливуд, таким образом, нащупал свой коммерческий и идеологически гораздо более отвечавший потребностям «средней Америки» вариант стиля «ретро». Кинобизнес взялся за восстановление художественного стиля эпохи «просперити», ее музыкальной атмосферы, наиболее колоритных фильмов той поры. Молодые режиссеры из киношкол охотно вспоминали почерк старых мастеров американского кино и изощрялись в тонкостях стилизации под кого угодно. Тот же Богданович, знаток истории
Голливуда, в «Последнем киносеансе», а потом в «Бумажной луне» уже вполне осознанно повторял, а то и просто цитировал своих любимых учителей. Не вняв похвалам своеобразию стиля и авторской индивидуальности «Последнего киносеанса», он вскоре смастерил эксцентрическую комедию в стиле тех же любимых им мастеров прошлого — Говарда Хоукса, Бастера Китона, Гаролда Ллойда, братьев Маркс и мультипликатора Чака Джонса. Не влекла его больше проблематичность былых времен. Прошлое все больше вспоминалось по голливудским мифам, за возвращение которых он и взялся. «В чем дело, доктор?» — это антология стереотипов комедий 30-х и 40-х годов с сумасшедшей погоней по улицам Сан-Франциско на самых невероятных средствах передвижения, с полуголой студенткой (Барброй Стрейзанд), повисшей на одних пальцах на карнизе отеля над улицей, полной народу, с бестолковым музыковедом (Райан О’Нил), устраивающим всюду смешную путаницу. «В результате получилась комедия, — рецензировал фильм Джей Кокс, — поставленная человеком, который видел много фильмов, знает всю механику этого дела и абсолютно лишен чувства юмора. Хвалить картину «В чем дело, доктор?» — все равно что поздравлять острослова, который смешит, держа в руках механическую игрушку-хохотунчика»
Кокс, скорее всего, прав. Увлеченный историей американского кино, бывший кинокритик и автор книг о старых мастерах, похоже, задался целью воссоздать эстетику киноклассики своими следующими одна за другой стилизациями: «В чем дело, доктор?» (1972), «Бумажная луна» (1973), «Дэйзи Миллер» (1974), «Долгая последняя любовь» (1975), «Никельодеон» (1976). По поводу успеха «Бумажной луны», истории девятилетней сироты и мелкого жулика, скитающихся по обездоленной «великой депрессией» Америке, Джудит Крайст заметила: «Времена настали сейчас лихие (один «Уотергейт» чего стоит!), и потому не случайно проблемным картинам зрители предпочитают простые и приятные — те, что могут доставить удовольствие»2. А другой критик, Гэри Арнолд, был еще категоричней: «Картина в своей основе пуста»3. Богданович приходит в режиссуру как будто специально для того, чтобы показать, как много словечек, жестов, способов выражения чувств и стереотипов поведения было заимствовано американцами из фильмов 30-х и 40-х годов.
Но стилизации без связи с актуальной проблематикой, лишенные активного авторского отношения, все больше походили на искусство фокусника, жонглирующего застывшими реалиями вчерашнего дня. И «Долгая последняя любовь» — мюзикл об актрисе и певице 30-х годов Руби Киллер, и «Никельодеон» — комедия о первых шагах кинематографа побудили американских критиков, обманувшихся в своих ожиданиях, вынести жесткий приговор: «Питер Богданович, видимо, много знает о кинематографе. Он лично говорил со многими мастерами и создал впечатление, что усвоил их уроки. Но о чем он так и не узнал и к чему даже не проявил интереса, так это то, почему они так работают. Он страстно хочет делать фильмы. Но он бесстрастен ко всему остальному. Иными словами, он восхитительно, изумительно пуст. Это и есть синдром Богдановича»г.
Однако Богдановича поддерживали те, кто, как критик Майкл Корда, полагал, что «множество молодых талантов родились и исчезли, погубленные собственной незрелостью и ошибочным представлением, будто бы все, что интересует зрителя, — это студенческие беспорядки, блуждания юных наркоманов и изображение Америки как унылого, вымирающего общества». Корда берет под защиту этого талантливого реставратора старых, но не забытых миллионами американцев игрушек детства, оберегая его хрупкий дар от «критических нападок за то, что он не показал скрытые неприглядные стороны Америки, за то, что не затронул негритянскую проблему или Вьетнам2. И тут же объясняет важность его общественного предназначения, его миссии — «оживить отошедшие вместе с наивным детством старые представления о смешном, изысканном и значительном», привлечь почтительное внимание к прошлому, в котором искали будущее консерваторы.
По противоречивой реакции критики на феномен Богдановича, на фильмы «Лето сорок второго», «Постижение извечного», «Какими мы были» и другие можно судить о том, как остро сталкивались взгляды на входивший в моду интерес публики к докризисным годам, к
1 Monaco J. American Film Now. New York, a Plume Book, 1979, p. 146.
2 На экране Америка, с. 376 — 377.
тому, что в культуре вскоре обрело черты стиля «ретро». На прошлое оглядывались, в него всматривались все, но если технократы-либералы делали это с недоумением, ища в нем причины неудач реформистской политики, то восходившая в ту пору сила — консерваторы торопились использовать ностальгическую волну для возрождения «национального духа». Откровенное использование ностальгических настроений в политических интересах консервативных сил началось далеко не сразу и не единодушно.
К середине 70-х годов, ощутив, каким золотым запасом списанных было ценностей он владеет, Голливуд обращается к ретроспекциям своего собственного прошлого, обыгрывая мифы «золотого века» в картинах «День саранчи» (1975), «Никельодеон» (1976), «Валентино» (1977), «Гэйбл и Ломбард» (1976), «Последний магнат» (1977). Кинокомпания «Метро-Голдуин-Майер» к своему пятидесятилетию выпускает компиляцию из старых мюзиклов под названием «Это — развлечение» (1976). Этот альбом цитат получает такой теплый прием у зрителей, что к нему в дополнение тут же собирают второй — «Это — развлечение, часть II» (1977). Правда, при всей коммерческой привлекательности этих возвращенных в активный фонд культуры фрагментов из «Американца в Париже», «Песен под дождем», «Семи невест для семи братьев», «Поцелуй меня, Кэт» не они дали импульс развитию современного мюзикла. Скорее, складывалось впечатление, что когда-то зажигательные танцы Фрэда Астера и Джина Келли, ослепительные номера Джинджер Роджерс и Джуди Гарланд напомнили о невозвратности эпохи киномюзикла, но не обозначили его чудесное обновление. Именно этим грустным чувством поделился с читателями газеты «Вашингтон пост» ее кинообозреватель Гэри Арнолд. «Эта коллекция знаменитых картин «Метро-Голдуин-Майер» и отдельных номеров из них, — писал он, — больше выглядит как музейная экспозиция, представляющая закрытую страницу истории американского кино»х.
Достаточно было зазвучать на экране в «Последнем киносеансе», в «Американских зарисовках» рэгтаймам послевоенных лет, популярной когда-то музыке Бадди Холли, Скотта Джоплина, как стало ясно, что знаком ретро-стиля в кино будет старая музыка. Она действительно оказалась нервом ностальгических фильмов, оживила облик реконструируемого времени, вошла в интонации актерских голосов...
Музыка — фильмы — эпоха превратились в сознании американцев в монолитный сплав: тронь одно —
обязательно отзовется другое и третье. Забытые мелодии из знаменитых когда-то мюзиклов, бывшие после войны у всех на устах песенки, бешеные ритмы сногсшибательного рок-н-ролла, голоса, имена блюзовых музыкантов 40-х годов стали непременным атрибутом и приманкой многих нынешних картин, наполнили отголосками ушедшей, отшумевшей эпохи сердца ставших вдруг сентиментальными американцев.
Все очевидней исходным мотивом, побуждавшим режиссера браться за сюжет на темы «ретро», выступало желание сделать зримой старую музыку. Наглядный пример: Мартин Скорсезе, снискавший себе славу «Грязными улицами», где старые мелодии рок-н-ролла играли вспомогательную, фоновую роль, четыре года спустя фильмом «Нью-Йорк, Нью-Йорк» пускается в стилизацию под архаику мюзиклов 40-х годов с единственной целью — вызвать спазмы ностальгии с помощью забытой музыки Тип Пан Аллея, предшествовавшей изобретению рок-н-ролла. Музыка, собственно, и склеивает фрагменты любовной истории между саксофонистом (Роберт Де Ниро) и певицей (Лайза Минелли), блуждающими по стране с джазовым оркестром в поисках судьбы и счастья после второй мировой войны.
Один за другим в том же 1977 году выходят на экраны ретро-фильмы о музыкантах прошлых лет — «История Бадди Холли» и «Скотт Джоплин», а один из таких памятников прошлой музыкальной эпохи, «Бриллиантин» (1978) Р. Клейзера, стал сенсацией сезона. Память о незабвенном короле рок-н-ролла 50-х годов Элвисе Пресли заставила расчувствоваться сентиментальных американцев, и незамысловатый ретро-рок-мюзикл принес его хозяевам 93 миллиона долларов за год демонстрации — доход, который вывел ничем другим не примечательную картину в десятку самых кассовых картин американского кино. В 1985 году музыку и танцы 30-х годов умело использует Ф. Коппола в стилизации под довоенную кровавую гангстерскую ленту, фильме «Коттон-клаб», который был показан на XIV Международном фестивале в Москве в 1985 году.
Такой успех музыкальной киноклассики, впрочем, вовсе не означал, что новой музыке нет места в американских фильмах. Наоборот, она теперь воцарилась на экране, но это была другая музыка. Она пришла в кино с улицы, ворвалась в фильмы молодежными песнями протеста, принесла с собой иные имена — Боба Дилана, Арло Гатри, Саймона и Гарфункеля, Джоан Баэз... Она подхлестнула кинодействие ритмами биг-бита и обновленного рок-н-ролла. «Рок-н-ролл умер, да здравствует рок-н-ролл!» — возбужденно воскликнули спецы по современной молодежной аудитории, вводя в кино вместо опасно «революционной» морали секса и марихуаны сравнительно безопасные инъекции в виде растворенных в сюжете музыкально-танцевальных ритмов. Бурная жизнь молодежной эстрады, сверкавшей именами новых кумиров послебиттлзовской эпохи, музыкальными и визуальными знаками и символами модных групп, рвалась на экран. У публики пользовались успехом создаваемые для телевидения динамичные рекламные фрагменты из популярных концертов, которые делались все более зрелищно, с применением коллажей, мультипликации и других кинематографических средств. Создание композитором Эндрю Ллойдом Уэббером рок-оперы «Иисус-Христос — суперзвезда», удачно перенесенной в 1973 году режиссером Норманом Джюисоном на экран, стало предвестием нового направления в киноискусстве — видеорока, который получил быстрое распространение на видеокассетах.
Эволюции видеорока можно было бы посвятить целое исследование. Для этого, пожалуй, уже достаточно материала. Новые направления музыкальной эстрады — «тяжелый рок», «прогрессивный рок», «арт-рок» — слились с новейшей видеоэстетикой и стали в таких ярких произведениях, как рок-опера «Томми» или видеорок «Стена», снятый по альбому, записанному группой «Пинк-Флойд» в 1979 году, чисто кинематографическим явлением. Но об этом несколько позже.
В 80-х годах тему «ретро» подхватывает многоопытный Артур Пэнн картиной «Четверо друзей» (1981). Неторопливо, эпически обобщает он судьбы поколения, вышедшего из 50-х и проскитавшегося по извилистым, путаным дорогам жизни без малого двадцать лет — кто в пестрой толпе хиппи, кто в джунглях Вьетнама, кто в студенческой среде привилегированного колледжа, кто на скромном поприще мелкого бизнеса в глухой провинции. Как в многоплановом романе, прослеживается здесь жизненный путь одноклассников, друзей из рабочего пригорода Чикаго. Вот они все четверо: прилежный Данила, сын рабочего, эмигранта из Югославии, всю жизнь отдавшего огнедышащему молоху сталеплавильной печи; бесшабашный Дэвид и добрый толстяк Том, влюбленные в романтическую, сумасбродную Джорджию, живущую в убеждении, что в нее переселилась душа Айседоры Дункан. Безмятежное школьное время — ночные концерты под окнами любимой девушки, сочи-нившиеся вдруг стихи, первые поцелуи и лихое катание на машине, подаренной Тому родителями, владельцами местной похоронной конторы, — быстро и по-разному кончается для всех четверых друзей.
Данила, весь во власти честолюбивых планов, презрев суровую жизненную школу своего скупого на эмоции отца, узнавшего Америку через пот и мозоли, подавляет любовь, которая счастливой лунной ночью сама протянула ему в окно свои тонкие руки, и уезжает на поиски счастья в большой мир. Прилежная учеба в колледже, новые знакомства, связи приоткрывают ему путь в «свет», но и приводят к трагедии: прямо на свадьбе болезненно любящий свою дочь и свои богатства его будущий тесть с многомиллионным состоянием вдруг обрывает уже готовую сбыться «американскую мечту» Данилы. Не перенеся ухода дочери, он убивает ее в самый разгар торжества, тяжело ранит Данилу и эффектно застреливается сам (этот надуманный эпизод, к сожалению, выпадает в целом из реалистической стилистики фильма). Джорджия тоже покидает родное захолустье, растворяясь в дионисийском опьянении свободой, придуманной хиппующей контркультурой бунтарей 60-х. Потеряв Данилу, она бросается к Дэвиду, но замуж выходит за Тома, рожает ему детей, не переставая бродяжничать, жить в коммунах, участвовать в демонстрациях и маршах свободы, а иногда... Иногда все-таки она вмешивается в одинокую, безрадостную жизнь Данилы, внося в нее веселую безалаберность и раскованность. Дэвид оказывается во Вьетнаме, откуда в конце концов возвращается в сопровождении жены — молчаливой вьетнамки и двух ее черноголовых детишек. Толстяк Том наследует печальный бизнес родителей и быстро превращается в солидного, с брюшком бизнесмена. Он по-прежнему живет в том же доме и на той же улице и безропотно нянчит детей вечно исчезающей Джорджии. В конце концов все четверо друзей, утихомирившиеся, по-своему повзрослевшие, снова соединяются в своем городке. И хотя в финальной сцене они собираются вместе у костра, как в юности хмельными и веселыми, выглядят они там, как у разбитого корыта из известной сказки.
Артур Пэнн замыслил показать галерею социальных типов, отошедших вместе с эпохой. В фильме явственно звучит грустная тема разбитых надежд, утраченных иллюзий, преждевременной усталости. Молодость 60-х годов, разбросавшая всех, отбунтовала. Пришла зрелость, которая всех снова собрала под одной крышей. Только какими? Вот что говорит сам режиссер: «В 70-х мне казалось, что я потерял представление о том, что происходит в социальной и политической жизни страны. «Уотер-гейт» и все, что ему сопутствовало, было столь ошеломляющим, что меня не покидало чувство дезориентированности... Я думаю, что 70-е — это еще нерассказанная история». От такого мастера, как Пэнн, хотелось, судя по прессе, большей определенности в подведении итогов. Автор же оставил зрителя со смутным ощущением бесплодности прошедших лет, зря растраченных сил. Он покинул своих героев на пороге какой-то новой жизни. А та, оставшаяся за плечами, беспокойная и сумбурная, всегда будет с экрана напоминать о временах разочарований, о порывах романтических исканий, о молодежной, сексуальной, психоделической и прочих «революциях».
Следующий этап в развитии «ретро» в американском кино приходится уже на 80-е годы, то есть на времена Рейгана, когда в сфере духовного производства усиленно создавались ценности, символизировавшие консервативное «возрождение» Америки. При Рейгане кино стремится утвердить в сознании зрителей весь набор традиционалистских добродетелей, начертанных на знаменах рейга-нистов: семью, церковь, трудолюбие, бережливость, добрососедство, патриотизм. И для этого оно опять-таки обращается в прошлое, то и дело искажая его в угоду консервативным иллюзиям, идеализируя довоенное время так же, как в вестернах идеализировались времена пионеров. Так на экране прямо на глазах возникал и утверждался еще один миф, и его идеологическое происхождение еще легко определить по свежим следам.
Вершиной «ретро» времен рейгановского лозунга «Америка возвращается!» (America is coming back!) стала по-школьному патриотическая картина Роберта Бентона «Место в сердце», показанная на XIV Международном кинофестивале в Москве в 1985 году. Захватывающая повесть о мужественной вдове, как встарь, по-американски вступившей в схватку с житейскими невзгодами, обрамлена лирической экспозицией и аллегорическим финалом, которые придают всему повествованию жизнеутверждающий пафос. Начальные кадры фильма: на широком экране — безбрежные просторы лугов, море сиреневого цвета, ветряная мельница на фоне закатного неба, чистенький домик в палисаднике, скромная семейная трапеза с обязательной молитвой. Это Техас, 1935 год. Здесь живут простые американцы, труженики. Вот семья Ройса: жена Эдна (ее проникновенно играет Салли Филд) и маленький сын. Случается несчастье: от шальной пули из револьвера подвыпившего негра погибает отец семейства, Ройс. И Эдна, скромная, тихая Эдна, никогда даже не знавшая, сколько зарабатывает ее муж, взваливает на себя хозяйство с невыплаченными долгами. Так возникает тема судьбы, рока, которому противостоит воля человека.
Безработный негр, навязавшийся Эдне в помощники, воспринимается как покаяние негритянской общины: негры пришли на помощь женщине, брошенной на произвол судьбы по вине черного человека. Опытный издольщик, он советует ей засеять поле хлопком. Он же вместо дряни, подсунутой Эдне торговцем, выбирает за 15 долларов настоящий семенной хлопок. «Спасибо, Мозес!» — говорит ему благодарный взгляд Эдны. Мозес распахивает за домом целину, сеет, учит уму-разуму ее сынишку, делает разные мелочи по хозяйству, словом, постепенно налаживает в доме новую жизнь. Эдна по настоянию ростовщика и в счет своего долга берет в дом на содержание его слепого брата, и вскоре все эти люди сплачиваются в маленькую, но стойкую ячейку против невзгод и жизненных бурь. Даже торнадо, страшный смерч, разрушивший их гнездо, не уничтожает их общую волю к жизни. Хватает за горло банк, падают цены на хлопок. Но вот снова маячит надежда: выиграет тот, кто первым сдаст первый тюк нового урожая. И снова люди, сплотившись, идут до конца. Эдна скорее умрет в поле, но не сдастся. Эпизод уборки урожая — апофеоз фильма. Исколотые пальцы, колени, солнечное пекло, слезы и кровь, и последняя ночь перед заветной субботой. Слепой постоялец готовит у плиты еду. Мозес, Эдна, маленький сын, несколько на последние гроши нанятых издольщиков работают сутки напролет, невзирая на усталость. «Победа!» «Мисс Сполдинг, не уступайте им ниже 3,5 доллара за тюк!» «Мозес, 3,75! На стене у него висела фотография его отца с моим. Я сказал: именем наших отцов — и он дал 3,75 доллара за тюк, Мозес. Мы спасены!» «Да, мисс Сполдинг, теперь мы осенью купим трактор...».
Мозесу, правда, этого уже не увидеть. Его хозяйская сноровка, деловитость, неподатливость в сделках с белыми торговцами навлекли на него гнев местных расистов, и ку-клукс-клан изгоняет его из городка, избив предварительно до полусмерти. «Прощай, добрый Мозес, — говорит ему Эдна. — Ты взял брошенную землю, посадил на ней хлопок, научил нас работать и сдал первым тюк нового урожая». «Да, мэм. Я здесь кое-что сделал... Возьми, Фрэнк, на счастье заячью лапку! Прощайте...».
Итак, человек и судьба, но в типичной американской традиции — как борьба горстки мужественных людей с враждебными силами, к которым здесь относится весь внешний мир: и изначальная расстановка сил — одинокая вдова, неприспособленная к жизни; и неблагоприятное стечение обстоятельств — погибший муж не оставил никакого собственного дела, никаких средств к существованию, одни долги за дом, за клочок заброшенной земли; и злодеи, стоящие на пути к успеху, — банкиры, наступающие на горло, скупщики хлопка; и стихийные бедствия — торнадо — смерч, разрушивший, казалось, все бесповоротно...
Но человек побеждает благодаря исконно американским добродетелям, которые — какое трогательное совпадение! — как раз обещает восстановить в повседневной жизни своих соотечественников президент Рейган. На высоком профессиональном уровне Бентон демонстрирует эти добродетели в действии: тут и стойкость духа молодой вдовы, и ее предприимчивость в поисках путей самостоятельного существования, и упорный труд на своем хлопковом поле, и бережливый счет каждого цента, ушедшего на хозяйство, и терпение, помогающее превозмочь домогательства взаимодавцев и опустошения, произведенные торнадо, и общинное чувство локтя, и милосердие к ближнему, и, конечно, уважение к богу. Итак, «Америка возвращается!» — таков предвыборный лозунг Рейгана 1984 года и такова торжественная нота фильма Бентона. Недаром он кончается символической проповедью о благодати и любви в местной церкви. Чаша с причастием обходит всех, включая банкиров и прижимистых торговцев хлопком, линчеванного негра, погибшего шерифа — мужа Эдны, изгнанного Мозеса и остальных членов местной общины, примиренных голубым и бездонным, вечным небом Техаса...
Нашей критикой в свое время была дана принципиальная оценка ретро-фильмов США 70-х годов как «специфической форме морально-психологической «компенсации» тягот сегодняшнего дня». Поставив вопрос об идеологическом его смысле, советские авторы справедливо отмечали преимущественно буржуазно-апологетическую сторону этой культурно-идеологической тенденции. При этом от них не ускользнула и многогранность моды на «ретро». «Ретро», замечает Вл. Баскаков, «обусловило возникновение потока кинопродукции, спекулирующей на массовом увлечении «экзотическим» прошлым, но наряду с этим стало специфической формой отражения современной действительности, своеобразным ответом художника на вопросы, поставленные сегодняшним днем... «Ретро» — многогранное явление в западном кинематографе, и к нему требуется дифференцированный подход»1.
В замечании Вл. Баскакова учтено то, что он называет парадоксом «ретро» — использование темы прошлого в разных, а то и противоположных идеологических целях. Напомним: для одних прошлое — это попытка разобраться в истоках молодежного бунта 60-х, для других — это желание уйти от сложностей современной жизни, для третьих — коммерческая спекуляция. На наш взгляд, для понимания происхождения «ретро» и его идеологической роли в американской духовной жизни следует ввести еще и координату времени: «ретро» утверждалось в американском кино с конца 60-х и действует еще и поныне. За это время социально-психологический тонус общества резко изменился, неоднократно менялся и его идеологический климат. И «ретро» рейгановской эпохи нельзя спутать с «ретро» времени «Уотергейта» и Вьетнама. Ясно, что развитие «ретро» проходило этапы, отвечавшие веяниям времени, порой подхлестывая перемены в русле усилий восходящих политических сил. Этими силами в 70-е годы, как известно, были консерваторы...
Так или иначе на протяжении 70-х годов ностальгии суждено было стать действительно социально-психологической доминантой, на которой впоследствии базировались различные оттенки консервативного сознания рейгановской Америки — сознания, которому, в сущности, долгое время суждено было существовать в форме неустойчивых умонастроений, а не завершенной идеологии. И видеокультура здесь сыграла свою ключевую роль, способствуя росту ностальгических настроений, дополняя план психологический планом эстетическим, создавая как бы фундамент новой старой веры в традиционные ценности. Эстетикой воспевания назовет советский киновед Ян Березницкий эти потуги американского кино, направленные на воскрешение старых моральных норм и добродетелей, в своей книге о неоконсервативных тенденциях в американском кино 70-х годов1. Запомним это понятие. Ибо эстетике воспевания предстоит еще проявить себя по всему фронту американской культуры на протяжении 70-х и тем более 80-х годов и развернуть национальный дух от упадка к подъему, от самокритики к эйфории, от трезвого благоразумия к безумию шовинизма и милитаризма. Не забудем, что точкой опоры для такого поворота в культуре была невинная, родившаяся в летучем эфире переменчивых массовых настроений мода на «ретро»...
ОПАСНЫЕ ТУПИКИ КРИЗИСНОГО СОЗНАНИЯ
Вернемся, однако, к началу 70-х годов. Монако, характеризуя в своей книге о кино подспудные сдвиги в социальной психологии США того времени, признавал, что «ностальгия — не единственный элемент мифологии 70-х, он лишь наиболее приятный». Главная же доминанта настроений, по его мнению, — навязчивая паранойя, глубоко поразившая после «Уотергейта» и Вьетнама вконец дезориентированное сознание американца. «Страх и месть — вот что все яснее вырисовывается на горизонте и больше говорит о коллективных комплексах, чем все браслеты на щиколотках и кожаные куртки»1.
В замешательстве, в котором в тот период пребывала нация, действительно нетрудно было обнаружить элементы общественной паники: страна переживала кризис, а ясная политическая альтернатива пока отсутствовала. Глубинная перегруппировка сил господствующего класса еще не вышла на поверхность общественной жизни и в духовной атмосфере царили разброд и шатание. Крушение налаженного бытия воспринималось часто обыденным сознанием в планетарном масштабе — как политико-социально-технологический кризис цивилизации: полное истощение ресурсов, необратимое загрязнение среды обитания человека и фатальная угроза ядерной войны. Пожалуй, сложнее понять, почему Голливуд позволил, чтобы эти элементы паники были усилены кинематографическими образами крушений и катастроф. Можно ведь было предвидеть, что они станут ключевым символом эпохи. Страх от ощущения неуправляемости общественного организма, от непредсказуемости будущего, от утраты доверия к правительству и политическим институтам, от дезориентации в морально-нравственных вопросах, страх, дремавший в подсознании нации под пеплом сожженных идеалов и моральных ценностей, скрывавшийся за ширмой нигилизма и болезненного критицизма, искал выход. Видели эту ситуацию и аналитики кинобизнеса. И не хотели терять зрителя.
С другой стороны, правящий класс уже готовился к смене курса, и социальные эмоции безысходности и страха перед будущим, распространявшиеся среди избирателей, его вполне устраивали как хороший плацдарм для пропагандистской кампании. В этом смысле чем хуже представлялась действительность, тем лучше чувствовала себя оппозиция. Поэтому, когда потребовалась какая-то общая метафора для передачи национальной растерянности, родилась идея катастрофы — образного аналога пронизывающих все слои общества тревожных умонастроений и чувствований, названных тогда, в самом начале 70-х, некоторыми публицистами и обществоведами «социальной паранойей».
Случайно еще в 1970 году студия «Юнивэрсл» набрела на фильм об авиакатастрофе. «Аэропорт» вдруг попал в резонанс с дремавшими до поры комплексами перенапряженного общественного сознания, что вызвало болезненный интерес к фильму, значение которого сначала никто в Голливуде по-настоящему не осознал. Фильм Джорджа Ситона о борьбе за спасение гигантского авиалайнера, идущего на посадку с пробитым корпусом, поврежденным управлением и ранеными пилотами, в 1971 году неожиданно собрал в прокате 45 миллионов долларов. Прокатчики в то время еще находились под гипнозом недавнего успеха «молодежных» и «псевдомолодежных» фильмов. Еще был свеж в их памяти успех скромного «Выпускника» Майка Николса (49 миллионов долларов), а шумная популярность мелодрамы «История одной любви» (50 миллионов долларов) Артура Хиллера, в то время еще продолжавшей победно шествовать по экранам, побуждала их к поискам эликсира успеха в направлении, которому скоро суждено было стать второстепенным и уйти из зоны общественного внимания.
Больной нерв общества, прикосновение к которому заставило бы вздрогнуть всю нацию, интуитивно нащупал продюсер Ирвин Аллен. Он учуял значение «Аэропорта» и побудил режиссера Роналда Нима разработать модель фильма-катастрофы. Р. Ним снял «Приключения «Посейдона» — постановочный фильм с душераздирающими подробностями и эффектами отчаянной борьбы со стихией горстки детей, мужчин и женщин. Это история о кораблекрушении океанского пассажирского лайнера, перевернутого в ночь под рождество волной цунами. Зрителям дается вволю пережить, как гибнущие в воде и огне несчастные пассажиры судорожно ищут путь к спасению, отчаянно цепляются за поручни оборванного трапа, задыхаются без воздуха. Объединяет и увлекает за собой тех, кто не потерял волю к жизни, решительный молодой пастор. Они самоотверженно, как никогда в жизни, помогают детям, друг другу, через горящие и затопленные внутренности медленно погружающегося в пучину судна пробираясь наверх, к его днищу.
«Посейдон» не только повторил успех «Аэропорта» в прокате, но и открыл глаза продюсерам, решившимся теперь на финансирование сразу целого семейства фильмов-катастроф. И вот уже в картине «Ад в поднебесье» (1974) Джона Гиллермина зрителя почти обжигает пламя пожара, бушующего в коридорах, номерах, лестничных пролетах полного людьми 134-этажного отеля, загоревшегося оттого, что строительная компания сэкономила на электропроводке. Полыхает, сжигая людей в своем начиненном техникой нутре, целый город с линиями связи, защитными устройствами, электроникой, и пожарные в серебристых скафандрах вытаскивают беспомощных жильцов из задымленных номеров, снимают вертолетом с перекосившегося лифта на высоте стодесятого этажа, налаживают подвесную дорогу между крышами небоскребов... В воображении потрясенных зрителей надолго остается образ хрупкой, переусложненной цивилизации, которая может в любую минуту самоуничтожиться — просто в силу ненадежности или неуправляемости ею же порожденной сверхтехники...
Тот же образ преследует зрителя и в фильме «Аэропорт-75»: комфортабельное чудо современной автоматики и телемеханики, летающий дом «Боинг-707» сталкивается на посадке с маленьким самолетом-лоцманом...
Когда первые пять фильмов «катастрофического» жанра дали в сумме около полумиллиарда долларов дохода, оказавшихся четвертой частью всех прибылей киностудий за целый год, их таинственной властью над умами людей заинтересовались не только прокатчики. Было что-то в их несложных сюжетах, в простейших психологических ситуациях и схематических характерах, что завораживало зрителей, влекло их в темноту зрительного зала, а режиссеров, еще вчера никому не известных новичков, превращало в знаменитостей. А если учесть, что авторы теперь получали со студий-прокатчиков проценты от сборов, то и в миллионеров, что автоматически повышало респектабельность дела, которым они занимались.
В полной мере психологический секрет успеха новой модели суждено было первому раскрыть Стивену Спилбергу, к тому времени уже автору «Дуэли» и «Прямо в Шугар л энд». Обладая кинематографическим чутьем и умением от фильма к фильму все рациональней использовать выразительные средства кино для управления летучими состояниями общественной психологии — массовыми настроениями, он берет за основу сенсационный бестселлер Питера Бэнчли «Челюсти»1 и создает новую разновидность кинокатастрофы — монстрофильм. И добивается небывалого коммерческого успеха. Роман привлек читателей атмосферой безотчетного страха, порожденного не столько появлением у местных берегов таинственной акулы-людоеда, сколько ощущением парализующего волю бессилия растерянного населения, брошенного на произвол судьбы представителями власти; пока те дрались между собой из-за куска пирога, каковым был для них курортный бизнес, жертвы одна за другой исчезали в пасти невидимого, но тем более страшного чудовища. Спилберг улавливает суть читательского интереса к роману: на календаре — 1974 год, из Белого дома с грандиозным скандалом только что ушел, окончательно дискредитировав верховную власть, зловещий Ричард Никсон, и страна чувствовала себя, как никогда, брошенной и преданной собственным правительством. Отсюда ясно: фильм должен стать кинематографическим эквивалентом душевного состояния соотечественников. Для чего совсем не обязательно нагромождать на экране ужасы. Достаточно было лишь намекнуть на присутствие опасности, обозначить ее в сюжете как нечто подразумевающееся: взвинченный реальными страхами зритель сам дорисует остальное. Оставалось лишь показать, как люди под прессом этой опасности выглядят.
Потому, хотя для фильма и заказывается дорогостоящая четырнадцатиметровая пластиковая акула с электронным управлением, на экране она практически во всем своем устрашающем величии ни разу так и не появляется. Зато много творческих усилий уходит на то, чтобы передать психологическую атмосферу истерии, охватившей население курортного городка Эмити. А когда и после повторного нападения власти всячески игнорируют опасность, чтобы не отпугнуть богатых туристов, население и курортников охватывает настоящий
1 Роман был переведен на русский язык. См.: «Иностр. лит.», 1984, № 7 и 8.
паралич страха, леденящая эпидемия ужаса, который растет дальше уже сам по себе по законам психического заражения.
А Спилберг только подливает и подливает масла в огонь. Он добивается необычайного шокового эффекта, например монтируя бескрайнюю тишь океана в закатный час с неожиданным всплеском (весла ли, плавника ли рыбы?), предваряющим пронзительный короткий вскрик юной купальщицы, о трагической судьбе которой зритель догадывается по красному пятну на безмятежной глади океана... Или мастерски режиссируя сцены паники на пляже, в которых лик обезумевшей от внезапного ужаса толпы купальщиков, ринувшихся на берег, монтируется с короткими планами шерифа, со смотровой вышки напряженно всматривающегося в море.
Результат? Сто тридцать четыре миллиона долларов, собранных за первый год демонстрации только на внутреннем рынке, не считая выручки от последующей продажи видеокассет. Главный рекламный образ фильма, придуманный специалистами по рекламе и отлакированный на глянцевой афише, — акула с разинутой пастью, рвущаяся из бездны океана к плещущейся на его поверхности тоненькой фигурке, — обеспечил многозначительной символикой все каналы «массовой культуры» США по крайней мере на целый год, а то и больше. Американцы охотно поглощали мороженое «Джоуберри» и «Шарка-ладное» (от Jaw — челюсть, Shark — акула). Миллионными тиражами распространялся рекламный образ фильма на майках, рубашках, пижамах, пляжных сумках, пластмассовых чашках, жетонах, шляпах и т. д. Открывались дискотеки «Челюсти» с той же «завлекательной» символикой.
Более того, рекламная идея фильма была охотно взята в оборот прессой и политическими карикатуристами. На страницах газет Рональд Рейган в виде страшной акулы гнался за беззаботно купающимся Джеральдом Фордом; нефтяные монополии — спекулянты жидким топливом — набрасывались на щуплого потребителя; акулья пасть энергетического кризиса терзала мощи беспомощного правительства; хищное чудовище ЦРУ атаковало хрупкую фигурку американской статуи Свободы; беспощадная инфляция пожирала беззащитных американцев. Хозяйка фильма, студия «Юнивэрсл», подсчитала, что в 1975 году рекламный знак «Челюстей» так или иначе использовали тридцать пять крупнейших американских политических карикатуристов, на рисунки которых подписаны сотни местных газет и журналов разного профиля и направления. Магнетическая реклама получила такое разнообразное распространение, что рупор деловых кругов «Уоллстрит джорнэл», поместив на своих страницах очередной раз знакомую всем картинку, добавил к ней лаконичную реплику: «Это и фильм тоже!»
Не уловившие социально-психологической подоплеки картины Спилберга, ее внутренней связи с атмосферой, царившей тогда в обществе, многие критики в США ополчились на ее сюжетную, примитивность. Критик Винсент Кэнби в газете «Нью-Йорк тайме» не стеснялся в выражениях, назвав картину «шумной и суетливой, уступающей в интеллекте любому резвящемуся на пляже ребенку»х. Но более чуткие к потребностям рынка кинематографисты быстро разобрались, что к чему в этой сверхкассовой картине, и тот же Ирвин Аллен, бывший продюсером «Приключений «Посейдона» — головной модели фильмов-катастроф, уже в роли режиссера сам снимает по рецепту Спилберга монстрофильм «Рой». Правда, в его руках драматическая история о нападении на небольшой южный городок гигантского роя пчел-мутантов, укус которых смертелен для человека, выходит довольно неуклюжей. И, главное, нестрашной. Пока мириады насекомых забираются в дома, автомашины, пока в картинном ужасе люди нелепо размахивают руками, отбиваясь от жужжащей тучи, в верхах идет дискуссия между учеными, военными и политиками о наиболее эффективных средствах избавления от быстро размножающейся пчелиной культуры. Но режиссер из продюсера не вышел: происходящее на экране воспринимается только как скучный бюрократический отчет. Отсутствие запоминающихся характеров, конфликтных ситуаций с острыми схватками, напряженного ожидания развязки лишает фильм эмоциональности, хотя, казалось бы, материала для волнений достаточно, ведь обсуждается альтернатива, напоминающая нации опасные, пугающие многих людей вполне реальные дискуссии по вопросам внешней политики в Белом доме: то ли немедленно сбросить имеющуюся наготове ядернуто бомбу, то ли все-таки продолжать борьбу другими средствами, ища, например, электронные или медикобиологические пути избавления от пчел-мутантов.
Картина Аллена резонатором общественных настроений в такой мере, как «Челюсти», не стала. Как выяснилось в очередной раз, в искусстве мало знать «что», надо еще найти «как».
Но производство «блокбастеров»х, названных известным продюсером Робертом Эвансом «новейшей формой искусства XX века», становится главной целью больших студий «нового» Голливуда.
Меняется стратегия и тактика большого кинобизнеса: киномагнаты делают теперь ставку на один-два «блокбастера» в год, подготавливая их выход на экраны с такой помпой, что ими прочно закупориваются прокатные каналы для всех других картин. Стоимость производства таких фильмов за счет технических трюков резко возрастает до 20 — 30 миллионов долларов, что выводит на новый уровень и затраты на рекламу, которая призвана превратить избранный студией фильм в событие общенационального масштаба задолго до его премьеры. Непроизводительные расходы на то, чтобы «разогреть» рынок, теперь не только сравнимы с производительными расходами, но в ряде случаев даже превышают их. Благодаря такой всепроникающей рекламе общественное внимание в течение 70-х годов по существу принудительным образом переключалось с «Ада в поднебесье» на «Челюсти», с «Челюстей» — на «Кинг-Конга», с «Кинг-Конга» — на «Близкие контакты третьего типа» и так далее.
Одно общее свойство этой «новейшей формы искусства XX века» неоднократно отмечалось западной прессой и критиками: она значительно меньше, чем традиционное кино, нуждалась в талантливых актерах психологического переживания. Место живых людей в «блокбастерах» уверенно занимали куклы монстров, чудовищ, мутантов, космических пришельцев, оборотней. Часто роботы играли главные роли. В кино стремительно поднимался спрос на профессии бутафоров-дизайнеров, художни-ков-кукольников, мультипликаторов и специалистов по компьютерной технике. Наравне с режиссерами и актерами получали они высшую награду Американской киноакадемии за трюковые эффекты и мастерство бутафории, имена отдельных виртуозов своего дела обретали национальную известность. Свои услуги режиссерам предлагали вновь созданные специализированные фирмы и компании, разрабатывающие на самом современном уровне компьютерной техники аудиовизуальные эффекты. Так создал свою компанию компьютерных методов съемки
1 Так называли эти суперфильмы в Голливуде, используя термин Пентагона, означающий ядерный заряд сверхбольшой мощности.
трюковых сцен и космических сюжетов режиссер-«звезда» Джордж Лукас после головокружительного успеха «Звездных войн». Так из коммерческой рекламы в сферу производства художественных фильмов перешла созданная известными художниками-мультипликаторами Дрю Такахаси и Гарри Гуриерризом компания «Колосл пикчерз».
И совершенно не важно, где происходит катастрофа — в небе ли, на земле, в небоскребе или в океане. Не важно, кем или чем она вызвана — волной цунами, сдвигом земной коры, роем пчел-мутантов, гигантской реликтовой обезьяной, внеземным разумом или дьяволом. Важно лишь эмоциональное возбуждение, шок от надвигающейся на людей смертельной опасности, мгновенно заражающий зрительный зал. Спилберг, снимавший в 1979 году «Близкие контакты третьего типа» (очередной после «Челюстей» боевик, теперь о «летающих тарелках»;, сразу хорошо знал свою задачу и охотно говорил о ней журналистам: «Моя задача — вызвать среди зрителей настоящий психоз. Я стремлюсь к тому, чтобы они смотрели на небо так, будто никогда до этого его не видели». Успех фильма, как он считал, был запрограммирован, «потому что фильм о том, во что верят как в реальность около 50 миллионов американцев. И я представлял себе еще 15 миллионов, которые утверждают, что собственными глазами видели НЛО, и давал пищу их воображению в виде тарелки-матки, появляющейся из-за гор как что-то более темное, чем небо, огромное, устрашающее...»1.
Так срабатывал спусковой крючок зрительских ожиданий. И эмоции одна страшней другой, рожденные жизнью и спровоцированные экраном, захлестывали воображение зрителя на фильмах, живописующих аварии, стихийные бедствия, крушения... Социально-политическое значение этих картин было растворено в их приключенческой, зрелищной форме. А между тем совершенно очевидно, что эта модель обладала весьма ценным социальнопсихологическим свойством с точки зрения служения интересам правящего класса: происхождение опасностей, угрожающих людям, здесь почти всегда внесоциально. Это обязательное условие игры, в которую вовлекали зрителя фильмы-катастрофы. Игры, ставшей психотерапией «недовольного сознания». Эта энергия недовольства таким образом выводилась за пределы социальной причинности и реальной политики.
Понимал Спилберг, в какую игру он играл со зрителем, или не понимал — за прессой, во всяком случае, он следил достаточно внимательно, чтобы не упустить актуальной темы, не потерять контакт со своей аудиторией. Его расчет на этот раз основывался на эксплуатации модных веяний: сенсационные «летающие тарелки», различные сюжеты о которых давно обрабатывались американской прессой, прочно вошли в обиход массового сознания. В январе 1979 года респектабельная буржуазная газета «Вашингтон пост» очередной раз оповещала своих читателей: «В секретном докладе министерства обороны сообщается, что в 1975 году на протяжении двух недель над совершенно секретными стартовыми позициями сверхмощных ядерных ракет и базами бомбардировочной авиации совершали полеты неопознанные низколетающие и ускользающие от преследования объекты. Случаи обнаружения таких объектов визуально и на экранах радиолокаторов самолетов, а также наземными техническими службами и группами по борьбе с диверсантами имели место на военных объектах в штатах Монтана, Мичиган, Мэн и сводились к интенсивным, но безуспешным попыткам ВВС проследить и задержать их»1. И так далее с описанием свидетельств очевидцев появления HЛO над Тегераном, авиабазами Вуртсмит, Лоринг и Мальстрём. В кинотеатрах в репертуаре 1978 года прочно держался научно-популярный фильм парапсихологов Ралфа и Джуди Блюм «Внеземные тайны», насыщенный околонаучным теоретизированием вокруг биоэнергетики, телекинеза, инкарнации2, тайн Атлантиды, Бермудского треугольника и сенсационными интервью со счастливцами, якобы побывавшими в гостях у «летающих тарелок».
В такой «интеллектуальной» атмосфере Спилберг совершенствовал свою методику доведения зрителя до истерики. Суть его творческого замысла заключалась в том, чтобы, как когда-то в 30-х годах молодой Орсон Уэллс, вызвавший радиопостановкой по роману Герберта Уэллса «Война миров» истерическую панику у тысяч радиослушателей, вызвать подсознательный страх перед вторжением с неба у миллионов зрителей путем внушения им необъяснимого, иррационального предчувствия самого События. И ему это в какой-то мере удалось.
Сначала зрителю показывают леденящую кровь хро1 “The Washington Post”, 1979, 25 Jan.
2 Инкарнация — переселение душ.
нику: пропавшие без вести во время мировой войны самолеты ВВС США вдруг — никем не пилотируемые, неизвестно откуда — вернулись на свои быльем поросшие аэродромы. Потом зрителя «Близких контактов третьего типа» начинает навязчиво преследовать неизвестно откуда взявшийся образ горы со срезанной верхушкой. Такую горку лепит из песка маленький мальчик, рисуют на бумаге его отец, мать. На мгновение возникает этот образ на экране телевизоров и отпечатывается в подсознании чуть ли не всей нации. Вместе с какой-то коротенькой, похожей на позывные, мелодией. И не только в Америке. В Индии верующие уже превратили таинственную мелодию в молитву, которую поют хором, не сводя глаз с неба. Еще немного — и люди, сами того не сознавая, оставят работу, семью, дом и без всякой видимой причины потянутся в одном и том же направлении.
Это очень похоже на массовый гипноз, необъяснимо и завораживающе страшно. Страх достигает апогея, когда тысячи, десятки тысяч сомнамбул окажутся собранными неведомой силой в штате Монтана на естественной площадке огромного плоскогорья, у подножия какой-то горы со срезанным конусом. Нарастает напряженное ожидание... сверху, из-за горы, огромный светящийся диск медленно приземляется на глазах онемевшей толпы. Это и есть сюрприз Спилберга: в фильме ужасов ничего ужасного не происходит. В полной тишине растворяется внутренность звездолета, выпуская невредимым пропавшего когда-то землянина. Лишь на миг зритель увидит маленькую, почти игрушечную фигурку сморщенного инопланетянина, с которым бесстрашно шагнет внутрь диска еще доброволец, другой отважный землянин. Люк закроется, гигантское блюдце так же беззвучно взмоет вверх и, не причинив никому вреда, растворится за темным силуэтом гор. А растерянные, притихшие от прикосновения к непостижимому люди медленно разойдутся, растекаясь в те же стороны, откуда пришли, отпущенные по домам неведомой силой Космоса.
Итак, катастрофа, которая не состоялась. Страхи, которые не подкрепились. Здесь то же мастерское манипулирование перенапряженными зрительскими эмоциями, подвластными инфернальному ужасу перед неотвратимой катастрофой, но и неожиданная разрядка, катарсис. Спилберг снова что-то учуял в переменчивой общественной атмосфере, что побудило его, научившегося управлять субстанцией страха, гнездящегося в подсознании соотечественников, направить его в неожиданную сторону. Покуда другие еще продолжали разными способами нагнетать экранные ужасы, он попробовал смоделировать переход массовых эмоций от страха к надежде, первым подхватив перемену ветра в сторону возрождения духа нации, над чем тогда вовсю работали в политической сфере консерваторы. И не ошибся.
В 1982 году он убеждается, что избрал правильный путь: его следующий фильм, наивный, добрый, упрощенный до детской сказки о доверии, «Инопланетянин», — картина, как бы продолжающая «Близкие контакты третьего типа» рассказом о заблудившемся на Земле, похожем своим обликом на современные примитивистские игрушки обитателе космоса. Маленького «И-Ти» подберут и пригреют дети. В то время как сопровождаемые полицией и армией испуганные ученые будут его всюду разыскивать, они легко и просто сдружатся, как все дети на земле, и будут теперь охранять своего «И-Ти» и спасать его от опасного мира взрослых. Голливуд не знал такого сногсшибательного зрительского успеха. Этим простым и понятным всякому человеку сюжетом Спилберг завершит лично для себя десятилетнюю эволюцию популярного жанра, который «Нью-Йорк тайме» назвала «фильмами о конце мира».
Мы же отметим в пестром разнообразии его вариантов, бесконечных продолжениях особо кассовых сюжетов, во всех этих «Челюстях-П» и «Челюстях-Ill» общие структурные элементы содержания, некое повторяющееся качество: вторжение в нормальное течение жизни потусторонней злой силы. Обычно в экспозиции повествования сначала изображается не предвещающая никакой опасности современная бытовая, деловая или домашняя обстановка, в которой обычные люди заняты своими обычными делами. Потом в этот мирный процесс вводится незаметно «взрыватель», который в какой-то момент вдруг разрушает всю идиллию, и люди — пассажиры самолета или корабля, болельщики на многотысячном стадионе, семья дипломата или жители целого города — оказываются на краю гибели. Третья часть — борьба за выживание, отчаянные усилия попавших в беду людей. Иногда, кстати, это самая интересная часть сюжета, так как она дает возможность раскрыть характеры персонажей, предложить способ преодоления критических ситуаций.
Поскольку из фильма в фильм этот прием повторяется, нетрудно составить классификацию носителей зла,
используемых в качестве «взрывателя» в фильмах-катастрофах.
Вот их краткий перечень:
— природные катаклизмы (землетрясения, извержения вулкана, пунами, магнитные бури, Бермудский треугольник с его неразгаданными тайнами);
— технические неполадки (кораблекрушения, авиакатастрофы, пожары и прочие несчастья из-за ненадежности технической инфраструктуры современной цивилизации);
— монстры (гигантские реликтовые обезьяны и другие неопознанные наукой чудовища, хищные акулы-людоеды, взбесившиеся собаки, ядовитые пчелы-мутанты и т. п.);
— инопланетяне (НЛО, роботы внеземных цивилизаций, загадочные человеческие двойники — пришельцы из космоса, агрессивные формы инопланетной жизни и проч.);
— больные люди с опасными отклонениями психики (патологические убийцы, садисты, сексуальные маньяки, сомнамбулы и т. д.);
— парапсихические феномены (явления телекинеза, ясновидения, биоэнергетики, переселения душ и т. п.);
— сверхъестественные силы (духи, дьявол, нечистая сила, антихрист, ведьмы, сатана, зомби и т. п.);
— наконец, вполне конкретные политические «носители зла»: международные террористы, «агенты Кремля», прочие «подрывные элементы» и участники мирового «коммунистического заговора».
В соответствии с характером «взрывателя» катастрофические модели, в свою очередь, условно можно разделить на несколько категорий: собственно фильмыкатастрофы, монстрофильмы, демонологические фильмы, галактические катаклизмы, политический триллер. Объединяющей «художественной» задачей для всех этих разновидностей становится игра на дремлющих в коллективном подсознании нации чувствах социальной дезориентированности, не всегда осмысленного беспокойства за завтрашний да и за сегодняшний день. Режиссеры как бы соревнуются друг с другом в умении вызвать в зале оцепенение от страха, причем искуснейшие из них — не только зрелищем физических страданий вроде крупных планов горящих волос, лопающейся от жара кожи, но и средствами более психологическими.
В целом же «фильмы о конце мира» были типичным американским кино: простым, динамичным, остросюжетным. Они не претендовали на подтекст, на фрейдистскую интерпретацию или философскую глубину. Они отвлекали, а порой и выполняли простейшую воспитательную функцию. Фильмы-катастрофы вроде «Приключения «Посейдона», «Аэропорта» и «Ада в поднебесье», то есть первых картин этого жанра, еще как бы и учили зрителя мобилизации воли в условиях общей опасности. В слабых, тучных, малоподвижных горожанах, привыкших к комфорту, они выявляли необходимые в решительный момент волевые качества, увлекали, что не часто бывает в американском искусстве, положительным примером. Правда, и это не случайно, спасавшими положение героями непременно были люди не из массы, а обязательно представители разных охранных сил общества — военные, пожарники, технические эксперты, служители церкви. И все же в ряде картин ощущалось стремление авторов передать зрителю веру в способность людей проявить в кризисе лучшие свои качества, объединить усилия в борьбе за выживание.
Представляет интерес перерождение стандартного фильма-катастрофы в политический детектив или, как говорят американцы, политический триллер. Тенденция прочерчивалась на экране постепенно по мере того, как угоны самолетов, покушения на государственных деятелей, взрывы бомб — словом, тактика масштабного политического терроризма входила в обиход современной политической борьбы в разных точках земного шара. В самих США роковые выстрелы, прозвучавшие 22 ноября 1963 года в Далласе, не только оборвали жизнь Джона Кеннеди, президента Соединенных Штатов, но и глубоко ранили национальное самосознание.
Кровавой этой драме было суждено многие десятилетия питать воображение художников разных политических убеждений. Кинематограф столько раз обращался к загадочным обстоятельствам этого убийства века, что в конце концов ряд картин образовал нечто вроде трагической Кеннедианы — явление, само по себе заслуживающее самостоятельного изучения.
В целом взаимоотношения видеокультуры и жизни складывались так, что политика, политическая борьба, политические проблемы, входившие в зону повышенного общественного внимания, на экране выхолащивались и неизменно развертывались к публике своей авантюрнодетективной стороной. В Голливуде никто всерьез не заботился использовать политическую хронику и возрастающую политическую активность масс в целях всеобщего политического образования или гражданского воспитания. Скорее, наоборот. Коммерческие установки, определяющие суть кинобизнеса, направляли энергию творчества на погашение амплитуды политической активности масс, на вульгаризацию реальных противоречий политического процесса и в первую очередь толкали художников на использование политической хроники в качестве сенсационного материала для детективных сюжетов.
И все же характер политического триллера в значительной мере определялся конъюнктурой рынка, а именно общим психологическим тонусом общества, состоянием духа и уровнем политической зрелости масс, на которые обычно интуитивно ориентируется западный художник.
Чтобы публика захотела увидеть на экране мир большой политики как стихию зловещих заговоров, террора и преступлений, в общественном сознании должны сложиться еще до экрана соответствующие негативные установки. Так оно, собственно, и было. Американцы и раньше не боготворили собственных избранников на высокие посты, а ныне уж и подавно относились к сфере политики со смешанным чувством брезгливости и страха. На то, как известно, были веские причины. Именно тогда к традиционному для американцев отношению к вашингтонской власти как к чему-то принудительно чужеродному в их частной гражданской жизни, ограничивающему инициативу и свободу стихийных рыночных отношений, прибавились многочисленные и к тому же охотно освещаемые прессой и телевидением факты махинаций в высших эшелонах власти, грубейшего вмешательства Центрального разведывательного управления во внутренние дела других стран, сопровождаемого террористическими и другими актами подрывной деятельности против неугодных Вашингтону лидеров и правительств. Общественность узнала о создании Федеральным бюро расследований системы тотальной слежки и преследования инакомыслящих внутри самих США из докладов Специальной комиссии сената по расследованию деятельности разведорганов под руководством сенатора Фрэнка Черча и Комиссии по расследованию деятельности ЦРУ внутри США под председательством Нельсона Рокфеллера.
Так что почва для политических фильмов ужаса и катастроф была подготовлена самой жизнью и усилиями журналистов — «разгребателей грязи». Голливуду оставалось только в готовую уже форму влить новое содержание, а именно: заменить в фильме-катастрофе «взрыватель», вставив вместо акулы-убийцы арабских террористов или «кремлевских шпионов», в зависимости от конъюнктуры и колебаний политических взглядов авторов.
Насыщенность международной жизни и большой политики похищениями политических лидеров разных стран, взрывами бомб в поездах и переполненных людьми вокзалах, угонами самолетов и захватом заложников, политическими убийствами и прочими мрачными новшествами современной технологии государственного терроризма, направленного против стран «третьего мира» и прогрессивных сил планеты, такова, что здесь не надо сочинять. Достаточно вспомнить кровавую бойню на Олимпиаде в Мюнхене. Или провокацию с южно-корейским самолетом, брошенным вместе с пассажирами на разведку нашей ПВО. Или резню в лагерях беженцев на Ближнем Востоке. Или похищение и убийство «красными бригадами» итальянского премьер-министра Альдо Моро. Или покушение турецкого террориста на папу римского. И многое другое, что так и просится в «катастрофические» киносюжеты.
Подставляя вымышленные, а иногда и не вымышленные факты политического терроризма в виде «мотора» кинематографической интриги, авторы фильмов политических ужасов по своему произволу меняли социально-политический контекст события, придавая ему нужный пропагандистский политический смысл. При этом сохранялись основные принципы сюжетосложения фильма-катастрофы: будничная жизнь — нависшая над ней внезапная угроза — борьба с угрозой — спасение.
Вот несколько примеров. В фильме «Предупреждение за две минуты» (режиссер Ларри Пирс, 1977) «взрывателем» служит покушение на президента США. Террористический акт разрастается до масштабов многолюдной катастрофы потому, что авторы для пущего эффекта готовят покушение в необычном месте, а именно на переполненном зрителями стадионе «Мемориальный Колизей» в Лос-Анджелесе. В последний момент неизвестный снайпер обнаружен, но никак не обезврежен. В рядах зрителей возникает паника, смертельная давка. Обезумевшая от страха, буйная многотысячная масса болельщиков представляет теперь угрозу большую, чем одиночка-террорист. Разрастаясь, катастрофа вводит сюжет в рамки жанра.
В суперфильме Джона Франкенхаймера «Черное воскресенье» (1977) снова попытка убийства президента США и снова — на переполненном стадионе, на этот раз во Флориде. Но уже не злополучным маньяком, а фанатиками из палестинской организации «Черный октябрь». Дьявольский план строится на любовной интрижке миловидной террористки (у которой родители пали жертвой последней арабо-израильской войны) с пилотом патрульного дирижабля. Террористка должна склонить его в назначенный час сбросить на стадион сотни тысяч отравленных стрел (пилот тоже не случайно оказывается сообщником террористов: он в свое время повоевал во Вьетнаме, и у него свои счеты с правительством США). То, что политическая подоплека сюжета строится на смеси стереотипов сионистской пропаганды и ультралевого радикализма, мало смущает Франкенхаймера. Он «политикой не интересуется». Для него годится все, что находится в центре общественного внимания, является объектом слухов и сплетен, то есть в данный момент может «эксплуатироваться» в качестве сенсации. Остальное — вопрос профессии. Главное теперь — не отнять пищу для воображения у зрителя, не переборщить в политике, не увязнуть в психологических и политических подробностях. Ведь триллер держится на страхе, на тайне, на намеках, которые в обывательском сознании зрителя должны тут же прорастать на почве расхожих предрассудков и пропагандистских штампов. Здесь не нужны нюансы политической ситуации, анализ расстановки и противоборства политических сил, что составляет сердцевину настоящего политического кино. В жанре фильма-катастрофы такая детализация непозволительно тормозит действие. Когда горит дом или падает самолет, нет времени вникать в международное положение. Достаточно лишь обозначить контуры драматических ситуаций и придать тем самым любому вымыслу силу актуальности и правдоподобия. А дальше идет главное: изображение растерянности, паники, ужаса и мобилизации средств ликвидации катастрофы.
Так политика входит в развлекательное кино, становясь модным эксплуатационным материалом. Даже далекая от кино газета «Нью-Йорк тайме» замечает на своих страницах растущую театрализацию политического процесса, стирание грани между политикой и массовым развлечением1. С одной стороны, в США политический процесс начиная с мало-мальски значимой политической кампании и кончая общенациональными выборами все больше походит на гигантское представление, с музыкой,
эффектами, сенсациями, с политическими лидерами, похожими на актеров. А с другой — видеокультура все охотнее использует политическую хронику в целях привлечения массовой аудитории, что, в свою очередь, неуклонно ведет к театрализации политики, к сращиванию ее со спектаклем для масс.
Политический триллер, как правило, выглядит мрачнее фильма-катастрофы, от которого он берет свое начало, повествование здесь обычно обретает зловещие обертоны нераскрытой тайны. Авторы погружают зрителя в липкую патоку всепроникающей, растворенной в воздухе, которым дышат персонажи, незримой опасности, делают его бытие шатким, неустойчивым, готовым в любой момент распасться под действием враждебных сил. Этой своей стороной политический триллер-катастрофа обнаруживает сходство с так называемыми «фильмами ночи» — возникшим после второй мировой войны жанром психологического детектива, полного патологии и кошмаров, в котором отразились страхи обывателя, напуганного «холодной войной», маккартистской «охотой за ведьмами» и угрозой атомной бомбы. С той литтть разницей, что «фильмы ночи» 40-х и 50-х годов не были впрямую связаны с политическими реалиями современной эпохи. В них действовала патологическая личность, которая в ночных кошмарах искала выхода подавляемым в нормальном состоянии инстинктам разрушения и насилия.
Сегодня же между политикой и кино установились прямые связи. Кризисное сознание больше не ищет иносказаний. Но зато и политическое событие, выведенное на экране, разрастается до катастрофических масштабов, лишаясь социальной обоснованности и живой связи с реальностью, превращаясь в уродливый феномен массовой культуры. Здесь как раз и проявляется то особое профессиональное мастерство, которое отличает американскую кинематографическую школу политического триллера, стиль «нового» Голливуда в целом. Во-первых, надо уметь беллетризировать свежий политический материал — факт, событие, реалии, газетную сенсацию, то есть ввести их в художественную ткань приключенческого сюжета. Во-вторых, так их препарировать, чтобы упростить их идейный смысл до стереотипных представлений, соответствующих взглядам большинства, то есть, как чаще всего и бывает на практике, отсечь крайности левых и правых взглядов. В-третьих, придать им ту особую зрелищность, которая должна приворожить зрителя, для чего требуется профессиональное умение пользоваться арсеналом новейших кинематографических средств для искусственной драматизации факта, то есть для создания на экране эмоциональной напряженности, которая превосходит пережитое зрителем в реальной жизни.
Например, если уж показывать конфронтацию США и СССР, то как в фильме ставшего режиссером актера Клинта Иствуда «Огненный лис» (1982): в СССР изобретено «сверхоружие», угрожающее безопасности США, и американский ветеран, владеющий русским языком (после вьетнамского плена!), лихо осуществляет ошеломительно смелую операцию его похищения. В этом ему в Москве помогает якобы антисоветское подполье — вооруженные саботажники, организующие взрыв на секретном объекте. В этом фильме рейгановской эпохи восстановлены провокации «холодной войны»: и кошмары вьетнамского плена, и военные патрули с овчарками на улицах Москвы, и смертельные схватки супершпионов «сверхдержав», и прочие старые и новые антисоветские стереотипы.
Поражать воображение зрителей — значит всякий раз превышать однажды пережитые впечатления. Поэтому от фильма к фильму нарастает интенсивность шоковых эффектов, разрастаются размеры угрожающей людям опасности. Теперь для того, чтобы, скажем, политическое убийство стало «взрывателем» фильма-катастрофы, сценарий, по словам американского критика Стэнли Кауфмана, должен содержать «по крайней мере похищение всего конгресса Соединенных Штатов или уничтожение целиком и полностью Совета национальной безопасности». Только тогда достигается желаемый коммерческий и одновременно идеологический результат: у аудитории высвобождается дремлющая в подсознании термоядерная энергия страха и паники, коллективная психика зрительного зала достигает той степени внушаемости, на которой снижается способность логического анализа, то есть падает сознательность и критичность восприятия.
В конечном счете человеческая психика, натренированная псевдополитическими сюжетами, эстетизирующими, прямо скажем, страшноватые реалии современной международной политической жизни Запада, становится постепенно нечувствительной к происходящему в реальной жизни, к эскалации политики государственного терроризма, политических заговоров, убийств, преступлений. Может быть, и прав С. Кауфман, обронивший в своей статье фразу: «Похоже, политический триллер набирает силу не для того, чтобы предостеречь нас от возможного крушения цивилизации, а скорее для того, чтобы получше подготовить нас к этой перспективе»х.
К 80-м годам политический триллер-катастрофа, пугая зрителей третьей и последней мировой войной, добрался уже до космоса и до ядерных зарядов большой мощности. Один из таких зарядов, пущенных в свободную международную продажу тайными производителями оружия, авторы головоломного триллера Ричарда Брукса «Неправый прав» (1982) разместили для пущего эффекта на крыше одного из нью-йоркских небоскребов с целью шантажа американского правительства. Знаменитый Шон О’Коннери играет в этом фильме роль вездесущего телекомментатора, лихо передвигающегося по планете в поисках «горячих» сюжетов для своей телесети. Ему ничего не стоит, например, оказаться на джипе в песках у азиатских шейхов в тот самый момент, когда они собираются приобрести у некоего джентльмена, торговца оружием из Европы, за три миллиона долларов две атомные бомбы, упакованные в изящные кожаные чемоданы. С их помощью, по замыслу авторов, шейхи намерены разрешить политические проблемы на нефтеносном Ближнем Востоке.
На экране непрерывно взбалтывается невообразимый коктейль из подслушивания, подсматривания, шантажа, подкладывания взрывных устройств, осуществляемых калейдоскопом лиц, среди которых мелькают агенты ЦРУ, циничный торговец оружием, готовый продать свои адские чемоданы, а к ним впридачу различные системы автоматического оружия кому угодно, арабские шейхи, отличающиеся поразительной наивностью, амбицией и агрессивностью, а также генерал Пентагона, рвущийся сию минуту начать третью мировую войну. Картину можно было бы сравнить с давней антивоенной сатирой Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав», если бы элементы сатиры выглядели бы в ней более содержательными. Скорее всего — это пародия на политический триллер, но пародия, сделанная чересчур старательно, как будто бы режиссер, увлекшись кошмарами, забыл, что намеревался над ними посмеяться. Зрителю не уследить за персонажами да и тематическим и внутренним сюжетным развитием в этом нагромождении трюков и страхов. Он утрачивает нить авторской мысли на первом же витке сюжета, где, к примеру, политическую интригу вдруг подменяет тема телевидения, превращающего все происходящее в игру, затем выходят на первый план образы маньяков ядерной войны, алчных торговцев оружием, иностранных шпионов и т. п.
По-настоящему пронять массового зрителя и сыграть при этом важную прогрессивную роль в политике в 80-е годы смог пока только один фильм-катастрофа — «На следующий день». Его режиссер Николас Мейер, что называется, улучил момент и ввинтил свой «взрыватель» — ядерный удар по американскому городку Лоуренс — не столько в сюжет фильма, сколько в критическую массу небывало мощного антивоенного движения, прокатившегося по стране в начале 80-х годов. И фильм, показанный по телевидению 11 ноября 1983 года, «сдето-нировал»: какие-то полтора часа телезрелища всколыхнули одновременно около 100 миллионов зрителей, вызвав бурную общенациональную реакцию. В соответствии с требованиями жанра режиссер начал фильм с безмятежного солнечного дня в городке Лоуренсе (близ Канзаса), с будничных забот простых людей, еще несколько минут назад не подозревавших о том, что только что началась и через секунды кончится третья мировая война. А вместе с нею и их жизнь в этом прекрасном мире. Останутся лишь подземные госпитали на десятки тысяч обожженных и смертельно облученных людей. Останутся их страдания от боли, от нехватки врачей и медикаментов, от отсутствия электричества и телефонной связи. Останутся отравленные радиоактивными осадками атмосфера, вода и пища, развалины домов. Останутся грабежи и мародерство обреченных на мучительную смерть людей со сползающей с живого тела кожей, выпавшими волосами и слезящимися глазами...
«Идея картины состояла в том, чтобы достигнуть сознания людей, которые не хотят об этом думать»1, — заявил режиссер, сразу попавший в цепкие объятия прессы ввиду огромного, поистине общенационального эффекта картины. На этот раз не было нужды в дорогостоящей рекламе: ее создала картине Мейера задолго до выхода в эфир сама администрация Белого дома, встревоженная возможными колебаниями общественного мнения по поводу необычного политического фильма. Правительственные чиновники прилагали максимум усилий, чтобы заблокировать картину в прессе обвинениями в пораженчестве, преувеличениях и антипатриотизме. Что, как всегда бывает в таких случаях, лишь привлекло к нему еще большее внимание. И в сущности тривиальный по своим жанровым и художественным качествам фильм-катастрофа превратился в послание, обращенное ко всему американскому народу. Николас Мейер объясняет: «Мои герои — рядовые люди. Они не знают, кто спровоцировал войну, но расплачиваются за это. Я рассказываю не о президентах, не о политиках, не о кабинетах с кнопками и глобальных стратегиях, а о судьбе ничем не примечательных людей. Именно поэтому я выбрал Канзас-Сити, находящийся в самом сердце Соединенных Штатов и в географическом и в социально-культурном отношении. В Канзас-Сити к тому же расположена ракетная база, что превращает этот город в один из десяти важных военных центров»
И все же в фильме трудно было разглядеть собственно позицию самого режиссера: как был прочитан этот фильм, зависело в конечном счете во многом не от достоинств фильма, а от господствовавших в тот исторический момент массовых умонастроений. Стоило Н. Мейеру лишь тематически привязать свои кошмары к общенациональной дискуссии по актуальнейшему вопросу современности, как фильм, что называется, «пошел». Недаром в своей лаконичной, точной статье в «Искусство кино» 2 знаток западного кинематографа Владимир Дмитриев сразу отметил в этой картине об ужасах ядерной войны отсутствие, как ни странно, явственной антивоенной позиции автора.
0 неустойчивости взглядов Мейера свидетельствует и его следующий фильм, «Время после времени», снятый в 1984 году уже как рекламное путешествие по сверкающей чудесами технотронного комфорта современной Америке. Режиссер как бы заглаживает им свою вину перед властями, клянется в патриотизме. Путешествие довольно экстравагантно совершает на «машине времени» некий старомодный чудак — классик литературной фантастики Герберт Уэллс. Погоня за бежавшим из прошлого в сегодня Джеком Потрошителем еще не делает фильма, а лишь служит поводом эффектно обыграть контраст архаики и модерна.
Вернемся, однако, к исходным позициям — к началу 70-х годов, когда катастрофа в виде кинозрелища только
1 «За рубежом», 1984, № 7, с. 22.
2 «Искусство кино», 1984, № 7, с. 135.
обретала черты жанра. От нее отпочковывались и другие разновидности, среди которых особую живучесть продемонстрировали фильмы так называемого поп-мистицизма. Остановимся на этом явлении американской массовой видеокультуры несколько подробнее ввиду большой его распространенности и тесной связи с важными тенденциями эволюции массового сознания 70-х годов.
В приведенной выше классификации «катастрофических» фильмов демонологические сюжеты представляют собой самую жуткую и духовно опасную разновидность. Главная их особенность заключается в том, что в качестве источника всех бед здесь выступает «нечистая сила». Тревога и смятение, парализовавшие дух нации, открыли и в кино дорогу библейскому детерминизму, внушающему подозрение о существовании некоей «второй реальности», неподвластной воле человека, где миром правит не разум, а... дьявол, мистические темные силы. Поражает быстрота распространения этой давшей о себе знать в 70-е годы кинотенденции. Десятки картин оказались пронизанными иррационализмом и мистицизмом, свойственными общему состоянию умов того времени, общему упадку духа. В фильмах этого рода неизбежность всемирной катастрофы, эдакого вселенского катаклизма определялась по библии, убеждавшей верующих в тайном присутствии всегда и сегодня, в XX веке, сатаны, исподволь вредящего людям, человечеству.
Надо, правда, сразу оговориться, что сюжеты с дьяволом — не новинка в кино. Но от традиционного гиньоля в антураже средневековой сказки, где все подчеркнуто неправдоподобно, современный поп-мистицизм отличает будничная взаправдашность, противоестественная «естественность» присутствия дьявола в нашей сегодняшней повседневной жизни. Такие фильмы вызывают однозначную реакцию: они убеждают в бессилии человека изменить жизнь, порядок вещей. Кажется, что авторы действительно верят в сатану, всюду видят его следы и не сомневаются в его включенности, так сказать, в исторический процесс в качестве некоей надчеловеческой силы истории. И более того, они хотят нас убедить, что под скрытым, но активным влиянием этой адской силы человечество неотвратимо сворачивает ко вселенской катастрофе. Таким образом, нарушаются правила игры в добрую старую, хоть и страшную, но понарошке сказку1.
1 Следует подчеркнуть, что фильмы о дьяволе выполняли разные идеологические функции в истории мирового и американского кино. Мы
Первым в 1968 году нарушил канон традиционного гиньоля Роман Полянский. Его «Ребенок Роз-Мари» неуловимо балансирует на грани реального и сверхъестественного. Простенький сюжет о рождении ребенка у интеллигентной супружеской пары усложняется болезненным восприятием событий самой будущей матерью, которой вдруг мерещится, что ей предстоит родить... антихриста. В воображении Роз-Мари, увидевшей однажды страшный сон (сон ли, сомневается зритель), все окружающие ее реалии обретают зловещий сатанинский смысл. И старички соседи ведут себя очень активно, проявляя навязчивую заботу о будущем ребенке, потому что принадлежат к тайной секте сатанинского культа, и питье, приносимое ими, оказывается колдовским снадобьем, и страшный эротический сон — не сон, а обещанное ими посещение дьявола, и неожиданная успешная карьера мужа — плата дьявола за услугу, и уж, конечно, долгожданный ребенок — не ребенок, а ожидаемый сектой антихрист. Режиссер эстетически столь изощренно и правдоподобно строит повествование, что зрителю вроде бы и не навязывается бредовая точка зрения Роз-Мари. Сохранив рассудок до конца картины, можно со стороны наблюдать за развитием бреда и галлюцинаций героини. Но можно и наоборот... Все зависит от состояния психики самого зрителя, от его отношения к религии, к сверхъестественному, к разного рода суевериям, мистике и новомодным в то время в США восточным и прочим культам.
Тогда, в конце 60-х годов, время повального увлечения мистикой, изотерическими сектами и сатанинскими культами еще не пришло. Религиозный ажиотаж, расцвет сектантского фанатизма и различных оккультномистических форм крайнего отчуждения от общества получили массовое распространение позже на почве уже не раз упоминавшихся, все тех же настроений растерянности и ожидания крушения всей человеческой Цивилизации. И принесли в 1973 году неожиданную громкую известность не Полянскому, а Уильяму Фридкину благоже анализируем лишь те из них, которые появились в США 70-х годов и оставили след в общественном сознании, подхватив циркулировавшие в нем идеи библейского детерминизма. Потому в стороне остаются практически не известные американской публике снятые раньше французский фильм «Салемские колдуньи», польский «Мать Иоанна от ангелов» и редкие старые американские картины, выбивающиеся из стандартной продукции: «Девушка из Салема» (1927), «Седьмая жертва» (1943) и некоторые другие. Об этом см. подробно в кн.: Разлогов К. Боги и дьяволы в зеркале экрана. М., Политиздат, 1982.
даря фильму «Изгоняющий дьявола». Уже популярность литературного бестселлера Уильяма Питера Блэтти об изгнании демона, вселившегося в двенадцатилетнюю девочку и чудовищно исказившего ее личность, обещала повышенный интерес к фильму демонической тематики. Но такого внимания публики не ожидал, пожалуй, никто. «Изгоняющий дьявола» дал 89 миллионов долларов только на внутреннем американо-канадском рынке и до сих пор держится в первой десятке кассовых чемпионов всей истории американского кинобизнеса.
В фильме, между прочим, использована психологическая методика воздействия на подсознание зрителя, разработанная специалистом по рекламе профессором Чарлзом Озгудом. Известная под названием «семантического дифференциала», методика разрабатывалась с 1958 года на средства, выделенные ЦРУ, рассчитывавшего получить психологический ключ для манипулирования психикой людей. Ее эффективность в картине Фридкина фиксировалась по реакции безотчетного, омрачающего рассудок страха, который доводил некоторых зрителей до обморока. Эта реакция, — в частности, результат воздействия на подсознание используемой в фильме маски смерти. Много раз вспыхивает на экране яркий свет и на короткое, не улавливаемое зрительским сознанием мгновение появляется лицо отца Карраса в виде огромной, занимающей весь экран маски смерти. В кульминационный момент фильма, когда из больной девочки в отца Карраса переселяется дьявол, его лицо становится совершенно белым, что делает его еще больше похожим на ранее мелькавшую на экране маску и предвещает скорую смерть. Описывая психопатическое воздействие «Изгоняющего дьявола», американские психологи объясняли: «По мере того как человек внутренне все сильнее напрягается, резко снижается уровень его рационального восприятия, но вместе с тем он все острее и острее реагирует на импульсы в сферу подсознания... Напряжение и спад его, вновь напряжение и вновь спад — причем напряжение с каждым разом все возрастает. В конце концов многие зрители чувствуют себя абсолютно вымотанными, а иногда дело доходит даже до тошноты и головокружения»
Более физиологический и грубый, чем изысканный экзерсиз Полянского, «Изгоняющий дьявола» изобилует
1 Цит. по: «США: экономика, политика, идеология», 1983, № 1, с. 63.
средневековыми кошмарами, перенесенными в XX век, демонстрируя бессилие современной науки в борьбе с дьяволом. Если «Ребенка Роз-Мари» в конце концов можно рассматривать как ребус для интеллектуалов, то «Изгоняющий дьявола» однозначно утверждает присутствие в современном индустриальном космическом веке сатаны, с которым со всей серьезностью вступает в смертельную схватку святой отец, заплативший в конце концов собственной жизнью за жизнь и здоровье маленькой Риган. И хотя европейская образованность советского критика Кирилла Разлогова побуждает его увидеть здесь иносказание, полагать, что «дьявол может быть понят и как порождение окружающего общественного зла», мы все-таки склоняемся к мысли, что миллионам рядовых американцев гораздо ближе прямолинейная интерпретация увиденного на экране, как и их нынешнему президенту, по-видимому убежденному в библейской детерминированности исторического процесса. Во всяком случае, так считает иерусалимская газета «Джерусалем пост», которая в октябре 1983 года процитировала весьма знаменательные слова Рональда Рейгана, как-то сказанные им руководителю одной из еврейских организаций в США: «Я вновь обращаюсь к вашим древним пророкам из Ветхого завета и к знакам, предвещающим армаггедон, и невольно задаюсь вопросом: не мы ли то самое поколение, которое станет его свидетелем»1. Газета подчеркивает серьезность тона, каким это было сказано. Случайность? Оговорка? Метафора? По подсчетам Джо Куомо, нью-йоркского профессора журналистики, сделавшего полуторачасовой документальный радиорепортаж об увлечении нынешнего президента США армаггедоном, Рейган за первый срок пребывания у власти по крайней мере одиннадцать раз публично высказывал уверенность в том, что близится конец света2. Неудивительно, что миллионы верующих американцев, именующие себя евангелистами, фундаменталистскими христианами, «новыми христианскими правыми» и тому подобное, находятся под несомненным влиянием библейского детерминизма, то есть, попросту говоря, верят в конец света, да не когда-нибудь, а еще при этом поколении.
Они, кстати, не скрывают своих верований, ощущая не без оснований полное духовное единство с Белым
1 Об этом говорится в статье «Пророки армаггедона» Брайана Джонсона, опубликованной газетой «Глоб энд мэйл» (Канада) 12 января 1985 года.
2 Там же.
домом. Лидер «морального большинства» пастор Джерри Фолуэлл, например, охотно сделал достоянием общественности факт четырехчасовой беседы с Рейганом, которому он в подробностях объяснял библейские версии конца света. «Что вы скажете, если в условиях кризиса президент станет на диспенсационалистскую (религиозную) точку зрения на историю и решит, что это время настало? Это довольно тревожно», — говорит Эндрю Лэнг, директор по научным исследованиям Христианского института в Вашингтоне. И продолжает: «Верующие создали безупречное религиозное оправдание для идеологии «холодной войны» и наращивания вооружений. Они считают русских дьявольским противником, с которым мы никогда не сумеем достичь никакой договоренности. Нам никогда не удастся урегулировать наши разногласия, и, следовательно, мы должны наращивать свой ракетный потенциал» Ч
Точнее не скажешь. Для тех, кто склонен верить в игры с метафорами, надо бы взглянуть, на объявление, помещенное в солидной газете «Нью-Йорк тайме» от 10 июня 1982 года противниками замораживания ядер-ных вооружений под аршинным заголовком: «Не верьте дьяволу!» (то есть русским). Оно вносит ясность в религиозную истовость так называемых американских правых, не ложащихся, по их словам, спать без библии, призывающих бога (или сатану?) на помощь в своих деяниях «на благо Америки», в которых под напыщенно религиозной риторикой скрывается все тот же хищный цинизм конкистадора.
Как же на такой благодатной почве не расцвести бульварной литературе! Здесь можно придать черты респектабельности и научности любому пророчеству, «освежающему» авантюрный сюжет, найти убедительное, всем понятное основание для пессимистического взгляда на общее будущее всех живущих на земле. Господин Д. Зельтцер не гуру, не политический лидер, увлекающий своим ораторским искусством миллионы. Он — современный западный писатель. Но вот как начинает он свой сатанинский роман с многозначительным названием «Предзнаменование», бестселлер, которому суждено было несколько лет спустя прославить доселе безвестного режиссера Ричарда Доннера: «Пробил шестой час шестого дня шестого месяца. Тот самый миг, который должен, по Ветхому завету, изменить мировую историю. Войны и катаклизмы минувших веков были лишь репетициями, своего рода проверкой, готово ли человечество к великой перемене. Во времена Цезаря люди веселились, глядя, как христиан скармливают львам; когда пришел Гитлер, ликовали в то время, как в печах крематориев евреев превращали в обугленные головешки. Демократия в наши дни исчезла, в жизнь людей прочно вошли наркотики, затмившие разум; в немногих странах, где еще позволялось молиться, объявили, что бог мертв. Везде, от Лаоса до Ливана, брат восстал против брата, отцы против детей. Каждый день гремят выстрелы и взрывы в школьных автобусах и на рыночных площадях. Штудировавшие библию видели, как расставленные по местам библейские символы предвещали наступившее Событие. Великая Римская империя восстала из праха в виде Общего рынка, евреи обрели обещанную им землю обетованную с образованием государства Израиль. В совокупности с растущей нехваткой продовольствия во всем мире, с развалом мировой экономической системы все это означало больше, чем простое совпадение фактов. Скорее, это был тайный заговор событий, предсказанный в книге Апокалипсиса» Ч
После такой «остро политической» экспозиции развертываются основные события захватывающего романа. В семье американского дипломата появляется на свет ребенок, который задыхается при родах, а вместо него слуги дьявола в белых халатах подкладывают ничего не подозревающей счастливой матери антихриста в облике ангелоподобного дитяти. Отсюда и пойдут все беды... Сначала повесится маленькая подружка Дамена, потом, пригвожденный к земле шпилем часовни, сорванным порывом ветра, умрет в муках близкий семье пастор. За ним сломает позвоночник сбитая с балюстрады трехколесным детским велосипедом жена. Позже листовым стеклом, сползшим с платформы грузовика, срежет голову еще одному другу семьи, фотографу. Наконец нелепо погибнет под пулями полицейских, защищающих злосчастного ребенка, и сам посол Торн. А невредимый Дамен понимающе улыбнется в застывший от ужаса зрительный зал, держа за руку заменившего ему отца президента США.
Грегори Пек играет в фильме по роману Зельтцера несчастного отца-дипломата, на которого обрушиваются все беды и несчастья и который по ходу кошмаров «прозревает» настолько, что уже видит трагедию Белфаста, Заира, Лаоса, Анголы, Ливана в интерпретации ветхозаветных пророчеств (а казалось бы, кому как не дипломату знать их истинные причины!), возвращение евреев в Сион понимает как второе пришествие Христа, а перспективу ядерной войны воспринимает как «решающую схватку между Добром и Злом», как святую неизбежность — армаггедон. И такой фильм собирает на американском кинорынке 28,5 миллионов долларов, принося желанный успех прорвавшему наконец пелену прозябания режиссеру Р. Доннеру.
Вопиющее мракобесие преподносится уже безо всякого юмора, свойственного американскому стилю в кино и всегда смягчавшего многие банальности сюжета, наивность персонажей и пошлость средней кинопродукции. Экранный поп-мистицизм рассказывает свои сказки всерьез, нарушая условность — «в некотором царстве, в некотором государстве». В нем умышленно стерта грань между тем, что случается в жизни, и тем, чего никогда не может случиться. Ужас, порожденный изощренной фантазией современных «сказочников», не рассеивается с темнотой зрительного зала, когда кончается фильм. Он проникает в поры реальной жизни и загрязняет обыденный опыт человека, парализуя его сознательные попытки разобраться в происходящем на его веку.
Нельзя не отметить ко всему прочему и удручающе низкий интеллектуальный уровень большинства сатанинских киновариаций. Многие в США замечают с недоумением и горечью разительный контраст между достижениями технического прогресса в кинематографе и интеллектуальным, культурным упадком этой части «нового» американского кино. Взять хотя бы фильм Эллиота Силверстайна «Автомобиль» (1977), который «Сан-Франциско кроникл» характеризовала категорически: «Худший фильм всех времен и к тому же глупый самым глупейшим образом» Его сюжет: на провинциальном шоссе двух мотоциклистов насмерть сшибает черный, глухой «седан». Потом совершает еще и еще умышленные наезды на прохожих. Машину-убийцу пытаются перехватить шериф с помощниками, но сам шериф тут же становится его следующей жертвой. Таинственная черная машина устраивает кромешный ад на репетиции школьного парада, но она же вдруг как вкопанная останавливается у кладбищенских крестов. Резко разворачивается и, круша все заслоны, уносит с собой жизнь еще одного человека. Силу, буйствующую в «седане», заманивают наконец в заминированный для этой цели каньон, где автомонстр разносится в куски грандиозным взрывом, показывая на миг в горящих обломках страшный лик сатаны, таившегося за его непроницаемыми стеклами. «Вашингтон пост» добавила к приведенной характеристике: «Это грубая и неудавшаяся попытка использования элементов автомобильного ужаса телефильма Спилберга «Дуэль» и его же «Челюстей»... Сколько стоящих проектов и идей было отклонено студией ради того, чтобы потратить средства и время на эту хилую имитацию!»1
Вероятно, такая откровенная оценка голливудского ширпотреба все же полезнее для интеллектуального и психологического здоровья нации, чем глубокомысленные рассуждения неофрейдистов, которые пытаются оправдать появление в кинематографе этой разрушающей культуру тенденции тем, что, мол, подобные фильмы дают выход «нашим подавленным желаниям, страхам и комплексам». Фрейдистская терминология позволяет придать видимость многозначительности рассуждениям о кинематографической чертовщине, даже вывести ее на респектабельный уровень социальной критики пороков капитализма. Оказывается, здесь скрываются даже «более радикальные и подрывные идеи, чем в серьезной социальной критике, которая вынуждена подстраиваться под требования разумного совершенствования этого общества, базовые принципы которого ни в коем случае не должны быть поколеблены»2.
Вот он, эзопов язык буржуазных «революционеров», «ниспровергателей» капитализма! Ниспровергателей во сне, на экране, что само по себе, по мнению цитируемых теоретиков, является «смелой попыткой» разрешить мучительные для человека проблемы, «снять нервное напряжение более радикально, чем может разрешить наше сознание» 3. Разумеется, речь идет не о реальных социальных проблемах общества, а о моральных экспериментах по разрушению буржуазной семьи, об «избыточной» сексуальной энергии, об ограничениях, которые угнетают личность при дневном свете и легко побеждаются в темноте зрительного зала раскрепощенным и освобожденным от ответственности коллективным подсознанием
1“Filmfacts”, 1977, vol. XX, n. 7, p. 151.
2 “Film Comment", 1978, July — Aug., p. 25 — 26.
3 Ibid., p. 24.
зрителя и художника сюрреалиста-мистика. Ну чем не психотерапия, скажем, фильм «Демон», по-своему интерпретирующий феномен так называемого «немотивированного преступления», над разгадкой которого столько бились криминологи, психологи и обществоведы? В нем снайпер-убийца, как это уже не раз бывало в реальной жизни американцев и не раз со смаком, в подробностях описывалось в прессе, засев на одной из крыш Манхэттэ-на, самозабвенно и сосредоточенно расстреливает из автоматической винтовки с оптическим прицелом случайных прохожих.
Как же объясняют авторы «отклоняющееся» поведение своего героя? Нет, не психопатологией на почве фрустрации личности, не политическим протестом. Они даже и не пытаются исследовать его психологию, а убеждают зрителя в том, что ему «так повелел Господь». Чтобы не оставалось сомнений в божьем промысле, «веление» материализуется в следующем сюжетном повороте: блондин ангельского вида, оказывается, родился при странных обстоятельствах. В 1951 году его будущую мать, загоравшую на пляже, похитил НЛО, который позже вернул ее в Нью-Джерси и ссадил нагишом на автостраде. Вот где собака зарыта!
Не вникнув в психологию и культурные особенности суперсовременных американцев, трудно поверить, что нация, чьи представители ступили на Луну, всерьез воспринимает такие сюжеты. А ведь воспринимает! Когда встречаются ныне двое сверстников из Москвы и Нью-Йорка, их порой не различишь по одежде и манере поведения. Все научились обращаться с электроникой, все любят солнце и жизнь, все живут на одной, теперь такой маленькой планете... Иногда даже ловишь себя на мысли: да так ли уж велика эта пропасть между нами, которую вырыла идеологическая борьба, не преувеличена ли разница между цивилизованными людьми XX века, между тем, как смотрит на мир студент МГУ и студент Нью-Йоркского университета?
Прекрасное чувство всечеловеческого братства подмывает протянуть руку, подхватить улыбку — дружелюбие, стремление к взаимопониманию заложено в нас, кажется, от рождения. Но вот поди ж ты, глядит тебе в глаза с экрана очаровательный американец и говорит, целясь в сердце прохожему, что так, мол, повелел Господь. И обрывается контакт, разрушается взаимопонимание, ибо, как ни старайся, в наших представлениях о добре и зле, в нашей системе ценностей, в которой советский человек рождается, формируется, живет и действует до самой смерти, не укладываются ни такие факты искусства (да и можно ли назвать это искусством?), ни такая, например, статистика. В наше цивилизованное время, в конце 70-х годов XX века, в Соединенных Штатах действовало 36 религиозных телепрограмм — «электронных церквей» фундаменталистов, 1300 религиозных радиостанций, десятки молитвенных программ, охватывающих в сумме до 100 миллионов человек каждую неделю.
А эволюция вчерашних хиппи? Бунтари 60-х годов, бросившие тогда, пусть в культуре, а не в политике (что, собственно, для них было одно и то же), смелый вызов потребительским ценностям и стяжательскому духу капитализма, как это ни дико, нашли в 70-е годы прибежище от разочарований и страха перед будущим в различных сектах и культах, собравших под своей могильной сенью более трех миллионов недоучившихся и недоборовшихся молодых людей.
Система ценностей — понятие философское, оно означает целостность установок, оценок, нормативных представлений о добре и зле, справедливости, прекрасном и безобразном, о смысле истории и назначении человека. Она включает идеалы и готовые формулы поведения, императивы и запреты, в которых запечатлен социальноисторический опыт общества и которые имеют для индивида из этого общества личностный смысл. Система ценностей выражает внутреннюю основу отношений человека к действительности, исторически сложившиеся способы удовлетворения общих для любого человека основных потребностей. Да, мы все любим и мясо посочней и дом поуютней. Но как этого добиться и для кого в первую очередь — для себя или для всех, — вот вопросы, ответы на которые и разделяют современное человечество. И под общими правилами хорошего тона, выработанными европейской культурой, вдруг оказываются разные системы ценностей, которыми, собственно, и определяется коренная противоположность социалистической и буржуазной идеологий.
Сколько непонятного, патологического, с нашей точки зрения, встречается на каждом шагу в цивилизованной Америке! Разве нам можно иначе, чем психопатологией, объяснить то, что случилось в 1968 году на голливудской вилле Романа Полянского? Члены сатанинской секты «нового мессии» Чарлза Мэнсона, вчерашние студенты и выходцы из обеспеченных семей, без всяких видимых, хотя бы грабительских целей садистски зарезали актрису
Шерон Тэйт и ее гостей, расписав по стенам их кровью проклятья человечеству. Непостижимым для нашей системы ценностей является и то, что произошло 18 ноября 1978 года в джунглях Гайаны, когда девятьсот с лишним американских граждан, жителей поселка Джонстаун, по команде своего руководителя, главы секты «Народный храм» преподобного Джонса, совершили одновременное самоубийство. Родители с маленькими детьми, белые и черные, молодые и пожилые, образованные и малограмотные — горы трупов лежали на площади затерянного в джунглях Гайаны поселения, когда туда прибыли власти. Как было установлено, самоубийцы были безусловно вменяемыми...
А вот по понятиям общества, где процветает религия, где в законе сатанинские, человеконенавистнические культы, где «массовая культура» буквально перенасыщена произведениями, утверждающими власть над миром нечистой силы, все произошедшее вполне закономерно. Более того, оно, как и многое другое в подобном духе, прямо предполагается, так как соответствует принятой системе ценностей, навязываемых, кстати, остальному миру. Так что, хотим мы того или нет, сами конфликтные условия существования современной, далеко не однородной цивилизации требуют от нас настойчивых усилий для того, чтобы разобраться в отличиях, в том, что из чего вытекает и чем объясняется. Как связаны между собой: неизбежный конец американской империи, известные социальные чувства дезориентированности и страха перед будущим, возникшие у граждан этой империи, классовые интересы правящей элиты, тенденции и эволюция «массовой культуры», политический курс нынешней администрации и многое другое, из чего в совокупности и собирается это сложное, противоречивое и динамичное общество — Соединенные Штаты Америки.
А как осмысливают свое творчество нынешние создатели «сатанинских фильмов», оперируя в рамках собственной системы ценностей? Какими творческими импульсами направляется их вдохновение, в чем видят свое предназначение американские кинорежиссеры, чей авторитет измеряется в долларах, собранных их фильмами?
Вот говорит переполненный восторгом от своего первого за двадцать лет режиссуры успеха Ричард Доннер: «В мои намерения входило сделать развлекательный, коммерческий триллер, и, как мне кажется, получился как раз такой фильм, на который люди с готовностью откликнулись» х.
Послушаем советского критика: «Опираясь на оккультную магическую практику прошлого и настоящего, на экзотические культы и шаманские действия, «фильмы ужасов» делают их достоянием масс. Конечно, далеко не каждый просвещенный западный зритель в результате начинает верить в вампиров или становится приверженцем культа Воду, но пропаганде мистицизма эти картины, безусловно, служат независимо от их индивидуальной направленности, особенностей творческой концепции или одаренности авторов»2. Но у Доннера своя позиция. И он захлебывается от восторга. «Вы. не представляете, — говорит он, — что за удовольствие прятаться в темноте зала и наблюдать за реакцией зрителей на твои трюки... Я знаю, когда приближается каждый шоковый эпизод, и предвижу первые признаки страха в зале, эти нервные смешки, которые свидетельствуют о том, что психика зрителей подавлена и они пытаются как-то защититься. Я люблю присмотреться, выбрать какую-нибудь женщину в зале и ждать ее вскрика. Это восхитительное чувство! Это то, о чем я мечтал в процессе работы»3.
Трижды переснимал Доннер финал «Предзнаменования», добиваясь шокового эффекта от взгляда мальчика, брошенного через плечо в зал. Дамен стоит у гроба отца во время торжественных похорон. Его держит за руку президент США. «Первый раз мальчик не оглядывался вовсе, — вспоминал Доннер. — Во второй раз он оглядывался, но прямо в камеру не смотрел. В зале — никакой реакции. Только когда он оборачивался прямо в объектив и улыбался, аудитория зверела. Я не могу этого объяснить. Это просто срабатывает — и все тут»4. И ни слова о такой естественной, обязательной (для нас!) ответственности художника перед обществом, о высокой миссии искусства. Закон рынка: есть спрос — будет прибыль. И баста. Такая аполитичность художника оказывается не менее опасной для гуманистической культуры и для нравственного здоровья общества в целом, чем откровенно правая, даже ультраправая позиция, так как там, по крайней мере, хоть противник виден, ясно, с кем бороться. А здесь? Того факта, что прием «срабатывает», совершенно достаточно, чтобы не требовать осмысления его нравственного и идейного содержания, — таковы правила рыночной эстетики.
Итак, в 70-е годы, нащупав слабое место рынка, Голливуд возвращается к жанровым картинам, снимаемым по новейшей методике скрытого управления психикой и подсознанием зрителя. Так сказать, развивает традиции. Крепкий сюжет, «история» по канонам старого американского кино всегда были основой наиболее успешных «movies». А в основе «хорошей истории» всегда лежали сюрприз и страх. Классик «фильмов ужасов», мастер создания на экране леденящих кровь ситуаций режиссер Альфред Хичкок любил употреблять в этом случае несколько отличное от страха понятие «Suspense», что означает напряженное ожидание в состоянии неизвестности. Он определял его как противоположность удивлению. Так, если удивление это всегда сюрприз (Surprise), то есть когда что-то случается, а ты не ожидаешь этого, то «Suspense» — наоборот: когда чего-то долго и напряженно ждешь, а оно не происходит и не происходит. Если к «Suspense» и «Surprise» прибавить «Story», то есть «динамику сюжета», получится «три S» — волшебная формула успеха старых голливудских фильмов. Вот эта проверенная формула и легла в основу целого семейства «фильмов ужасов», включая катастрофы, которым в 70-е годы выпало объединить распавшуюся было по узким групповым интересам, фрагментированную национальную аудиторию. Достаточно было наполнить пресловутые «Suspense» и «Surprise» актуальным для своего времени содержанием, то есть найти «Story», в которой моделировалось бы растворенное в общественной атмосфере ощущение крушения, и зрительный зал откликнулся, как послушный инструмент, на котором кто-то незримый играл свои адские мелодии.
Против аморальности бесконтрольной рыночной ориентации в духовном производстве не раз поднимали голос и американцы, сами встревоженные ее культурными, вернее будет сказать, антикультурными последствиями, чувствующие, как она размывает устои разума. Ну и что? «Решение Доннером финала иллюстрирует фундаментальную аморальность подобного кинематографического мастерства, — к примеру, замечает критик Гэри Арнолд. — Доннер, возможно, талантлив, но его метод слишком близок методу Уильяма Фридкина, режиссера «Французского связного» и «Изгоняющего дьявола». Поглощенные стремлением породить трепет, сделавшие самоцель из этого, они оказываются безразличными к вещам более содержательным. В частности, к контексту, в котором эксплуатируются религиозные доктрины, верования, предрассудки»1. Ну и кто слышит этот трезвый голос, если такая духовная продукция служит в конечном счете интересам большой политики, не способной иными средствами защитить свои, увы, столь же аморальные цели?
Кроме того, пока лишенному нравственных ориентиров художнику диктует курс стихия рынка, он в крайнем случае перестанет здороваться с осудившим его критиком, но не перестанет снимать кассовые картины. Успех гипнотизирует. И вот за коммерцию берутся мастера классом повыше, интеллектуализируют и эстетизируют рыночные находки, поднимают их до респектабельного уровня. Вот пример такой поднимающейся над средним уровнем демонологической картины. Фильм «Подмененный ребенок» (1982) демонстрирует изысканную форму киномистицизма. Как «научные» рассуждения о неисчерпаемых глубинах нашего подсознания, так и эстетская, рассчитанная на тонкий художественный вкус изощренность иных оккультных киноопусов придают им вес в глазах интеллектуалов. И вот уже не кто иной, как Джордж Скотт, человек с репутацией одного из серьезнейших драматических актеров США, берется в 1982 году общаться с духами умерших в картине Питера Мэдока «Подмененный ребенок».
Во имя чего? Во имя какой философской или художественной идеи? Герой Скотта — пожилой композитор, поселяющийся после трагической гибели семьи на новом месте, в городе Сиетле, в старом замке с дурной репутацией. Его поэтическое одиночество по ночам нарушается странными звуками: глухим стуком в водопроводных трубах, бульканьем воды где-то наверху, на заброшенном чердаке. Там среди рухляди композитор находит древнюю музыкальную шкатулку, из которой неожиданно звучит его собственная, недавно написанная им музыкальная пьеса под названием «Ореховый дом». Чужие, сваленные здесь давно вещи будто взывают к новому хозяину, являют ему какой-то тайный и зловещий смысл. На этот смысл наводит композитора зыбкий лик ребенка, на мгновение проступивший сквозь толщу воды в детской ванночке. Кто здесь жил до него? О какой трагедии тщится поведать ему не находящий покоя дух ребенка?
Эти вопросы побуждают бесстрашного и любознательного композитора пуститься в поиски прошлого загадочного замка. Его прежние хозяева, как вскоре выяснится, съехали еще в 1920 году после трагической смерти маленькой дочери, вызванной внезапным беспричинным шоком. Скрипучие старые вещи, сваленные на чердаке, ведут героя Скотта еще дальше, к 1909 году, когда этот замок был продан прежними его хозяевами, некими Кармайклами. Здесь следы обрываются. Тогда в замок привозят ясновидящую. Во время транса, в полумраке наполненного шепотом разных голосов зала она, устремив невидящие глаза вдаль, судорожно чертит размашистыми движениями на огромных листах бумаги причудливые иероглифы, которые тут же расшифровывает вслух ее помощник. «Кто ты? — шепчет ясновидящая. — Где ты живешь? Тебя убили здесь, в этих стенах? Как твое имя? Кто убил тебя?» И из-под ее летающих рук возникают ответы: «Мертвое дитя... Здесь... Да. Джозеф... Отец...» Дрожит от напряженности стол, звенят стекла в окнах, и в подтверждение последних слов распахиваются створки старинного буфета и вдребезги разбивается хрустальная ваза.
Дальше события развиваются гораздо живее: сначала на чердаке в детской ванночке композитор видит лик того же мальчика, которого чьи-то руки заталкивают под воду, потом под кроваткой соседского ребенка, последнее время терзаемого страшными снами, неутомимый композитор глубоко под землей докапывается до скелетика и золотой медальки, на которой выбито заветное: «Джозеф Кармайкл». Вот здесь-то и разгадка, от которой застигнутый врасплох умирает в коллапсе уважаемый в городе почтенный старец, сенатор Джозеф Кармайкл, зажимая в сухоньком кулачке точно такой медальон. Немного усилий, и цепь открытий композитора-следователя замыкается. Оказывается, в Сиетле подменен сенатор! Настоящего Кармайкла прикончил еще ребенком его отец, стремясь завладеть богатством, завещанным ему состоятельной матерью. Затем, взяв из приюта чужого ребенка, под именем Кармайкла отправил его навсегда в Европу.
А сам захватил принадлежащее ничего не подозревающему ребенку наследство и сделал впоследствии политическую карьеру. Изящный монтаж, изысканные мизансцены, интеллектуальная среда, даже смутный мотив социальной критики — все есть в фильме, кроме одного — иносказательного смысла, который бы оправдывал появление духов в Сиетле 1982 года.
Когда в сети мистических оргий на экране попадает большой художник, его творения почти неизбежно теряют
силу искусства и действуют на психику зрителя по тем же психофизиологическим законам раздражения подкорки, а не ума и сердца. Стэнли Кубрик — режиссер с заслуженной мировой репутацией и авторитетом мастера. Еще в 50-е годы он клеймил как психопатов тех, кто надеялся тогда уничтожить «угрозу красных» с помощью атомной бомбы, своим знаменитым фильмом-гротеском «Доктор Стрейнджлав». Его встревоженный и пессимистический взгляд на мир нашел яркое выражение в масштабной научно-фантастической картине 60-х годов «Космическая одиссея», в которой он размышлял о бесперспективности человеческой истории. Затем еще более пессимистично высказался этот большой художник Запада в фильме «Механический апельсин» — фантастическом гротеске о тотальном саморазрушительном начале человеческого общества.
А в 1980 году на этом же пути безверия в человека его постигает творческая неудача. По роману плодовитого Стивена Кинга он снимает еще один фильм-фантазию на темы самоубийственности человеческой природы. Сюжет «Сияния» строится на том, что напряжение в отношениях неудачливого писателя с женой и ребенком, скрытое в обычных условиях, прорывается наружу, когда все трое подряжаются на зиму сторожить пустой горный отель в Колорадо, отрезанный снегами от остального мира. Прежнюю мысль художника о дремлющей в человеке разрушительной силе не так сложно уловить в нагромождении психического, а потом и физического насилия, которым полон фильм. Английский критик Харлен Кеннеди назвал Кубрика кинематографистом-антропологом, «охотником в атавистических джунглях человеческой натуры, когда она оказывается под стрессом экстремальных условий и обстоятельств». Режиссер снова «пытается докопаться до зерен человеческой натуры, которые обнажаются, когда расколота скорлупа общественных приличий и норм, — не важно, где и когда исторически это происходит»2, но прибегает для художественного доказательства истощения духовных ресурсов человеческой цивилизации к помощи привидений, ясновидения, раздвоения сознания, психопатии и других патологических эффектов, которыми насыщен роман Кинга. У Кинга многолюдный гостеприимный летом отель на зимние месяцы превращается в дом ужасов, где не первый раз погибают люди и где герои с пятилетним сыном Дэнни, в котором, оказывается, живет дух по имени Тони, заселяют оставленный отель, «как микробы расселяются в кишечнике монстра». Кубрик не нашел кинематографического эквивалента выведенной в романе зловещей стене-ограде, пульсирующей и постоянно меняющей свою форму массе, окружающей здание, и выстроил замысловатый огромный лабиринт из зеленого глухого кустарника в два человеческих роста, в котором страшной сценой погони обезумевшего отца (Джек Николсон) за перепуганным насмерть сыном и завершается фильм.
Никаких социальных, поддающихся разумному осмыслению причин внезапного одичания, озверения мирной семьи Торрэнсов зрителю не дано увидеть. Равно как и понять, почему когда огромная холодильная комната полна запасов, когда в самую сильную пургу тепло в сверкающем роскошью дворце, когда нет необходимости бороться за существование, а только поддерживать на ходу налаженное хозяйство, почему и здесь возникает драма: человек уничтожает сам себя. Выходит, что виноваты в этом привидения, загадочная комната № 237, настороженно молчащие или предостерегающе звучащие в ушах обитателей анфилады пустых залов, постоянно о чем-то напоминающие герою, кровавые волны, то и дело в воображении ребенка заливающие длинные коридоры, покрытая язвами тлена голая уродливая старуха, встающая из ванны, как из гроба, — словом, набор довольно дешевых аксессуаров «фильмов ужасов», которые, кстати говоря, делают лишним высокое актерское мастерство знаменитого Джека Николсона.
Вспоминается, как его советский коллега Армен Борисович Джигарханян, человек театральный и киношный, с тонким художественным вкусом, после просмотра этого фильма вдруг что-то неуловимое сделал со своим лицом и, на миг превратившись в буйнопомешанного, до ужаса похожего на персонажа Николсона, сказал, хитро подмигнув присутствующим: «И это искусство? Не-е-ет, шалишь, нас так просто не обманешь!»
Нас-то, может быть, и не обманешь, а вот миллионы тех, кто находится в магнитном поле других ценностей, где официально принимаются за истину библейские мифы, где в ходу разрушительные концепции личности и общества, миллионы тех зрителей обманывали и обманывают по сей день, нередко прибегая и к авторитету серьезных художников...
ЛИКИ КОНСЕРВАТИЗМА: ЖАЖДА «ЗАКОНА И ПОРЯДКА»
И все же в десятках лучших своих картин Голливуд прямо отразил кризис социальной системы и политических институтов Соединенных Штатов на «переломном этапе в развитии мирового капитализма» , как определяли это время ведущие экономисты. И это были в большинстве своем вершины американского прогрессивного искусства. Выше них политическое сознание в рамках буржуазной идеологии не сумело, да и, пожалуй, не могло в условиях США подняться. Мы видели, как кинематограф 70-х выявил и сконденсировал в «ретро» и в «катастрофах» эмоциональную основу для поворота массового сознания к консервативным ориентациям, возобладавшим в американской внутренней и внешней политике в 80-х годах. И это были тоже вершины, но уже коммерческого кино, которое в Америке стали называть «эксплуатационным», так как оно эксплуатировало страхи и комплексы обыденного сознания ради извлечения прибыли.
Наконец, от ностальгии и страха, которыми обозначились границы падения национального духа, кинематограф 70-х пытался сдвинуть массовое сознание в поисках выхода из замешательства и тупика. Куда же? Вспомним раздражение «средней Америки», на которую либералы, творцы «общества всеобщего благосостояния», возложили бремя финансирования программ помощи беднякам и черным. А в результате? Страна получила инфляцию, безработицу и рост преступности. Ясно, что с наибольшей вероятностью это раздражение должно было обратиться прежде всего на получателей правительственной помощи, то есть на тех, кто «отбирает» у «среднего американца» часть его пирога, кто «безобразничает» на улицах, кто «не хочет» трудиться.
Так и произошло. Если и раньше, во времена относительного экономического благополучия, «молчаливое
1 Скорое Г. Экономика США на пороге 80-х годов. — «США: экономика, политика, идеология», 1980, № 10, с. 14.
большинство» Америки не только подозрительно косилось в сторону «творящей беспорядки» молодежи, но и, как это было в фильмах «Беспечный ездок» и «Джо», стреляло в собственных хиппующих детей, то теперь, когда стали пустеть и собственные кошельки «молчаливых», конфликт между «донорами» и «получателями помощи» резко обострился. Усилились требования к правительству навести порядок на улицах, покончить с «эксцессами демократии».
Сложная и противоречивая природа того, что называют сегодня консервативным сознанием, консервативной ориентацией, формировалась в начале 70-х годов постепенно и лишь в отношении отдельных наболевших проблем внутренней жизни, внешней политики и вопросов морали. Причем пока идеологи теоретизировали, скажем, в области «равенства возможностей» и «справедливости», отвергая либеральные концепции «равенства результатов» как несостоятельные и недостижимые, на уровне массового сознания оживали и оживлялись те элементы традиционной системы ценностей, которые вооружали обывателя против «революции растущих притязаний» низших слоев, служили оправданием подспудного тяготения к «закону и порядку».
Теперь все чаще и настойчивее те, кто сами в послевоенный период выбились в люди, утверждали, что государственные социальные программы развращают людей, что они подавляют веру в собственные силы, убивают побудительные мотивы к труду и частную инициативу, разрушают традиционную трудовую этику, приучая к безделью, лишая бедняков даже надежды выбиться из бедности. Иждивенчество же, утверждали они, ведет и к нарушению твердых моральных принципов, которые принесли в свое время Америке процветание и престиж, к разгулу преступности на улицах американских городов. До поры до времени (50 — 60-е годы) подкармливание низов шло за счет высоких темпов роста американской экономики и, значит, не затрагивало благосостояния имущих налогоплательщиков. Но стоило только начать снижаться реальной заработной плате из-за инфляции и налогов, стоило в целом снизиться темпам экономического роста, и упомянутые программы стали съедать часть их благополучия. Вот тут-то в массах «средней Америки» пошла в рост нетерпимость правого толка, оживились расистские элементы.
Весьма симптоматичным оказалось появление в 1972 году по сюжетам, написанным еще в 1939 году в
Европе, многоплановой, сложной по замыслу и по форме музыкальной политической сатиры Боба Фосса «Кабаре». Он обращен в Берлин 1931 года, к скатывавшейся в нацизм Германии, этот поставленный на основе бродвей-ского мюзикла середины 60-х философский киноспектакль. Автор воссоздает закат Веймарской республики в картинках знаменитой «культуры кабаре», отразившей упадок духа тех угарных лет политической реакции и смуты. Фильм снискал славу новаторского, заслужил ряд наград Американской киноакадемии благодаря и великолепной игре Лайзы Минелли, исполнявшей роль сумасбродной певички Салли Боулз из кабаре «Кит Кэт Клаб», и образу конферансье, этой «куклы дьявола», завораживающе сыгранной актером Джоэлем Грэем («Оскар» за лучшую вспомогательную роль), и, конечно, изощренной режиссуре Боба Фосса, сумевшего превратить гротескную аморальность музыкальных номеров, исполняемых в кабаре, в сатирический комментарий к жизни героев и их времени, в котором зрел германский фашизм.
Когда, отмечая чувственную энергию декаданса, которой заряжен фильм, Паулин Кэйл пишет о балагане как метафоре распадающегося времени, невольно представляется время Вьетнама и «Уотергейта», в котором американцы находили немало аналогий1. Что подтверждает коллоквиум американских историков, собравшихся в том же 1972 году специально для обсуждения одной темы: не идет ли сегодняшняя Америка путем вчерашней Веймарской республики? Тогда пришли к заключению, что нет. Различий было все же больше, чем общего. Но десять лет спустя один из известных идеологов-консерваторов, публицист Кевин Филлипс, в своей нашумевшей книге «Америка после консерваторов» думал иначе: «Отпор, который дала «средняя Америка» крайностям всяких либеральных социологов, поборников равноправия, защитников культуры наркотиков, борцов за сексуальную свободу, сторонников свободного образования (Permessive educators), порнографистов, современных художников, работников средств информации и т. п., в тревожной степени похож на реакцию немецкого обывателя 20-х годов, громившего известную берлинскую «культуру кабаре» — ее извращенность, распущенность нравов и цинизм, издевательские пьесы Б. Брехта, привычку высших кругов к кокаину, антитрадиционализм, а также презрение к рядовому немцу и слащавому немецкому патриотизму, выраженному в карикатурах Георга Гроша, и др.»1 Что произошло в Германии потом, известно. А фашизма в Соединенных Штатах неоконсерватор К. Филлипс не желал.
Его единомышленникам власть государства нужна была только для обуздания низов, чтобы никто ни снизу, ни сверху не мешал безграничному простору частного предпринимательства. Таких, как Филлипс, в США немало. Даже в 1968 году, то есть в разгар левых движений протеста, правый губернатор Алабамы расист Уоллес, выдвинув себя в президенты США, собрал около 10 миллионов голосов на антилиберальной платформе с помощью правопопулистских лозунгов, обращенных к «забытому» «среднему американцу», к недовольному «молчаливому большинству» Америки. С ним были те, кто отвергал требования бедняков как «революцию растущих притязаний», клеймил реформистские усилия либералов по компенсации последствий расовой сегрегации как угрозу всей общественной системе, кто требовал репрессий против «хаоса» демократических выступлений, разрушающих «национальное единство», кто боролся за восстановление «утраченного духа пионерства и религиозности», за возврат к «истинно американским» формам жизни. Вот на какой произрастали почве жестокие каратели-антигерои из городского вестерна 70-х — 80-х годов, которые наводили порядок в «джунглях» американских городов, парализованных преступностью и насилием.
В 1971 году внимание публики привлекает суперполицейский, «супер-коп» Попай из жесткого, или, как говорят в Америке, «мужского», фильма Уильяма Фрид-кина «Французский связной». Основанный на документальном очерке Робина Мура о крупнейшей в истории нью-йоркской полиции операции по уничтожению банды торговцев наркотиками, этот городской вестерн, как квалифицировала его наблюдательная Паулин Кэйл, был важен не только утверждением стиля так называемой «docudrama» (документальной драмы), но и тем, что открывал дорогу целой цепи антигероев — жестоких полицейских, «творящих самые страшные беззакония... для пользы дела». Терпимость к этим нарушениям права и закона самой полицией вырабатывалась «массовой культурой»: она становилась мощным аккумулятором обывательских страхов, нагнетая их устрашающими картинами разгула преступности и подсказывая варварский, вне закона способ их изживания.
Документальностью своей, как, впрочем, и беспощадностью своего главного героя, «Французский связной» был обязан Эдварду Эгану, детективу первой категории нью-йоркского отдела по борьбе с наркотиками, чей шестнадцатилетний опыт «неортодоксальной» работы в полиции лег в основу очерка Робина Мура. К тому времени Эган, вместе с другими «неортодоксальными» профессионалами сыска, пониженными в 1968 году в должности за злоупотребление властью, уже третий год работал в 81-м полицейском округе Нью-Йорка.
Заполучив писателя, опальные полицейские изо всех сил старались продемонстрировать ему вред «запретительного правила», принятого в 1961 году Верховным судом под председательством последовательного либерала Эрла Уоррена, правила, которое запрещало судам всех инстанций использовать на судебных процессах улики, полученные в обход закона. К чему этот либерализм привел, Эган решил показать на трудных условиях работы в негритянском гетто Бруклина. Он просто взял журналиста с собой на дежурство. Провез его по обычному маршруту. Показал, например, группы черных женщин у домашних почтовых ящиков. Объяснил, что дважды в месяц вот так ожидают они на улице почтальона с пособием, чтобы получить свой чек прямо из рук в руки, иначе он будет тут же выкраден караулящими почтальонов ворами. Зоркий глаз детектива вскоре приметил в полумраке одного из подъездов и воришку. Внезапно притормозив, он выскочил из машины, скрутил парня и учинил допрос. Захныкав, тот поклялся, что живет в этом доме. Детектив потребовал показать квартиру. Поднявшись этажом выше, парень ткнул пальцем в грязную дверь. Там долго не открывали, а потом на пороге появился черный карапуз, который на вопрос, где его мама, доверчиво ответил: «Мама пошла за чеком. Потом она пойдет в магазин. Потом к хозяину платить за квартиру. Потом в полицию заявить, что у нее украли чек. А потом уже — домой». Эган рассмеялся и объяснил следовавшему за ним Муру, что на следующий день после выплаты пособий в полицейском участке выстроится очередь из получателей пособий с заявлением об украденных чеках, так как закон допускает трижды в год возмещение украденных пособий без дополнительного расследования. Накостыляв солгавшему и порядком растерянному парню, Эган пинком ноги вытолкнул его с грозным предупреждением на улицу, а Муру сказал: «К вечеру у него в кармане будет не менее трех украденных чеков, а я даже обыскать его без специального разрешения не имею права».
На пустыре, метрах в пяти от повалившегося забора, двое пожилых негров играли в шахматы. Мимо них сновали люди, кое-кто останавливался посмотреть на игру, отходил к забору, ковыряясь там в какой-то дыре, уходил не оглядываясь. На подъехавших полицейских игравшие подчеркнуто не обратили никакого внимания. Эган подошел к забору, пошарил в дыре, вытащил большой коричневый бумажный мешок и вытряхнул из него россыпь маленьких целлофановых пакетиков с героином. Взяв за шиворот одного из игроков, он извлек из его кармана пачку пятидолларовых бумажек, пересчитал. Их было двадцать две.
«Ты продал двадцать две порции порошка, не так ли?» — подвел он итог обыску.
«Вы нарушаете закон, у вас нет ордера на обыск и арест!» — запротестовал обысканный.
«Мы просто играли в шахматы на открытом воздухе и к этому мешку не имеем никакого отношения!» — объяснил его партнер.
«Ты это скажи сестрам и матерям этих наркоманов, которые отдают тебе их гроши, полученные сегодня от правительства! — процедил с ненавистью Эган и повел обоих к машине. А Муру сказал: — Если их не отпустит сержант, то позже выпустит судья. И это лишь потому, что мешок с наркотиками был у них не в руках, а в пяти метрах»1.
Можно не сомневаться, что Эган нашел себе сочувствующих: после смерти Мартина Лютера Кинга и спада негритянского движения 60-х годов черную безработную молодежь охватила деморализация, толкавшая на преступления, и средние слои Америки теперь уповали только на репрессии и полицию. Но Эдвард Эган в ноябре 1971 года, когда еще в стране преобладали либеральные тенденции, был предан суду и уволен из полиции за систематическое нарушение законности при исполнении служебных обязанностей. Этот шаг властей тем не менее вызвал взрыв протеста со стороны части населения, выступившего против наказания человека, который «столь самоотверженно боролся на своем посту за то, чтобы очистить Нью-Йорк от наркотиков»х.
Впрочем, оказавшегося без работы Эгана вскоре подобрала в качестве консультанта и даже актера кинокомпания «Парамаунт». Суперполицейские, выведенные под его наблюдением и при его участии во «Французском связном», по сравнению с реальными прототипами оказались еще более беспощадными и «неортодоксальными». Для них все методы хороши, лишь бы преступник был взят.
Парадоксально, но факт: прибыль от проката «Французского связного» составила 26 миллионов долларов и подтвердила тем самым, что значительная часть публики средних слоев солидарна с таким эффективным, хотя и нарушающим закон блюстителем порядка. Зрители, казалось, не желали видеть аморальности рецептов, выданных «Французским связным». Их все больше тянуло к решительным действиям, то есть, по сути, к самосуду. И искусство подспудно поощряло их.
Вскоре на экраны выходит «Грязный Гарри» (1972) Дона Сигела, в котором сцены истребления преступников уже не эпизодичны, они составляют саму основу фильма, тем самым окончательно обесценивая и человеческую жизнь и закон, ее охраняющий. Актер Иствуд создает ореол праведника и неподкупного рыцаря вокруг одиночки-полицейского, на свой страх и риск нарушающего «слишком деликатные и либеральные» законы во имя защиты мирного населения. Чего стоит такой, к примеру, эпизод из его практики. Его, отдыхающего после дежурства в своей холостяцкой квартире, вызывает шеф с просьбой помочь в освобождении захваченных грабителями банка заложников. Гарри привычно сует под мышку пистолет, садится в машину, не останавливаясь проносится мимо жидкой цепи полицейских и снайперов, оцепивших банк, и с ходу, пробивая корпусом машины витрину, влетает в центр зала. Еще не успевает осесть пыль от осколков, как, онемевшие от неожиданности, падают сраженные его пулями террористы. А он невозмутимо разворачивает свой автомобиль и возращается к прерванному отдыху. И все это — на глазах восхищенной публики. Именно восхищенной, ибо такова задача авторов — привлечь на сторону Гарри симпатии зрителя, заставить возлюбить того, кто, не утруждая себя разговорами и не задумываясь, пускает в ход оружие. Зрителю внушается, как писала в своей язвительной рецензии Паулин Кэйл, что полиция не в состоянии справиться с преступностью из-за той «чрезмерной» правовой защиты, которую «хлипкое либеральное общество предоставляет своим осквернителям». И когда, освободив детей, захваченных заложниками, Гарри швыряет свой полицейский жетон в реку, где наконец плавает труп убийцы, зритель сразу подхватывает авторскую идею: законы написаны слабохарактерными простофилями... Гарри снимает свой жетон потому, что «не признает закон, он — сторонник линчующей справедливости» х.
Типичный образчик мышления тех американцев, на сочувственный отклик которых рассчитывались подобные фильмы, находим и в литературе описываемого периода. Характерно, что обнаруживаются они в... среде юристов, адвокатской аристократии, принадлежащей духом и плотью к «средней Америке». Известная американская писательница Джойс Кэрол Оутс в романе «Делай со мной что захочешь», вышедшем в 1973 году, точно фиксирует их взгляды: «Мистер Карлайл, ударяя рукой по столу, чтобы подчеркнуть свою мысль, сказал, что он тоже сочувствует полиции, особенно если учесть, как распоясались левые агитаторы, которые так осложняют полицейским жизнь, то и дело нарушая закон. Все эти люди, связанные корнями с Россией, с Китаем, с Кубой, финансируемые международными студенческими комитетами, подготовленные, а в некоторых случаях и профессионально обученные... Эти люди, сказал он, способствуя беззаконию в нашем городе, расшатывают наше общество... они чрезвычайно затрудняют для полиции возможность задержать убегающего нарушителя, утверждая, что стрельба даже по виновному субъекту является нарушением конституционных прав... И мы беспомощны, клянусь, мы беспомощны, — произнес он со слезами на глазах, — люди, которые, как мы, удерживают нашу страну от распада и которые узнают друг друга с первого взгляда, — мы беспомощны перед этой сворой маоистов, и левых либералов, и юристов-евреев, и юристов-ниггеров, доставшихся нам в наследство от Мартина Лютера Кинга...»2.
Как здесь не благословить на подвиги Грязного Гарри, не призвать на помощь «сильную руку», хотя бы и
1 См.: На экране Америка, с. 285 — 286.
2 Оутс Д.-К. Делай со мной что захочешь. М., «Худож. лит.», 1983, с. 447 — 448.
пришлось для этого «слегка поступиться» демократией? И Кэрол Оутс устами респектабельного представителя плутократии, хорошо информированного и влиятельного адвоката, характеризует складывающуюся в стране ситуацию: «Хотя так называемая коалиция левых радикалов, состоящая из юристов, и тех, кто выступает против войны, и тех, кто борется за гражданские права, вроде бы и добивается успехов в либерально настроенных судах, на самом-то деле в стране царит нетерпение и возмущение, которое с течением времени станет проявляться все более решительно» Так проницательный взгляд писательницы зафиксировал нарастание напора консервативных сил, которые под предлогом борьбы с «красной опасностью» и беспорядками насаждали крайне правый порядок.
Неудивительно, что на экранах все чаще появляются новые и новые варианты «Грязного Гарри», аморальные городские вестерны, обеспечивающие психологическую подготовку наступлению правых сил своими средствами. Казалось, они делались на конвейере — штампованные, серийные, малохудожественные — все эти картины: «Сила револьвера» (1973), «Седьмое небо» (1973), «Смеющийся полицейский» (1973), «Насаждающий порядок» (1976) — фильмы о блюстителях порядка, которые не могут допустить, чтобы подозреваемые беспрепятственно находились на свободе только потому, что против них не собрано достаточно улик. Их стало много, очень много на американском экране: беспощадный линчеватель, истребитель преступников только зверел, стервенел год от года, а чуткие к переменам режиссеры добавляли в сюжет приметы времени и дискуссионность в зависимости от конъюнктуры.
Так, например, жестокие герои Клинта Иствуда вступали и между собой в дискуссию о дисциплине, законе и порядке. В «Силе револьвера», скажем, инспектор Калагэн оказывается на стороне закона: он идет по следу неизвестных убийц, планомерно ликвидирующих лиц, состоящих на учете в полиции, то есть тех, кто, как говорят в уголовном мире, «вор в законе». Калагэн ведет расследование опять по собственной инициативе, но вопреки воле начальства, закрывающего на загадочные убийства глаза и довольного тем, что на свободе остается все меньше живых преступников. Окончательная развязка наступает тогда, когда подозревавший неладное Калагэн распознает в убийцах своих же коллег, группу молодых инспекторов дорожной полиции, которые под тайным руководством своего начальника отдела избрали террор в качестве кардинального средства борьбы с преступностью. В финальной сцене защищающий здесь законность Калагэн в кровавой перестрелке лицом к лицу выходит на преступившего закон начальника отдела по борьбе с уличной преступностью. Отметим: в 1973 году преступник на посту представителя правопорядка оказывается, по сюжету, еще и ветераном Вьетнама (отсюда его садистские наклонности). В те времена немало патологического в американской действительности еще списывалось за счет Вьетнама.
Удивительно, как даже такую шаблонную и часто низкопробную кинопродукцию пронизывают токи времени, как в криминальной сюжетной схеме варьируются, проходя испытание на публике, различные оттенки общественной психологии. Например, в фильме «Насаждающий порядок» режиссера Дж. Фарго все тот же Гарри Калагэн (сквозной герой многих картин К. Иствуда) много внимания уделяет своему напарнику. Этот берущий у Калагэна уроки мужества напарник оказывается... женщиной. Такова дань набравшему к тому времени большую силу феминистскому движению, а заодно и попытка сторонников скорой расправы завоевать на свою сторону женщин. На глазах зрителя эта славная девчушка-полицейский постигает давно известную Гарри истину о вредительстве бюрократов-законников. Она в конце концов окончательно прозревает, но гибнет, самоотверженно прикрывая огнем Гарри, ставшего ее кумиром... Преступники, кстати, тоже здесь не случайные люди с улицы. Теперь это политические террористы, леваческая организация, готовящая похищение с военного склада в Сан-Франциско такой «забавной» новинки, как ручные ракеты. Калагэн, не тратя времени на расследование, вступает с ними в уличный бой, и над головами прохожих свистят пули, рядом гремят взрывы, как на войне. Чтобы спасти захваченного заложником витийствующего политикана, либерального мэра города, он разрабатывает целую боевую операцию. «Благородство» опального инспектора тем еще привлекательней, что он борется за жизнь неприятного ему человека, чья игра в либерализм, собственно, и заставила уйти Гарри из полиции, а самого мэра привела в руки террористов.
Надо сказать, что городской вестерн, в значительной степени аккумулируя энергию массовых консервативных настроений, концептуально упорядочивая их мрачную стихию, широко и охотно использовал для своих сюжетов борьбу с преступностью, которая повседневно ведется на улицах американских городов. Не в кино, а в жизни родилась идея создания отрядов гражданской самообороны против хулиганства и нападений безработных подростков на прохожих. Не кадры из фильма, а фотографии из жизни печатал журнал «Тайм»: группы пенсионеров, сопровождаемые рослыми защитниками — студентами из соседнего колледжа, следуют за покупками в супермаркет. В американской прессе не раз сообщалось об инициативе жителей богатых пригородов: не полагаясь на полицию, кварталы организовывали свой бизнес — собственную службу безопасности, оплачивая усилия добровольной охраны вскладчину. Кинематограф старался не отставать от жизни. Скажем, разработала детройтская полиция программу, сокращенно названную STRESS (Stop the Robberies, Enjoy Safe Streets, то есть «Останови грабителя, сделай улицы безопасными!»), в рамках которой осуществлялась провокация: полицейский, переодетый в штатское, играл роль «подсадной утки» для грабителей, а его коллеги шли за ним следом в качестве группы захвата. Кинематограф тут же использовал «находку» детройтских блюстителей порядка в развязке фильма «Ночные ястребы», где Силвестр Сталлоне, играющий агента ФБР, ради пущей привлекательности для грабителей переодевается женщиной...
Кристаллизуя общественный опыт и привлекая всеобщий интерес к больным вопросам, Голливуд городскими вестернами очень активно и последовательно выполнял важную идеологическую функцию, впечатывая в общественное сознание обновленные стереотипы поднимающего голову консерватизма, причем самого крайнего, радикального образца. Криминальный жанр при этом менял свою традиционную форму, характеры, нравственный смысл.
«Смесь похоти, реакционного морализма и массовых истязаний», отмеченная критиком Дэвидом Дэнби в «Грязном Гарри» и «Силе револьвера», в конце десятилетия и позже превращается в кровавый коктейль, который кружит зрителю голову гадким сладострастием садизма, вырвавшегося на волю инстинкта разрушения, мести «всем этим гомосексуалистам, наркоманам, насильникам, маньякам, недоучкам, ниггерам и смутьянам».
Дегуманизация, ставшая основным признаком городских вестернов, превратила эти фильмы в разновидность «фильмов ужасов». «Совершенствование» жанра в конце 70-х годов пошло даже не по линии углубления исследования патологического характера убийцы, страдающего той или иной манией, как это было свойственно популярному в США жанру s «психологического кошмара» («film noir»), а по пути эскалации извращенного изуверства, изобретения все более изощренных способов членовредительства. Зритель, как показала практика, быстро привыкал к новым формам экранного насилия, и граница кошмаров отодвигалась все дальше и дальше.
«Нью-Йорк тайме» в ноябре 1982 года писала: «Каждый знает, что эти фильмы в последние годы стали более клиническими благодаря техническим новшествам, которые позволяют демонстрировать, как топор входит в лоб, дрель буравит желудок или что-либо подобное, что лучше было бы предоставить воображению... Никогда еще в истории «фильмов ужасов» насилие не было столь буквальным, как сегодня. Метафорические страсти старомодных монстров, безумных ученых, страдающих комплексами вампиров, не встречаются более в этих картинах. Нет... ничего, кроме вызывающего мурашки страха. Да и нет времени уточнять индивидуальность, прорисовывать черты характера — персонажей убивают так быстро, что аудитория все равно не успевает их идентифицировать. Нет никакой пользы и от морали, даже такой простенькой, как в фильмах-катастрофах вроде «Ада в поднебесье». Неизвестные убийцы к морали никакого отношения не имеют. Здесь нет вины, потому не может быть и наказания» Ч
Так большая пресса подкорректировала Голливуд, пытаясь притормозить стремительное падение его моральных стандартов, допущенное в погоне за конкретной политической целью. А цель эта, пусть нигде откровенно не сформулированная и, может быть, даже самими художниками до конца не осмысленная, состояла в возбуждении нетерпимости к «слишком много» получающим низшим слоям. Но какова цель, таковы и средства. Потому в фильме «Истребитель» городская жизнь выглядит исключительно как джунгли, полные смертельной опасности. Потому полиция все больше изображается беспомощной, непрофессиональной, коррумпированной. Ее агенты либо копаются в своих картотеках, пока преступники разгуливают на свободе, либо валяются в постели с хорошенькими медсестрами. В «Истребителе» именно в этот приятный момент в соседней палате чья-то рука тайком отключает от системы искусственного дыхания тяжело искалеченного пациента. Функции же благородного мстителя, карателя вроде Грязного Гарри, берут на себя герои-одиночки (отец — в фильме «Жажда смерти» или, что чаще, ветеран, прошедший «школу» Вьетнама, — в «Войне Гордона», «Раскатах грома», в «Истребителе»). Выступая живым укором полиции, они полагаются на себя и не рассуждают о предписаниях и законах, а действуют немедленно и самостоятельно — в соответствии с обстановкой, как в бою, используя все, что может стать орудием истребления врага в городских джунглях. Мстят за искалеченного друга, за совращенную невесту, за ограбленную в парке старушку, за замученную сутенерами девушку... Чтобы зритель не усомнился в правоте творящих самосуд мстителей, авторы этих провокационных картин используют безотказный психологический прием: сначала без меры нагнетают преступления, изображая душераздирающие сцены насилия над беззащитными стариками, женщинами, детьми, тем самым предельно взвинчивая зрителя, который не может не жаждать возмездия, а уже затем обрушивают на головы виновных карающий меч отважных одиночек.
Довольно скоро в многочисленных сюжетах подобного рода окончательно выкристаллизовался облик нового героя. Чтобы привлечь зрителя, он должен был по возможности отвечать духу времени, быть по современному обаятельным. Что это значит — видно по героям Иствуда. Их обаяние, как говорится, отрицательно, ибо они сами антигерои. В них нет и следа от американского духа «фронтира», воплощенного в сильных, но добродетельных персонажах Купера, Фонды, Стюарта, Гэйбла, Трейси. Озлобленность вместо мужества, фанатизм вместо воли, подозрительность вместо уверенности, воинствующая ненависть вместо доброты — вот душевные качества современного голливудского образца для подражания, профес-сионала-истребителя, которого жаждет уже не на шутку встревоженный «средний класс». Без друзей, семьи и любви, неудачник среди победителей, с тлеющими углями гнева против всех, он призван расчищать от преступников и «левых агитаторов» авгиевы конюшни американских городов.
При этом неотвратимо сужается на экране духовное пространство. Все драматичней нарастает нетерпимость в фильмах «Жажда смерти» (1974), «Раскаты грома» (1977), «Луковое поле» (1979), «Истребитель» (1980), «Побег из
Нью-Йорка» (1981), «Форт Апач. Бронкс» (1981), «Ночные ястребы» (1981), «Машина Шарки» (1981), «Жажда смерти II» (1982)... Й это лишь небольшая часть фильмов, которыми на американском экране все более утверждается жестокая бездуховность, удаляется из искусства человечность, вскармливается на месте благодушия 50-х годов воинственность и нетерпимость. По-видимому, прав критик газеты «Нью-Йорк тайме», когда он пишет: «Сказать, что эти фильмы не очень страшны, не значит полагать, что они не оставляют глубокого следа в сознании тех, кто их смотрит. Пойдите в кинотеатр, и вы получите практическое подтверждение тому, что подобные фильмы имеют значение для аудитории. Вы покинете зал убежденным, что мир отвратителен, полон насилия и агрессии, которые стали скорее правилом и нормой, чем исключением... Насилие в действительности, а не в экранном мире, становится более приемлемым после того океана кошмаров, который вы видели на экране»г.
Критика пугают кошмары тотального насилия, ставшего основным изобразительным, так сказать, «видовым» элементом городских вестернов. Однако, он не видит того, что скрыто за шоковыми сценами сжигания или пропускания через мясорубку живого человека, а именно привлекательных для «истинных» американцев давних истоков морали этих персонажей. Они проявились сами несколько позже, при президенте Рейгане, в виде вполне благопристойного нравоучения. В картине Тони Гарнета «Пистолет», показанной на XIII Международном кинофестивале в Москве в 1983 году, кошмары насилия как будто специально убраны со сцены, чтобы обнажить (и одобрить!) моральную схему «справедливого» самосуда.
Бесспорно милы и обаятельны его герои — молоденькая учительница истории, приехавшая не так давно из провинции, и юноша, типичный улыбчивый американец, ну просто Дин Рид, только взявший в руки не гитару, а пистолет. Юноша любит оружие и работает тренером в местном стрелковом клубе. Он с увлечением рассказывает детям на уроке истории, какую благотворную и важную роль играло ручное оружие в формировании истинно американского характера. Дети завороженно следят за его пальцами, ловко собирающими и разбирающими различные типы револьверов, внимают его сентенциям: «Что общего между фермером, бизнесменом, шофером, клерком и другими американцами? Любовь к пистолету!»
А потом, пригласив учительницу в свою уютную квартирку и угостив предварительно, как в лучших домах, напитками, он так же терпеливо, как на уроке, с улыбкой и с теми же наглядными пособиями разъясняет своей гостье преимущество вооруженного человека над невооруженным, предлагая ей при этом лечь с ним в постель. Проявляя истинно американский характер, гостья следует мудрым наставлениям («если насилие неизбежно, расслабьтесь и получите удовольствие!»), невозмутимо исполняет требуемое и при первой же возможности исчезает из «гостеприимной» квартирки. И довольно надолго. Зритель застает ее в магазине оружия, где она спустя несколько дней выбирает по вкусу револьвер и винтовку и выслушивает от разных персонажей столь же практические рекомендации. Например, из уст хозяина магазина, любезно разложившего перед ней свой ассортимент: «Через два — три года, когда правительство не справится с неграми и чиканос, вам понадобится нож, красавица!» И далее: «На пистолетах, да, на пистолетах, мэм, узнается, где добро, где зло!» И в заключение с ухмылкой: «У нас свободная страна, мэм!..» Позже мы видим героиню в стрелковом клубе, где она теперь берет уроки стрельбы из разных видов оружия. Зачем ей эти уроки, выясняется несколько позже, когда она, выманив своего обидчика в ночной час на стрельбище, встречает его выстрелами. Потом под дулом револьвера она ставит его на колени, повторяет ему его же сентенции насчет удовольствия от неизбежного насилия, швыряет к ногам заряженный револьвер: «Защищайся, будь мужчиной!» И гоняет под пулями в темноте до тех пор, пока тот, расстреляв все патроны, не падает сраженный выстрелом в упор из винтовки.
Что отличает этот школьно-воспитательный вариант городского вестерна, так это его ясность, почти хрестома-тийность идеи самосуда. В нем нет сцен грубого физического насилия, нет лиц, искаженных страданиями или злобой. Все совершается с улыбкой, можно сказать, доброжелательно. Даже финальный выстрел в упор оказывается воспитательным: герой приходит в себя на больничной койке, чтобы узнать, что его подстрелили безобидной усыпляющей пулькой-шприцем. А героиню показывают зрителю уже на финальных титрах — улыбающуюся, удовлетворенную — как пример для подражания.
Моральное обоснование принципа силы, варварских взаимоотношений в современном цивилизованном мире, таким образом, авторы ищут и находят в прошлом Америки. Нелишне вспомнить при этом и нам, читатель, что в конституции США и по сей день существует поправка (за отмену которой борются прогрессивные круги) о «праве народа хранить и носить оружие» в целях защиты собственного достоинства, имущества и жизни. Она как бы сохраняет в неприкосновенности давнюю традицию, глубоко коренящуюся в сознании американского индивидуалиста убежденность в действенности принципов «надейся на самого себя» и «действуй с позиции силы».
Таким образом, «средний американец» постепенно и незаметно для самого себя подводится к современному праворадикальному типу сознания. Он подталкивается к нему, как мы видим, не в последнюю очередь и спекуляциями на традициях прошлого, что своевременно подметила Е. Карцева: «Авторы этих лент апеллируют к традициям прошлого, исподволь доказывая их преимущество перед современными нравами и порядками. В те времена, когда существовал так называемый фронтир, пограничье на Западе, его обитателям и в самом деле большей частью самим приходилось брать на себя функции сыщиков, полицейских, судей. Ностальгические воспоминания о тех временах легли в основу самого национального и самого популярного жанра американского кинематографа — вестерна»1.
Сегодня нетерпимость и тяготение к насилию как универсальному средству решения всех конфликтов и противоречий, насаждаемые столь последовательно и изощренно, питаются соками ультраправой берчистской идеологии. Берчизм получил поддержку «средней Америки» еще в 60-е годы в ответ на массовые выступления черных американцев. Теперь же, с конца 70-х годов, наступление крупного капитала на социально-экономические завоевания 50-х — 60-х годов, его отказ от уступок и переход к политике демонтажа «государства всеобщего благосостояния» дал берчизму новый импульс.
«Новый» Голливуд, следуя в русле эволюции настроений «средней Америки», передал и усилил нарастающую напряженность, раздражение и нетерпимость в присущей ему форме — через эмоциональное оправдание «справедливого» насилия необходимостью защиты беззащитного населения. Субъектом, принимающим на себя функции защитника в голливудских картинах 70-х — 80-х годов, оказывается, как мы видели, в зависимости от адреса фильма и времени его появления на экранах, то сама полиция (вернее, самая решительная, «лучшая» ее часть), то силы местной инициативы — самоорганизующаяся соседская община, то доведенный до крайности индивидуалист-одиночка, то, наконец, в соответствии с попутной политической установкой времен взвинчивания милитаристского духа, ветеран Вьетнама, «зеленый берет» американских вооруженных сил.
Проведенная (и проводимая до сих пор) Голливудом обработка общественного сознания в направлении, проложенном рассмотренными выше фильмами, способствовала обеспечению общественной поддержки курсу администрации Рейгана на укрепление милитаристского аппарата государства, выполняющего репрессивные функции в стране и за рубежом. Так в государственной политике завоевывал свои позиции берчизм, который, как отмечалось советскими учеными, «отвергая любые уступки государства требованиям снизу, по сути дела полностью отрицает политику реформ, используемую буржуазией в сочетании с политикой открытого подавления... открывает практически неограниченные возможности для расширения государственных репрессивных функций до полной ликвидации буржуазной демократии».
С большой долей уверенности можно утверждать, что супермен-каратель из городских вестернов 70-х немало способствовал усилению репрессивности американского общества в 80-х годах. После ограничений, наложенных в 60-е годы Верховным судом США под давлением движения за гражданские права на полицейские и разведорганы и направленных против гестаповских методов деятельности этих организаций времен Гувера, летом 1984 года Верховный суд шестью голосами против трех снова разрешил судам использовать улики, полученные незаконным путем. Так с приходом Рейгана в Белый дом агенты ЦРУ и других разведорганов правительства вновь получили официальное разрешение заниматься шпионажем, без судебных санкций следить за гражданами, вести на них досье, вскрывать почту, подслушивать и т. п. «Можно сказать, — с удовлетворением констатирует небезызвестный ультраправый деятель Барри Голдуотер, — что наши спецслужбы хорошо отдохнули». Позади «годы бездействия и массовых увольнений» в связи с дискредитацией официальных органов в глазах общественности. В 1983 году 250 тысяч американцев, как сообщает западно-германский журнал «Шпигель», откликнулись на приглашение работать в ЦРУ. Десять тысяч получили приглашения на предварительные беседы. Полторы тысячи были приняты на службу и обучение после тщательной проверки и обследования1.
«Для правительства США, — говорил назначенный Рейганом директор ЦРУ У. Кейси, — настала пора отнестись к противнику серьезно и разработать ответную стратегию». Знаменательно не только то, что сказал Кейси, но и где он сказал: в конце октября 1983 года в Вестминстерском колледже, в Фултоне, штат Миссури, где в 1946 году выступил Черчилль, положив своей печально известной речью начало «холодной войне». Рейган наделил Кейси значительно большей властью, чем когда-либо обладал до него директор ЦРУ. Он — член кабинета, главный советник президента по секретным операциям и координатор всех американских спецслужб, насчитывающих десятки тысяч агентов и располагающих бюджетом в миллиарды долларов. В его распоряжении спутники для съемок из космоса, станции радиоперехвата, ЭВМ. Так президент, который призывал «сбросить правительство с наших спин», вместо этого принял меры по усилению правительственного контроля за своими гражданами и по использованию ЦРУ для поддержания внешней политики своей администрации. Рейган разрешил операции ЦРУ в США, «если целью такой деятельности служит сбор разведданных о другой стране», лишил своих сограждан законных прав добиваться изменения законов путем мирного обращения к правительству тем, что поставил под сомнение их лояльность. Отныне снова становилось возможным на средства ЦРУ рекрутировать осведомителей и засылать их в организации даже до установления «криминальной активности» для того, чтобы «своевременно» собирать информацию о группах и отдельных лицах, не находящихся под следствием, но потенциально опасных, в какой-то момент способных оказаться в разряде «подрывных».
1 См.: „Der Spiegel", 1984, n. 1, Jan., S. 96.
2 Ibid., S. 95.
Свобода слова, презумпция невиновности, правовая защита граждан от нелегальной слежки и арестов совершенно игнорируется теперь этими правилами. Они стали драматическим свидетельством отступления демократии, проявлением, как писали в США встревоженные либералы, недоверия правительства к своему народу...
Вот и ответ критику, справедливо возмущавшемуся десять лет назад появлением картин с «безжалостным мстителем, все меньше и меньше заботящимся о законности». Дэвид Дэнби на страницах журнала «Харпере» тогда вопрошал: «Как мог такой сукин сын, фигура, действия которой начисто лишены всякого благородства, как мог он стать одним из популярных героев массовой культуры?» А десятилетие спустя в книге «Дружелюбный фашизм», написанной в „начале 80-х годов профессором политических наук Нью-Йоркского университета Бертрамом Гроссом, рассмотрен один из возможных путей развития Америки, на котором такие «сукины сыны» не только мыслимы, но и необходимы. «Избыток демократии», «слишком много свободы» мешают ультраправым, видящим в сильном репрессивном аппарате путь к «наведению порядка в стране». Прослеживая неуклонную консолидацию сил правых в современном американском обществе и их нежелание приспосабливаться к меняющимся внутренним и внешним условиям, Б. Гросс указывает на опасную правоэкстремистскую тенденцию вырождения буржуазной демократии в разновидность скрытого «дружелюбного фашизма», основанного на власти анонимных олигархов, управляющих с помощью искусной обработки умов, тоталитаризма, путь к которому прокладывают Калагэны. «Дружелюбный фашизм» американского типа, — сказано в книге, — можно определить как общество наркоманов, движимое сексом, где господствует увлечение психотерапией и культами»1.
Таким образом, к тоталитаризму ведут и городские вестерны, и картины, распространяющие религиозный фанатизм, сексуальную распущенность, другие формы социально-политической наркомании, которые стимулируют всякое массовое поведение, «направляют социальную напряженность по безопасным каналам и тем самым способствуют подчинению населения растущей власти безликой олигархии»2. Б. Гросс подчеркивает, что в усилении угрозы демократии в США особую роль играет современная монополизированная индустрия духовного производства: «Контроль над умами путем манипулирования информацией стал столь же важным, как и терроризм, пытки и концлагеря. В условиях современного капитализма манипуляция информацией стала изощренным искусством и быстро прогрессирующей наукой» Нетрудно убедиться, что замечание это в полной мере относится и к кинематографу...
ЛИКИ КОНСЕРВАТИЗМА: ПРОТИВ «БОЛЬШОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»
В лучших картинах 70-х годов, которые в совокупности дали, может быть, впервые в американском искусстве столь впечатляющую и развернутую панораму поразившего страну кризиса, есть одна особенность. Читатель помнит эти остро критические, социальные картины — «Крестный отец», «Серпико», «Телесеть», «Уловка-22», «Нэшвилл», «Вся президентская рать» и некоторые другие, которые за короткий период высоко подняли уровень и престиж американского кино. Особенность, которую мы имеем в виду, заключается в том, что разоблачительный пафос этих действительно в большинстве случаев выдающихся произведений направлен в необычную для голливудского буржуазного кинематографа сторону.
Прогрессивное американское кино и раньше знало взлеты социальной критики, но мишенью ее всегда служили отдельные негодяи, «плохие парни» в полиции, в правительстве (в семье не без урода): американец с детства приучен, что за властью нужен глаз да глаз. Сама же система общественных отношений, институтов и общество в целом оставались неприкосновенными для критики. Ныне, а точнее, с того момента, как резкое обострение противоречий капитализма вызвало спазмы экономики, выявило неспособность правительства управлять общественными процессами, критические стрелы изменили направление и понеслись в сторону самих институтов. Вернее сказать, в сторону тех институтов «общества всеобщего благосостояния», которые в глазах «средней Америки», прежде всего белого рабочего класса, себя к этому времени так или иначе скомпрометировали. Тем более что такое общество и раньше не нравилось «твердому американскому индивидуалисту», всегда полагавшему, что основой социальной организации является свободный индивид, руководствующийся принципами рыночной конкуренции.
Страна, израсходовавшая весь наличный фонд либерально-реформистских идей, переживала период упадка духа, время болезненно-критического самоанализа, доходящего до публичного самобичевания. Провалы во внутренней и внешней политике были, конечно, очевидны. И критикой правительства тогда, в середине 70-х годов, занимались все: бедные — за нужду, богатые — за растущие налоги, левые — за робкую половинчатость реформ, правые — наоборот, за их чрезмерность, «голуби» — за начатую во Вьетнаме войну, «ястребы» — за проигранную. Подавленные неэффективностью предложенных социальных программ, утопленных в бюрократических излишествах, иные либералы теперь переходили в лагерь неоконсерваторов. В лагерях либералов и консерваторов возникла неразбериха. Например, те, кто отвергал аборты и моральные эксперименты молодежи, считались по-прежнему консерваторами, но они же зачастую выступали и против агрессивной политики США в Центральной Америке, что, согласно старым стандартам, было частью позиций либералов. И наоборот.
Путаница нарастала, как разрасталась и общая масса недовольных. Время требовало от идеологов хоть какой-то, но ясной программы. Традиционная база консерватизма в США — средние слои, то есть более или менее обеспеченные американцы, в полной мере ощутили на себе снижение темпов экономического роста, последствия структурного кризиса экономики. Если в 60-е годы средние слои были восходящей частью населения, то в 70-е они уже исчерпали резервы экономического роста, их численность и положение в социальной структуре США стабилизировались, а с какого-то момента по основным параметрам (доходы, образ жизни, образование) уровень стал снижаться. Отсюда — острое субъективное ощущение недовольства. «Молчаливое большинство» быстро превращалось в «недовольное большинство». А это как-никак — основной костяк общества. По официальной статистике к началу 80-х годов доход, превышавший средний уровень, имели в США 54 процента семей. В этот пестрый конгломерат входили и верхушка рабочего класса, и мелкие собственники, и «белые воротнички», и служащие, и работники сферы обслуживания, и фермеры — словом, все, кому неплохо жилось в период «просперити» и кто в первую очередь пожалел, что эти времена прошли. Они не боролись за гражданские права в 60-е годы, косо смотрели на студенческое, антивоенное «активное меньшинство» и всегда испытывали более или менее скрытую неприязнь к контркультуре. Однако, пока их собственное благополучие казалось им незыблемым, они помалкивали, лишь враждебно косясь на «эксцессы демократии» внизу и реформы «великого общества», осуществлявшиеся либералами сверху. Когда же противоречия капитализма привели, невзирая на «новый курс», проложенный Ф. Рузвельтом после «великой депрессии», к снижению темпов роста и кризису 70-х годов, началась так называемая радикализация средних слоев, послужившая неоконсерваторам сигналом для поворота политического курса страны вправо.
Радикализации в политике предшествовали в общественной психологии подхваченные массовой культурой приступы параноидального страха, мистически оформленного ощущения катастрофы, к чему вскоре прибавилась щемящая ностальгия по прошлому. Выведенное из равновесия, встревоженное общественное сознание металось в поисках «козлов отпущения», виновников всех этих неприятных для США перемен. Те, кто называл себя в это время консерваторами, предложили свое понимание таких главных проблем США, «как нарушение в период после первой мировой войны гармонических отношений между государством и обществом в результате подрыва таких промежуточных неполитических институтов, как семья, локальная община, церковь и т. д., которые якобы препятствовали государству нарушать «плюрализм» общественной жизни». Тогда, в 70-е годы, массовая аудитория, собственно и состоявшая из средних слоев, с энтузиазмом приняла социально-критические, разоблачительные картины — «Дуэль», «Уловка-22», «Кто-то пролетел над гнездом кукушки», «Разговор», «Вся президентская рать». На том обстоятельстве, что критический импульс в американском кино обретал все более политически определенную, консервативную направленность, внимание не акцентировалось. А между тем художники, понимали они это или нет, целились в одну мишень — в огосударствливание общественных процессов, в чрезмерно разросшееся и бесконтрольное бюрократическое госуп-равление. Здесь индивидуалистическому сознанию, быстро потерявшему веру в обещания творцов «государства всеобщего благосостояния», мерещился призрак коллективизма, социализма, тоталитаризма. Неразрывность этой пугающей американского обывателя «троицы» старательно утверждалась консервативными идеологами, обращавшимися ныне к широким кругам того самого «недовольного большинства», в психологии которого вновь ожило понимание свободы лишь в плане индивидуальной независимости от «институциональных организаций». Будучи приверженной традиционному американскому индивидуализму домонополистических времен, «средняя Америка» давно накапливала раздражение против либеральнотехнократических проектов государства «всеобщего благосостояния», перераспределяющего «ее» богатство в пользу неимущих. Советские ученые, изучающие консервативные типы американского общественного сознания, отмечают: «Эволюционные процессы в рамках одного и того же буржуазного уклада, выразившиеся в переходе от саморегулирующегося рынка к государственному регулированию экономики при помощи политических механизмов, рассматриваются этим типом сознания как радикальная смена формаций, которая, в свою очередь, расценивается как безусловный социальный и моральный регресс человечества. Ставший исторически неизбежным для капиталистической формации переход от рыночного к этатистскому регулированию воспринимается... как переход от свободы к тирании, от капитализма к «конфискационному социализму»1.
В той социальной среде, где подобный взгляд на действительность скорее был правилом, нежели исключением, прежде всего отмечался рост децентралистских и так называемых антиэтатистских (то есть направленных против усиления полномочий государства) настроений. Здесь приветствовались лозунги возврата к свободнопредпринимательскому капитализму, здесь с неподдельным энтузиазмом выступали против «насильственного вторжения правительственной бюрократии в спонтанную деятельность» индивида и частного предпринимателя, в неприступную крепость его семьи и соседской общины. Вот и вышло, как писал Маркус Раскин, один из основателей либерального Института политических исследований в Вашингтоне, что «сбитые с толку инфляцией и безработицей и не способные контролировать деятельность корпоративной системы, многие люди обратили свое недовольство против правительства. Правые же нашли пути, как превратить социальное недовольство в кровную месть людей своему обществу... заставив их выступить против наиболее гуманных достижений предыдущего поколения» (имеются в виду либерально-реформистские идеи общества «всеобщего благосостояния» и государственные программы социального вспомоществования)1.
Одним из первых заметных выступлений такого рода был референдум 1978 года в Калифорнии, в котором проявила себя политическая воля «средней Америки», страдавшей от все возраставших налогов. Референдум огромным большинством поддержал так называемое «Предложение № 13», предлагавшее сократить местные налоги на недвижимое имущество. Результаты референдума имели большой общественный резонанс, вызвали по всей стране в средних слоях открытую поддержку калифорнийскому протесту против «чрезмерных трат правительства», породив «антиналоговый бунт», который стал знаменем консервативных выступлений в тот период.
Социологи и политологи всех политических ориентаций фиксировали повсеместное распространение в массах разочарования в политике и в политических лидерах, стихийный рост всеобщего недоверия к представителям власти да и ко всем основным институтам общества начиная от системы образования, армии, полиции и кончая правительством и даже крупными корпорациями. Государство в глазах общества оказалось несостоятельным как регулирующая сила. Лишая «твердого индивидуалиста» свободы, его священного права распоряжаться капиталом, своей судьбой, оно оказалось при таких жертвах не способным хотя бы сохранить достигнутый ранее уровень достатка и стабильность всей системы.
Одним из первых в «новом» Голливуде уловил пробивающееся антиэтатистское русло социальной критики молодой Стивен Спилберг. Впрочем, он тогда еще не был причастен к большому кинобизнесу и подрабатывал после киношколы на телевидении. Там он и снял небольшой, с одним актером, но весьма многозначительный своей символикой телефильм под названием «Дуэль». Дитя американского пригорода, сабурбии2 Нью-Джерси и Аризоны, где в новеньких коттеджах с палисадником живет «средний класс» Америки, Спилберг хорошо знал его психологию и его тревоги в это беспокойное время. Афористически кратко и точно выражает он душевное состояние подавленности, в котором пребывала неустойчивая среда мелких клерков и бизнесменов, в образе жалкого, припертого к стене житейскими неурядицами,
1 “The Nation”, 1980, vol. 230, n. 19, 17 May, p. 587.
2 Сабурбия — богатые пригороды, выросшие вокруг загазованных и перегруженных центров больших городов.
нескончаемым конфликтом с женой, презрением собственной дочери и неприятностями на работе маленького человека с общезначащим именем Манн. Он мчится по шоссе за рулем своей малолитражки и уже с утра, по дороге на работу, которую он, как ему мерещится, вот-вот потеряет, полон разных дурных предчувствий. А тут еще этот грузовик! Во власти раздражения он сразу воспринимает как своего врага надоедливый допотопный грузовик величиной с дом, который все время маячит у него перед носом и застит горизонт пустынного шоссе. И, оказывается, не зря. Автомонстр без всяких причин вдруг атакует малолитражку. Оц сталкивает ее с шоссе, загоняет на переезд под колеса проносящегося мимо безучастного поезда, толкает с моста, пока сам по чистой случайности не слетает на бандитском вираже в пропасть.
Вот, собственно, и весь этот вызвавший восторги критики 70-минутный фильм. Но он сразу принес ему, двадцатитрехлетнему новичку, мировую известность. Впрочем, не совсем сразу, так как метафору правильно прочла и высоко оценила сначала интеллектуальная элита Англии. Здесь после показа по телевидению его решили пустить в прокат по кинотеатрам. И не ошиблись: только в Европе он дал отличные сборы в 6 миллионов долларов.
Снятый без коммерческих расчетов, аскетически простой и дешевый — лишь с одним актером и двумя автомашинами на шоссе, он, как и все первые работы членов клана Копполы, метафоричен и многозначителен в стиле лучших европейских мастеров. «Дуэль» Спилберга — фильм авторский. Он заметно отличался от привычного для американцев дорожного фильма-погони, где зрителю сразу ясно, кто за кем гонится и с какой целью. Спилберг заставлял задумываться над беспричинностью и иррациональностью дуэли грузовика и легковушки на бесконечной ленте автобана. Над безлюдностью дороги и безучастностью редких свидетелей. Над дьявольской невозмутимостью и безмолвностью загадочного хозяина автомонстра, которого так и не суждено увидеть ни зрителю, ни несчастному, потерявшему самообладание Манну. Над судьбой и характером маленького человека большой и равнодушной к нему Америки. Человека, о котором сам режиссер сказал, раскрывая свой замысел: «Герой «Дуэли» — типичный представитель «низшего среднего класса», изолированный в своей модернизированной сабурбии. Это человек, который не готов к проблемам серьезней, чем вызов мастера для ремонта своего телевизора» 1.
Спилберг в «лабораторных условиях» воспроизвел состояние душевной неуравновешенности и страха потерявшего уверенность и бойцовские качества индивидуалиста — маленького человечка из «среднего класса» в современной бюрократической системе госмонополистиче-ского капитализма. Да так точно, что его очень эмоционально восприняли многие узнавшие себя зрители — как те, кто разделял левые, оппозиционные взгляды, так и те, кто лишь ощущал смутную, экзистенциальную тревогу по поводу угрожающей личности репрессивной силы бюрократических институтов, отнимающих у нее традиционные индивидуалистические ценности — свободу выбора, инициативность, предприимчивость, способность постоять за себя. Режиссер не исследовал социальные связи и закономерности общественного развития, ответственные за сложившееся положение, не искал вины ни в самом герое, ни в обществе. С него довольно было правильно уловить и точно передать весь этот социальнопсихологический комплекс кризисного сознания.
Думал ли тогда двадцатитрехлетний режиссер, что он вступает своим скромным дебютом в большое кино и в большую политику? Вряд ли его амбиции простирались так далеко. И тем не менее в «Дуэли» откристаллизовались в лаконичный и близкий американцу автомобильный образ неясные ощущения страха и беспомощности перед анонимными силами, наступающими на свободу и самую жизнь миллионов людей.
Начинающий режиссер сразу получил множество предложений, но, будучи связанным семилетним контрактом с отделом по производству телефильмов студии «Юнивэрсл», вынужден был продолжать работать в текучке большого студийного хозяйства. И лишь в 1974 году ему удается с помощью независимых продюсеров Ричарда Занука и Дэвида Брауна склонить «Эм-Си-Эй» и подчиненную ей «Юнивэрсл» к осуществлению нового антиэтатистского замысла (с «анархическим душком», как считал могущественный Вассерман, один из директоров «Эм-Си-Эй») — снова дуэли маленького человека с властью, дорожного фильма-погони «Прямо в Шугар-лэнд».
1 Цит. по кн.: Rye М., Myles L. The Movie Brats. London — Boston, Faber & Faber, 1979, p. 224.
Здесь небезынтересно обратить внимание на эволюцию самого Спилберга как художника, напавшего в какой-то мере случайно на «золотую жилу» успеха. Раз и навсегда избрав своей судьбой в кино охоту за рынком, то есть за вниманием и долларами не бунтарских малочисленных групп студентов и либералов, а его основной массы, сердцевины — многомиллионного «недовольного большинства», он старался раньше и точнее других угадать очередной зигзаг его умонастроений, не очень при этом политизируя кино и по возможности не раздражая тех же студентов и либералов декларативным провинциальным консерватизмом. Умение следовать за аудиторией есть важный признак профессионализма, и Спилберг, закрепляя и развивая свой успех, упорно ищет место своему «забытому» американцу по мере нарастания в стране антиэтатистских настроений. Генератором этих настроений все очевидней становились весьма активные «новые» правые — разнородные консервативные группировки, внедрявшие новый метод обхаживания избирателей, так называемый «direct mail», то есть рассылку писем по миллионам адресов, сохраняемых в памяти компьютеров вместе с краткими характеристиками политических взглядов. Работа велась настолько серьезная, что не замечать всеобщей политической возбужденности, направления намечавшихся перемен художник, ищущий стремнину, не мог. В искусстве и по течению плыть не просто.
Спилберг мог и не знать деталей борьбы за кулисами политической сцены. И скорее всего, не знал. Однако он не мог не чувствовать оживления в «средней Америке» популистских настроений, поднимавших недовольных разрастанием и активностью государственного аппарата на «крестовый поход» против бюрократии (вспомним хотя бы лозунг «Человек против машины!», который в 1976 году привел фермера из Джорджии Джеймса Эрла Картера в президентское кресло). Как истый американец Спилберг понимал свободу только в смысле независимости от общественных институтов и разделял ностальгические симпатии своих соотечественников к традициям провинциальной жизни, где задают тон семья, церковь, община. И в своем первом голливудском фильме он эти симпатии постарался проявить. Понимая, что интеллектуальный европейский язык его первой картины — не для грубоватого и простоватого американского обывателя, он упростил художественные средства и приблизил сюжет к фермеру из Техаса, к рабочему с окраины Питтсбурга.
В фильме «Прямо в Шугарлэнд» уже не чувствуется никаких сомнений, зато в нем много действия, все конкретно и по-житейски понятно. Его герои — лишенные бездушным судом родительских прав за легкомысленное поведение молодые супруги из «низшего среднего класса». Они вступают в открытую и безнадежную схватку с репрессивными органами власти — полицией. Лихо похитив патрульную машину вместе с дежурным полицейским, они направляют ее через весь Техас к своему отнятому законом ребенку, вызывая своим отчаянным поступком всеобщие симпатии у простых жителей американских городков, мимо которых несется вся компания: «террористы» на угнанной машине с пленным блюстителем порядка и шумная погоня, сопровождаемая вездесущим телевидением. Режиссер как бы призывал и зал отдать свои симпатии ущемленным властью родителям, несмотря на то что отец был бежавшим из тюрьмы мелким уголовником, а мать — женщиной сомнительной репутации. Здесь был точный расчет: в конфликте безрассудных (родительских же!) чувств и бездушной полиции недовольный властью американец должен был оказаться на стороне чувств.
Спилберг, таким образом, рассчитывал использовать энергию гражданских чувств зрителей, наделяя уголовный сюжет социальным антагонизмом. Он верно уловил рост социально-политической поляризации: растущую враждебность рядового американца к властям, к «высшему среднему классу», к всесильному большому бизнесу, к проискам «красных» и т. д. Не случайно на вопрос корреспондента журнала «Тэйк уан», считает ли он свой фильм политическим, Спилберг ответил не задумываясь: «Да, в высшей степени». Его героиня бунтует против респектабельных буржуа и той репрессивной машины, которая их охраняет, — закона, суда, полиции. Лу Джин (эту своевольную красавицу уверенно играет Голди Хоун), собственно, и подбивает своего мужа, досиживавшего в тюрьме последние дни, бежать из заключения, чтобы немедленно вернуть дочь, отобранную у нее судом и отданную на воспитание в «приличную» семью подальше от подающей дурной пример матери.
Как пишут М. Рай и Л. Майлс, «Спилберг нигде не смягчает классовую позицию своей героини и определенность альянса полиции, опекунов ребенка из «высшего среднего класса» и властей, всех вместе противостоящих ей» Фильм не позволяет сомневаться: «Вызов, который бросила Лу Джин системе, — вот что побуждает людей маленьких городов Америки выходить на улицу и выражать свое одобрение беглецам, захватившим полицейскую машину»х. А те, кто на стороне полиции, между тем ощериваются ружейными стволами из своих окон. И их в провинции, дает понять Спилберг, немало. Вооруженные добровольцы известной в США забавы — охоты на черных и «красных», — они носятся по улицам на машине с красноречивым лозунгом: «Регистрируйте коммунистов, а не владельцев оружия!»
Да, это тоже они, «забытые» американцы Джорджа Уоллеса и Барри Голдуотера, те самые, кто по уровню благосостояния причислял себя к «среднему классу», но впадал в панику при первых же признаках надвигающегося кризиса и ожесточался против «бездельников и тунеядцев», которых правительство кормит за счет работающего в поте лица настоящего преуспевающего, надеющегося на самого себя американца. В стране, когда снимался этот фильм, свирепствовал тяжелейший со времен «великой депрессии» кризйс. И «средний класс» Америки, ее «молчаливое большинство», обеспокоенное всерьез своим собственным экономическим положением, уже не испытывало сочувствия Лу Джин и ее мужу, деклассированным возмутителям спокойствия. Наоборот, теперь оно видит в героях Спилберга не жертв социальной несправедливости, а угрозу своей собственной безопасности, разрушительную стихию анархии. Более того, эту среду уже охватывает чувство возмущения «эксцессами демократии», прямо пугает наступление «демократического деспотизма».
Таким образом, фильм, который критики впоследствии считали наиболее живой и интересной работой Спилберга, отразил противоречия правопопулистского сознания, входившего в силу к середине 70-х годов. Отразил и... потерял зрителя. Почему? Видимо, потому, что Спилберг, как и его родной «средний класс», не знал, кто его враг, куда должна быть направлена энергия протеста. В результате фильм «не выстрелил». Во всяком случае, его продюсеры признавались, что стали в тупик при разработке рекламной идеи и символики фильма: «Мы не могли найти никакого визуального образа или идеи, которые бы выражали в рекламе то, что представляет собой эта картина»2.
1 Rye М., Myles L. The Movie Brats, p. 230.
2 Ibid., p. 231.
Спилберг поразмышлял над прокатными итогами своей работы и решил — от греха подальше — отойти от политики. Но при этом не потерять путеводную нить к «золотой жиле». Напомним, что «золотой жилой» Голливуда был уже апробированный на экране чистый страх, абстрактное ощущение гнетущего напряжения, тревоги, отчаяния..Цепкое воображение художника искало кинематографические образы угрозы, нависающей над человеческим существованием, пока не привело его к фильму-катастрофе «Челюсти». Баснословный успех картины закрепляет за ним репутацию одного из владык «нового» Голливуда.
Этими владыками, или «шустрыми», как их называла американская критика, восхищенная стремительным восхождением к богатству и славе молодого поколения режиесеров-«звезд», принято считать Фрэнсиса Форда Копполу, Джорджа Лукаса, Стивена Спилберга, Брайана Де Пальму, Джона Милиуса, Мартина Скорсезе, пришедших в Голливуд в начале 70-х годов. В целом отличительной чертой этого Поколения служит способность угодить раздробленной и возбужденной аудитории, раньше публики понять, что у нее болит и какого лекарства — горького или сладкого — она хочет. Тянет общественную жизнь к политике — вот вам, пожалуйста, политический триллер. Мучается общественное сознание «вьетнамским синдромом» — Коппола бросает все свое состояние на «Апокалипсис сегодня». Устал народ от неразрешимых проблем, запахло в воздухе «моральным возрождением» — у Копполы уже готов фильм о семейном счастье.
Некоторые в этой погоне за аудиторией преуспели настолько, что выработали свой особый стиль творчества, требующий отказа от собственного мировоззрения. Его секрет заключается в двойственности позиций «шустрых» режиссеров, позволяющей им, если удастся, угодить всем сразу: «ястребам» и «голубям», «новой морали» и «моральному большинству», верующим и атеистам. Й все это — на очень высоком профессиональном уровне. Нам еще не раз придется столкнуться с подобным творческим методом.
Общественная атмосфера в Соединенных Штатах между тем накалялась. Хотя президент Р. Никсон еще на рубеже 70-х годов утверждал, что «процесс федеральной экспансии уже прошел свой пик» и пришел час «вернуть власть самому народу», его президентство, как известно, получило репутацию «имперского»: при нем вырос вдвое штат Белого дома, возросла секретность действий административного аппарата, а сам президент приобрел исключительно большое влияние на различные федеральные ведомства. Имперские тенденции Никсона настолько встревожили всех, даже элиту, что «Уотергейт» в той или иной форме был неизбежен.
Бще продолжалось сенсационное уотергейтское расследование преступных действий высокопоставленных должностных лиц из администрации Никсона, тайно вредивших перед выборами конкурирующей демократической партии путем рассылки фиктивных писем, шпионажа, подслушивания, когда на экраны вышел уже упоминавшийся нами болезненно мрачный детектив Фрэнсиса Копполы «Разговор». Он рассчитанно подхватывал всеобщий страх, нагоняя ужас на обывателя созданной на экране атмосферой загадочных убийств и тотального подслушивания. От своей работы в частной конторе электронного сыска и сходит в конце концов с ума главный герой, большой специалист по установке и эксплуатации электронных устройств. А Коппола получает премию Каннского кинофестиваля за актуальность темы, выступая смелым критиком государственного сыска. Но репутации опасного вольнодумца, подрывающего основы общества, ярлыка «красного» он при этом избегает.
Страна уже знала о существовании специальной картотеки директора ФБР Гувера, в которой хранились тысячи досье, содержавшие в высшей степени провокационную информацию, способную подорвать репутацию многих влиятельных политических деятелей США. Поэтому и обречен был на успех роман Роберта Ландлэма «Рукопись Ченселора», увидевший свет в 1977 году1, в головоломном лабиринте убийств которого очень правдоподобно, в документальном стиле была показана механика использования этих досье в тайных политических целях. Мог ли пройти мимо такой соблазнительной фактуры Голливуд? Ларри Коэн по своему сценарию в том же 1977 году снимает фильм «Частная картотека Эдгара Гувера». В нем, подделываясь под документальный стиль, он изображает пользовавшегося всегда и особенно сейчас дурной репутацией первого полицейского США психически ненормальным параноиком, мстительным пуританином, преследующим своих подчиненных за чтение легкомысленного «Плейбоя». Американцы увидели Гувера «за работой» — в темноте одинокого кабинета, с бутылкой виски, за прослушиванием очередной магнито-записи любовного свидания того или иного государственного деятеля. Как фильм Коэна, так и роман Ландлэма стращали зрителя всесилием секретных служб, посягающих на гражданские права рядовых американцев, превращенных в объект манипулирования.
На протяжении всего десятилетия продолжались сенсационные разоблачения в прессе — публиковались сведения о заговоре ЦРУ с целью убийства президента Кеннеди, материалы о планах покушений на Кастро, Лумумбу и Каддафи, о тайном финансировании оппозиционных сил в ряде стран, скандальные данные о причастности ЦРУ к фашистскому путчу в Чили, секретные документы Пентагона о закулисных махинациях правительства во время войны во Вьетнаме, выдержки из секретных докладов о существовании общенациональной системы подслушивания частных телефонных разговоров и слежки за частными лицами, и так далее и тому подобное. Все это потому и стало просачиваться в печать, что было камнями в огород «ползучего тоталитаризма» корпоративного государства, пусть даже пущенными рукой не консерваторов, но уж зато направленными ими в нужную сторону.
Именно из этих источников и пополнялись сюжетные запасы американского политического кинематографа. О чем бы ни были картины: о захвате террористами пусковых шахт для ракет с ядерными боеголовками, как в «Последних проблесках сумерек» (1977) Роберта Олдрича, или о заговоре с целью политического убийства, как в «Принципе «домино» (1977) Стэнли Креймера, об уничтожении Центральным разведывательным управлением своих же работников, узнавших слишком много, как в «Трех днях Кондора» (1975) Сиднея Поллака, или о вооруженной операции с целью ликвидировать следы «летающей тарелки», как в «Ангаре-18» (1980) Джеймса Конуэя, — все они запечатлевали в памяти зрителя неприятные ощущения от соприкосновения с политикой и политиками. Государственная власть все настойчивее представала в глазах нации тиранией за спиной народа, Левиафаном, коварно разрушающим демократию, традиции, попирающим свободу и «естественные права» человека.
В 1976 году, в год президентских выборов, когда Джимми Картер завлекал на свою сторону избирателей репутацией «своего парня», непричастного к большой
политике и большому бизнесу, апофеозом негативного отношения к «имперскому» президентству и политиканам из Белого дома оказался уже упоминавшийся фильм «Вся президентская рать» Алана Пакулы, уголовнополитическая хроника «Уотергейта». Он стал существенным элементом избирательной кампании Картера, символом всего того негативного, с чем обещал покончить кандидат демократов. Трудно найти более классический пример для иллюстрации механики использования господствующей идеологией критического потенциала искусства в охранительных целях. Как писал тогда рецензент леворадикальной газеты «Гардиан»: «Новый» буржуазный патриотизм — в отличие от патриотизма старого — превращает в добродетель те несчастья капитализма, которые нельзя скрыть»1.
В самом деле, факт изгнания президента США за политические махинации из Белого дома был превращен в общественном сознании из несмываемого позора всей политической системы в утверждение прочности этой системы, в торжество буржуазной демократии. И все это благодаря несложному политико-эстетическому трюку — преувеличению «подвига» начинающих журналистов из «Вашингтон пост» как психологически (риск жизнью во имя общественных интересов!), так и политически (смелость «независимой», «свободной» американской прессы, поднявшей руку на Белый дом!).
Пресса действительно набрала большую власть во времена борьбы за уход американских вооруженных сил из Вьетнама. Печать и телевидение, что было тоже известно, раздражали Никсона, не умевшего ладить с журналистами, и эта скрытая неприязнь прессы к президенту совпала с общими выступлениями в защиту буржуазной демократии. Однако широкой публике было невдомек, что решение об участии респектабельной буржуазной газеты «Вашингтон пост» в расследовании связей взломщиков, взятых в отеле «Уотергейт», с чиновниками Никсона было принято не смелыми защитниками общественных интересов, работавшими в этой газете, а за ее пределами, равно как и за пределами фильма, — в тайных штаб-квартирах «истэблишмента», который подготавливал к тому времени крутой поворот политического курса. В те тайные планы была посвящена (и то, может быть, не полностью) только хозяйка газеты, миллионерша
Катрин Грэхэм. Но вот об этом и в книге и в фильме — ни слова.
Разоблачительный заряд фильма «Вся президентская рать» был направлен на выполнение других, более прикладных идейно-политических задач: во-первых,
фильм помогал консерваторам, развертывавшим атаку на «большое» правительство, ибо для них по-прежнему главной целью оставался демонтаж «государства всеобщего благосостояния», чтобы развязать руки частному капиталу. Во-вторых, он укреплял веру в «диффузию власти», в буржуазную демократию, где пресса защищает народ. В-третьих, как доказывал консервативный политолог Кевин Филлипс, «Уотергейт» расчищал путь к избавлению от тягостного «вьетнамского синдрома», принося в жертву президента, имя которого прочно ассоциировалось с этой, мягко говоря, непопулярной войной.
В 1979 году Хэл Эшби в разгар политической борьбы двух партий за место в Белом доме показывает бессилие и никчемность центрального вашингтонского правительства в жанре гротеска. «Оказаться на месте» — фильм, в котором вершители политики Соединенных Штатов настолько теряют ориентацию в политическом пространстве, что хватаются за соломинку: их советником становится принятый ими за пророка случайно попавший в дом финансового воротилы, друга президента США, недоумок-садовник. Он — дитя телевизора, не умеющее ни читать, ни писать. Работая в саду, он вообще ни разу в жизни не выходил из хозяйского участка, живя на всем готовом. Пророчествуя, он становится теперь как бы оглупленным американским вариантом Распутина: бессвязные слова этого полуидиота ловят, затаив дыхание, сильные мира сего, силясь отыскать в его бреду путеводную звезду Америки. Десятки профессионалов большой политики, сотни искушенных политических обозревателей, миллионы телезрителей завороженно смотрят в рот этому чудаку, не ведающему, что он стал оракулом крупнейшей в истории человечества империи. Надо видеть этот коллективный портрет властвующей элиты, чтобы оценить уничтожающую сатиру, с которой автор живописует ее хилый интеллектуальный потенциал, ее растерянность.
Характерно, что поток картин, обыгрывающих анти-этатистские настроения публики, не прекратился и в 80-е годы при новой консервативной администрации Белого дома, добившейся победы над либералами. Проводя в жизнь свою программу сокращения государственного вмешательства в экономику и в другие сферы общественно-политической жизни, пришедшие к власти консерваторы продолжали поддерживать риторику о перестройке административных органов с целью их оздоровления, повышения эффективности, ликвидации бюрократических извращений. Потому и кинематографисты смело продолжают наращивать эту цепь антиэтатистских картин о правительственных заговорах и злоупотреблении властью, прибавляя в 80-е годы к «Принципу «домино» и «Ангару-18» «Протокол» (1981), «Уикэнд Остермана» (1982) и так далее.
Взять хотя бы режиссерские поиски Джеймса Конуэя. В 1977 году он снял «Заговор против Линкольна» — исторический фильм об убийстве выдающегося президента Соединенных Штате®, фильм, о котором газета «Лос-Анджелес тайме» писала с известным раздражением: «В эпоху, когда недоверие к правительству распространилось повсюду, фильм извлекает доход из цинизма зрителей, играя на очевидных параллелях между прошлым и настоящим» Раздражение, впрочем, было вызвано и заметной небрежностью автора в изображении исторических событий и низким художественным уровнем произведения, перегруженного путаными комментариями.
Но самого Конуэя обнаруженные им исторические параллели вывели в 1980 году на еще один антиэтатист-ский фильм — «Ангар-18». Уже в жанре политической фантастики он ополчается против безответственных, корыстолюбивых чиновников верхнего эшелона власти. Этот «смелый» фильм (как и символические «жесты» Картера вроде пешей прогулки от Капитолия к Белому дому, остановки на ночлег у рядовых граждан, прощения «дезертиров» вьетнамской войны) был направлен на создание иллюзии демократизации общественной жизни — иллюзии все более необходимой по мере того, как становилось ясно, что ослабление государственной власти — это опасная игра. При Рейгане государственные институты действуют в обычном режиме, если не еще активнее, что объясняется всеобщей политизацией общественной жизни и обострением внутриполитических проблем, требующих радикальных и болезненных решений в масштабах всей страны.
Именно поэтому прежняя антиэтатистская тема в 80-х не исчезает с экранов, но все более коммерциализуется. То есть собственно политический материал отступает дальше и дальше на второй план, уступая место изобретательно закрученной интриге, таинственным злодеям, маниакальным преследованиям. За нее берутся такие мастера мрачных «фильмов ночи», как Брайан Де Пальма, способный наследник «короля» «фильмов ужасов» Альфреда Хичкока. Чего стоят намерения режиссера и на кого рассчитан фильм «Прокол», можно судить по его началу: с темной улицы камера тайком заглядывает в освещенные окна женского общежития, как будто кто-то подсматривает, как девушки раздеваются, как устраиваются в постель с мужчинами. Кто-то из них, поймав чужой взгляд из темноты, вскрикивает от испуга. А камера между тем проникает в коридор общежития, крадется вдоль комнат, пробирается в ванную, где за занавеской видна фигура обнаженной девушки, чья-то рука в черной перчатке отдергивает занавеску, раздается страшный визг и... киномеханик выключает проектор.
Собравшиеся в зале члены съемочной группы деловито обсуждают, достаточно ли впечатляюще звучит на экране визг. Они пробуют другие варианты, остаются неудовлетворенными, прощаются и расходятся по домам. Позже всех выходит на ночную улицу звукооператор. Через плечо у него кофр с аппаратурой. Остановившись неприметным силуэтом на мосту, он достает из кофра сверхчувствительный микрофон и начинает записывать звуки ночи. Вот тут-то и попадает ему на пленку кроме обычных шепотов спящего города хлопок от прокола шины, который привел к падению в реку шикарного лимузина, скользившего бесшумно по набережной. Сбрасывая на бегу аппаратуру и одежду, гибкий, пластичный Джон Траволта (а именно он играет эту роль) ныряет за ушедшей на глубину машиной, видит за стеклом утопленника за рулем и живую еще девушку. Спасенную он доставляет в городскую больницу, но его оттирают от нее набежавшие невесть откуда агенты секретных служб. Он едва успевает незаметно сунуть ей бумажку с номером своего телефона. А наутро узнает из газет, что вчера ночью в результате автомобильной катастрофы утонул сенатор К., известный политический деятель. Вместе с ним погибли все сопровождавшие его лица. Свидетелей катастрофы нет. Нет ли? Оператор мчится в больницу, но там ему сообщают, что пострадавшая сбежала под утро, не оставив следов. Дома, внимательно, на малой скорости прокрутив несколько раз пленку, он обнаруживает то, что искал: два хлопка, слившихся в один. И какой-то странный всхлипывающий звук, выдающий присутствие поблизости еще какого-то участника событий. Итак, выстрел по камере автомобиля, сокрытие истинных причин катастрофы, исчезновение из больницы единственного свидетеля, а затем и погром в доме оператора, совершенный в его отсутствие неизвестными лицами, в результате чего навсегда исчезает пленка с записью звуков ночного происшествия.
Словом, перед нами политическое убийство, повлекшее за собой уничтожение свидетелей. Но в каком антураже! Ни о самом политике, на которого совершено покушение, ни о тех, кто его организовал, — ни намека. Ни слова о характере политических сил, втянутых в смертельную борьбу. Такое абстрагирование от смысла борьбы неизбежно низводит фильм с ранга политического до разряда приключенческого, несмотря на то что в основе интриги лежит убийство политическое по своей сути. До последнего момента у зрителя теплится интерес к тем, кто ведет грязную политическую игру, но он окончательно исчезает, когда на экране наконец появляется лицо одного из преследователей. Это заурядный кинематографический злодей, убивающий свою жертву одним и тем же приемом: набрасыванием ей на шею тонкой стальной проволоки, в виде рулетки скрытой в его наручных часах. Всхлипывающий звук, попавший на пленку ночной звукозаписи на мосту, и был забавой злодея, то и дело вытягивавшего ее из корпуса часов.
Столь же «политическим» делает свой невообразимо запутанный интригами триллер и Сэм Пекинпа. «Уикэнд Остермана» снят по одноименному роману уже известного нам мастера политического детектива Роберта Ланд-лэма. Начинается он, естественно, с убийства. Очаровательную женщину убивают в постели, пока ее партнер принимает ванну. Фильм сразу вводит зрителя в такое хитросплетение связей агентов, русских шпионов и двойников, что понять, на кого работала глубоко законспирированная организация «Омега», почему убита уколом шприца женщина, оказавшаяся, с одной стороны, шифровальщицей в польском посольстве, а с другой — женой агента ЦРУ по имени Фасет, как в их уютной спальне оказалась телекамера, с помощью которой за исполнением убийства наблюдает директор ЦРУ Дэнфорд, нормаль ному человеку, то есть зрителю, понять просто не дано. Не дано, но страшно. Лишь при детальном анализе проясняется суть операции, организованной руководством ЦРУ, чтобы направить собственных агентов на ложный след с целью уничтожения прогрессивного тележурналиста, готовящего разоблачение генерала Кифэра, связанного с бактериологическим оружием.
Впрочем, суть операции и здесь не важна, так как Пекинпа сосредоточивает внимание на эффектной технологии политического заговора и убийства, осуществляемого и управляемого по телевидению. Для этого в загородном доме и в саду с бассейном, где проходит злополучный уикэнд ставшего жертвой ЦРУ Остермана и его друзей, всюду установлена телеаппаратура. С экрана телевизора, то в кухне, то в туалете, то в баре, где уже гремят выстрелы, врезаются в обычные передачи команды Фасету, который вскоре сам оказывается в западне. А зрителю, окончательно запутавшемуся в этой головоломке из вымышленных врагов отечества и честолюбивых политиканов, в последний момент с экрана следует указание: соберите остатки вашей слабой воли и выключите телевизор!
Пожалуй, самым сложным для нашего понимания противоречием американского массового сознания, отразившимся в «новом» голливудском кино, оказывается его неприязнь не только к «большому правительству», но и к «большому бизнесу». Ведь неприязнь эту питают как те американцы, кто близок к реформистским социальнодемократическим идеям, так и самые правые, консервативно настроенные враги перемен. Однако тому есть, оказывается, свои исторические основания. Как отмечает в своем исследовании течений американской буржуазной идеологии советский ученый К. Гаджиев, правые, явно апеллируя к популистским настроениям, даже большой бизнес называют «заговором», подрывающим «истинно американские институты» и систему частного предпринимательства, якобы воплощенную в мелком и среднем бизнесе... Рассуждая подобным образом, «новые» правые демагогически выдают себя за сторонников ликвидации засилья монополий, «большого бизнеса» и «большого правительства»
Эти идеи опираются на двухсотлетнюю экономическую традицию свободной конкуренции домонополистического рынка и упорно игнорируют как некую аномалию и преходящее зло, с которым можно справиться, не разрушая систему частной собственности, главную историческую силу, действующую против породившего ее свободного рынка, — современную корпорацию. Сегодня, однако,
1 Гаджиев К. Эволюция основных течений американской буржуазной идеологии, с. 233.
именно сверхкрупные корпорации диктуют свои цены на рынке, сосредоточивают в своих руках сырье, манипулируют вкусами потребителей. И защитникам свободного рынка в такой ситуации приходится делать вид, что современной корпорации не существует или что «Дэкенерал моторе», «Шелл», «ИБМ», «Филипс», «ЭССО» — не что иное, как «слегка преувеличенное проявление классического атомизма рынка», и с этим преувеличением можно бороться, не посягая на основы.
Они и борются, например, публикуя в журнале «ЮС ныос энд Уорлд рипорт» публикации вроде статьи Орра Келли «Преступления американских корпораций». В ней названы ошеломительные для непосвященных цифры и факты. Например: «В последнее десятилетие 115 из 500 крупнейших американских корпораций были признаны виновными в совершении по крайней мере одного серьезного преступления или платили штрафы за серьезные нарушения законов. Среди 25 крупнейших компаний с годовым оборотом от 15 миллиардов до 108 миллиардов долларов уровень зарегистрированных правонарушений еще выше». При этом упоминаются и секретные фонды для подкупа должностных лиц, и тайный сброс химических отходов в жилых районах, и радиоактивное облучение в ядерной промышленности, и искусственное завышение цен на товары, и недоброкачественная продукция, и укрытие от налогов на многие миллионы долларов. «Как утверждают защитники потребителей, преступность корпораций дорого обходится стране — до 200 миллиардов долларов в год в результате завышения цен, загрязнения воздуха, земли и воды, коррупции государственных служащих и неуплаты налогов»1.
А кино откликается бурлескной комедией Тэда Котче-ва «Забавные приключения Дика и Джейн» (1977), в которой авторы запросто, без всякого уважения обращаются с большим бизнесом, позволяя себе шутить, как никогда раньше. Во-первых, фильм полон иронии по поводу неустойчивости материального положения «среднего класса», чья приобретенная в рассрочку роскошь исчезает так же быстро, как и появляется. Вынужденные искать средства к существованию после очередного увольнения, симпатичные и образованные супруги (их играют, как известно нашим зрителям, Джейн Фонда и Джордж Сигал) испытывают несколько способов восстановления своего благополучия, в том числе и такой оригинальный, как ограбление кассового автомата компании коммунальных услуг. Ситуация превращается в комедийную благодаря неожиданному сюжетному повороту: грабители вызывают не страх, а бурное одобрение у присутствующей при этой операции очереди плательщиков. Но чего стоит эта добыча из рядового кассового автомата в сравнении с той миллионной суммой, которую они, осмелев и войдя во вкус, вынимают из сейфа председателя совета директоров корпорации, где работал до недавнего времени Дик! Ограбление директорского сейфа бывшего начальства Дика кончается тоже комедийно неожиданным образом. Пойманным на месте преступления супругам удается унести и деньги и ноги, так как выясняется, что вынесенная ими кругленькая сумма, в свою очередь, попала к директору в результате махинаций, которые хозяин сейфа предпочитает скрыть от огласки. С обворожительной улыбкой, оставляя краденое захваченным врасплох грабителям, он предлагает Дику вернуться на работу, на этот раз на гораздо более высокий пост. Ибо, как тонко замечает облапошенный босс, «человек с такими деловыми задатками заслуживает продвижения...».
Так что особого гражданского мужества и страстной приверженности прогрессу не требовалось Майклу Крайтону, когда он в 1978 году посвятил фильм «Кома» бесчеловечному преступлению бизнеса в самой человечной области — в сфере здравоохранения. Под вывеской солидной клиники, респектабельного медицинского учреждения высококвалифицированные врачи организовали необычайно доходный бизнес по реплантации внутренних органов. Суть совершаемого при этом немыслимого по всем гуманистическим и профессиональным нормам уголовного преступления, которое и расследует бесстрашная героиня фильма, защищающая честь медицины и общественные интересы, состоит в том, что органы для пересадки берут против их воли у здоровых, тайно похищенных людей. Попал, скажем, какой-нибудь физически полноценный человек в больницу с пустяковой травмой — его объявляют умершим, а на самом деле с помощью фармакологии переводят в коматозное состояние и отправляют на хранение в большой зал — холодильник, где уже дожидаются богатых клиентов десятки таких доноров, навсегда изчезнувших для своих родных и близких из жизни.
И комедия Котчева и жуткий, почти сюрреалистический триллер Крайтона не стали чемпионами кассовых сборов, но и не пропали в прокате без следа. Оба фильма принесли студиям-прокатчикам приблизительно по 14 миллионов долларов, что несомненно и убедительно, как того требует деловой подход, свидетельствовало о распространенности в массах негативного отношения к большому бизнесу, несмотря на все усилия крупных компаний выглядеть посимпатичней.
Что еще характерно для этих критических фильмов, нападающих на «большое правительство» и «большой бизнес»? Пожалуй, то, что теперь победителями в показанной на экране борьбе смелых одиночек с могущественными политическими механизмами и силами выходят в конце концов смелые одиночки. Вспомним в связи с этим менее устрашающий, зато более художественный (значит, более внимательный к душевным проявлениям и характеру героев) фильм С. Поллака «Без злого умысла» (1981). Безуспешные поиски убийц (снова убийства!) профсоюзного лидера вынуждают полицию Флориды подсунуть прессе ложную информацию о причастности к убийству некоего Майкла Галахера, сына давно почившего в бозе главы местной мафии, ныне не замеченного ни в чем подозрительном честного гражданина их города. Обычный прием в американской политике, известный под названием «утечка информации», должен после публикации статьи в газете вывести полицию на след. Но Галахер оказывается крепким орешком. Он вступает в бой с газетой и, когда еще одна газетная публикация становится причиной самоубийства его старой приятельницы, пускает в ход те же грязные приемы закулисной борьбы, которыми умело пользуются власть предержащие.
Вот где зрителю открывается кухня политического процесса в современной Америке! Правда, эта кухня второстепенная, не вашингтонская, и вопросы не войны и мира, не советско-американских отношений, а мелкие, провинциальные. Зато и вымысла здесь меньше, и ситуации совершенно реалистические, и герои узнаваемые. Сколько в фильме для внимательного зрителя существенных подробностей о том, как делается политика в Соединенных Штатах, как много из обыденной жизни американских городских властей и их органов здесь схвачено в реалистических деталях! Галахер обманывает следственные органы серией добровольных пожертвований на нужды избирательной кампании городского прокурора, заставляет их поверить в его личный тайный сговор с прокурором, о котором на самом деле тот и не подозревает, а затем, когда запутанное им нарочно дело вынужден разбирать уже заместитель министра юстиции, выкладывает свои карты на стол. И выигрывает... Правда, только благодаря честному, умному, сразу все разгадавшему заместителю министра.
В финале заключена и существенная особенность фильма, в которой выражено время: «забытый», рядовой, «средний американец» успешно сопротивляется мегаинститутам. Маленький человек в борьбе с бюрократией и механизмами экономической и политической власти выходит не сломленным. Теперь кино изображает его не жалким анонимным клерком (как десять лет назад в фильме Спилберга «Дуэль»), а энергично-волевым Полом Ньюмэном, ни в каких обстоятельствах не теряющим самообладания и чувства собственного достоинства. И как бы теперь ни опутывала его липкими щупальцами местной прессы, полиции, судопроизводства бюрократия власти, как бы ни пытались использовать его в собственных целях местные политиканы, герой Ньюмэна, в совершенстве овладев их же приемами, эффектно выходит победителем из нечистоплотной головоломной интриги. Напомним лишь, что этот герой — представитель как раз тех самых мелких буржуа (он хозяин небольшой транспортной фирмы), защитником которых и выступали консерваторы.
И было бы наивно упрекать известного прогрессивного американского художника С. Поллака в ущупках консерватизму. В стране многое переменилось за истекшие десять лет. В сознании тех же «средних американцев» по крайней мере на этом этапе уже нет былой паники. Очередной циклический выход из кризиса экономики для них прочно увязался с возрождением национального духа под флагом консерватизма, с возвращением традиционных ценностей американского индивидуализма. Насколько долговечна и перспективна эта ситуация — вопрос открытый. Но, пока она сохраняется, художник, работающий в условиях буржуазного рыночного искусства, не может с ней не считаться...
ЛИКИ КОНСЕРВАТИЗМА: ОТ «ВЬЕТНАМСКОГО СИНДРОМА» К «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ»
Как отмечали советские исследователи политического сознания США, «следует иметь в виду, что усиление консервативных ориентаций, не имеет тотального характера, то есть касается лишь некоторых аспектов внутренней и международной политики США...»1. Мы уже видели по характеру рассмотренных выше фильмов, что консервативные взгляды в 70-е годы формировались по отдельным вопросам экономической политики, где после соответствующей идеологической подготовки был сделан шаг назад к свободному рынку, по проблемам управления, где была, с одной стороны, предпринята попытка разукрупнения центрального бюрократического аппарата государственной власти, а с другой — усилены репрессивные функции государства в борьбе с активностью масс.
Одним из аспектов, где особенно заметно проявился почерк современных консерваторов, оказались американо-советские и в целом международные отношения, где Соединенные Штаты предприняли попытку силой вернуть утраченные позиции первой империалистической державы мира. Именно эта попытка и привела к тому, что важнейшим идеологическим компонентом нового консерватизма 70-х годов стал провокационный антисоветизм, который резко ухудшил советско-американские отношения, свел на нет достижения разрядки.
Разворот общественного сознания миллионов американцев в сторону милитаризма осуществлялся особенно целеустремленно и гораздо более походил на инспирируемую сверху долговременную идеологическую кампанию, чем усиление консервативных ориентаций в других сферах. Когда эта кампания только начиналась, внешнеполитический курс правительства подвергался резкой критике, средства массовой информации осуждали политику администрации в Юго-Восточной Азии. В стране
1 Противоречия современного американского капитализма и идейная борьба в США. М., «Наука», 1984, с. 35.
господствовали антивоенные настроения, конгресс после поражения во Вьетнаме не позволял правительству тратить средства на военные операции за пределами США — наученная горьким опытом, страна не желала новых Вьетнамов. Чувство вины за эту позорную войну охватило круги прогрессивных и либерально настроенных американцев, образуя комплекс негативных эмоций, известный под названием «вьетнамский синдром». Его кинематографическим эквивалентом стал получивший в 1975 году «Оскара» и широкий резонанс документальнопублицистический фильм Питера Дэвиса и Берта Шнайдера «Сердца и умы». Построенный на интервью с теми, кто эту войну готовил, и с теми, кто в ней участвовал, насыщенный жуткими свидетельствами варварского характера этой войны, фильм потрясал не только правдой, не только критичностью своей позиции. Он дал обобщающий образ подавленного этой правдой американца.
В художественном кинематографе этот американец обнаруживает себя в психиатрической клинике. До такой степени нервного расстройства доводит его собственный вьетнамский опыт в упомянутых «Героях» Д.-П. Когана (1977) Хэл Эшби и актеры яркого гражданского темперамента Джейн Фонда и Джон Войт в 1978 году после долгих мытарств выпускают задуманную еще в 1974 году картину «Возвращение домой», действие которой тоже происходит в госпитале для ветеранов, полном страданий не столько физических, сколько психических (именно от них навсегда избавляется молоденький солдатик, вгоняя себе в вену шприц, полный воздуха). Горькое прозрение одних вчерашних патриотов приводит к самоубийству, других — в ряды участников антивоенного движения. Таковы нравственные императивы «вьетнамского синдрома», глубоко проникшего в национальное самосознание к середине 70-х годов. Обозреватель «Нью-Йорк тайме» Дж. Рестон писал тогда: «Америка уходит из Вьетнама после самого продолжительного и самого разобщающего конфликта со времени гражданской войны. Однако Вьетнам не уходит из Америки, ибо влияние этой войны, вероятно, будет сказываться на американской жизни еще в течение многих лет...»2.
В то время разрядка международной напряженности, начало которой положило историческое совещание в
1 Об этом и о других фильмах, очерчивающих контуры «вьетнамского синдрома», см. в кн.: США: кризис духовной жизни. М., «Мысль», 1982, с. 86 — 126.
2 “The New York Times”, 1974, 24 Jan.
Хельсинки, очень быстро растворила насаждаемое официальной пропагандой недоверие к русскому народу и способствовала формированию позитивных установок общественного сознания в отношении к Советскому Союзу. Число американцев, положительно относящихся к Советскому Союзу, выросло почти в семь раз в 1973 году по сравнению с 1954 годом. Эту тенденцию подтверждали многочисленные опросы общественного мнения. М. Петровская, на протяжении ряда лет следившая за изысканиями служб опросов общественного мнения в США, обстоятельно проследила эволюцию эмоционального отношения американцев к Советскому Союзу, к «холодной войне», к возможностям мирного сосуществования, а также к таким вопросам, как расходы на военные нужды и ограничение стратегических вооружений. Ее вывод: «Таким образом, опросы об отношении к Советскому Союзу в этот период наглядно свидетельствовали о широкой поддержке общественностью США поворота в советско-американских отношениях от конфронтации к развитию широкого взаимовыгодного сотрудничества, от «холодной войны» к разрядке международной напряженности».
В той же книге, однако, выявлены и навязываемые сверху противоположные идейно-политические установки — на свертывание разрядки, на увеличение военных расходов, на достижение военного превосходства, на применение силы в целях «защиты национальных интересов». Не желая примириться с новыми историческими реальностями, правящие круги США целеустремленно вели подкопы под разрядку международной напряженности, внедряли в сознание американского народа идеи агрессивного внешнеполитического курса по формуле «мир с позиции силы». Официальная пропаганда изобретала все новые и новые аргументы относительно «упорного нежелания СССР менять свои позиции в развивающихся странах», «односторонних преимуществ, извлекаемых СССР из разрядки», «советской угрозы» и тому подобного.
Однако, как справедливо отмечала М. Петровская, общественное мнение формируется и функционирует на двух различных уровнях — «общеидеологическом» и «практическом». Она отмечала: «Как вынуждены были констатировать специалисты в области общественного мнения, в этот период было уже недостаточно «чисто идеологических обоснований» для прямого втягивания
1 Петровская М. США: политика сквозь призму опросов, с. 202.
США в конфликтную ситуацию на международной арене, а тем более в военный конфликт» Для того чтобы снова разжечь в стране милитаристские амбиции и шовинистические настроения, чтобы заставить своих соотечественников забыть уроки Вьетнама, пропагандистам рейганов-ского «фундаментализма холодной войны» или «ритуального антисоветизма», как его называют сами американцы, пришлось прибегнуть к более тонким, сложным и долговременным средствам манипулирования общественным сознанием, затрагивающим глубинные слои социальной психологии. В частности, были активизированы возможности «массовой культуры», апеллирующей к особенностям психического склада нации, к специфическому морализму, происхождение которого восходит к религифз-но-пуританским традициям, заложенным еще первыми переселенцами, или к традиционному антиэтатизму, коренящемуся в общинной психологии «среднего американца», или, наконец, к глубинному индивидуализму, со времен фронтира приучившему американца полагаться прежде всего не на законы и охранные силы общества, а на кольт у бедра.
Тому, кто хочет понять логику опасного правого поворота истории к новому всплеску американского шовинизма с точки зрения «среднего американца», прежде всего не мешает представить себе, как болезненно переживала Америка снежный ком внутри- и внешнеполитических проблем и неудач, свалившийся на нее в 70-е годы. Достаточно вспомнить фильмы-катастрофы, апокалипсические ужасы и разгул насилия на экране, чтобы хоть приблизительно ощутить то состояние общей подавленности, в котором еще недавно находились миллионы американцев. Чем хуже, тем лучше — решили те, кто добивался решительной смены политического курса в США. И кинематограф вкупе с другими компонентами «массовой культуры» пустил в ход все свои выразительные средства для усиления и нагнетания социальной дезориентированности, подавленности, безысходности. Тем самым более или менее осознанно готовя плацдарм для наступления правых.
Низшей точкой падения национального духа фирма опросов общественного мнения Янкеловича считает 1975 год. Первой попыткой оздоровления духа консервативными лозунгами стала искусственная подкачка гордости и патриотизма в период сверхпышного и шумного
1 Петровская М. США: политика сквозь призму опросов, с. 205.
празднования двухсотлетия США, когда взоры нации попытались обратить в славное прошлое, напомнить традиции. Но в период «открытого президентства» Картера пафос был сбит пощечиной, отвешенной американской гордости в Иране «стражами исламской революции». Пощечина оказалась столь ощутимой, что, как показали опросы, индекс самодовольства нации снова упал на несколько пунктов. Рассчитывать на поддержку милитаристского курса, втягивающего американцев в новые войны за рубежом, при таких исходных позициях было безнадежно. Деятельность ЦРУ была частично свернута, авторитет армии был на самом низшем уровне за всю историю страны, доверие к институтам власти было окончательно подорвано.
Потому наряду с атакой на «большое правительство», на контркультуру и «эксцессы демократии» у себя дома, параллельно с ностальгией по прошлому исподволь в «массовой культуре» готовились панегирики «сильной» Америке. Окольными путями в общественное сознание США 70-х годов возвращались националистические, джингоистские настроения, восстанавливалась расшатанная Вьетнамом и разрядкой международных отношений логика имперского мышления.
Переориентация начиналась с разных концов. Так, со второй половины десятилетия на читателей был низвергнут водопад военных мемуаров, «научных» исследований, в которых доказывалось, что во Вьетнаме военным не дали победить политики, и вина за это лежит на средствах информации и интеллектуалах, что поражение подорвало авторитет США в странах Азии и привело к подъему «подрывных» (то есть освободительных!) движений в Таиланде и на Филиппинах, побудивших эти страны пересмотреть свои военные соглашения с США. В 1976 году генерал Уэстморлэнд, бывший командующий американскими войсками во Вьетнаме, опубликовал книгу, в которой высоко оценивал эффективность действий американской армии и виновником поражения считал правительство, а не военных А в одном из интервью он говорил: «Военные делали то, что им было велено делать, и делали это, по моему мнению, прекрасно в очень и очень трудных обстоятельствах. Так что поражение потерпели не военные, а политический механизм»2.
1 См.: Westmoreland W. С. A Soldier Reports. New York, Doubleday, 1976.
2 “Atlanta Constitution”, 1977, Aug., n. 1.
Такова была позиция консерваторов: американские солдаты потерпели фиаско не во Вьетнаме, а в Конгрессе, в национальном пресс-клубе, в редакциях телесетей и за столом переговоров в Париже, в университетах, но только не на полях сражений. Шаг за шагом теперь по всем каналам идеологической индустрии шла реабилитация американских вооруженных сил, восстановление уважения к военной форме, к личным качествам военнослужащих США.
Свою лепту в манипулирование общественным сознанием, подготавливаемым правящим классом США к реализации его милитаристских планов, внес и голливудский кинематограф. Символом воинствующего джингоизма в «новом» Голливуде стал один из «великолепной семерки» Копполы, некто Джон Милиус. Его послужной список в кинематографе включает сценарии таких фильмов, как «Грязный Гарри», «Сила револьвера», «Жизнь и времена судьи Роя Вина», «Дилинджер», «Апокалипсис сегодня». Как и снятый им самим «Конан-варвар», так и другие работы отличает жестокость не только внешнесобытийная, но и внутренняя, концептуальная. Об этой малосимпатичной черте городских вестернов, яркие образцы которых — «Грязный Гарри» и «Сила револьвера» — читатель уже знает. Таковы же и другие фильмы Милиуса. К примеру, воспеванию старого, доиндустриаль-ного уклада суровой жизни на фронтире, где процветание и порядок обеспечиваются самосудом — железной рукой верховного жреца общины, всемогущего судьи-линчевателя Роя Вина, посвящена картина 1972 года Джона Хастона «Жизнь и времена судьи Роя Вина», в которой Джон Милиус выступал сценаристом. В финале фильма, когда установленный, казалось, навечно общинный уклад разрушается под ударами надвигающейся индустриализации, урбанизации и бюрократизации, означающих приход суетливых и продажных, трусливых и лживых представителей новой, «законной» власти, звучит грустная щемящая тема расставания с «прекрасным» прошлым. В «Дилинджере» (1973) режиссер Милиус откровенно восторгается легендарной фигурой преступного мира 30-х годов Джоном Дилинджером, всячески подчеркивая волевые, исключительные качества его личности. В качестве соавтора Копполы по сценарию «Апокалипсиса» Милиус снова проявил устойчивый интерес к эстетике насилия и ницшеанской «воле к власти».
Об этом противоречивом и необычном фильме следует сказать особо. И не только потому, что бесспорный лидер «нового» Голливуда Коппола потратил на него пять лет жизни и все состояние, считая эту работу вершиной своего творчества. Также и не потому, что по своим техническим данным, по шести звуковым дорожкам, по подавляющему человеческую психику адскому зрелищу современной войны этот фильм так отличался от всей остальной кинопродукции 1979 года, как звуковое кино от немого. А прежде всего потому, что в нем с удручающей силой проявилась неустойчивая психология исторического момента, переживаемого всей нацией, двойственность позиции авторов, решивших высказаться предельно обобщенно и весомо по вопросу о проклятой войне во Вьетнаме, но в то же время и ухватить дух консервативных перемен, уже предвещавших приход Рейгана.
Коппола уверял — и в процессе проходивших под большим секретом съемок и после выхода фильма на экраны, — что он создал антивоенное послание человечеству. Возможно, что он сам искренне так и считал. Но интуиция художника, ориентированная многолетней практикой в коммерческом шоу-бизнесе на волну массовых настроений зрительской аудитории, подсказывала какой-то трудно объяснимый художественный образ, в котором кошмар тотальной войны, ведущейся супероружием, сливался бы с безумием ее жертв, не оставляя победителей. Те из зрителей, кто сам побывал там, в джунглях сражающегося Вьетнама, действительно почувствовали себя в зале раздавленными шквалом напалмового огня, пожирающего джунгли, грохотом непрерывных взрывов, бомбовыми ударами, выворачивающими чрево земли вместе с мостами, хижинами и людьми, неодолимой волной уничтожения всего живого. «Апокалипсис» помещает зрителя как бы в центр непрерывного ракетного залпа, оставляя его живым, но потерявшим чувствительность не только к чужой, но и своей боли. Авторы «сажают» зрителя, например, в кабину одного из боевых вертолетов, обрушивающих в групповой атаке на прибрежную вьетнамскую деревушку уничтожающий ракетный залп, чтобы довести зрителя, как и этих розовощеких парней в шлемофонах, до экстатического восторга, упоения силой послушного им супероружия, до наркотического опьянения творимым ими разрушением. Парадоксально, но в этом диком безумии никто уже не осознает ни цели кровавой бойни, ни смысла жертв, ни цены человеческой жизни. И как апофеоз «апокалипсиса» — мгновенный переход от экстаза уничтожения к экстазу развлечения: тут же, на еще дымящемся, обугленном берегу, рядом с обезображенными трупами, не выходя из бешеного темпа атаки, прямо с вертолета — на водные лыжи, в головокружительный серфинг на ускользающем гребне океанской волны, в возбуждающую, захватывающую схватку со стихией. И все это — в захлесте гремящей неистовой музыки Вагнера...
Ошеломительное, почти величественное зрелище, оставляющее пораженного зрителя в состоянии близком к обмороку. Зачем? Во имя чего подвергают человеческую психику таким жестоким потрясениям Милиус и Коппола? В картине никто — ни действующие лица, ни авторы — не ставит мировоззренческих вопросов, не рассуждает о патриотизме, здесь «правят бал» страх, секс и садизм. И авторы, похоже, растворяют в них свое «я», свою позицию, не отдавая себе отчета в причинах и смысле этой войны и нагнетая всеми изобретаемыми по ходу съемок техническими и художественными средствами неодолимый ужас.
Ужас, который постепенно подавляет в сознании персонажей фильма сопротивление здравого, человеческого начала и превращает их в маньяков вроде скрывшегося со своим подразделением в джунглях Камбоджи полубезумного философа-майора Куртца, бывшего образцового офицера, интеллигента и патриота, а ныне заливающего кровью варварской жестокости свою маленькую империю, упрятанную в недрах джунглей. В самое сердце разверзшегося ада смотрят остановившиеся от ужаса, остекленевшие глаза капитана Виларда, посланного командованием обезвредить ставшего опасным, вышедшего из повиновения майора. И он в финале фильма становится частью общего безумия, судя по тому, как он приканчивает безумца-философа в его «императорской» хижине, чтобы унаследовать его варварскую миниимперию. «В «Апокалипсисе сегодня» неопределенный наполеонизм Марлона Брандо, его полубезумного персонажа из книги Конрада и самого Копполы перепутались в нечленораздельную банальность о добре и зле... Одержимый темой режиссер, подобно Наполеону в России, в конце концов увяз в ней и оказался одержимым собственной одержимостью»1 — такое резюме сделала американская критика.
Сам Коппола, видимо, сознавал неустойчивость идейного стержня фильма и потому трижды после окончания картины переделывал ее концовку, пытаясь либо нащупать более устойчивую идейную позицию, либо опереться на какие-то более или менее массовые настроения. Но настроения в стране в то время были летучие, переходные от либеральных к неоконсервативным, от антивоенных к милитаристским, и растерявшийся Коппола перенес свою растерянность на экран.
Зато не растерялся воинственный Джон Милиус — Лени Рифеншталь рейгановской эпохи. Он не случайно охотно сам называет себя самураем и «дзен-фашистом». В первом варианте «Апокалипсиса», написанном им еще в 1969 году, в разгар осуждения прогрессивной частью общества преступлений американской военщины во Вьетнаме, он всячески героизировал вояк из подразделений «зеленых беретов», действовавших на границе Вьетнама и Камбоджи. И сам был не прочь присоединиться к ним, о чем свидетельствуют авторы книги «Голливудские дети» Майкл Рай и Линда Майлс, изобразившие его на фотографии в каскетке, украшенной знаками отличия «зеленых беретов» — буквами «А-team» («команда-А»). В его рабочем кабинете на студии висит огромная фотография взрыва ядерной бомбы. На вопросы гостей хозяин кабинета обычно с улыбкой отвечает: «О, это Бомба! Я искренне люблю Бомбу! Она для меня просто как религиозный символ, божья десница, готовая покарать всех без разбору. Угроза ядерной войны — вот что держит нас в узде!» Так что вслед за авторами книги можем сказать и мы: «привязанности Джона Милиуса определить нетрудно».
И потому неудивительно, что эпиграфом из Ницше начинает он свою собственную режиссерскую работу — картину «Конан-варвар»: «Те, кто нас не сумел убить, делают нас сильней». Это эпическое полотно — экранизация псевдодревней легенды, на самом деле написанной малоизвестным писателем 30-х годов Робертом Хоуардом, сочинявшим мрачные приключенческие сюжеты для дешевых журналов. Это гимн некоему сверхчеловеку, Конану-варвару из далекого доисторического прошлого, ребенком пережившему нашествие врагов, погубивших огнем и мечом его племя. Доверяющий только стальному мечу, живущий только для того, чтобы ««сокрушать врагов, слушать плач женщин и похотливый рев толпы», Конан воскрешает поистине варварский дух завоевателей, признававших культ грубой силы законным и высшим авторитетом, а «волю к власти» — универсальной движущей силой истории. Что это, если не то самое имперское мировосприятие, на которое, как известно, опирается Рейган в своем стремлении «вернуть Америке силу»? Согласно этому мировосприятию только «дисциплина стали» может держать человечество в узде. В американской узде, разумеется.
Здесь следовало бы обратить внимание и на ту роль, которую в милитаризации мышления американцев сыграл, казалось бы, такой безобидный детский фильм, как сверхпопулярные «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Избежав крайностей фашистской символики Милиуса, человеконенавистнической жестокости городского вестерна и прямого антисоветизма, в нарочито наивной форме детской фантастики Лукас «поймал» зрителя, предложив ему упрощенную картину глобального конфликта. Ясного конфликта, выводящего наконец закомплексованное сознание запутавшегося американца к простому противостоянию «хороших» и «плохих» парней, «их» и «нас», Империи Зла и Империи Добра, то есть к тому самому американскому морализму с его предопределенной картиной мира, в которой сама Америка занимает исключительно центральное место морального идеала.
Сказка, снятая по сюжету довоенного мультфильма в грандиозных декорациях космических ландшафтов и звездных полетов, она впервые не пугает ни катаклизмами, ни мистикой тьмы, ни даже ужасами насилия. Своей стилистикой кинокомикса, как писали критики, «чистыми красками добра и зла» режиссер как бы возвращает публике равновесие и рассудок. Как струя свежего воздуха, «Звездные войны» отметают цинизм, неверие, слабость, пошлость. «Это было давным-давно и очень далеко от нас, в просторах Галактики» — так она начинается, эта насыщенная техническими эффектами сказка о восстании против космического тирана. А Лукас в одном из интервью, процитированном многими журналами, уточнял, что «Звездные войны» — это космическая фантазия, а не научно-фантастический фильм о будущем. Он гораздо ближе к братьям Гримм, чем к фильму Кубрика (имеется в виду «2001: Космическая одиссея». — И. К.). Наиболее подходящее его определение — это развлечение. И адресован он детям, тому детскому, что всегда остается в каждом из взрослых.
Вот Люк — Небесный бродяга, живущий себе на отдаленной планете Галактической империи. Он узнает от верных друзей, роботов СЗПО и Р2Д2, о прекрасной принцессе Лее, участнице группы сопротивления имперской тирании, которая призвала мужественного старого воина Кеноби присоединиться к восставшим. Люк находит Кеноби, который в свою очередь узнает в Люке сына своего старого друга со времен еще «мирной Империи». Они перелетают по Галактике вместе на базу восставших, привлекая по дороге Хана Солоциничного, корыстолюбивого космического пирата, с его партнером Чубеккой, гигантским гориллоподобным существом. Однако все они оказываются пленниками страшного оружия Империи, звезды Смерти, в то время как принцессу захватывает сам Вэдер, царь тьмы и диктатор Империи. Пленники совершают дерзкий побег, во время которого Вэдер убивает Кеноби, но в результате смелых и решительных действий они одерживают победу. И хотя Бэдеру удается избежать гибели, звезда Смерти оказывается обезвреженной, а принцесса спасенной.
За внешней фабульной простотой фильма можно, впрочем, разглядеть и архетипичность его персонажей. В нем нет главного героя, ибо каждый из ведущих персонажей может претендовать на его место. Если взять в таком качестве, скажем, Кеноби, фильм обернется, как считает американский литературовед Фрэнк Макконнелл, «древней историей о смерти короля, о смерти основателя и о зарождении нового порядка»1. Если сюжет связывать с Люком, то он превращается в другую древнюю схему — «о посвящении юноши, будущего рыцаря, в права и обязанности зрелого мужчины, связанные с защитой цивилизации»2. Можно рассмотреть его и с точки зрения Солоциничного, и тогда фильм выглядит как старинная сага «о простодушном отщепенце, познающем законы поведения и морали, которые делают его жизнь достойной»3. Ну а если главными субъектами действия взять роботов СЗПО и Р2Д2, то сюжет обернется опять-таки старым мифом о героизме, когда «истинный героизм и истинная трусость показаны через пародию»4. При таком подходе к загадке феноменального кассового успеха фильма выходит, что «Кеноби — это герой эпоса, Люк — романтический герой, Соло (с его «меньшим братом» Чубеккой) — мелодраматический герой, роботы — сатирические архетипы»5. Все героические характеры втянуты в борьбу духовных, психических сил против абсолютно механистической, одномерной технологии. И притягательность
1 McConell F. Storytelling and Mythmaking. New York, Oxford University Press, 1979, p. 19.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid., p. 20.
«Звездных войн» в том и заключается, что не телекинез или ясновидение, а древняя, таинственная власть архетипа увлекает зрителя дидактической силой сюжета и заставляет верить в будущее. Что, однако, не мешает ему, говоря словами Стэнли Кауфмана, вместить в себя «весь спектр упрощенных земных проблем», включая интергалактическую империалистическую войну и защиту прав человека. В фильме Лукаса «хорошие парни» Империи Добра бьются с помощью лазерных мечей с «плохими парнями» Империи Зла. И эти кинематографические образы, напомним, вводит в политический оборот не кто иной, как президент США Рональд Рейган...
Как раз к этому времени поспевает и «Супермен» Ричарда Доннера. Спросите любого янки: с 1934 года он знает о подвигах Супермена больше, чем о подвигах Геракла. Ныне роскошный киновариант старого комикса о чудесном защитнике американского образа жизни возвращением Супермена как бы знаменует обновление героико-патриотического духа нации. Его посылает на Землю всемогущий властитель планеты Криптон, наделяя героя способностью летать и видеть сквозь стены. Младенца находят фермеры (американские, конечно!) и воспитывают его как сына. Он вырастает и включается в современную жизнь в двух ипостасях: как Кларк Кент, скромный журналист из «Дейли плэнет», и как супермен, уничтожающий Зло на Земле, помогающий президенту США... Ему покровительствует его небесный отец, которого играет Марлон Брандо со всей присущей маститому актеру значительностью. Лицо Брандо скульптурно вырисовывается на фоне облаков в лучших традициях представления Всевышнего. И неминуемо этот образ напоминает другой, всем известный, — образ трех президентов США: Вашингтона, Джеффероона и Линкольна, навеки вбитый в скалы Рашморских гор.
Удивительно, но факт остается фактом. В США этот детский фильм, получивший «Оскара» за специальные киноэффекты, покоряет взрослых. Вслед за «Звездными войнами» картина вызывает зрительский бум. В 1978 году только в американском прокате она собирает более 82 миллионов долларов и вместе с продолжениями «Звездных войн», «Битвой титанов» (1981), «Супергёрл» (1984) открывает целое направление кинокомиксов, призванных на новом техническом уровне обновить знаменитый американский оптимизм, увести общественные настроения от недавних нигилизма и самобичевания.
В статье близкого к вашингтонским кругам публициста Лесли Гэлба, опубликованной в «Нью-Йорк тайме» в апреле 1984 года под примечательным названием «Отражают ли фильмы общественное настроение?», поворотным пунктом в отношении американцев к армии и военным действиям США за пределами своей страны назван встреченный противоречивыми откликами, осужденный прогрессивной общественностью фильм Майкла Чимино «Охотник на оленей», который вышел, кстати, в том же 1978 году. В нем, по мнению Гэлба, была предпринята первая «попытка примирить ад вьетнамской войны с честным патриотизмом». Война, правда, замечает Гэлб, трактовалась в фильме пока еще как бессмысленная жестокость, но зато американские парни от начала до конца действия изображались исключительно «хорошими парнями» и патриотами. Зато вьетнамцы... Вьетнамцы выглядели на экране как недочеловеки, держащие пленных в бамбуковых клетках с гигантскими крысами, развлекающиеся тем, что несчастные пленные под дулами автоматов по очереди играли для их потехи в «русскую рулетку», сами стреляли себе в висок из револьвера, в барабан которого наугад был вставлен один патрон. Такое искажение исторической правды, надругательство над народом, в течение ряда лет бывшим в фокусе внимания всей планеты, народом, взявшимся за оружие, чтобы освободить от векового колониального ига свою родину, вызвало естественное негодование у мировой общественности.
Сам режиссер считал свой фильм «антивоенным», как и «Апокалипсис», поражающим воображение ужасами войны. Но попутно он провел через все действие еще два важных для того времени мотива: во-первых, что воевали на этой страшной войне в общем-то хорошие ребята — благородные, смелые американские парни, которые, дескать, честно выполняли свой долг; во-вторых, воевали они с вьетконговцами, которых иначе как извергами-коммунистами и не назовешь. А Америка, подчеркивается в фильме, в это время жила полнокровной мирной жизнью: варила сталь, выпускала автомобили, любила, играла свадьбы. И в контрасте с горящими джунглями, с кошмаром плена, с мраком сайгоновских притонов безмятежная жизнь дружной русской общины в рабочем районе Питтсбурга кажется желанным возвращением к традиционному, истинно американскому дому. Режиссер умышленно начинает фильм с огромной, занимающей чуть ли не четверть картины сцены удалой многолюдной свадьбы, на которую собралась вся община, и то, что эта община русских, еще дореволюционных лет переселенцев, лишь усиливает проамериканский, патриотический дух фильма. В той же мере, в какой названная почему-то «русской рулеткой» дикая забава призвана усилить дух антикоммунистический, антисоветский.
«Охотник на оленей» в прокате не прошел стороной. Получив первый экран, он собрал 30,4 миллиона зрителей. Он удостоился высшей награды Американской киноакадемии — «Оскара». И это все вместе означало лишь то, что, несмотря на отсутствие прямых политических деклараций, политический смысл этого программного для правых фильма был тут же уловлен консервативной частью населения, оказавшей фильму более чем теплый прием. И тот факт, что «Оскара» вручал кичившийся своими консервативными взглядами знаменитый «ястреб» Джон Уэйн, лишь подтверждал очевидное: так или иначе картина М. Чимино оказалась порождением шовинизма, инспирированного справа. Как уверенно свидетельствовал Л. Гэлб, таким образом «кинематографисты снова предложили свой ответ на проблемы времени. Он заключался в том, чтобы забыть все сложности, двусмысленности и вернуться к фундаментальным американским принципам: напряженному труду, оптимизму и простым истинам. Так прокладывался путь Рональду Рейгану»
Лесли Гэлб, по-видимому, прав, считая фильм Чимино переходным к рейгановской атмосфере милитаристической лихорадки и шовинизма. Но сам консервативный поворот в общественном сознании, в отношении к вопросам внешней политики США подготавливался потихоньку раньше и на более широком тематическом диапазоне. Социально-психологический его механизм заключался в движении к намеченной цели как бы по фазам, путем нащупывания в общественном сознании первоначальной линии согласия и продвижения ее к зонам противоречий.
Так, свою роль в процессе целенаправленного манипулирования общественным сознанием в плане укрепления пошатнувшихся имперских амбиций Америки сыграли картины уже знакомого читателю жанра — городские вестерны. Именно их приспособил Голливуд для ненавязчивой реабилитации авторитета вооруженных сил США и их гвардии — «зеленых беретов». Для этого в привычную сюжетную схему вносилась лишь одна поправка: на борьбу с преступностью, с разгулом насилия на улицах, с терроризмом поднимается в этих сюжетах не полиция (полиция теперь выглядит карикатурно, ее чиновники только болтают, роются в бумажках и досье, валяются в постелях, апоплексически тучнеют), а мститель уже другой школы — армейской. Суровый, скупой на слова, ветеран вьетнамской войны охотно наделяется чертами идеала, он всюду, во всех ситуациях выглядит примером для подражания: это прежде всего человек дела, обладающий уникальной выучкой, хладнокровием, волей и полным равнодушием ко всем соблазнам гражданской жизни.
Еще в 1973 году в картине «Война Гордона», где очищали свой микрорайон от наркоманов, сутенеров и убийц прошедшие «школу Вьетнама» сами жители, об этом прямо говорил авторский голос: «Только люди, воевавшие во Вьетнаме, могут победить в этой «домашней» войне и спасти молодежь от преступников». Тогда этот призыв прозвучал рановато. Чувство если не стыда за эту позорную войну, то, по крайней мере, неловкости не давало американцам развернуть кампанию по прославлению ветеранов. Время изживания «вьетнамского синдрома» еще не пришло. Да и Осей Дэвис, черный режиссер этого фильма, снятого вопреки стандартам — с черными актерами для черной аудитории, по всей видимости, использовал правые патриотические мотивы лишь для того, чтобы прошла главная тема его фильма — черные с оружием в руках наводят порядок в собственном доме!
Такова же расстановка сил в сюжете упоминавшегося ранее «Истребителя», в котором мститель ведет себя особо агрессивно. Истребитель этот, как говорится, не с неба свалился со всем своим арсеналом средств умерщвления всего живого — он ветеран, о чем зрителю сразу сообщают начальные эпизоды фильма, где он в форме «зеленых беретов» пробирается сквозь море огня, стоически переносит ужасы «вьетконговского плена».
Все чаще и откровенней ветераны представали на экране в ореоле мученичества и гордого одиночества, отгороженные от беспомощных и трусливых, корыстолюбивых и мелочных обывателей своей особой судьбой и высоким предназначением. За удивительно короткий срок этот новый персонаж американского кино претерпел опасную метаморфозу, превратившись усилиями фокусников Голливуда из искалеченного несправедливой империалистической войной человека (мы видели все-таки этих раскаивающихся «героев» Вьетнама в отдельных картинах вроде «Сердца и умы» Питера Дэвиса и
«Возвращения домой» Хэла Эшби) в новоявленного ковбоя, призванного унаследовать романтический ореол героев классических вестернов.
Не совсем прав Лесли Гэлб, назвавший фильм М. Чи-мино первым в этой порочной метаморфозе. Переходной в этом смысле случайно оказалась работа М. Скорсезе «Таксист». Конечно, в работе либерально настроенного Скорсезе не было следов ни назойливого ура-патриотизма, ни явного или скрытого расизма по отношению к вьетнамцам, ни каких бы то ни было комплиментов в адрес американских вооруженных сил, как в последующих политически ангажированных и откровенно предвзятых фильмах. Однако талантливый режиссер, увлекшись темой спонтанного, коренящегося глубоко в природе современного американского общества страха и насилия, поверхностно связал ее с персонажем, обязанным Вьетнаму своими психическими отклонениями. По сути, он прошел мимо осмысления политического и социально-психологического содержания того, что называли уже тогда «вьетнамским синдромом». В образе отторгнутого от обыденной жизни, угрюмого таксиста (Роберт Де Ниро) он показал разрушительный потенциал, который таят в себе эти душевно неуравновешенные вчерашние «зеленые береты», но не связал их психическое расстройство с характером войны, которую им пришлось вести во Вьетнаме. Скорсезе привлекла возможность использовать такого отнюдь не вымышленного персонажа для того, чтобы решить другую художественную задачу: показать взрывную атмосферу беспричинного насилия кризисных 70-х, опасность, которая таится в мрачных закоулках нью-йоркской жизни. Его Трэвис, живущий в привычном для него оцепенении в водовороте уголовных, сексуальных, политических преступлений, совершающихся на его глазах в чреве Нью-Йорка, в конце концов берет в руки хорошо знакомое ему огнестрельное оружие и обрушивает его огневую мощь на зло, которое первым подворачивается ему под руку, будь то политический деятель или банда сутенеров.
Смысл этой непростой, психологически глубокой и, пожалуй, реалистической картины раскрывался постепенно, с годами, на фоне картин более тенденциозных и однозначных. Ею была открыта, скорее всего неосознанно, возможность дальнейшей, уже реакционной разработки темы ветеранов в последующих, гораздо более примитивных «эксплуатационных» картинах вроде «Истребителя», «Ночных ястребов», «Первой крови». Трэвис пока еще именно жертва войны, и героем прессы erg делает ирония автора, в то время как в «эксплуатационных» картинах трэвисы становятся именно героями, наводящими порядок.
В «Истребителе» режиссер Дж. Гликенхауз, вполне сознательно наделяя ангельской внешностью бесстрашного заступника жертв уличного террора, так же сознательно подчеркивает полезность тех навыков, которые тот приобрел во Вьетнаме. И совершенно уходит в сторону от внутренних переживаний вчерашнего солдата — профессионального убийцы, вынужденного теперь работать грузчиком в оптовой торговой фирме. Режиссера интересует лишь механизм, включающий программу на уничтожение, которая заложена в сознании ветерана. Для начала герой становится свидетелем дикого, зверского, среди бела дня, на людях избиения человека. Этим человеком оказывается его близкий друг. Что это за друг, зрителю объясняют короткие как молнии вспышки памяти, которые возвращают героя в прошлое, в джунгли Вьетнама: вот он в огненном шквале атаки, вот — распятый на стволе дерева под ножами захвативших его в плен вьетнамцев, вот отчаянный побег из плена вместе со спасшим его боевым товарищем. И вот теперь, десять лет спустя, этот боевой товарищ лежит перед ним в луже крови, искалеченный какими-то уличными подонками. Долг дружбы взывает к отмщению, а память не дает забыть герою, каким он был солдатом. Так ангел снова превращается в истребителя. То, что при таком пропагандистском сальто-мортале искажалась историческая правда войны во Вьетнаме и попутно вьетнамцы изображались садистами и убийцами, никого не смущало. Фильм-то был вроде не о Вьетнаме, прошлое вспоминалось на миг, как бы между прочим, кромешным адом войны, где горит земля, камень, сталь, вода и воздух, адом, навсегда наложившим шрамы на тело героя и впечатанном навсегда в его сознание.
От фильма к фильму, от года к году воспоминания о войне становились все более выхолощенными и пропагандистски стереотипными, а сама война, отодвигаясь в историю со всеми ее позорными для Соединенных Штатов подробностями, становилась знаком, имеющим два основных значения: война велась с дикарями и была школой мужества для американского солдата, показывающего себя сегодня чуть ли не единственным защитником ценностей американской цивилизации.
Как сообщает пресса, эти «защитники» с поврежденной психикой по сей день пугают обывателя, неприкаянными бродя по глухим углам страны, отыскивая себе укромные углы в национальных заповедниках и лесах, не находя места среди людей, до сих пор не умея вернуться к нормальной гражданской жизни. Из этого драматического факта Голливуд немедленно извлекает пропагандистскую и финансовую прибыль. Как? В картине Тэда Котчева «Первая кровь» (1981), например, вот так: Силвестр Сталлоне, заменивший, по всей видимости, в американском кино почившего в бозе реакционера Джона Уэйна (воспевшего в свое время благородство «зеленых беретов»), создает образ сверхчеловека, незаслуженно отторгнутого соотечественниками, понесшими за это справедливое возмездие. Фильм осуждает общественную враждебность к гордому, молчаливому, замкнутому на страшных воспоминаниях ветерану вьетнамской войны, выполнившему когда-то свой трудный долг и теперь неприкаянно блуждающему по стране, сохраняя в себе ту огромную, всесокрушающую разрушительную силу, которой его когда-то наделили именем родины.
Интонации фильма полны презрением ко всем гражданским лицам, справедливой обидой за этого благородного, бесстрашного, умелого бойца, которому до сих пор не нашли достойного применения и которого издевательски шпыняют самодовольные, откормленные полицейские, ни с какой точки зрения не стоящие и мизинца его. Герой Сталлоне начисто лишен психологической глубины страдающего таксиста из фильма Скорсезе, так как зрителю не дано заглянуть ему в душу. Да и нет у него внутренней жизни, кроме программы на уничтожение. Он бродит по старым адресам в своей боевой пятнистой куртке, с неизменным тесаком за пазухой, из городка в городок, ищет боевых товарищей. Но и их не осталось: кто умер от рака, кто от «оранжевых дождей», которыми умерщвляла Америка все живое на земле Вьетнама. Только не трогайте этого странного, трагического бродягу! Толстяк шериф в полицейской машине, остановись, не поднимай руку на подозрительного странника, изгоя в замызганной одежде и нечесанными волосами! Но зажравшаяся, наглая полицейская братия безнаказанно потешается над немытым бродягой. Себе на горе. Потому что, когда горло Рэмбо (так зовут героя, которого самозабвенно играет Силвестр Сталлоне) прижимают к стене дубинкой, когда испещренный шрамами могучий его торс бьют струей из брандспойта, в воспаленной памяти, как это было не раз в других фильмах, вспыхивают уже знакомые читателю жуткие воспоминания о кровавых пытках во вьетнамском плену. Все! Конец его сонной, неполноценной жизни! Ветеран «зеленых беретов» внезапно как бы просыпается от спячки и, вспомнив все, чему его учили, превращается в страшное орудие массового уничтожения. Раздетый донага в околотке, безоружный, окруженный враждебными людьми в военной форме, наконец-то он снова в привычной обстановке на поле боя, во враждебных джунглях. Запрограммированный когда-то в форте Брэг на убийство, он легко расшвыривает неповоротливых и бестолковых полицейских, голыми руками разносит полицейский участок, выдергивает из проносящегося по улице мотоцикла седока и, оседлав стального коня, уносится из города на просторы дикой природы. И там, в глухом ущелье, в лесу, начинает действовать по старой программе.
Надо видеть, как оживают глаза героя, как обретают упругость и силу его мышцы, как безошибочно работают все его органы чувств, действует получивший наконец задание мозг, чтобы осознать, чего добивались авторы: вот она, настоящая жизнь, вот он, подлинный герой современной Америки. Непонятый и неузнанный, он вынужден воевать с собственной страной, погрязшей в болоте безделья, самодовольства и расхлябанности. И с ним, конечно, не может справиться не только местная полиция, рыщущая в поисках бунтаря в лесной чаще и всюду натыкающаяся на его хитроумные засады, но и национальные гвардейцы, вызванные на подмогу, даже подразделение регулярной армии, которое подключается к охоте по команде из Пентагона. Он действительно неуязвим, этот супермен из форта Брэг, и остановить его, спасти городок от полного разрушения может теперь только один человек, его бывший наставник и командир. Суровый полковник Пентагона для этой цели срочно вылетает к месту событий. Ему-то и плачется в плечо на горящих развалинах полицейского участка присмиревший Рэмбо: «Вы послали меня на войну, подготовили к этому аду в джунглях для того, чтобы теперь весь этот сброд называл меня убийцей стариков и детей? Я их не трогал, я просил оставить меня в покое, они первыми пролили кровь! Я не понимаю их гражданской жизни...» И полковник увозит его туда, где его место, — в форт Брэг, к другим таким же «героям», ждущим приказа...
Надо сказать, что вообще процесс политической переориентации массового сознания в условиях многомиллионной страны не поддается точной калькуляции и расчету. И даже такие мастера угадывать переливы общественных настроений, как С. Спилберг, и то, случалось, промахивались. Промашкой была, например, его попытка в 1979 году увлечь публику насмешками над американской армией. Удачливый режиссер выпустил тогда искрометное эксцентрическое музыкальное киношоу на темы нападения японцев на Пёрл-Харбор. Фильм «1941» (в начале книги мы уже упоминали о нем) возвращал зрителя к моменту вероломного вступления Японии в войну, но комедийное действие в духе французской комедии «Бабетта идет на войну» происходит на калифорнийском побережье, куда вымышленная Спилбергом японская подводная лодка направляет свой курс.
Спилберг лихо развертывает панораму грандиозной суматохи и паники, охвативших вечно пьяный личный состав американских ВВС, абсолютно не готовых к защите отечества. Фильм смешит нелепой пальбой по собственным домам, расползающимися по задворкам, заблудившимися танками, цирковыми трюками легкомысленно разрисованных самолетов, каскадом остроумных недоразумений с населением (женским по преимуществу).
Само собой напрашивается грустное сравнение с давнишней, 1966 года комедией Нормана Джюисона «Русские идут!», первой взломавшей тогда лед «холодной войны». Там тоже вблизи американского берега появляется иностранная подводная лодка. Но в фильме Джюисона заблудившиеся русские моряки ни на кого нападать не собирались, а только пытались узнать, как отсюда выбраться. Страхи перепуганных американцев развеивались молниеносной любовной историей, и фильм кончался торжеством здравого смысла. А у Спилберга, намеревавшегося сыграть на нарастающей волне милитаризма, сатирическое острие фильма было направлено как раз против расхлябанности, благодушия и неподготовленности к вторжению врага, якобы царящих в американской армии. Социально-политический контекст, в котором выходил на экраны «1941», побуждал зрителя видеть в фильме не пацифистские интонации, а милитаристский раж автора, проявляющего в таком «облегченном» виде беспокойство безопасностью страны и недееспособностью ее вооруженных сил.
Стоит представить себе психологию «среднего американца» конца 70-х, чтобы понять, куда, в какой слой общественного сознания метил Спилберг. Ведь для когото же пишет свои статьи журнал консерваторов «Комментарии утверждающий, что растущая неспособность США контролировать мировые события вызвана «непониманием, отсутствием дисциплины и воли к использованию той власти, которой они располагают»1. Почему, вопрошает журнал, США, располагающие «почти вдвое более мощной, чем СССР, экономикой», не в состоянии «распространить свое влияние на другие части планеты», в то время как такая «маленькая страна, как Куба, с национальным продуктом, составляющим 0,65 процента национального продукта США, могла это сделать»?2 Совершенно очевидно, делает вывод журнал, что в основе «американской беспомощности» во внешней и военной политике лежат отнюдь не «драматические сдвиги» в мировой экономике, а «нерешительное руководство страной».
Такие идеи насаждаются нынешней правой политической коалицией, зовущей на этой основе к «обновлению» духа, и Спилберг, чующий, откуда ветер дует, подхватывает их в своем фильме. Но жанр легкомысленного развлечения на столь серьезно трактовавшиеся в то время темы безопасности не попал в резонанс с общественными эмоциями, в которых, как это сам Спилберг проверил неоднократно, преобладал пока еще страх, а не веселье. Не до французского юмора было в эти времена американцам...
Различными правыми организациями наподобие Американского совета безопасности, издавна поддерживающего политику «холодной войны» с Советским Союзом, финансировались пропагандистские короткометражные кинофальшивки, мобилизующие общественность против договора ОСВ-2 («ОСВ-синдром»), пугающие американцев «советским экспансионизмом» («Атака на Америку»), представляющие освободительную борьбу народов в Центральной Америке как столкновение Востока и Запада («Сальвадор: романтика и реальность»). Американцам внушалось, что усиление антиимпериалистического движения является якобы следствием внешней политики и чуть ли не «прямых подрывных акций» Советского Союза и других социалистических стран, нацеленных на «дестабилизацию» политического влияния и экономических позиций США в этих районах. Делались усилия убедить общественность в использовании Советским Союзом кубинских вооруженных сил для проникновения в страны «третьего мира».
1 “Commentary”, 1980, Oct., p. 34.
2 Ibid.
На экране, к примеру, демонстрировалась карта мира с пульсирующими от Кремля красными стрелами, нацеленными в столицы разных стран Запада, снятые шпионскими спутниками фотографии советских военных кораблей, самолетов — все это на угрожающей музыке с расчетом на то, чтобы запугать зрителей, обойти их разум и воздействовать на чувства. Использовались и приемы прямой фальсификации. Вот на экране партизанские инструкторы в масках обучают девушек держать в руках оружие, по улицам какого-то города бегут с поднятыми руками жители, преследуемые вооруженными людьми, затем Фидель Кастро с трибуны где-то произносит пламенную речь. А закадровый голос без всякой документальной связи с изображенным между тем сообщает, что «с 1978 года Гавана подготовила, вооружила и направила в разные районы мира, где идут гражданские войны, столько-то партизан-экстремистов...». Стрельба на улицах, уличные беспорядки, трупы, плачущие женщины в быстром чередовании кадров создают ощущение катастрофы, террора и бедствия, усиливают в аудитории политическую дезориентацию, нагнетают страх перед враждебными силами «коммунистического блока». Журнал «Аме-рикэн филм», в котором была опубликована статья «Сальвадор: как доставить войну на дом», объясняет цель таких фильмов словами одного из руководителей Американского совета безопасности: «Необходимо создать ощущение опасности».
Так синдром параноидального страха, вползавшего вновь в сознание «среднего американца», уже усилиями кинопропаганды отрывался от действительных своих корней и все упорней связывался с «угрозой извне». Отвлекая от внутренних проблем, правящий класс навязывал американцам «красную опасность», снова насаждал антисоветизм, убеждал, что с Кремлем следует разговаривать только «с позиции силы».
Хозяевами имперской «сильной Америки» нужны, видимо, солдаты вроде героя Силвестра Сталлоне — нерассуждающие и решительные Рэмбо. Но какова политика, таковы и средства. Отстаивать за границей, где-то в Африке, в Центральной Америке или на Ближнем Востоке, «жизненные интересы» США — это далеко не то же, что прикрыть грудью собственный дом, свою семью, родную землю от захватчика. Для того чтобы в эпоху освоения космоса действовать в международных отношениях, как в джунглях, бросая вызов новому мировому порядку, насаждать силой дискриминацию, эксплуатацию и гнет, нужна какая-то особая, изощренно человеконенавистническая мораль, специальная порода людей, что ли.
И эту породу, как это ни дико звучит, планомерно, среди бела дня, на глазах общественности в демократической Америке конца XX века выводят с помощью милиусов, бурманов, гликенхаузов хозяева идеологической индустрии США.
Картина преступной селекции была бы неполной, а опасность подобной античеловеческой деятельности была бы значительно преуменьшена, если бы люди проглядели еще один ядовитый плод империалистической пропаганды. Речь идет об отвратительном атавизме, о так называемых «солдатах удачи» — наемниках, то есть о профессиональной наемной армии диверсантов, карателей, десантников, убивающих и взрывающих с целью заработка, а не ради защиты родины или идеи. С точки зрения гуманистической морали, то есть морали, нашедшей свое выражение в международных документах эпохи Хельсинки и разрядки, убивать кого попросят и где попросят за деньги считается преступлением. А людей, занимающихся этим ремеслом, принято называть не солдатами — наемными убийцами.
Рейгановская Америка, похоже, вновь легализует эту преступную профессию, а Голливуд угодливо предлагает свои услуги для «тактичной», ненавязчивой реабилитации тех, кто ею занимается. Фильм «Псы войны» (1983) Джона Ирвина есть, по сути, возвращение прав гражданства институту наемников, осуществленное по всем правилам подсознательного совращения, образец манипулирования сознанием зрителя. «Псы войны» правомерно рассматривать как образец сильнодействующей рекламы, нечто вроде рекламного киноприложения к журналу «Солдат удачи», который с 1975 года вполне легально издается в США, в штате Колорадо, с целью пропаганды «романтической» профессии профессиональных убийц, для объединения разбросанных по всей стране временно отдыхающих наемников и вербовки новых добровольцев.
Этот журнал, именуемый «изданием для профессиональных искателей приключений», на высококачественной бумаге с обилием иллюстраций рекламирует новые виды оружия, печатает объявления о найме на «работу». Есть там и предложения тех, кто ее ищет, вроде следующего: «Наемник предлагает услуги: 43 года, выполняю любую работу, работаю один, только короткое время, заинтересован в крупном призе». Можно себе представить, как распространение такого, с позволения сказать, печатного органа «способствовало» усилению борьбы с преступностью в этой стране!
А в рекламе найма на «работу» в Сальвадор есть, например, такие циничные строки: «Там великолепные условия для того, чтобы испытать огнестрельное оружие серии «Баррета-70».
Рекламный потенциал кино, конечно, больше, чем у журнала: вы возбуждаетесь, упиваетесь страстью разрушения, это у вас в руках дрожит, полыхая огнем, безотказная «Баррета-70». Это вокруг вас рвутся гранаты, падают сраженные вами люди, и рушатся взорванные вами стены укреплений. А вы стоите, широко расставив ноги, уперев в живот пулемет, торжествующий варвар-сверхчеловек, и это в вашем горле рождается победный звериный клич упоения разрушением...
Подобный апофеоз создает в своей картине Ирвин. Есть в ней и подробности найма на «работу». Есть и сама «работа» по заказу «влиятельных кругов», желающих вложить несколько сот миллионов долларов в природные богатства одной африканской страны. Но главное в этой подлой картине — магнетическая привлекательность образа профессионального наемника, этого молчаливого невеселого парня, р ав но душного к мирским соблазнам, нечувствительного к физическим страданиям, решительного в минуту опасности, непобедимого в схватке американца, выполняющего «любую работу».
На экране титры: «Центральная Африка, 1980 год». В первых кадрах — обезумевшая толпа беженцев в каком-то государстве, где свергли правительство, джип, полный еще не остывших от боя, потных и грязных, с возбужденными лицами автоматчиков, рвущихся к спасительному самолету на взлетной полосе. Одного из них, с остановившимся взглядом безумных глаз, кто-то хочет выбросить из переполненного самолета, но боевой товарищ красноречиво вкладывает ему в безжизненную ладонь гранату, рвет чеку и, зажимая предохранитель пальцами, предупреждает: «Он летит с нами, черт возьми!» Затем выбрасывает руку с пистолетом в лицо пилоту: «Пошел!» И самолет взмывает, унося наемников с пылающей земли знойной Африки.
Потом эти же глаза безумца мы видим в глухой гостинице на окраине Нью-Йорка. В одиночестве, среди оружия, рассованного по разным укромным уголкам от холодильника до подзеркальника, он безмолвно дожидается нового заказа. И снова, под видом мистера Брауна, натуралиста, изучающего птиц, летит в Африку, на этот раз в некую страну Зангаро, чтобы выяснить для тех, кто его нанял, внутриполитическую обстановку. А затем для тех же заказчиков набирает банду наемников и осуществляет заказанный «влиятельными кругами» военный переворот.
Вот и вся картина. Главное ее назначение в том, чтобы в соответствии с пропагандистской задачей создать благородный, рекламный портрет наемника. Нам показывают, как врач, рассматривая на рентгеноснимке в который раз отбитые почки, озабоченно предупредит своего постоянного пациента: «Твой организм перенес уже столько, что непонятно, как ты еще жив, старина». Девушке, с которой герой позволяет себе изредка встречаться, он как-то в сердцах предложит уехать куда-нибудь далеко-далеко и открыть там собственную ферму. Но хорошо знающая своего героя девушка лишь грустно улыбнется в ответ: «Ты неисправим, сколько лет ты мечтаешь об этом!..» А уличному попрошайке, черномазому мальчугану лет десяти, он даст мужской совет: «Когда вырастешь, добывай деньги сам!» — и впоследствии на имя мальчугана переведет свою страховку.
Точно так же и команда, которую он собирает, состоит из симпатичных рабочих парней, обремененных семьями, скучной работой, но готовых по первому зову боевого товарища оторваться от юбок и взяться за мужское дело. Зато упомянутая африканская страна Зангаро представлена в фильме вместе с военной хунтой, правящей ею, так неприглядно, что любому зрителю сразу становится ясно, что она и не заслуживает иной участи, чем уготовили ей удальцы-наемники. В конце фильма на дымящиеся развалины гарнизона, который защищал хунту, садится военный вертолет, из него выходят в белоснежных костюмах заказчик и привезенный им с собою новый президент. Они шествуют в резиденцию, но в уцелевшем кресле, оказывается, уже сидит извлеченный нашим героем из тюрьмы настоящий президент, которого диктатор несколько лет назад упрятал за решетку. «Вот законный президент!» — неожиданно сообщает собравшимся наш благородный воин и с целью прекращения возможных дебатов тут же выпускает последнюю в этом фильме пулю в лоб ставленнику «влиятельных кругов».
Как это ни абсурдно, режиссер хочет оставить таким образом зрителя в убеждении, что «псы войны» борются с тиранией. «Смерть тиранам!» — таков девиз и у печатното органа наемников, о котором шла речь выше. Расизм, цинизм, ницшеанская тяга к разрушению — вот пища, которой вскармливается эта необходимая всяким империям порода людей. Спрашивается, чего же ожидать от Голливуда в период, когда «Солдат удачи» выходит тиражом 190 тысяч экземпляров, когда президент Рейган, обливаясь слезами умиления на глазах телезрителей, открывает памятник «доблестным сынам отечества, павшим во Вьетнаме», когда участников вторжения на Гренаду награждают медалями и прославляют, как национальных героев, а само нападение на маленький безоружный остров сравнивают — совершенно серьезно! — с высадкой десанта в Нормандии в 1944 году?
Не заставил себя ждать Голливуд. Уже знакомый нам «дзен-фашист» Джон Милиус в 1984 году выпустил на экраны кинопровокацию под названием «Красный рассвет» — о высадке в американских городах советско-кубинско-никарагуанского парашютного десанта. Эта дикая выдумка начинается сенсационным сообщением: «Уже пали Гондурас и Сальвадор. В Мексике — революция! Страна перешла в руки левых. Куба и Никарагуа увеличили до предела численность своих армий. НАТО самораспустилась! Соединенные Штаты остались в одиночестве!»
Далее приведем слова пораженной увиденным корреспондентки итальянской газеты «Паэзе сера»: «Самое невероятное — это поразительная глупость сюжета, которая должна была вызвать насмешку даже у школьника. На протяжении двух часов я не переставала надеяться на то, что это просто карикатура, что какая-то реплика, ироническая сценка вот-вот поставит все на место. Тщетная надежда!.. «Красный рассвет» — это не только гимн жестокости, насилию, философии «око за око», это попытка изобразить исчадием ада советских людей, которые насилуют женщин, убивают детей и общаются между собой лишь с помощью абсурдных штампов... Перед глазами проходит вереница эпизодов и образов, которые подвергают суровому испытанию мою европейскую оптимистическую веру в культуру... Нет, должно быть, это кошмарный сон! На протяжении двух часов десяти минут, а именно столько продолжается демонстрация этого пропагандистского шедевра неофашистской псевдокультуры, мне непрерывно швыряют в лицо то, что называется «рейгановской Америкой».
И самое страшное, что повергло в ужас очевидца — как в зале «зрители кричат и аплодируют, когда школьники, к которым вскоре по ходу сюжета присоединяются три девушки (они, кстати, проявляют еще более зверскую жестокость), в упор расстреливают «злодеев» из автоматов. Во время сцены, когда русские «варвары» маршируют, распевая «Интернационал», я почти физически ощущала ненависть зрителей».
К этому яркому свидетельству остается добавить размышления американского политического обозревателя Ричарда Коуэна по поводу воцарившихся в канун президентских выборов 1984 года настроений2. Коуэн указал на явные знаки воинственного шовинизма, которыми обставлялась вся избирательная кампания Рейгана. Ее составными частями были: демонстративное вторжение на Гренаду с последующим награждением его участников, помпезное празднование годовщины открытия второго фРонта, так называемого «Ди-Дэй», в угаре которого вовсе забыли об основном участнике победоносной войны с германским фашизмом — о Советском Союзе, увековечивание памяти «доблестных сынов отечества, павших во Вьетнаме», вызывающий шовинизм Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
Эти игры, которые, по замыслу идеологов Рейгана, должны были поднять национальный дух сокрушительными победами американского спорта, стали эмоциональной вершиной избирательной кампании. Преувеличенное, театрализованное самовосхваление, поощряемое всеми средствами массовой пропаганды самодовольство, назойливые лозунги, пестревшие всюду вплоть до полотенец, раздававшихся спортсменам: «Нет страны лучше Америки!», «Америка лучше всех, сильнее всех, богаче всех!», «Спасибо тебе, Америка! Ты самая великая страна в мире!» — все это настолько раздражало представителей других стран, что газета ближайшего американского соседа, Канады, «Глоб энд мэйл» не удержалась от сравнения Олимпийских игр в Лос-Анджелесе с гитлеровскими Олимпийскими играми 1936 года.
Вот в это время глава Соединенных Штатов лично аплодирует провокационному джингоистскому «Красному рассвету» и публично присоединяется к оценке вызывающей фальшивки бывшим государственным секретарем Александром Хейгом, заявившим: «Красный рассвет» является важным, реалистическим и вдохновляющим уроком в интересах поддержания нашей военной силы».
1 “Paese Sera”, 1984, 24 ag.
2 См.: “The Washington Post”, 1984, 20 Aug.
ЛИКИ КОНСЕРВАТИЗМА: ЖАЛКИЕ ПЛОДЫ «МОРАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ»
Проявления консерватизма в американском общественном сознании действительно многолики. Эта идеология формируется под влиянием самых различных и разнонаправленных социальных тенденций, идейных течений и политических сил. Наряду с антисоветским морализмом и с уродливым ликом рейганов ской политики милитаризма и государственного терроризма существуют для взгляда постороннего менее очевидные ее грани, хорошо тем не менее заметные и близкие миллионам американцев. Нам полезно всмотреться и в них, чтобы увидеть иные свойства консерватизма, может быть, менее броские, но до поры до времени приковывающие «среднего американца» к колеснице рейгановской политики.
Напомним, что поначалу консервативный поворот 70-х годов не носил четко выраженного политического характера. Он наметился в глубинах социальной психологии средних слоев, разочаровавшихся в либерал-реформизме и затосковавших по корням, по фундаментальным принципам индивидуализма, сложившимся как психический склад нации два века назад в обыденном сознании первых поселенцев. Фаза ускоренного экономического роста капитализма закончилась, и житейский опыт пострадавших от спада, от множества житейских же проблем и трудностей толкал иных к идеализации прошлого, доиндустриальных стилей жизни, правда, на современной технологической основе. Общественный идеал как бы переместился из будущего технотронного общества в патриархальный быт ушедших эпох. Этот сдвиг ценностных ориентаций произошел опять-таки на уровне обыденного сознания и повседневной практики.
За пять лет в середине 70-х годов более 10 миллионов квалифицированных американцев среднего достатка сами мигрировали из больших городов Северо-Востока, отравленных вредными газами, шумами, уличной преступностью, более высокими показателями инфляции и безработицы, в южный пояс — маленькие городки провинциальной Америки. Они искали социальное и психологическое пространство для индивидуальной инициативы, где можно было захлебнувшиеся темпы экономического роста уравновесить «качеством жизни» без амбиций, вернуться, как констатировал журнал «Тайм», к «меньшим масштабам, большей простоте и непритязательности в своей жизни».
Опираясь на результаты опросов общественного мнения, проводившихся институтами Харриса и Янкеловича, «Тайм» делал выводы, что «после долгих лет борьбы вокруг расовых проблем, наркотиков, секса, Вьетнама, «Уотергейта» и безработицы люди ищут покоя и нормальной жизни. В этих импульсах есть определенный отрезвляющий дух, порожденный социальными взрывами 60-х, убежденность в том, что более скромные и спокойные домашние радости важнее, чем жажда наживы и амбиция» 1.
И левые и правые политологи согласно отмечали, что сильным отрицательным стимулом для традиционалистского возрождения оказалась контркультура 60-х годов. Чем больше «масскульт» выпячивал ее яростный радикализм, затушевывая антимонополистический и демократический смысл протеста молодежи и связывая его с беспорядками уголовного свойства, тем сильнее нарастали раздражение и политическая энергия «настоящих» патриотов, подзуживаемых реакцией. Религиозные правофундаменталистские организации — «Моральное большинство» под руководством известного на всю страну пастора Джерри Фолуэлла, «Христианский голос», «Религиозный круглый стол» и другие — с позиций моральнорелигиозного традиционализма обличали падение нравов, вседозволенность, наркоманию, разрушение семейного очага, разгул порнографии и другие крайности контркультуры и «новой морали». При этом обрушивались с критикой на либерализм внутри Соединенных Штатов и на коммунизм на мировой арене как на главных виновников разрушения устоев и порядка.
Когда молодежный радикализм иссяк, столкнувшись с весьма ощутимыми политическими и материальными трудностями кризисов середины 70-х годов, консерваторы-традиционалисты использовали упадок национального духа как стартовую площадку для возвращения разочарованной постуотергейтской, поствьетнамской Америке милых сердцу средних слоев традиционных моральных ценностей — уважения к свободному предпринимательству, индивидуализму, святости семейного очага, духовной власти церкви, этике бережливости и дисциплины, поклонения американскому флагу.
В сюжетах голливудского кино наряду с критикой централизованного государства, опасной либеральной «вседозволенности» и «эксцессов демократии», рядом с обвинениями либералов в мягкотелой внешней политике, «допустившей утрату Америкой позиций мирового лидерства», стали появляться моменты позитивной программы. Традиционалистское движение, проявляясь по преимуществу в сфере морали, на уровне массовых умонастроений, все настойчивей тянуло массы к «возрождению предпринимательских инстинктов и творческого духа нации», к восстановлению устоев «американской мечты».
Прекрасным поводом для кампании по духовному возрождению Америки администрация сочла празднование двухсотлетия Соединенных Штатов. В пышных торжествах 1976 года по случаю дня провозглашения Декларации независимости открывалась редкая возможность снова пустить в оборот старые фундаментальные ценности: идею американской исключительности и урапатриотические лозунги об историческом мессианстве Америки; развернуть атаку на «аморальное» наследие контркультуры, попытаться вновь высадить ростки «американской мечты» в ее традиционном облике «сделавшего самого себя» индивидуалиста. Кинематограф и раньше, как мы видели, в кампании по «восстановлению связей с прошлым» играл не последнюю роль своими ретро-фильмами. А непосредственно к национальным торжествам в Голливуде реализовали, можно сказать на пробу, в порядке эксперимента, «смелый» проект прямолинейно традиционного типа поведения в картине «Роки».
Эту сладенькую сказку о заурядном, но упорном американце вряд ли заметили бы в иное время, но искусственно созданная во всей стране карнавальная атмосфера юбилейной эйфории решила дело. «Праздничная Америка, — как писал историк Д. Лейб в книге «Американская история и американский фильм», — почти в одну ночь оставила позади «Уотергейт», Вьетнам, стагфляцию и многие другие проблемы. Средства информации, которые так долго высвечивали негативные стороны американской жизни, теперь враз заговорили об упрямой упругости того, что принято было всегда называть «американской мечтой».
И «Роки» — фильм Джо Эвилдсена о чудесном возвышении «забытого американца» становится киносимволом этих празднеств. «Американская мечта» является в один прекрасный день рабочему-итальянцу из предместья Филадельфии, которому судьба дает шанс в виде одного-единственного показательного матча прославленного негритянского боксера Аполло Крида с «человеком из народа» в честь двухсотлетия. Тридцатилетний неудачник из местного боксерского клуба, опустившийся и ничего не ждущий от жизни громила с пудовыми кулаками, Роки Бальбоа по совету друзей принимает вызов расчетливого чемпиона. И Крид, с помощью менеджеров готовивший эффектное, но легкое зрелище к национальному празднику, сталкивается с настоящим американским характером. Зритель видит, как, будто по волшебству, вера в свои силы и упорные тренировки преображают не только тело рано обрюзгшего громилы, прозванного Итальянским жеребцом, но и его душу. На ринг, украшенный патриотической символикой, выходит уже боец, готовый к пятнадцати раундам изнурительного боя, во время которого Роки, сразу ставший фаворитом публики, не только не сдается, но даже ухитряется несколько раз послать чемпиона в нокдаун. В награду — 150 тысяч долларов, слава и признание любимой девушки.
Взвинченные шумной рекламой, на которую под праздники ушло в три раза больше, чем на сам фильм, зрители поверили Роки Бальбоа, и уже в апреле 1977 года, пять месяцев спустя после премьеры, фильм выходит в чемпионы кассовых сборов, а через год дает чемпионские 56 миллионов долларов. Воодушевленный успехом картины, попавший в центр внимания прессы счастливчик С. Сталлоне (который был ее автором дважды — как сценарист и исполнитель главной роли), взахлеб убеждал многочисленных интервьюеров: «Я верю, что страна в целом начинает изживать этот синдром всеобщего отрицания, эту нигилистическую хемингуэевскую позицию, согласно которой все в конце концов вянет и умирает»2. Он, пожалуй, искренней всех поверил в возвращение знаменитого американского оптимизма, потому что его самого судьба вознесла к вершинам успеха столь же стремительно, как и его героя.
Но праздники вышли скорее грустными, чем веселыми. Общим настроениям больше соответствовал сатирический «Нэшвил» Роберта Олтмэна, чем архаичный «Роки», да и жизнь вскоре вернулась в свое порожистое русло. Двухсотлетие Америки, по авторитетному суждению видного политолога Дэниела Бэлла, знаменовалось «концом американской исключительности». «Открытое президентство» Картера тоже не оправдало надежд: узкие, едва заметные тропинки из болота пессимизма, неверия и растерянности к восстановлению оптимизма, американского духа, веры в «великую американскую систему» люди прокладывали сами по обочине политического процесса, полагаясь на собственные силы на местах, в личной жизни.
Разный уровень общественного сознания определял здесь радикальность решения социальных проблем. Одни искали способы общественного переустройства в оживлении общинной идеологии XIX века, оставившей богатое наследие в виде опыта самоуправления на местах. Другие, о которых писал «Тайм», сосредоточивали свои усилия на индивидуальной психотерапии в собственном «окопчике» в виде уютного коттеджа тысяч за 35 — 40 и огородика на заднем дворе. Жизнь в таком «окопчике» пытались строить по советам психотерапевтов, чтобы добиться максимальной гармонии с природой, радости творческого труда, семейного уюта и прочих компонентов высокого «качества жизни». Так, «по-домашнему» выглядел для многих «новый» консерватизм, по рецептам которого «средний американец» находил компенсацию крушению честолюбивых планов карьеры и успеха, восстанавливал контроль над собственной жизнью, избегал ненавистной регламентации сверху. Люди сами стремились вернуть утраченную самостоятельность и результативность собственных поступков. Многим уже казалось, что лучшим временем было домонополистическое, доин-дустриальное прошлое с натуральным хозяйством, ручным трудом и общинным коллективизмом.
Уставшие от безрезультатных «крысиных гонок» за жизненными благами, от невыполнимых обещаний политиков, многие американцы теперь симпатизировали идеям искусственно сконструированного образа жизни, основанного на отказе от потребительской психологии и имперского мышления представителей «сверхдержавы». Уже упомянутый вчерашний «новый левый», баллотировавшийся в сенат США в штате Калифорния в 1976 году, Том Хэйден, разъясняя свою антимонополистическую платформу экономической демократии, призывал американцев не к политическим действиям, а к этике некоего гуманистического и скромного образа жизни. «Индивидуальный вклад каждого американца в борьбу с инфляцией, — утверждал он, — заключается в выходе из мира сверхпотребления, в отказе от роскоши, в персональной этике бережливости, которую раньше насаждали в целях накопления капитала и экспансии, а сейчас рассматривают как единственный способ выживания в эпоху ограниченных ресурсов»1.
Увлеченность индивидуальной «гигиеной духа» к концу десятилетия достигла в США такого размаха, что получила даже статус массового движения, известного под разными названиями: «добровольное опрощение», «творческое опрощение», «скромная жизнь», «феномен умеренности», «экологический образ жизни» и т. п. И хотя энтузиастов объединяли не организации, не партии, не конкретная политическая программа перемен в общественной системе, а лишь вера в собственные силы, в нравственное чувство ценности индивидуального, собственного бытия, жажда хоть какого-то общественно значимого деяния вовлекла в движение около 10 миллионов человек.
Самодеятельные попытки индивидуальной перестройки жизни с целью избежать жерновов государства и монополий, но и не «выпасть» из общества, как выпали в свое время «хиппи», не без усилий идеологов правого толка отлились в некую аполитическую формулу пассивного эгоцентризма, которую буржуазные теоретики и публицисты поспешили определить как самовлюбленный эгоистический «нарциссизм». А 70-е годы соответственно получили в американской литературе название «Я-десятилетие».
Историк Кристофер Лэш в книге «Культура нарциссизма» разъяснял ситуацию: «После политической сумятицы 60-х годов американцы занялись заботами о самих себе. Потеряв надежды улучшить жизнь каким-либо реальным способом, они обратились к психологии само-улучшения, к анализу собственных чувств, к изучению мудрости Востока, к употреблению «здоровой пищи», к бегу трусцой»2. Аарон Стерн вторил ему книгой «Я —
1 Hayden Т. The American Future, p. 82.
2 Lash Ch. The Culture of Narcissism. New York, 1979, p. 29.
нарциссический американец»1, утверждавшей формулу бегства от политики в гедонизм и самосозерцательность.
Манифестом «нарциссизма» и должен был стать фильм Джона Бэдхема «Горячка субботнего вечера», которым Голливуд выходил в 1977 году к массовому зрителю. В отличие от «Роки» он задумывался с размахом и людьми в шоу-бизнесе опытными. Фильм должен был закрепить визуально и музыкально смену эпох — социальной, хиппующей, рвавшейся в будущее без насилия и несправедливости, на нарциссическую, приватную, тяготеющую к укрытию в личной жизни от неприятных перемен. Продюсером фильма становится не кинематографист, а человек из мира музыки — удачливый импресарио Роберт Стигвуд, заработавший миллионы еще на биттлз, а позже — на шлягерах для модных хит-парадов. Он интуитивно угадал время для возвращения к «танцам до упаду», как в добрые старые времена рок-н-ролла. Финансируемый им популярный вокально-инструментальный ансамбль «Би-Джиз» по его заказу изобретает специально для будущего фильма музыкальные ритмы «диско», впитавшие в себя элементы негритянского соула, джаза и рока 40-х — 50-х годов.
Многомиллионная и многотысячная рекламная кампания, мифологизация имени Джона Траволты, бродвей-ского танцора и телеактера, выбранного на главную роль, открытие тысяч дискотек не только в США, но и в разных странах, танцевальные конкурсы, продажа миллионными тиражами альбомов «Би-Джиз» с музыкой из фильма — так подготавливался в 1977 году выход на экраны нар-циссической «Горячки субботнего вечера».
Кумир девчонок в местном диско-баре, герой Траволты работает подсобным рабочим в магазине. Двери «Диско-2001», бара в районе Бруклина, широко распахиваются, когда Тони с дружками входят в свои владения. Тони ввинчивается в круг, и публика расступается, давая место любимцу. Спина его прогнута, как у гарцующего скакуна, длинные ноги в непрерывном изобретательном движении, взгляд обращен внутрь себя. Он не танцует — священнодействует, выключаясь из рутины скучной жизни, забывая об убогости и бедности собственных родителей, о пустоте, которая ждет его самого впереди. Его обожают слишком доступные поклонницы, он — главарь уличной компании подростков, всегда готовой к драке с компанией с соседней улицы, он постоянный победитель танцевальных конкурсов. Благоухая парфюмерией и вожделенно совершая перед зеркалом ежесубботний ритуал надевания вечернего костюма на холеное тело (лобовая иллюстрация комплекса «нарциссизма»), Тони с нетерпением ныряет в свой «окопчик», свою экологическую нишу, где буйствует наркотическая стихия диско.
Куда девалось то вдохновенное чувство братства, доверия, взаимной любви, испытанное молодежью 60-х годов? Чувство, о котором свидетельствовали «Вудсток» и «Выпускник», о котором так восторженно говорила Давида Аш, героиня романа участницы студенческого движения американской писательницы Мардж Пирси «Вида»? Роман строится на противопоставлении прошлого десятилетия душевного подъема и тусклого, пустого настоящего. Героиня тоскует по праздничной атмосфере всеобщего братства 60-х. «Как чудесно ощущать себя соединенной широко и щедро с людьми во всем мире, — думала она, — с людьми, которые стремятся изменить жизнь, продвинуть ее вперед, с сетью единомышленников в каждом большом городе или университетском городке. Как чудесно, что есть семья» «Масскульт» сначала превратил эти стихийные порывы душевной открытости и раскрепощения, вдохновляющие чувства личной приобщенности к гуманистическому историческому творчеству в некую уцененную экзотику и — того хуже — в порнографию, затем, когда прекраснодушные бунтари оказались вытесненными на периферию общественной жизни, обрушился на моральную распущенность, на «новую мораль» категорическими призывами к «закону и порядку», выраженными (мы уже знаем как) в городских вестернах, и к концу 70-х наконец решился предложить свои консервативные варианты возвращения традиционной морали на круги своя.
В 1978 году от молодежных коммун остались одни воспоминания, но контркультурное наследие еще продолжало жить в Соединенных Штатах по крайней мере в многообразии стилей жизни, отклоняющихся от ригоризма ханжеских пуританских предписаний. И их скрытое соперничество тогда язвительно и остроумно изобразил в своем фильме «Идеальная пара» Роберт Олтмэн. Он как бы проверял на совместимость в комедийно-гротесковых ситуациях сюжета фильма добропорядочного традиционалиста и юное существо из рок-ансамбля, живущее как бог на душу положит. А бог положил ей встретиться в
1 «Семьей» тогда называли молодежную коммуну. Цит. по: «Соврем. худож. лит. за рубежом», 1984, № 5, с. 73.
компьютеризированной брачной конторе с сорокалетним одиноким джентльменом, отыскавшим ее согласно своим сексуальным наклонностям в обширной видеокартотеке своднической машины. Встретиться и проникнуться к нему симпатиями и искать счастья в совместной жизни.
В названии фильма — явная ирония по поводу того, что из этой затеи получилось. Ведь этим симпатизирующим друг другу людям предстояло соединиться не только телами, но и своими жизнями. А они оказались несовместимыми. Ибо она привыкла жить по-бродяжьи, на обширном и обшарпанном чердаке, где работает, ест, спит и любит весь ее дружный коллектив, все эти прекрасно уживающиеся вместе гомосексуалисты, лесбиянки, матери-одиночки, многодетные супруги — словом, все существовавшие в 70-е годы в США и претендовавшие на признание экспериментальные варианты семейного счастья. Он же всю жизнь прожил в старинном замке, в богатой пуританской семье с многочисленными родственниками, подчиняясь раз и навсегда установленному патриархальному укладу, деспотической дисциплине семейного ритуала, введенного главой семьи, вздорным и властным владельцем крупного состояния.
Джентльмен чувствовал себя явно неуютно за тонкой простынкой, отгораживающей постель его возлюбленной, их брачное ложе от простора чердачного общежития рок-коммуны. Не только любить — раздеться в таких условиях джентльмену было, естественно, не под силу. Когда же влюбленные в поисках уединения перебираются в замок и украдкой пробираются в роскошную спальню джентльмена, их и здесь поджидает неприятность, но уже другого свойства: их изгоняет из уютной постели холодное презрение всей семьи, нежданно-негаданно застывшей в негодовании на пороге спальни во главе с самим патриархом семейного клана, разумеется, в самый неподходящий для официального знакомства момент.
На чьей стороне симпатии Олтмэна, сомнений фильм не оставляет. Бредовость деспотического уклада передает он, к примеру, сценой нелепого ежевоскресного концерта симфонической музыки в домашних условиях, на котором должны присутствовать и благоговеть все члены семьи, так как дирижирует сам престарелый глава дома, стоя за пультом... перед гремящей стереофонической системой. А невыносимую тягостность традиций олицетворяет добровольный трагический уход из жизни юной сестры героя, не выдержавшей семейного гнета. Но и отказаться от привычного уклада ради бродячей жизни в рок-автобусе герой не может. Так он и остается стоять на дороге, глядя вслед уносящемуся вдаль своему счастью...
Надо сказать, что музыкально-танцевальная стихия в 70-е годы гораздо в большей степени, чем кинематограф, поглотила и растворила в себе вчерашние гражданские порывы и политическую активность молодежи. Вернувшийся на крыльях ностальгии рок-н-ролл закружил в своих истерических ритмах разочаровавшихся в политике младших братьев и сестер тех, кто шагал в рядах антивоенных демонстраций с песнями Джоан Баэз, Арло Гатри и Боба Дилана всего несколько лет назад. Кинематограф лишь подхватил новую моду и, сплавляя эстраду с экраном, породил после «Горячки субботнего вечера» специфическую разновидность молодежного мюзикла — так называемый тюк-мюзикл.
Конечно, и «Напомаженный»1 (1978), и «Свободный» (1980), и «В порыве танца» (1983) — картины молодежные. Но, кроме того, их особым качеством, обусловленным ритмической природой рок-н-ролла, стало преобладание не лирических мелодий и длинных планов вставных музыкальных номеров, характерных для старых мюзиклов, а сквозной музыкальности и ритмичности действия. Музыка становится концептуальной характеристикой молодежной среды, ее знаком, миром. Эстетика рок-мюзикла подчеркивала экзальтированную изолированность индивида. Как верно подметил критик Дэйв Кер, «если раньше мюзиклы были обращены во внешний мир, то теперь они смотрят внутрь героев; если раньше персонажи тянулись друг к другу, искали гармонии с обществом, то теперь они видят только себя и осознают свою автономность от общества»2.
К середине консервативных 80-х годов эгоцентрическая пассивность культуры «нарциссизма» в кинематографе вытесняется обновленными ценностями старой Америки, духом возрождения, насаждаемым пропагандистской машиной рейгановской администрации. Причем в первую очередь это делается в молодежных фильмах и на моднейшем материале — на родившемся в негритянских кварталах танцевальном стиле брейк-данс, сочетающий механистичность робота, пантомиму, аэробику и акробатику. В этом материале режиссер Адриан Л айн пытается совместить «новую мораль» с моральными заповедями консерватизма. Героиня «В порыве танца» (1983), с одной
1 Другой перевод — «Бриллиантин».
2 "American Film”, 1983, May, p. 37.
стороны, исправно посещает церковь, но, с другой стороны, не питает никаких иллюзий насчет классовой гармонии (громогласно заявляя, например, что ей «не нравится ни ужинать, ни вообще куда-либо ходить с хозяевами»). Она ведет экстравагантный «молодежный» образ жизни, живя одна на огромном, свободном от мебели и предметов женского обихода чердаке, но тем не менее строго блюдет свою честь, явно не одобряя чрезмерную свободу нравов. Ее зовут Александра, чаще Алекс, ей восемнадцать лет, она (заметим сдвиг внимания на рабочий класс!) труженица — работает сварщицей на заводе, а вечером подрабатывает эстрадной танцовщицей в местном баре с игривым названием «Может быть». Почему танцовщица стала сварщицей? «Надо же как-то зарабатывать на жизнь!» — отвечает Алекс. И еще потому, что у нее есть мечта: учиться в Питтсбургской консерватории танца.
Сегодня любой добропорядочный папаша из католиков или протестантов признал бы эксцентричную, но целеустремленную Алекс своей по духу, до того она порядочна и моральна. Вот и дружит она трогательно с престарелой элегантной дамой, бывшей балериной, которая подарила ей на всю жизнь любовь к танцу и вселила веру в свои силы («Музыка расцветает во мне, и я не могу ни секунды без движения!»). Вот и подругу свою ни минуты не колеблясь с риском для жизни силой вытаскивает из притона («Продаешься? Я — твоя подруга и не допущу этого!»), и жизнь свою железно, по-американски подчиняет осуществлению заветной цели, к которой идет сама, не желая протекции и легких путей к успеху. С другой стороны, близка Алекс и тем, кто искал в Америке послевьетнамской эры духовности и человечности. Ведь мечта ее не меркантильна, она мечтает не о богатстве, а о танце, о высоком искусстве балета. Она равнодушна к роскоши, ей неведома праздность, чужд весь этот мир денег, предпринимательского азарта. Ее окружают такие же простые, но живущие высокой страстностью друзья: подруга Джинни добивается заветной цели стать фигуристкой, толстяк Ритчи, работающий поваром в том же баре, мечтает о сцене — и не только мечтает, но и прорывается, набравшись смелости, к зрителям в своем баре, а затем и вовсе уезжает в Лoc-Анджелес, в Голливуд...
Нет, в чем-чем, в архаике и затхлости формы «новый» Голливуд не упрекнуть. Он переваривает буквально на глазах самые, казалось, радикальные и «революционные» идеи и в то же время ухитряется преподносить традиционалистские обветшалые ценности в сверкающих обертках новизны и свежести. «В порыве танца» не стал второй «Горячкой субботнего вечера», но все же его 36 миллионов, собранные только в США и Канаде, — убедительное свидетельство его посильного вклада в поддержание «морального возрождения» молодых американцев.
Главное для Голливуда 80-х — поднять национальный дух, вселить бодрость и старую веру в возможности энергичного, предприимчивого индивида. И вот в рок-мюзикле «Выжить» (1983) вновь возникает Тони Манеро в исполнении все того же Джона Траволты. Как небезызвестный Роки, упорством и инициативой он добивается успеха в блестящем шоу. Сравнение с Роки не случайно: поставил этот «воспитательный» фильм Силвестр Сталлоне... Старая мораль теперь удивительно спокойно уживается рядом с еще вчера враждебной ей «новой моралью», с той «возмутительной» свободой нравов, на которую обрушивались фундаменталисты преподобного Джерри Фолуэлла.
Все может ассимилировать и подчинить себе торжествующий снова дух предпринимательства! Пример тому — комедия Пола Брикмэна «Рискованный бизнес» (1983). Симпатичный Джоэл Гуд сен — семнадцатилетний школьник из богатого дома в пригороде Чикаго. Он то и дело пускается в пляс под модные ритмы, ноги ходуном — до того бьет из него неуемная энергия молодости. Оставленный на хозяйство укатившими в Европу родителями, примерный сын и будущий выпускник школы бизнеса вкушает, подстрекаемый более искушенными приятелями, запретные плоды развлечений. Сначала выкатывает из гаража роскошный папин «Порше», затем открывает папин бар с напитками, включает суперстереосистему и пускается во все тяжкие...
Куда же дальше потянет героя неизбежная как для стойкого консерватора, так и для горячего либерала пора юношеского полового созревания? Автор не погрешил против природы: разумеется, к женщинам. Индустрия любви в Чикаго, как убедительно показывает экран, работает с доставкой на дом: один-два звонка по объявлению в газете — и у нашего героя в гостях наконец его героиня. Первые радости умело направляемых ею чувств, сентиментальные прогулки под луной, апофеоз страсти в роскошной спальне родителей, словом, все, как заказывал клиент... Но не в этих всем понятных шалостях и радостях дело. Суть фильма — в приспособлении разыгрываемых симпатичными молодыми людьми смешных, трогательных и пикантных ситуаций для прославления старой добродетели — предпринимательской инициативы. Это сделано в фильме поистине с голливудским изяществом. Когда папин «Порше» оказался на дне пруда, куда закатила его шаловливая Лана, обаятельная подружка Джоэла, им срочно понадобились деньги, чтобы до приезда родителей замести следы детских шалостей. И Лана, сообразуясь с неожиданно возникшей ситуацией, находит выход: тут же предлагает Джоэлу, несколько дней всецело владеющему родительским домом, предпринимательский план на одну ночь. Образец предприимчивости этот план! В огромном доме родителей Джоэла она стремительно развертывает однодневный публичный дом, а Джоэлу отводит роль его хозяина, то есть сутенера, собирающего плату с посетителей, выдающего зарплату девочкам, выплачивающего налоги тут же объявившемуся налоговому инспектору, — ну совсем, как на занятиях в школе бизнеса! Так что родители, заставшие дом в полном порядке, и школьные учителя Джоэла, обучающие его предпринимательским навыкам, могут быть вполне удовлетворены. То, что не удалось в 1978 году Олтмэну в «Идеальной паре» — соединить «новую мораль» с ценностями «морального большинства», удалось Брикмэну в 1983-м. Обескураживающая эволюция ценностей...
Стоит обратить внимание на даты, чтобы увидеть, как быстро «правела» Америка и менялся ее духовный климат. В «Горячке субботнего вечера» подростки 1977 года, создавшие себе изолированную от жизни музыкальную «диско-нишу», все же еще мучались раздумьями о смысле жизни: на глазах Тони его брат-священник уходит из церкви, чтобы не словами, а делом помогать людям в местной общине бедняков; сам Тони тянулся не к танцующей, а к целеустремленной и читающей подруге, смотрящей на любовь более серьезно, чем его доступные подружки; да и общая атмосфера картины была далеко не столь беззаботной и бездумной, как в ее двойниках, сразу же размноженных кинобизнесом в разных странах мира. Здесь многие навали себя, и «Горячка...» собрала в прокате рекордные 74 миллиона долларов.
В 1979 году Силвестр Сталлоне сам берется за режиссуру «Роки-П», чтобы показать, как теперь живет его герой, в год двухсотлетия США познавший успех и славу. Когда истощаются заработанные в первой серии кровавым юбилейным матчем деньги, но еще живет слава об
Итальянском жеребце, он принимает приглашение телевидения рекламировать трикотаж и парфюмерию. Но, конечно, душа бойца не лежит к кривлянью, и актера из него не выходит. А денег тем не менее уже нет. Нужда заставляет беременную жену таскать тяжести, выжимая слезы жалости из сентиментального Роки. Он сам вынужден наняться чернорабочим на скотобойню, демонстрируя и здесь высокие морально-волевые качества настоящего, стопроцентного американца даже тогда, когда его вскоре настигает знакомая по тем временам многим беда — сокращение штатов и увольнение. Далее следует очередной виток невыносимых ситуаций житейской безысходности. Чего стоит одно беспамятство любимой жены, впавшей в коматозное состояние после родов! У ее постели рыдают все — и Роки и его верные друзья. Отныне у Роки остается один путь — назад, на ринг, к новой кровавой схватке с жаждущим реванша черным чемпионом. Чему и посвящена остальная, большая часть фильма, в подробностях изображающая снова и изнурительные тренировки и сам бой, еще более похожий на избиение.
«Роки-И» приносит Сталлоне без малого 42 миллиона долларов, и он тут же приступает к реализации еще одной серии — «Роки-Ill». Вопиющая примитивность третьей части «рокиады» и заставляет вспомнить о быстротечности времени: третий фильм вышел в 1982 году и, по-видимому, отвечал настроениям рейгановской эпохи. То, что в «Роки» 1976 года было только эпизодом и что можно было рассматривать как символ цены, которой достается успех, — боксерский матч, испытание воли к победе, в «Роки» образца 1982 года превращается в самоцель, исчерпывающую все скудное духовное содержание фильма. На экране царит, торжествует животная жажда физического превосходства. Цель, отныне поглотившая Роки, — размолотить кулаками такую же, как он сам, гору мяса и мускулов по имени Аполло Крид. Теперь Роки Бальбоа — преуспевающий победитель, любимец и герой своего предместья, он, по мысли автора, носитель рейгановских добродетелей, с навязчивостью рекламы демонстрирующий их скудный набор, почти не прибегая к помощи сюжета. Его и нет в этом полурекламном-полуспортивном фильме. Он скорее похож, вернее, был бы похож на жестокий спортивный репортаж о подготовке профессионалов к матчу и о самом матче, если бы не сусальные вставные сценки, призванные показать горячую любовь и привязанность героя к своей жене и семейному очагу, преданность мужской дружбе, патриотизм и, разумеется, ослепительное благосостояние преуспевающего Роки. И все это на фоне нарастающего тупого и торжествующего насилия, выдаваемого за спорт и спортивный азарт.
Трудно представить, но в 1982 году этот явно не дотягивающий до художественного произведения бездуховный шедевр рейгановского оптимизма собирает в прокате более 65 миллионов! Как и «Охотник на оленей» в области внешней политики, «Роки» становится поворотным пунктом в изменении позиций американцев во внутренней политике: он фиксирует завершение этапа самобичевания и упадка национального духа и начало подъема к энтузиазму, пик которого по «странному» стечению обстоятельств совпал со второй избирательной кампанией Рейгана 1984 года, умело использовавшей цикл экономического подъема для утверждения пропагандистского лозунга «Америка возвращается!».
До чего убог, духовно скуден мир, в который своими призывами и символическими победами пытался возвратить Америку ультраконсерватизм, с очевидностью исторического документа показали сами голливудские картины 80-х годов. Все они, от признанной главой американской делегации на XIII Международном кинофестивале в Москве 1983 года удручающей неудачи «От всего сердца» — дани, которую принес консерватизму лидер «нового» Голливуда Фрэнсис Форд Коппола, до новых сказок о «золушках» (к ним нынче уходят принцы, покидая свои золоченые чертоги ради милой, с которой и в шалаше рай), вызывают глубокое разочарование.
Начало нового десятилетия Голливуд ознаменовал поразительными по своей скудной простодушности кинообразцами семейных добродетелей, путь к которым проложили игривые комедии вроде «Смены сезонов» (1980) Ричарда Лэнга, где, к примеру, высмеивалась и отвергалась чрезмерная моральная смелость открытых внебрачных связей. Комедия, украшенная участием эксцентричной и обаятельной Ширли Мак-Лейн, обыгрывает эксперимент, поставленный супружеской парой, решившей выехать на отдых вчетвером, то есть со своими любовниками. У мужа, сорокалетнего преподавателя колледжа, это очаровательная, влюбленная в него студентка (молодая актриса Бу Дирек), у жены (Ш. Мак-Лейн) — совершенно случайный спутник, в отместку мужу затянутый ею в постель рабочий парень, очень кстати явившийся по вызову на дом чинить мебель. Декларируя «новую мораль», супруги поначалу настаивают на своем праве на свободу чувств, но постепенно нагромождение комических неловкостей выявляет все нарастающий дискомфорт ситуации. И фильм заканчивается естественным торжеством добродетели.
Среди более назидательных фильмов следует, пожалуй, отметить «Артур» (1981) С. Гордона, прежде всего из-за участия в нем Лайзы Минелли и внушительных кассовых сборов (41,5 миллиона долларов), а также мелодраму «Нежное милосердие» (1982) Бересфорда, сделанную как будто по спецзаказу все того же преподобного Фолуэлла, — фильм, отличающийся редкой прямолинейностью моральных заповедей. Первый — комедия, в которой благодаря игре талантливой актрисы сглаживается разительное сходство с давно выброшенными на свалку мелодраматическими и сентиментальными историями о «золушках». Смешно показывает своего героя, вечно пьяного, капризного великовозрастного сынка миллионера, комический актер Дадли Мур. Его каприз заходит столь далеко, что он вопреки воле отца женится на простой «средней американке» из рабочей семьи. Зрителям, видимо, нравится дерзкий, вызывающий демократизм этой американки, героини Минелли, которая, например, ухитряется сохранить чувство собственного достоинства, несмотря на то, что поймана с поличным в супермаркете за мелкое воровство. Лихость, с которой она общается с задержавшим ее полицейским, и привлекает к ней случайное внимание великовозрастного бездельника из высшего света, который — надо же, какое совпадение! — обладает тем же задиристым характером, из-за которого он, собственно, и не просыхает. Очевидная общность характеров, по мысли авторов, и сближает героев, а их пренебрежение к материальным благам и сила внезапно вспыхнувшего взаимного чувства приводят фильм к благополучному концу: жених отказывается от навязываемой ему родственниками богатой невесты-миллионерши вместе с причитающимися ему миллионами во имя бескорыстной любви. Хороший урок для молодежи!
Второй фильм, увы, без тени юмора. Спившуюся «звезду» эстрады (эту роль старательно играет Роберт Дьювэл, всячески подчеркивая искренность переживаний своего героя) подбирает в беспамятстве хозяйка одинокого мотеля, похожего на хутор в степи, — симпатичная вдова с симпатичным ребенком. Физический труд на свежем воздухе вдали от соблазнов большого города, большого успеха и большого шоу-бизнеса приводит героя в чувство и восстанавливает его душевные силы настолько, что он уже способен на глубокую чистую любовь (конечно, к находящейся поблизости вдове). Преимущества новой жизни настолько велики, что прославленный певец отказывается решительно и навсегда от навязчивых попыток обнаруживших его местопребывание поклонников вернуть своего кумира на сцену.
Этот слащавый кинообразец для вновь обращенных традиционалистов напоминает чем-то школьный букварь, до того в нем все расписано по полочкам. Возвращая своего героя, этого блудного сына пуританской, патриархальной Америки, к семейному очагу, авторы предлагают зрителям весь арсенал добродетелей «истинного американца» эпохи ограниченного экономического роста. Так на место традиционного деятельного индивидуализма, пока не набрала силу рейгановская кампания по восстановлению духа, подставлялся пассивный эгоцентризм, окрашенный мягкими тонами грусти по патриархальному прошлому. Ненавязчивое прославление скромных ценностей: семьи, ручного труда для собственного потребления, прелестей одноэтажной Америки малых городков, названия которых не упомнят и персонажи фильма, церкви, без которой немыслима эта благопристойная жизнь (герой Дьювэла, остепенившись, даже сам совершает обряд крещения и крестит своего приемного сына), пастора, объединяющего под сенью церкви всю соседскую общину, разбросанную в окрестностях этого маленького городка, — вот явная дидактическая цель этого фильма. В нем нет ни слова о политике, о социальных проблемах, о войне и мире. Только вдова, ставшая, конечно же, женой возвращенного к жизни героя, отдает долг памяти на могиле своего мужа, погибшего во Вьетнаме. Этого достаточно, чтобы проследить истоки ее добропорядочности, чтобы дополнить тщательно подобранный букет добродетелей «истинным американизмом» и в вопросах внешней политики.
Ветры традиционализма разгулялись над Соединенными Штатами, возглавляемыми обожающим правопопулистскую риторику президентом, настолько, что и признанный глава «новой волны» Ф. Коппола развернул по ним свои паруса. Его музыкально-танцевальная мелодрама «От всего сердца» оставляет странное ощущение капитуляции после остропроблемного фильма-памфлета «Разговор», после масштабного эпоса «Крестного отца» и многомиллионного устрашающего «Апокалипсиса сегодня». Фильм «От всего сердца» снимался уже в новой студии, купленной Копполой в марте 1980 года за 6,7 миллиона на территории Голливуда, куда и переместилась его собственность — кинокомпания «Зоотроп». На съемках Коппола использовал новейшее видеоэлектронное оборудование, мультипликационные трюки компании «Колосл пикчерз», технические новшества Д. Лукаса, применявшиеся им при работе над космическим блокбастером «Звездные войны», но при этом отказался от персонального стиля, перенес съемки с шумных улиц в тихие павильоны, использовал магнетически модные музыкальные формы.
Для чего же все это? «Я хотел снять фантазию в стиле диснеевских фильмов...» «Я вижу себя композитором фильма...» «Я хотел снять очень простой фильм на темы любви и ревности...» — раздавал Коппола интервью налево и направо. В те дни на улицах американских городов шли небывалые в истории Соединенных Штатов демонстрации самых разных слоев населения против непомерных расходов администрации на вооружение, за замораживание ядерных арсеналов, а Коппола, всегда отличавшийся умением угадать главное течение в массовых настроениях, выращивал в пластико-неоновых декорациях экзотическую цветовую феерию, назидательную притчу о поссорившейся в своем уютном домике парочке — служащей бюро путешествий и мусорщике. Пустяковая ссора, по замыслу режиссера, ломает семейную идиллию, и они, каждый по-своему, бросаются в ночной водоворот сверкающего огнями Лас-Вегаса. Наверное, мишура вечного праздника, с которым олицетворяется в США эта знаменитая обитель игорного бизнеса, должна символизировать несбыточную «американскую мечту», служить метафорой всего общества, похожего на игорный дом, где всем дано играть, но никому — выиграть. Отсюда назидательный финал в духе «Нежного милосердия»: к утру уставшие от поисков счастья, разочарованные искатели приключений возвращаются в свое уютное гнездышко, откуда так необдуманно выпорхнули накануне. За витражной красочностью и водевильной прихотливостью этой слабоинтригующей истории трудно разглядеть какой-либо иной социальный или морально-нравственный смысл.
Ловя все время ускользающий от него пульс времени, Коппола попадает в плен неоконсервативной идеологии и с ее позиций продолжает искать сегодняшние векторы общественных настроений. Он даже в конце концов выходит на актуальную тему — на новое поколение неприкаянных молодых. Молодежная проблематика картин конца 70-х — начала 80-х годов — «Мой телохранитель», «Лисы», «Воины», «Скверные мальчишки», «Сорок чертей» — указывала на нарастание гнева и нетерпимости на самых нижних ступеньках общественной лестницы. Паулин Кэйл первой заметила скорое истощение консервативных иллюзий в молодежной среде. Она писала о фильме Уолтера Хилла «Воины» (1979): «Тони Манеро и Стефани из «Горячки субботнего вечера» жаждали вырваться из грубой ограниченности жизни рабочего класса; они надеялись достичь привилегий среднего класса, которые так цинично еще недавно презирала образованная, антивоенная публика (тем не менее охотно потреблявшая их). Ныне, в «Воинах», персонажи находятся так далеко на дне общества, что даже не стремятся подняться до уровня среднего класса и, следовательно, завидуют и ненавидят его... С «Воинами» фильмы возвращаются к своим социальным функциям выражения гнева обездоленных...».
Но Коппола, к этому времени переметнувшийся к консерваторам, этот гнев обездоленных не может уже ни ощутить, ни, следовательно, выразить. В этом не могут помочь даже просьбы студентов, приславших ему в студию в 1980 году письмо, в котором вспоминалась давнишняя книга С.-И. Хинтон «Изгои». Книга была опубликована еще в 1967 году и разошлась тогда огромным тиражом более 4 миллионов экземпляров. Успех ее был таков, что ее сразу перевели на несколько языков, ввели в учебную программу средних школ во многих штатах и... вскоре забыли. Быстротечная ее популярность была обязана правдивому и незатейливому рассказу о мире подростков маленького городка Талса в штате Оклахома, где скромные притязания уличных мальчишек разбивались о неприступную стену социального неравенства. Поначалу мало кто знал, что под псевдонимом С.-И. Хинтон (издатели нарочно не раскрывали ни пол, ни возраст неизвестного автора) скрывалась пятнадцатилетняя девочка Сюзи, живущая среди этих мальчишек и воспевшая их с простодушием и безыскусностью ребенка.
Коппола изучил вопрос и решил снимать фильм по книге Хинтон: «Я понял, что хочу сделать картину о молодежи, о принадлежности к сплоченной группе, с которой можно себя идентифицировать, в которой только и возникает уверенность, что тебя ценят и любят»2.
1 “The New York Times”, 1979, 2 March, L-C7.
2 Из буклета, присланного на XII МКФ фирмой «Продьюсерс сэйлс организэйшн» из Калифорнии.
Двумя годами раньше Паулин Кэйл писала: «Воины» раскрывают дух городских мальчишеских кланов, проникают в их ощущение власти над улицей, с которой изгнаны другие кланы» 1. Коппола: «Несмотря на то что эти ребята бедняки и ничем не примечательны, повесть наделяет их красотой и благородством. Я хотел взять молодых уличных крыс и наделить их героическими пропорциями»2. И взял. И наделил. И похоронил поданную П. Кэйл мысль. И прислал в Москву, на фестиваль, социально и эстетически наивный фильм вне времени и пространства, слегка напоминающий пересказанную своими словами «Вестсайдскую историю» об «обществе на углу улицы» с подробностями психологии подросткового поведения, известными из учебников социологии: мгновенная вспыльчивость, готовность к отпору, болезненное самолюбие всей этой среды недоученных, неустроенных, необласканных ребят всех времен и народов. Здесь они называют себя «грязнулями» и готовятся к бою с «пижонами», сытыми сынками с другого конца улицы.
В центре фильма — традиционная драка между «грязнулями» и «пижонами», робкие притязания на недосягаемую для «грязнули» девушку с «той стороны» и нож, всаженный по самую рукоятку рукой почти ребенка в спину обидчику... И просветление трех бежавших от закона юных изгоев, снизошедшее на них в приютившей их заброшенной церквушке. По воле режиссера они бросаются в огонь, спасая маленьких детишек и искупая тем самым тяжкий грех убийства в глазах зрителя. Один из них умирает на больничной койке от ожогов, оставляя другу записку — поэтическое послание, достойное пера романтика XIX века.
На следующем Международном кинофестивале в Москве, летом 1985 года, Коппола показал свой новый фильм «Коттон-клаб». И снова нельзя не заметить, как старается опытный и одаренный режиссер поймать время в этом музыкально-негритянском ретро-фильме. Высокий класс режиссуры, рука мастера чувствуется в эмоциональных мизансценах, энергичном монтаже стильного фильма о «золотом веке» негритянской эстрады, переносящего зрителя в Гарлем 30-х годов, когда в Коттон-клаб блистали лучшие черные танцоры и джазовые музыканты вплоть до великого Дюка Эллингтона. Максимально избавленный от груза социальных проблем, «Кот1 “The New York Times”, 1979 2 March, L-C7.
2 Ibid.
тон-клаб» зато обстоятельно оснащен прекрасными музыкальными и танцевальными номерами, в которых блещет сегодняшняя «звезда» Бродвея чечеточник Грегори Хайнс, насыщен сентиментальными любовными историями и многими атрибутами старых гангстерских фильмов.
Нет никаких сомнений, что общий эмоциональный тон «Коттон-клаба» мажорный. Коппола славит Америку. Но делает это, как всегда, тонко балансируя на гранях разных идейных концепций. Например, отдавая себе отчет в изменении социального, политического и культурного статуса негритянской части населения США, выражающемся по-разному, в том числе в феномене Джесси Джексона, впервые в истории выдвинутого кандидатом в президенты США от имени черной Америки, он весьма уважительно обращается в своем фильме с черными персонажами, что весьма слабо соответствует реальности 30-х годов. Стилизуя под старые гангстерские фильмы, он отходит от своего же «Крестного отца», хотя метафора бизнес — это мафия, мафия — это бизнес принесла ему в свое время славу социально значительного художника. Для чего этот отход? Чтобы на фоне модных стилизаций рассказать трогательную историю о том, как двое влюбленных в конце концов вырываются из-под ига гангстера — кровожадного «голландца Шульца»? Чтобы показать звероподобных гангстеров, как будто вышедших из кадров старых фильмов? Но и эта стилизация под архаику забытых жанров, и взаимоотношения нанятых «голландцем Шульцем» симпатяги-музыканта Дикси и красотки Веры отходят на второй план, уступая атмосфере музыкального праздника, который царит в Коттон-клаб.
В целом апологетический кинематограф США к середине 80-х годов становится на редкость скучным. Его назидательно-нравоучительный тон уводит героев все дальше от острых проблем, которые еще недавно захлестывали экран сверхбурными политическими страстями. Художники, работающие над социальным заказом на положительного героя в духе рейгановского «Америка возвращается!», вынуждены, чтобы не выглядеть уж совсем художественно беспомощными, уводить своих героев в глухие леса, на природу, где, например, нисходит умиротворение на пожилую пару, передающую свой жизненный опыт десятилетнему мальчишке в фильме Марка Риделла «На золотом пруду» (1981). Свои внушительные 63 миллиона долларов этот скромный фильм собирает, конечно, благодаря прекрасной игре выдающихся актеров американского кино Генри Фонды и Катрин Хэпберн, хотя не следует сбрасывать со счетов и притягательность тех простых истин, которым учит внука старый американец, отправляясь с мальчиком в лес на охоту, на рыбалку в протоку, проваливаясь с ним по горло в студензчо воду, преодолевая и побеждая...
Или обращаться в прошлое, как Роберт Бентон в картине «Место в сердце» (1984). Это добротный фильм, о котором уже говорилось, был бы гимном лучшим человеческим качествам, если бы воспринимался вне исторического времени и пространства. Но в том-то и дело, что миллионами американцев он воспринимается под знаком лозунга «За трудолюбие, бережливость, семью, добрососедство, церковь и американский флаг!», в качестве призыва консерваторов к «моральному возрождению» нации, ради которого из фильма начисто вытеснены невеселые реалии послекризисных 30-х годов. «Красные тридцатые» вошли в историю американского кино классическими фильмами Джона Форда «Гроздья гнева» и «Табачная дорога». Консервативные 80-е войдут в историю американского кино фильмами Копполы и Бентона, которые все же классикой не станут. Для этого им недостает реализма и подлинного демократизма.
В ПОИСКАХ «АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОБЩЕСТВА»
В пестром переплетении различных тенденций, рожденных в жизни США кризисным временем, свое особое место занимает поиск социальных альтернатив: «альтернативных институтов», «альтернативного образа жизни», «альтернативных ценностей». Этот поиск альтернатив государственно-монополистическому корпоративному развитию Америки получил импульс снизу, от масс, и идет он в разных направлениях. Нередко инициативу здесь проявляют консервативные типы сознания, стремящиеся к восстановлению общественных структур и морали домонополистической эпохи. Чаще — это либеральнореформистские антимонополистические попытки общественного контроля над корпорациями, стремление к демократизации экономики и управления. Иногда — это и анархоутопические устремления в сторону от больших общественных структур, к плюрализму, то есть к разнообразию образов жизни на основе современной технологии и автономности от большого бизнеса, к миру коммун, соседских общин, кооперативов. Иногда это индивидуальные усилия по формированию антипотребительской этики экологистов, защитников окружающей среды. В этих поисках идет обкатка разных идеологических концепций, направленных на сохранение и «улучшение» капитализма, на более или менее реалистическое приспособление его институтов к меняющимся историческим реальностям.
Все чаще рядовой американец противопоставлял большому бизнесу малый, количественному росту качественный, научно-техническому прогрессу прогресс человека, труду ради материального вознаграждения труд ради творческого удовлетворения, разграблению природы ее защиту. Люди начинали понимать необходимость переосмысления фундаментальных целей всей капиталистической формации. Поиск альтернатив — несомненноплодотворная тенденция американской общественнополитической жизни. Он способствовал, в частности, политическому активизму нового типа. Как отмечают советские исследователи, «в 70-х годах монополистическому капиталу начинают реально противостоять новые, неизвестные ранее общественно-политические силы, не претендующие на изменение системы, но ставшие ощутимой преградой его всевластия в обществе. Выражением этих сил стали движения потребителей, защитников окружающей среды, экологистов, сторонников уравнения доходов...»1. И еще: «Политически активная часть демократической интеллигенции избрала стратегию «малых дел», с головой окунулась в местную политику или направила свою энергию на решение частных вопросов»2.
Этот низовой активизм называют по-разному: «новое движение граждан», «новый популизм», «гражданская революция», «местные движения», «движение соседских общин», «движение общественных интересов». Но суть его заключалась в активизации остатков общинной демократии XIX века в виде различных добровольных ассоциаций — за пределами основных политических партий... Поиск путей демократических преобразований в 70-е годы шел, как говорят социологи, на микросоциальном уровне — в таких мельчайших и традиционных для США ячейках общества, как церковный приход, местный клуб, соседская община, товарищеский кооператив. Под лозунгом «опоры на собственные силы» надежды на решение социальных и экономических проблем переносились с глобальных концепций на теорию «малых дел», с федерального уровня на местные структуры власти, на самодеятельные усилия населения по защите своих интересов на местах.
Движение соседских общин, местных обществ пожилых американцев, женских групп, групп гражданского действия начиналось в загнивающих коммунальных хозяйствах городского гетто, где пришли в негодность жилой фонд и коммуникации, до опасных пределов загрязнилась среда обитания, где закрывались школы и больницы из-за скудности муниципального бюджета и непомерных тарифов на коммунальные услуги, где неудержимо росли безработица, преступность, наркомания и социальная дезинтеграция. Именно здесь, на этом скромном социальном пространстве, в «послевьетнамскую эру» заново начиналось массовое демократическое сопротивление рядовых американских граждан корпоративному капитализму.
1 Соединенные Штаты Америки. М., «Мысль», 1982, с. 289.
2 Там же, с. 326.
Оно как бы примыкало слева к движению за «добровольную простоту», за «экологический образ жизни», но шло дальше — от пассивного индивидуализма, направляющего свои усилия на «гигиену духа», к активным социально-политическим действиям. Усилиями местных сообществ создавались отряды добровольцев по борьбе с уличной преступностью, общинные советы по контролю за расходованием статей местного бюджета, за экономическим развитием региона путем демократического давления на законодательные собрания штатов, комитеты граждан за охрану окружающей среды, группы защиты интересов потребителей (под руководством известного своими антикорпоративными судебными исками юриста Ральфа Нэйдера).
На Первом общенациональном фестивале региональных фильмов, проходившем в 1979 году в Солт-Лэйк-Сити, штат Юта, премию и награду в тысячу долларов среди других награжденных получил фильм «Собственность» Пэнни Аллена. Он снимался на натуре, в обветшавшем гетто города Портленда, штат Орегон, где жители, объединившись в соседские коммуны, пытались спасти свои жилища и кварталы от окончательного разрушения. С юмором, но вполне реалистично фильм рассказывал о формах и методах сбора средств на общественные нужды, об организации и действиях местного лобби граждан, защищавшего в городском совете Портленда свои интересы.
В некоторых случаях на местах создавались заемные фонды, с помощью которых велась борьба со спекулянтами жильем, организовывались мелкие кооперативы и другие альтернативные корпоративным формам собственности типа мелких предприятий, принадлежащих самим служащим и направляющих прибыль на нужды общины. Само понятие альтернативных институтов, превратившееся в ключевое в политическом словаре левых сил в конце 70-х годов, родилось в практике движения на местах, в русле концепций децентрализации и «малых дел» на малой территориальной единице.
По данным института Гэллапа, в середине 70-х годов в различные местные непартийные и неправительственные организации граждан входили около 20 миллионов американцев. Еще 20 миллионов оказывали этим организациям, отстаивающим общественные интересы, материальную поддержку. Официальные сведения: в 1965 году в интересах общества безвозмездно расходовали в среднем 5,3 часа своего свободного времени в неделю 24 миллиона
американцев в возрасте от четырнадцати лет и выше. А в 1974 году уже 9 часов в неделю на общественную работу на местах тратили 37 миллионов добровольцев. Вот оно, другое лицо «нарциссического десятилетия»!
И разве не об этих людях, благородных идеалистах нового поколения, выросшего на уроках поражения молодежного бунта 60-х годов, прекрасный фильм Мартина Ритта «Конрак»? Молодой учитель (во вдохновенном исполнении Джона Войта) приезжает в южную провинцию, чтобы отдать все силы и знания, свою любовь к людям и надежду на будущее Америки детям негритянской бедноты. Его бескорыстный энтузиазм наталкивается на глухую стену непонимания и неприязни местных расистов, которые в конце концов выживают его из своей глуши, но финальная сцена фильма, в которой герой объезжает на маленьком автобусе весь затаившийся городок и через громкоговоритель швыряет в это застойное болото консерватизма свое пламенное обвинение, вселяет надежду.
Конечно, с идейно-политической точки зрения местные движения 70-х годов — явление противоречивое, не поднимающее общественное сознание до классовой борьбы, остающееся в границах идеологии социал-реформизма и социал-утопизма. Более того, временами оно пересекается с активизмом правого, консервативного толка, внося известную путаницу в расстановку политических сил, так как сходные популистские идеи опоры на традиции — семью, добрососедство, сотрудничество, на местную инициативу и децентрализацию власти — циркулировали и в лагере правых. Так что апологетика и практика «прямой демократии» 70-х годов сочетались, с одной стороны, с элементами социал-реформистской идеологии, а с другой — с неоконсервативным типом политического сознания, что при любой возможности использовалось правящим классом, стремившимся превратить популизм и низовые движения в орудие защиты своих классовых интересов.
И тем не менее эта новая тенденция общественно-политической жизни США имеет большое практическое значение. Она преодолевает закоренелый американский индивидуализм, воспитывает этику товарищества и коллективизма, соединяет профсоюзное, рабочее движение с движением женщин, национальных меньшинств, черных американцев — всех, кого угнетает корпоративный капитализм, и открывает пути к созданию в стране единого антимонополистического фронта. Еще недавно молчаливое, большинство Америки заговорило: оно учится политике в условиях наступления крупного капитала, обретает опыт организации взаимодействия с другими группами защиты общественных интересов, открывает новые формы политического действия, выходящие далеко за пределы территориальных общностей. Практика низового активизма ведет к преодолению свойственного левым радикалам 60-х годов недоверия к организации, дисциплине и программам, укрепляет стремление к единству всех демократических сил общества.
На этом пути американское кино делает весьма робкие шаги. Оно и понятно: «новый» Голливуд, окончательно перешедший в 70-е годы в собственность транснациональных корпораций и ставший составной частью высокомонополизированного комплекса идеологического производства, не очень торопится осваивать эту демократическую проблематику. Она, скорее, представляет нарастающий интерес для «независимых» кинематографистов, работающих за пределами Голливуда, в так называемом региональном кино в тесном сотрудничестве с различными общественными организациями, с бастующими рабочими, вливающимися с камерой в руках в демократические движения — как сторонники и участники этих движений. Корифей операторского искусства в Голливуде Хаскел Уэкслер, снимавший марш на Вашингтон, интервью с Альенде, бесчинства полиции во время съезда демократической партии в Чикаго в 1968 году; Барбара Коппл, получившая «Оскара» за фильм «Округ Харлан, США» о забастовке горняков, который она снимала под пулями, живя много месяцев среди бастующих рабочих и их семей; Дмитрий Девяткин, выпускник кинофакультета Нью-Йоркского университета, делающий на свой страх и риск публицистические фильмы против гонки вооружений («Сильное ядерное оружие», 1983), за мир и сотрудничество («Люди говорят», 1984); Уилл Робертс, недавно закончивший длившуюся четыре года работу над фильмом «Американский бунтовщик» о прогрессивном американском певце и борце за мир Дине Риде, — вот лишь несколько таких имен.
Трудно складывается судьба этих художников в сегодняшней Америке. Им не помогает даже достигнутый высокий уровень мастерства и авторитет, когда они берутся за реализацию собственных «некоммерческих» проектов. Вот Хаскел Уэкслер, слывущий одним из самых талантливых и авторитетных операторов-режиссеров современного американского кино. На жизнь, на дорогостоящую аппаратуру (камера «Аррифлекс-БЛ» стоит, например, 52 тысячи долларов) он зарабатывает созданием эпизодических короткометражных фильмов — рекламных роликов на телевидении для компаний «Макдональд» (производство игрушек), «Полароид» (фототовары), «Плимут» (автомобили). В Голливуде он отклоняет все предложения, которые идут вразрез с его убеждениями, принимая участие лишь в таких фильмах, как «Кто-то пролетел над гнездом кукушки», «Поезд мчится к славе» или «Возвращение домой». Остальное время и весь свой темперамент он отдает независимой документальной публицистике на политические темы. «В этом бизнесе все, что вы делаете, — это вереница компромиссов... Вы так или иначе вынуждаетесь к работе над тем, что вам не по душе, — с горечью признает сам Уэкслер. — До тех пор, пока вы еще осознаете это, ваша индивидуальность до некоторой степени защищена».
Дух протеста и социальной борьбы, пробудившийся в 60-е годы вместе с ростом движения за гражданские права, призвал тогда к действию и Хаскела Уэкслера, не снимавшего политических сюжетов со времен своей юности в Чикаго. В августе 1963 года он покидает Голливуд, чтобы снять знаменитый марш на Вашингтон.
Делает он это так: с двумя ассистентами садится в Сан-Франциско в автобус, набитый белыми и черными демонстрантами, следующими в Вашингтон на митинг, и три дня и две ночи снимает на дороге их лица, берет интервью, записывает обрывки разговоров — словом, лепит коллективный портрет, воссоздает дух и настроение, царящие в их среде. Вот пожилой негр вспоминает, как его, точно зверя, гнали белые преследователи из Вашингтона во время расовых волнений еще в 1919 году: «Теперь я ничего не боюсь, потому что со мной на этот раз больше ста тысяч таких же, как я». Вот группа аккуратных и чистеньких подростков хором на весь автобус вдохновенно затягивает песни протеста...
На конечной остановке камера Уэкслера следует за выходящими из автобуса пассажирами, присоединяется вместе с ними к тысячам других и движется к Мемориалу Линкольна. Этот фильм, «Автобус», как будто заряжен мощной энергией гуманизма, выливающейся в грандиозную массовую демонстрацию. Но, несмотря на поддержку критики, ни одна голливудская фирма не захотела его прокатывать, и фильм вернул лишь незначительную долю тех 60 тысяч долларов, которые Уэкслер в него вложил.
В начале 1968 года «Парамаунт» приглашает Уэксле-ра уже в качестве режиссера на художественный фильм об одиноком фоторепортере, снимающем сенсации подпольного мира Нью-Йорка. Уэкслеру сюжет не понравился, но он не устоял перед искушением выступить в роли режиссера. Й, взявшись, коренным образом переделал сценарий, вознамерившись включить в художественный фильм то, что, по его предчувствию, никакими массовками не повторить. А именно героическую и отчаянную борьбу студентов — сторонников Юджина Маккарти с полицией во время национального съезда демократической партии в Чикаго, вошедшую впоследствии в историю благодаря очеркам Нормана Мейлера под названием «Майами и осада Чикаго».
Герой фильма — телеоператор Джон Касселис. Вначале его отношение к миру и социальным проблемам — профессиональная холодная беспристрастность. Но по мере того, как социально-политический водоворот засасывает и его в пучину стремительной драматургии чикагских событий, он начинает иначе относиться к своему ремеслу. Его обвиняет черный радикал: «Вы — эксплуататоры! Вы не знаете людей, вы не показываете правду! Почему вы не хотите знать, что здесь на самом деле происходит? Почему вы всегда ждете в сторонке, пока кого-то убьют, чтобы наброситься на него с камерой?»
Картина, которую назвали «Medium Cool» («Холодным взглядом»), стала обвинением средствам массовой информации США, выхолащивающим смысл общественно-политического процесса в стране. Как писали Д. Тэлбот и Б. Шотлин, «попытка Уэкслера интегрировать художественный вымысел в реальность оказалась не совсем удачной, но документальные съемки истерии в зале съезда демократической партии и бесчинств полиции в Гран-парке придали фильму такую политическую актуальность, с которой не мог сравниться ни один голливудский фильм того периода»2.
Во время съемок «Парамаунт» почти не мешала Уэкслеру, так как фильм получался малобюджетным, больших затрат и хлопот не требовал. Многое Уэкслер покрывал из своего кармана. Зато когда фильм был
1 Опубликованы с сокращениями в «Иностр. лит.» (1971, № 1).
2 Talbot D., Sheutlin В. Creative Differences, p. 113.
закончен... «Они выглядели так, будто их пришибли мешком из-за угла, — вспоминает режиссер. — Они просто не знали, что и думать, ибо ничего подобного ранее не видели. Они перепугались и не знали, что с ним делать. Голливуд никогда не подходил в своих фильмах так близко к реальному миру»1.
«Галф энд Уэстерн», — конгломерат, владеющий «Па-рамаунтом», — попросту отказался выпускать этот фильм. Говорили, что мэр Чикаго Р. Дэйли и другие влиятельные деятели демократической партии резко отрицательно отнеслись к фильму. Журнал «Тайм» сообщал, что один из членов Совета директоров «Галф энд Уэстерн» грозил отставкой в случае выхода фильма на экран. Конгломерат уведомил Уэкслера, что его фильм незаконен, так как во время съемок демонстрации авторы не получили письменного разрешения на съемку от тех лиц, которые попали в кадр. Уэкслеру пришлось нанимать специального адвоката, чтобы доказать абсурдность формальной придирки, затеять долгую тяжбу, и лишь спустя более года после «чикагского лета», когда актуальность фильма прошла, его решили пустить в прокат. Впрочем, и теперь ему постарались помешать, присвоив фильму категорию «X» (дети до 17 лет категорически не допускаются), прочно закрепленную, по сложившейся практике, лишь за порнографической дребеденью, выпустив его практически без рекламы и по второстепенным кинотеатрам. Эти действия студии и ее хозяев из «Галф энд Уэстерн» определялись исключительно политическими соображениями и привели к тому, что значительная часть молодежи так и не узнала о фильме.
Что касается самого Уэкслера, то и работа над фильмом и изнурительная тяжба с «Парамаунтом» были для него настоящей политической школой, из которой он вышел другим человеком: «Как наивен я был, когда полагал, что стоит сделать интересный фильм, и они запрыгают от радости, создадут ему рекламу и дадут ход. Не тут-то было. В процессе работы над фильмом меня вдохновляло то, что я много узнал о молодежи, об антивоенном движении, о происходящем вокруг...»2
С тех пор Уэкслеру не давали режиссировать. В 70-е годы он делит свое время между операторской работой в Голливуде, заработками телерекламой и съемками политических документальных фильмов. Так незримая, враж1 Talbot D., Sheutlin В. Creative Differences, p. 113.
2 Ibid.
дебная честному искусству сила распорядилась творческой судьбой одного из талантливейших американских режиссеров нового поколения...
Но и на поприще документальных фильмов этот неуемный человек продолжает отстаивать свои политические взгляды, вторгаться в острейшие политические ситуации своего времени. В 1970 году он снимает «Интервью с ветеранами Май-Лэй», в 1971 году — «Бразилия: репортаж о пытке» и «Интервью с Сальвадором Альенде, президентом Чили», в 1974-м —
«Представление врагу», в 1976-м — «Подполье», а также фильм для Народной национальной партии Ямайки. «Как-то я снова просмотрел кадры интервью с Альенде — в свете того, что мы узнали после военного путча, — вспоминает он. — Я чуть было не плакал при этом от мысли, что сидел рядом с удивительным человеком, отдавшим свою душу и жизнь людям. Он был врачом и видел все их страдания. Кроме того, он провел годы в чилийском сенате и верил в демократию, как воспитывали и нас с вами. И эта наивная вера погубила его. Если бы он поступил так, как Фидель! В интервью он говорил о важности закона и конституции... Как прекрасно наивен был этот человек!»х.
В юности в Чикаго сам Уэкслер ходил от дома к дому и продавал «Дэйли уоркер». Он посещал кружки, где говорили о Марксе и Ленине, о дискриминации негров и правах человека. Сегодня он по телефону собирает подписи под протестом против отказа в визе кубинским кинематографистам на фестиваль в Лос-Анджелесе. И в то же время политическое сознание Уэкслера остается аморфным, его абстрактный гуманизм и социальное чувство справедливости далеки от строгой системы и целостного мировоззрения. Он искренне сочувствует Альенде, он на стороне угнетенных, он против социальной несправедливости — это сквозит во всех его публичных заявлениях, в любой его картине. Но когда он берется за документальную картину об «уэзерменах», членах экстремистской левой организации, избравшей своим оружием против истэблишмента террор, Уэкслер признается, что движущим мотивом для него была не принципиальная оценка общественно-политического значения этой организации, а жажда приключений (как-никак организация-то подпольная, глубоко законспирированная), профессиональный интерес к режиссеру Эмилю Де Антонио и
человеческое любопытство к этой группе самоотверженно преданных антиимпериалистической борьбе людей. Так это или не так — по лукавым интонациям этого умного и проницательного кинематографиста и не разберешь. Гораздо больше говорит за себя сам фильм «Подполье», построенный вокруг интервью с пятью лидерами «уэзер-менов».
Немало удовольствия, думается, доставила режиссеру при этом и игра с огнем. Дело в том, что оператор снял ту неуловимую пятерку, за которой тщетно гонялись ФБР и другие секретные разведывательные организации. Разумеется, — и Уэкслер этого мог ожидать заранее — вся съемочная группа была вызвана с отснятыми материалами в большое жюри городского суда в Лос-Анджелесе с целью индентификации разыскиваемых лиц. Но Уэкслер и его группа категорически отказались сотрудничать со следственными органами, ссылаясь на 1-ю поправку к конституции. В течение всего лишь двух дней Уэкслер ухитряется мобилизовать ведущих художников Голливуда в свою поддержку. Заявление в защиту формальных прав художника на сохранение своей независимости подписали такие люди, как Хэл Эшби, Уоррен Битти, Питер Богданович, Мел Брукс, Уильям Фридкин, Элиа Казан, Ширли Мак-Лэйн, Терри Малик, Джек Николсон, Артур Пэнн, Джон Войт, Роберт Уайз, и другие.
Мгновенная бурная реакция общественности заставила суд отказаться от своих притязаний, а Уэкслер испытал острое чувство победы и гордости за своих товарищей. Солидарность была и в самом деле столь единодушной, что заставила некоторых подумать, не вернулись ли в Голливуд «красные 30-е». «Непредвиденным последствием этого дела может быть возвращение активной вовлеченности в специальную политическую проблематику, которая характеризовала Голливуд в 30-е и 40-е годы»1, — встревожилась «Нью-Йорк тайме».
Дело было, однако, в другом. Активизация средств массовой информации в политическом процессе (особенно после «Уотергейта») вызвала тогда многочисленные дискуссии о роли СМК в политическом механизме США, о распределении власти и превращении СМК в четвертую ветвь власти наряду с законодательной, исполнительной и судебной. Кино в контексте этой дискуссии претендовало на столь же активную и самостоятельную позицию, и всякое покушение на его право снимать и показывать
рассматривалось как наступление законодательных, судебных или исполнительных властей на права американцев, гарантированные 1-й поправкой к конституции.
Многие прогрессивные художники, как Уэкслер, считают, что Голливуд еще не произвел «честного» (подчеркиваем, не партийного, а просто честного!) фильма о рабочем классе или «настоящего политического фильма с левых позиций». «Когда в последнее время вы видели честный портрет заводского рабочего в американском фильме?» — спрашивает Уэкслер. Более чем двадцатилетний опыт работы в американской киноиндустрии убедил его лично в том, что в Голливуде невозможно сделать фильм, в котором бы подверглась фундаментальной критике американская политическая система. Но почему — этого он объяснить не может, называя ситуацию «неуловимой тайной» профессии.
И в самом деле. Вместе с режиссером Хэлом Эшби он берется в 1976 году за художественный фильм «Поезд мчится к славе» о рабочем барде эпохи «великой депрессии» Вуди Гатри. Казалось, на съемках фильма собрались единомышленники: все, включая продюсеров, хотели, чтобы фильм реалистически и с симпатией представил зрителям этого народного певца, заинтересованного в судьбах обездоленных американцев.
«Я действительно чувствовал, что есть реальный шанс сделать великий фильм о настоящем американском герое, — свидетельствовал впоследствии режиссер. — И Марджори Гатри, вдова певца, желала того же, и его сын, Арло Гатри, был с нами. И певец Пит Сигер наезжал на съемки. И все же от нашего замысла в фильме ничего не осталось. Я хотел показать, как Вуди Гатри попал в «черные списки», как его назвали в свое время коммунистом. Как восемь лет назад в Оклахоме хотели назвать его именем библиотеку, но Американский легион не допустил, чтобы библиотека носила имя коммуниста. Всего этого не оказалось в картине» Загадку, впрочем, Уэкслер разгадал сам. Сила, которая делает фильм, — это деньги. Большие деньги — это большая сила. Миллионы, вложенные в картину, — это капитал, который должен принести прибыль владельцу. И никто не скажет автору, что фильм запрещен по политическим мотивам. Нет, говорят лишь, что на него не будет спроса, его «не продать». И художники даже не хотят браться за такую работу, о которой они сами заранее знают, что ее не продать». И Уэкслер с горечью говорит о тисках коммерции и самоцензуры, в которых бьется он сам и его товарищи.
И все же весну 1977 года в Голливуде в какой-то мере можно считать временем оживления левых сил: Уэкслер получает «Оскара» за фильм о певце рабочего класса Вуди Гатри «Поезд мчится к славе»; Барбара Коппл — тоже «Оскара» за свой «Округ Харлан, США», воинственный и вдохновенный фильм о мужестве кентуккских шахтеров; Лилиан Хэллман, в 1952 году изгнанная из Голливуда по «черным спискам», возвращается под грохот оваций на кинематографический Олимп; Джейн Фонда выступает в качестве распорядительницы на церемонии вручения «Оскаров». А через год сама получает «Оскара» за антивоенный фильм Хэла Эшби «Возвращение домой» с ее участием...
Независимое региональное кино, функционируя на периферии производственно-прокатной системы Голливуда, развивается. Оно выполняет важнейшую роль авангарда, нащупывающего дорогу к актуальной проблематике. Так, например, за год до шумного успеха фильма Милоша Формана «Кто-то пролетел над гнездом кукушки» и за десять лет до «Фрэнсис» Грэма Клиффорда молодой документалист Ричард Коэн снял в государственной психиатрической лечебнице Лос-Анджелеса свой убийственно-обличительный фильм «Торопи завтрашний день» — о душевнобольных, превращенных насильно вводимыми им сильнодействующими медикаментами в безмолвных зомби, живых мертвецов. Здесь связь несомненна. В 1980 году на голливудский экран проникают в художественном фильме «Брубэйкер» режиссера Стюарта Розенберга факты о чудовищном режиме американских тюрем, напоминающих лагеря смерти. Для этого еще в 1973 году по следам потрясшего Америку бунта заключенных в Нью-Йоркской тюрьме «Аттика» (там расстреляли более сорока человек и сотни ранили) должен был появиться страстный документальный фильм-расследование «Аттика». Он рассказывал о нечеловеческих условиях, приведших к бунту, о работе правительственной комиссии Маккэя, рассмотревшей после скандала предложения о неотложной реформе, давно требуемой общественностью в интересах заключенных, о судьбе уцелевших в кровавой бойне людей. Обжигающий жаром гражданственных чувств 90-минутный фильм «Аттика» был создан встревоженной совестью двадцатилетней американки Синды Файерстоун...
Такой же молодой, как Синда Файерстоун, другой энтузиаст независимой кинопублицистики, Уилл Робертс из Огайо, проникает с кинокамерой на одну из военных баз США, где проходят подготовку новобранцы вооруженных сил. Его камера показывает, как методично и целенаправленно из американских парней вытравливают все человеческое звероподобные сержанты. В прицельных интервью с ними объясняется, почему, для чего и кем планомерно и сознательно воспитываются наемные убийцы в одной из самых агрессивных армий мира, в армии США. Фильм «Мужская компания» Уилл Робертс привозил в 1979 году на Международный кинофестиваль в Москву и тогда же начал — прямо на московских улицах — с помощью группы советских операторов съемки большого фильма об американском прогрессивном певце Дине Риде, благо что тот тогда был рядом, в Москве на фестивале.
Разумеется, такое публицистическое кино не имеет устойчивой финансовой основы. Оно живет за счет энтузиастов. Свое отношение к жизни регионалисты выражают, что называется, самодеятельно, то есть сплошь и рядом на собственные средства. Как рассказывал своим зрителям в Москве Уилл Робертс, он работает лишь на страстной убежденности в том, что кино — это самый современный инструмент, а то и оружие социальных перемен. Правда, если оно доходит до зрителя.
А начинается работа над фильмом, например, так. Собираются несколько заинтересованных лиц, кончивших кинофакультет, арендуют чердак, покупают дешевую 16-ти-миллиметровую аппаратуру и придумывают себе звонкое название, например, «Картемкин коллэктив», что означает аббревиатуру из трех фамилий, составляющих «коллектив»: Картера, Тимэйнера и Куина, а произносится так, чтобы напоминало «Потемкин» (разумеется, «Броненосец «Потемкин»). Затем идут на улицы города и снимают прохожих, задавая им один и тот же вопрос: «Счастливы ли вы?» Получается фильм «Дом для жизни». На счету этой группы, возникшей таким образом еще в 1966 году, фильм об антивоенной студенческой забастовке «Красные площади» (1970), «Теперь мы живем в Клифтоне» (1974), «Винни Райт, 14 лет» (1974), «Все мы вместе — сила» (1975) — серия картин о жизни и борьбе местных общин в Чикаго за общественные интересы и т. п.
Можно здесь вспомнить и легендарную Барбару Коппл, четыре года снимавшую картину о быте общины горняков в округе Харлан и затем присоединившуюся к возникшей там, в Бруксайде, стачке. Кровавая стачка длилась с июля 1973 года целых 13 месяцев, и все это время с риском для жизни мужественная женщина вела документальный репортаж о борьбе труда и капитала.
Завоевала известность и небольшая компания «Фильм нового дня» Амалии Ротшилд, занимающаяся кроме производства еще и организацией проката региональных фильмов, и многие другие.
А Уилл Робертс начал свою работу над фильмом о Дине Риде в 1979 году прямо на Красной площади в Москве, когда увидел толпу, окружившую человека, раздававшего автографы. «Кто это?» — спросил он своего переводчика. «Дин Рид, о котором знает весь мир и не знает ваша страна», — ответил переводчик. «Тогда я пошел в Гостелерадио, попросил съемочную группу и сразу же начал снимать, — вспоминает Уилл, снова приехавший в 1985 году в Москву на Международный кинофестиваль. — Дома я не нашел ни пластинок Дина Рида, ни его имени в музыкальной энциклопедии, лишь пару коротких заметок. Но чем больше я искал, тем ясней понимал, что с помощью этой магнетической личности, через его песни, через его полную драматических событий жизнь я смогу пробиться к массовой аудитории, предложив ей прогрессивную политическую проблематику в увлекательной форме».
20 октября 1985 года «Правда» сообщила о том, что в Денвере, штат Колорадо, на родине Дина Рида, состоялась премьера фильма «Американский бунтовщик», на которую приехал певец. Денверские ультраправые, обвиняя Рида в том, что он «продался коммунистам», взвинтили в городе антикоммунистическую истерию. «Правда» писала: «Днем и ночью неонацисты устраивают шумные сборища у гостиницы, где остановился Рид, и у входа в кинотеатр, где демонстрируется «Американский бунтовщик». Власти города и штата в целях безопасности вынуждены организовать практически круглосуточную охрану певцу, в адрес которого постоянно поступают угрозы».
За плечами Уилла Робертса несколько почетных премий и наград за его предыдущие короткометражные фильмы, о нем написаны статьи известными критиками, он по-прежнему не рассчитывает на поддержку прокатных компаний и борется за жизнь сам со своей крошечной, из семи человек во главе с женой, Энн Донован, фирмой «Огайо ривер филмс»...
ГОЛЛИВУД И МАССОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ В США
наступление реакции всегда встречало сопротивление демократических сил, что так или иначе находило отражение в произведениях американского прогрессивного кинематографа.
Здесь видна несомненная зависимость позиций кинобизнеса от степени активности, общественного авторитета и социальной базы массовых движений, поднимаемых разными отрядами трудящихся. Связь прямая: чем сплоченней выдвигающаяся на авансцену общественной жизни страны политическая сила, тем больше вероятности, что так или иначе, рано или поздно, но найдет она свое отражение в призме голливудского экрана.
Отмечавшаяся уже не раз политизация общественного сознания в этот переходной период на фоне активизации «недовольного большинства» проявлялась и в массовом антивоенном движении, и в подъеме женского движения, и в росте активности рядовых членов профсоюзов, и в оживлении низшего звена политической системы — низовых движений, обединявших гражданские инициативы по защите общественных интересов на местах. Политологи утверждают, что самостоятельная деятельность местных отделений профсоюзов (которых в стране насчитывается около 71 тысячи) и действия активистов низовых движений, то есть групп защиты общественных интересов в общинах, начинают сближаться и координироваться, что поднимает значение этих явлений и переводит их в центр общественного внимания. И Филлип Боноски, американский коммунист и известный писатель, в своем анализе культурно-идеологической ситуации в США констатирует: в кино «к середине 70-х годов наметился очевидный интерес к рабочей тематике»1.
Но что это значило? Пресса, например, сообщала о профбоссах, которые живут в роскоши, ссужая под проценты профсоюзные средства, вкладывая их в недвижимость или в акции, превратившись, таким образом, в таких же владельцев капитала, как и те, с кем они должны были бороться за интересы рабочего класса.
В романе Бенджамина Эппела «Большой человек, ловкий человек», появившемся в 1961 году после принятия закона Лэндрама — Гриффина и кампании «против гангстеризма и коррупции» в профсоюзах, реалистично раскрыта психология перерождения рабочего активиста в оппортуниста и продажного профруководителя, «руководящего» профсоюзом из «профдворца», отделанного мрамором, «доставленным из Италии». Показано, как «деловой юнионизм» предавал интересы всего рабочего класса, борясь за повышение жалованья и сокращение рабочего дня «только для себя», то есть для членов своего профсоюза. В этой борьбе, отличавшейся крайне низким уровнем классового сознания, хороши были все средства — вплоть до связей с мафией, подкупа штрейкбрехеров, шантажа и коррупции. Отсутствие классового единства вело отдельные профсоюзы к такой, например, разлагающей нравственные основы рабочего движения тактике: «Когда полицейских поблизости не было, мои ребята припирали штрейкбрехеров к стенке на холме, где они жили и где было темно. «Вступай в профсоюз, сволочь, не то не дойдешь до дома». И рабочие соглашались. А тех, кто не соглашался, раздевали до пояса и дегтем писали на груди: «Штрейкбрехер». Да, конечно, это был произвол. Ну и что?..»1.
Голливуд обратился к теме рабочего класса лишь тогда, когда мощный толчок боевого динамического движения рядовых членов профсоюзов полтора десятилетия спустя пошатнул власть профбюрократии. Рост инфляции и безработицы, снижение темпов экономического роста в 70-е — 80-е годы усилили тенденцию к «перерастанию тред-юнионистской экономической борьбы в политическую борьбу за перераспределение общественного богатства и политической власти» 2. Внимание Голливуда к рабочему классу в этот период отражает неосознанный страх буржуазии перед возможностью превращения профсоюзного движения «из группы «специального интереса» в массовое политическое движение, ставящее своей основной целью борьбу за проведение реформ в интересах
1 Эппел Б. Большой человек, ловкий человек. М., «Радуга», 1984, с. 111.
2 Керемецкий Я. Классовая структура и «агент социального изменения». — В кн.: Противоречия американского капитализма и идейная борьба в США, с. 176.
всего рабочего класса»х. Страх и побуждает Голливуд видеть все профсоюзное движение через призму уголовных дел, связанных в США, например, с теамстерами — самым сильным «деловым» профсоюзом водителей грузовиков, который был в 1958 году исключен из АФТ — КПП за раскрытые со скандалом факты коррупции.
Наиболее значительная по эпическому размаху повествования о развитии профсоюзов картина Нормана Джюисона «FIST» (аббревиатура названия профсоюза «Федерация водителей грузовиков международных перевозок», совпадающая по смыслу со словом «кулак») вышла на экраны в 1978 году и была показана в Москве в рамках Международного кинофестиваля 1979 года. Норман Джюисон — крупный, независимо работающий в США прогрессивный канадский художник. Он выступил еще в 1966 году за разрядку американо-советских отношений бурлескной комедией «Русские идут!». Затем решительно поддержал в свое время движение негров за гражданские права шокировавшим расистов фильмом «В разгаре ночи» (1967). Позже внес он свой вклад и в художественное осмысление молодежного движения 60-х знаменитой рок-оперой «Иисус Христос — суперзвезда» (1973). Его всегда привлекали главные темы дня.
Профсоюзную тему Джюисон также раскрывал, можно сказать, на пределе возможностей политического сознания прогрессивно мыслящего либерала. Он совершенно искренне показал, к чему привело американские профсоюзы партнерство с капиталом, соглашательская политика collective bargaining — торга за столом переговоров. Его «FIST» — это эпическое полотно, охватывающее тридцатилетний (от 30-х до конца 50-х годов) период развития рабочего движения в США. Сценаристу фильма, писателю Джо Эцберхазу, хорошо знакомому по собственному опыту с трущобами Кливленда 30-х годов, где проходило его детство эмигранта — выходца из Центральной Европы, особенно удалась, как и режиссеру, его первая половина, где развертывается волнующая картина жестоких классовых боев, в частности, кровавой бойни, очень напоминающей реальные события в Чикаго 1937 года во время забастовки рабочих сталелитейных предприятий. Здесь все дышит правдой: невыносимые условия труда, издевательское высокомерие хозяев и их холуев — надсмотрщиков, беспощадное, под пулями наемной охраны, подавление недовольства и забастовок, предательство штрейкбрехеров, кровавые ночные схватки, первая победа, одержанная при вооруженной поддержке гангстеров, первые торги с предпринимателями, севшими наконец за стол переговоров с теми, кому, проиграв, они навязали свои правила игры в «деловой» тред-юнионизм, свою мораль купли-продажи как формы экономической борьбы.
Впрочем, как раз понимания вреда, причиненного рабочему движению политикой партнерства, открывшей дорогу к бюрократизации профсоюзного руководства, в фильме Джюисона и нет. Да и не могло быть. Иначе бы он стоял не на либеральных, а на пролетарских, марксистских позициях борьбы за коренные классовые интересы рабочих, а не за получение эгоистической выгоды для членов одного профсоюза путем закрытых переговоров. Он понимал бы сам и дал понять зрителю, почему активист рабочего движения, в молодости рисковавший жизнью за общественные интересы, став профсоюзным лидером, превратился в политикана — профбосса, ведущего в роскошном дворце Федерации водителей грузовиков беспощадную — с интригами и подкупом — борьбу не за рабочее дело, а за кресло председателя федерации. Тогда был бы ясен смысл показанных в фильме профсоюзных собраний, где оппортунисты, рвавшиеся к власти в профсоюзах, клеймили «большевистских агитаторов», изгоняли «красных», которые «тянули рабочих в политику», а им нужно было, как сказано в романе Эппела (не в фильме Джюисона!), «профсоюзное движение ради жирного куска... Жирный кусок для членов профсоюза и крохи для всех прочих в мире».
Фильм доводит историю до конца 50-х, когда администрация Эйзенхауэра начала сенатское расследование связей профсоюзов с мафией. Но и здесь режиссер не идет глубже факта, оставляя зрителя в неведении относительно причин расследования: то ли сенатор Эндрю Мэдисон (эту роль оттеняет умом и респектабельностью вернувшийся в кино после операции на сердце замечательный актер Род Стайгер) являет пример безупречного, принципиального политика на страже закона и демократии, то ли его цель — сокрушить профсоюзы. Так и выходит, что главной темой фильма становится коррупция и рэкет в профсоюзах, а в результате в сознании зрителя остается уверенность в том, что рабочее движение — это действительно мощная, как и крупный капитал, сила, и эта сила, как и крупный капитал, нерасторжимо связана с коррупцией и преступлением и в этом смысле ничем не отличается от капитала. Что и не замедлили увидеть критики, назвав «FIST» вторым по значению фильмом десятилетия после «Крестного отца» Ф. Копполы. Некоторые пошли даже дальше, назвав его «Роки» профсоюзного движения». И не только потому, что роль Джони Ковака играл тот же Силвестр Сталлоне, а потому, что рассмотрели в Коваке все тот же американский звериный индивидуализм, для которого личный успех любой ценой — образец для подражания, и не важно, где этого успеха «настоящий американец» добивается — на ринге, в бизнесе или в профдвижении. Так прогрессивный буржуазный художник, может быть, сам того не желая, объективно создал антипрофсоюзный фильм. Благими намерениями, как известно, вымощены дороги в ад...
Здесь, в Москве, будучи гостем Международного кинофестиваля, Н. Джюисон утверждал, что создал рабочий, антимонополистический фильм. При этом доказывал, что все показанное в нем — правда, вплоть до двух стоящих друг против друга на одной улице небоскребов: один — здание корпорации, другой — штаб федерации профсоюзов с выразительной эмблемой на фронтоне в виде сжатых в кулак пальцев; или до образа Ковака, списанного с Джимми Хоффы, руководителя профсоюза водителей, находившегося в то время под следствием по подозрению в различных махинациях и исчезнувшего при таинственных обстоятельствах. И высокомерная фраза, брошенная в фильме Коваком сенатору: «Я захочу, и остановится вся страна, замрет движение на дорогах!» — тоже была на самом деле сказана в свое время в беседе с президентом США... Все это так. Но осмысление этих фактов происходит в фильме на уровне того же политического сознания, которое в свое время свело к партнерству рабочее движение, а теперь, на фоне сожалений по поводу того, что, дескать, большие профсоюзы ничем не отличаются от большого бизнеса, готово объявить коррупцию чуть ли не монополией рабочего движения, тогда как в этом виноват капитализм, буржуазность сознания лидеров, не имеющих целью борьбу за интересы всего класса.
Кому это на руку в нынешний исторический момент, понять нетрудно. Ведь от того, какие тенденции возобладают в американских профсоюзах, в значительной степени зависит, будут ли США развиваться в направлении мира, прогресса и народовластия или вступят в конфликт с революционным процессом. Значение и роль рабочего класса в политическом процессе прекрасно понимают в США не только марксисты. Потому в
Голливуде и появляются теперь такие картины о рабочих, как «FIST», «Автомойка» (1976) Майка Шульца или «Синие воротнички» (1978) Пола Шрэйдера, где трудовая жизнь не лакируется, где обнажены далеко не парадные ее стороны, но где в то же время критический реализм полон пессимизма и не ведет никуда, кроме отчаяния. Это вызвано тем, что либеральная интеллигенция с 50-х годов считает профсоюзы США консервативной силой, не верит в их революционный потенциал, тем более что реакционное руководство АФТ — КПП во главе с покойным Джорджем Мини давало для этого основания.
«Синие воротнички», например, — честная попытка рассказать об условиях труда и жизни заводских рабочих. Здесь зрителя сразу окунают в производственную атмосферу современного промышленного предприятия, автозавода. Режиссер не жалеет мрачных красок в изображении бесчеловечных условий труда на конвейере, от которого нельзя оторваться даже в туалет или закапать в нос лекарство от насморка, так как над рабочими с хронометром в руках и с радиоприемником для связи с администрацией стоят надсмотрщики — мастера и профдесятни-ки. Они шныряют вдоль конвейера, и их цепкий взгляд безошибочно улавливает малейший сбой рабочего ритма, каждого, кто по какой-либо нужде отрывается от непрерывного монотонного движения: «Здесь время принадлежит не тебе, а компании!»
Не часто встретишь в голливудском фильме производственную тематику, а уж такой откровенный разговор о заводе, который, как говорят сами персонажи, «ничем от плантации не отличается», о том, как зарабатывают свой «средний уровень» благосостояния рабочие, и подавно. В цеху во всем ощущается психологическая взрывоопасность: в быстром непрерывном движении металла, в колючих взглядах сосредоточенных на быстропоточных операциях людей, в их напряженных позах, во враждебности, сквозящей в отношениях с начальством. Кажется, вот-вот где-то взорвется: и действительно, разъяренный рабочий в конце концов извергает свою ярость на неисправный автомат газированной воды, давя его тяжелым автокаром...
Зритель видит, казалось бы, благополучный быт семьи рабочего-негра, который подъезжает к своему собственному домику на собственной машине. Но зритель видит, и как в дом входит непрошеный гость — налоговый инспектор, и как идиллия благосостояния сразу разрушается. Как не собирай соседских детишек по двору и не выдавай их за своих, инспектор свое дело знает. Счет в 2675 долларов, который он извиняющимся тоном предъявляет Зеке (негритянский актер Ричард Прайор), ставит главу семьи в безвыходное положение: «Я зарабатываю 140 долларов в неделю. У меня остается 30 долларов после всех выплат», — объясняет он инспектору.
Так приходит идея... ограбить профсоюзную кассу. И свести на нет суровый реализм картины дискредитацией рабочих-негров, которые на самом деле как раз в этот период наиболее активно в США поддерживали организацию в профсоюзы. Трое приятелей, Зеке, Джерри и Смоуки, после очередного профсобрания, на котором царит та же вражда между рядовыми и профбоссами («профбосс — сокращенно значит задолиз» — растолковывают нам с экрана), ночью вскрывают профсоюзный сейф и находят жалкие 30 долларов да учетные книги, при первом взгляде в которые обнаруживаются следы незаконных финансовых махинаций за счет рабочих. Истинное лицо «защитников интересов рабочих» открывается друзьям еще раз на другой день, когда прибывшей на место преступления полиции председатель местного отделения профсоюза беззастенчиво заявляет, что ночью из кассы пропали три тысячи долларов. Друзья решают вывести махинаторов из профсоюза на чистую воду, но плохо представляют, как это можно сделать с помощью выкраденных учетных книг. Пока они робко интригуют, вокруг них стягивается петля настоящей, хорошо рассчитанной интриги: одного из них, громадного Смоуки, кто-то запирает в красильне, и он, бессильный вырваться из этой газовой камеры, погибает в ядовитых парах около свежевыкрашенного автомобиля; другому, Зеке, вдруг предлагается место уполномоченного профсоюза с окладом в 17,4 тысячи долларов, что сразу решает многие его финансовые проблемы.
Предавая друзей, Зеке становится надсмотрщиком. Зеке пытается оправдываться: «Внутри профсоюза я смогу изменить положение вещей!» Но вот он уже в чистой одежде администратора ходит с хронометром и радиопередатчиком вдоль линии конвейера, ничем не отличаясь от своего предшественника. В конце фильма снова звучат слова, сказанные как-то Смоуки: «Они натравливают старика на молодого, негра на белого для того, чтобы мы знали свое место...»
Фильм П. Шрэйдера — это реакция на одну из главных причин радикализации рабочих США конца 60-х, а именно на недовольство рабочих условиями и содержанием труда. Отсюда всего лишь шаг к борьбе за демократизацию профсоюзов. Открытая неприязнь «рядовых» к «десятникам», к профруководству, движимому корыстной тягой к накопительству за счет рабочих, вплотную подводит рабочих к пониманию необходимости решительных перемен внутри профсоюзов, хотя о том, какие это должны быть перемены, Шрэйдер, как и Джюисон, и не представляет. Более того, они в эти перемены не очень-то и верят...
В Соединенных Штатах в отличие от других капиталистических стран рабочее движение — самое слабое. Здесь профсоюзами охвачена меньшая часть рабочих. И более того, под давлением государственно-монополистического капитала численность профсоюзов не растет, а уменьшается. Если в 1955 году профсоюзами было охвачено 27,7 процента наемной рабочей силы, в 1977-м, по данным Министерства труда, — 21,6 процента, то в 1984-м численность профсоюзов упала до 18,9 процента. Предприниматели всячески препятствуют созданию профсоюзов, используя для этого услуги специальных консультативных фирм, разрабатывающих хитроумную тактику обмана, запугивания, шантажа и законодательного крючкотворства.
Драматизм этой каждодневной и острой борьбы правдиво отражает редкий для США фильм «Норма-Рэй» (1979). Это не случайная картина в творчестве Мартина Ритта, завоевавшего репутацию либерального режиссера такими известными фильмами, как «Саундер» (1972) — одним из самых человечных фильмов негритянской волны начала десятилетия, «Конрак» (1974) — о самоотверженном «хождении в народ» вчерашних активистов демократических движений 60-х, «Подставное лицо» (1977) — виденный нашими зрителями ретро-фильм о кошмаре эпохи маккартизма.
Осознавая, насколько важна роль рабочего класса, который в 50-е — 60-е годы объявили полностью «обуржуазившимся», прочно интегрированным в систему, М. Ритт берется за фильм с тем, чтобы показать пробуждение классового сознания и первые шаги политической активности у рядовые рабочих, и не просто рабочих, а женщин — текстильщиц Юга, самой бесправной и забитой части белого рабочего класса США. Немаловажно здесь и то обстоятельство, что фильм был снят по следам недавних событий в местечке Роуноки Рэпидс в штате Северная Каролина на текстильных фабриках «Дж. П. Стивенс и К0», где на самом деле уже много лет ведется ожесточенная борьба с предпринимателями за создание профсоюза текстильной промышленности. Здесь из среды малограмотных текстильщиц выдвинулась энергичная Кристал-Ли Саттон, дочь потомственного рабочего, умершего в 1969 году от профессионального заболевания легких. Она осмелилась агитировать работниц за создание профсоюза на одном из семи заводов Дж. П. Стивенса в Роуноки Рэпидс, была за это уволена, но борьбы не прекратила и... победила.
0 Кристал-Ли написаны статьи, книга, сделаны телепередачи, она много разъезжает по стране и выступает перед рабочими. А фильм, в котором она выведена под именем Нормы-Рэй, собирает призы, большую прессу, и не только профессионально кинематографическую, но прежде всего прессу профсоюзов. Газета американских коммунистов «Дэйли уорлд» о нем писала: «Хотя профсоюзное движение на Юге не всегда так успешно, как в этом фильме, все же он — хороший урок организации, он способствует созданию условий для профсоюзной активности. Он учит: союз белых и черных рабочих необходим, женщины должны быть сильными, объединившиеся рабочие непобедимы в борьбе с управляющим и полицией, всегда остающимися послушным орудием в руках компании, только в единстве рождается сила и способность к отстаиванию собственного достоинства»
Молодой актрисе Салли Филд, у которой с этого нашумевшего фильма, собственно, и началась карьера в кино, удалось с редкой органичностью передать созревание ума и сердца захлопотанной матери-одиночки, превращение ее в общественную личность, в борца, способного думать, говорить и действовать от имени и во имя многих. Отчаянная решимость отстоять право на создание на фабрике профсоюза возносит ее в одном из эпизодов фильма на стол посреди цеха с высоко поднятым над головой куском картона с пламенным призывом: «Соединяйтесь!» — кадр стал знаменитым и обошел многие американские и не только американские газеты и журналы. Прокат этого фильма вылился в демонстрацию солидарности трудящихся: профсоюзы устраивали на него коллективные походы, в кино возили автобусами прямо после работы, бурно проводились обсуждения. 11,6 миллиона долларов, собранные «Нормой-Рэй» в прокате, — недвусмысленное указание на пробуждение рабочего класса США.
1 “Daily World”, 1979, 1 May.
Радикализация «синих воротничков», недовольных ухудшением своего социально-экономического положения и ставших причиной роста политической нестабильности системы в конце 60-х — начале 70-х годов, — основной мотив общественно-политической жизни США в этот период. Мимо этого важного факта общественного развития США не мог пройти кинобизнес, коль скоро его стратегией и тактикой стало улавливание перемен в общественной атмосфере, немедленное реагирование на движение настроений в средних слоях, на сдвиги в массовых настроениях. Потому на протяжении 70-х годов в американских картинах все чаще фигурируют персонажи из «синих воротничков». Напомним читателю, что в таких программных для неоконсерваторов картинах, как «Роки», «Горячка субботнего вечера», «Охотник на оленей», в качестве носителей неоконсервативного сознания выведен именно молодой американский рабочий. И неспроста. Правые ухватились за рабочих, недовольных либеральным реформизмом. Именем рабочего, разочарованного предательством либерального истэблишмента, кинематографический истэблишмент пытался «узаконить» консервативный поворот политического курса, получить на него мандат общественного мнения.
Однако в недрах реальной действительности шли и другие процессы, о которых говорилось выше и которые вели к сдвигу рабочего движения не вправо, а влево. И на эти процессы так или иначе опять-таки вынужден был реагировать Голливуд, чтобы не потерять значительную часть своих зрителей.
В жестком, «мужском» фильме Сэма Пекинпа «Автоколонна» 1 (1978) стычка шоферов грузовиков дальних перевозок с вымогателем-полицейским, с которой начинается напряженный, изнурительный и опасный автодорожный марафон с преследованием, оборачивается бунтом на дороге. А бунт выливается в психологически несокрушимую демонстрацию солидарности трудящихся. Типичный для динамического американского кино Chase-road-film (дорожный фильм-погоня) перерастает рамки коммерческого сюжета и ведет зрителя гораздо дальше уже знакомой нам неприязни к блюстителю закона. Его акценты: из конкретной кризисной ситуации, из чувства попранной справедливости рождается способность этих сильных парней в комбинезонах к коллективному сопротивлению, решительным совместным действиям. Пусть
1 В советском прокате — «Конвой».
это сопротивление стихийно, но грозная колонна грузовиков, оживленно общающихся между собой по коротковолновой радиосвязи и выстилающая неразрывной, все удлиняющейся лентой бесконечные дороги Америки, недаром чем-то похожа на колонну танков. Это и зримый символ протеста и предупреждение. Другое дело, что из этого острого сюжета (конфликта шоферов с полицией) Пекинпа выжимает максимум сильных эмоций и зрелищных эффектов — с кулачными боями, стрельбой, гонками автомонстров по пересеченной местности и т. д. Но, по-видимому, главное, что привлекло зрителей и принесло прокатчикам, около 10 миллионов долларов прибыли, все же другое: объединяющая простых людей Америки вера в собственные силы.
Сэм Пекинпа не пользовался в Голливуде репутацией последовательного защитника либеральных взглядов. Это коммерческий режиссер, любящий сильнодействующие средства выражения. И если уже в его фильмах пробивается политика, дух коллективистской этики, то это говорит о многом. Ну хотя бы о том, что со времени фильма Спилберга «Прямо в Шугарлэнд» прошло пять лет. И сочувствие, более того, восторженную поддержку жителей американской глубинки встречает теперь не пара обреченных беглецов, а сплоченные в могучий кулак взбунтовавшейся автоколонны грубоватые водители, «синие воротнички» Америки. Их боится не то что полиция — армия. С ними заигрывают местные власти. Их на ходу интервьюирует большая пресса. Словом, ситуация близка к тому, что происходило в реальности: усиленное внимание Голливуда к «синим воротничкам», то есть наемным работникам, занятым физическим трудом, было вызвано их возросшей гражданской и политической активностью, носившей противоречивый, как прогрессивный, так и консервативный, характер. Ведь смысл фильма может быть и такой: на эту силу можно рассчитывать, но ее и надо бояться...
В целом же надо сказать, что массовые демократические движения являются в США опорой для прогрессивного крыла американской культуры, хорошей поддержкой для искусства гуманистического направления. Они не только питают своими идеями граждански ответственных художников, но и обеспечивают общественный интерес к их произведениям, создают, так сказать, спрос, рынок для них, что служит, как легко себе представить, довольно сильным стимулом для такого рыночного искусства, как американский кинематограф.
Оглядываясь на последние десятилетия, нетрудно заметить, как «черная» Америка, бунтующая молодежь, американские женщины, вовлеченные в феминистское движение 70-х, вносили — каждый в свое время (иногда с запаздыванием на несколько лет, но никогда с опережением!) — оживление в американский кинематограф. В период «контестации» появлялись фильмы протеста, в ответ на подъем расового самосознания черных американцев — «новое» негритянское кино, в последнее время, в связи с небывало массовым движением 80-х годов за замораживание ядерного оружия, — антивоенная волна. Конечно, на экран попадают при этом и все идейные противоречия этих движений, причем в голливудских фильмах они преломляются еще и через призму господствующей идеологии, цель которой — интегрировать эти движения в систему. Преломляясь в нравственных коллизиях кинематографических сюжетов и в характерах, политика, правда, меняет свое обличье: вместо лозунгов этих движений, вместо идеологических формул и теоретических концепций на экране человеческие судьбы, семейные отношения, житейские радости и горести. И почти всегда за житейской историей, за особенностями поведения и мотивами поступков можно разглядеть идейную установку, морально-нравственные ориентиры, психологически обогащенную логику того или иного типа политического поведения, выделенного художником-идеологом в едином потоке общественного сознания. В сущности, вникая в живую ткань социальной психологии, искусство производит определенные типы сознания, возвращая их массам более определенными, очищенными от случайного.
Например, по фильмам так называемой «негритянской волны» можно проследить основные этапы пробуждения расового самосознания черных американцев, еще в начале 60-х годов вступивших в отчаянную борьбу за гражданское и социальное равноправие. Борьба, как известно, началась в 50-е годы с движения за десегрегацию школ в южных штатах, продолжилась борьбой против сегрегации на транспорте, за равное обслуживание негров в закусочных и гостиницах, в магазинах и других общественных местах. Только к середине 60-х годов самосознание негритянского населения США поднялось до уровня требований избирательных прав, до борьбы за ликвидацию жилищной дискриминации и дискриминации на рынке труда. Все десятилетие было насыщено массовыми демонстрациями, митингами, походами, пикетированием, экономическими и школьными бойкотами, шествиями, стачками квартиросъемщиков и другими массовыми ненасильственными действиями, вершиной которых был знаменитый поход на Вашингтон под предводительством Мартина Лютера Кинга, состоявшийся в августе 1963 года.
Черное население Америки избавлялось от чувства собственной неполноценности, порожденной вековым расистским угнетением, от тех самых неполноценности и забитости, которые десятилетиями насаждал Голливуд, изображавший негров исключительно в роли бессловесных и глупых слуг и таперов. Закрепляла этот стереотип своим авторитетом и Американская киноакадемия, наградившая когда-то первым «Оскаром» черную актрису Хатти Макдэниел за роль преданной мамки-служанки в доме белых плантаторов в знаменитом предвоенном фильме-эпопее «Унесенные ветром».
Борьба за равноправие негров в кинематографе велась в послевоенные годы скрыто и непросто. Например, актеры Степин Фитчит и Баттерфляй Маккуин научились исподволь разрушать стереотип, играя как бы сразу на двух уровнях: одно значение — для белой аудитории, другое, выраженное через ироническое отношение к изображаемым ими персонажам, — для черной публики. Позднее появились и иные возможности. Как писал Джеймс Маррэй, теперь «у негритянского кинематографа — три цели: коррекция искажений в показе черных белыми, отражение реального мира черных американцев и (в качестве оружия пропаганды) создание положительных образов американцев»1.
Поскольку голливудские продюсеры и студии упорно сопротивлялись проникновению на экран сильных негритянских характеров под предлогом уважения взглядов белой аудитории Юга, правдивые фильмы о черной Америке создавались в эти годы бескорыстными энтузиастами за пределами Голливуда. Это были «независимые» белые режиссеры. Так получила известность картина Ширли Кларк «Холодный мир» (1964) — документальное повествование о жизни молодежи Гарлема. Лишь когда движение за гражданские права к середине 60-х годов достигло своего пика, под его мощным давлением Голливуд наконец принял черных американцев в «средний класс». То есть киногероем голливудских картин вдруг
1 Murray J. То find an Image: Black Films from Uncle Tom to Superfly. Indianapolis, Bobbs-Merrill Co., Inc., 1973, p. XIV.
стал хорошо одетый, образованный представитель черного меньшинства, перед которым якобы были открыты все дороги к «американской мечте». На улицах американских городов шла настоящая война за гражданские права, за право на труд, на человеческие условия жизни, на образование, а на экране блистали великолепно переданным чувством собственного достоинства герои обаятельного Сиднея Пуатье — учителя, детектива, ученого, ничем не уступающего белому в духовных и интеллектуальных качествах. Это была типичная логика либеральных настроений белого американца, испытывающего угрызения совести за столетия рабской эксплуатации черного населения Америки, осознающего, что пришла пора перемен и компенсации, но вовсе не знающего истинных проблем и реальных трудностей, которые сопутствовали как развитию расового самосознания, так и защите неграми своих гражданских прав.
Лето 1967 года отмечено было более чем сотней открытых выступлений более чем в 30 городах страны. 130 человек было убито, включая 46 в Детройте, 25 — в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Число раненых исчислялось тысячами. Материальный ущерб, причиненный волнениями, превысил 700 миллионов долларов. В апреле следующего года в Мемфисе (штат Теннесси) был убит лидер миллионов черных американцев Мартин Лютер Кинг, который разработал и внедрил в движение тактику ненасильственных действий. В ответ на пули белых расистов поднялась новая горячая волна протеста.
Эти события, естественно, не попали на экран. Либеральный Голливуд сглаживал острые углы, делал вид, что белые и черные американцы наконец поняли друг друга, и конфликтовать нечего. Дистанция между искусством и жизнью демонстрировала на этот раз наглядно, как буржуазная идеология пыталась не выпустить из-под своего влияния развитие массового политического сознания «черной» Америки, перехватывая и снижая накал бунтарских настроений негритянских масс. Именно потому, вопреки протестам ультраправых, стойких расистов, Голливуд согласился на замену устаревающего стереотипа «преданного слуги» на стереотип «черного джентльмена» во избежание неприятностей гораздо больших, чем ущемление самолюбия твердолобых куклуксклановцев.
Можно себе представить, какой общественный резонанс получил в 1967 году фильм Нормана Джюисона «В разгар ночи», в котором С. Пуатье играл черного интел-лектуала-криминалиста, распутывавшего уголовное преступление белых, да не где-нибудь, а в оплоте расизма, в провинциальном городке Юга. Тогда на всю страну прозвучала пощечина, которой ответил подтянутый элегантный Вирджилл, черный герой Пуатье, распоясавшемуся плантатору на оскорбительное «нигер». А Американская киноакадемия сочла своевременным отметить этот фильм, с такой вызывающей антирасистской позицией, сразу пятью «Оскарами», в том числе и как лучший фильм года. А кинобизнес в свою очередь возвел С. Пуатье, одного из первых черных актеров, в ранг «кинозвезды», получающей миллионные гонорары.
Но на этом эволюция кинообразов черных американцев не закончилась. Фильмы «Учителю с благодарностью» (1967) англичанина Джеймса Клэвэла, «Угадай, кто пришел к обеду?» (1967) Стэнли Креймера с благородными героями С. Пуатье все более раздражали черную аудиторию, прекрасно знавшую, что изображаемая жизнь не имеет никакого, даже случайного сходства с реальной жизнью. Американские коммунисты поддерживали требования прогрессивных деятелей культуры создавать такие произведения, в которых «негры будут изображаться в реальных условиях с их реальными проблемами» 1.
А эти реальные условия между тем отражали углубляющуюся нищету в негритянских гетто, где положение не улучшалось, а, наоборот, с ростом безработицы среди городской негритянской молодежи стало угрожающим. В гетто ощущалась деморализация, апатия и безнадежность, росло стихийное озлобление против белых.
Глава Экономического исследовательского центра черных Р. Браун писал в 1974 году: «Наиболее важным событием последних двадцати лет стало развитие самосознания черных. Среди них значительно шире распространена расовая гордость и сознание уверенности в себе»2. А служба опросов Янкеловича подтверждала: 24 процента опрошенных считают себя в первую очередь черными, потом американцами, 62 — в равной мере и теми и другими и только 12 утверждают, что они сначала американцы и лишь потом — черные. Служба опросов Харриса указывала на «рост недоверия» черных к своим белым соотечественникам. Если в 1966 году 54 процента опрошенных были убеждены в том, что белые настроены к ним враждебно или безразлично, то к началу 70-х этот показатель вырос до 70.
1 “Daily World”, 1973, 20 Jan.
2 “The New York Times Magazine”, 1974, 21 Apr., Sect. 6, p. 46.
В общественной атмосфере ощущалась потребность в самовыражении именно негритянского самосознания, пробужденного массовым движением за гражданские права. Эту потребность все ясней ощущали голливудские студии и продюсеры на понятном им языке цифр, прибылей, которые, к их удивлению, уверенно приносили фильмы негритянской проблематики. И вот черная Америка наконец получила «свой» фильм. Весной 1970 года у касс кинотеатров, где шел фильм черного режиссера Осей Дэвиса «Хлопок привозят в Гарлем», выстроились длинные очереди черных зрителей. В фильме по рассказу Чарли Хайнса о двух упрямых черных полицейских, работающих в черных кварталах Нью-Йорка и лихо охотящихся за крупной суммой, спрятанной в тюке хлопка, не очень образованная «черная» публика Америки с восторгом узнала себя.
Так начался бум «черного кино», отвечавшего эпохе расцвета черного национализма, так навредившего неграм и пренебрегавшего заповедью М.-Л. Кинга — делать все, чтобы не посеять к себе вражду белых. Потрясающий успех сопутствовал и другим фильмам, где действовали негритянские персонажи, живущие в таких же гетто, как и сами зрители, изъясняющиеся на том же, часто непонятном белому жаргоне, активные до агрессивности, но всегда выходящие победителями из столкновения с враждебным миром белых. Непосредственно к обездоленным обитателям Гарлема была обращена «Шикарная песня славного Суитбека», этот гимн расизма наоборот, начинавшийся надписью: «Этот фильм посвящается братьям и сестрам, достаточно натерпевшимся от белого» — и заканчивавшийся титрами, звучащими как грозное предупреждение расистам: «Берегись! Этот чертов негр еще вернется, чтобы свести кое-какие счеты!»
Режиссер «Суитбека» афроамериканец Мэлвин Ван Пибблз в статье «Сладкая песня успеха», опубликованной в журнале «Ньюсуик», объяснил ситуацию: «Я вел рассказ с точки зрения черного человека. Все фильмы о нас до сих пор снимались как бы с точки зрения белого, англосаксонского большинства, в присущих им ритмах и интонациях. Образы черных персонажей разбавлялись, чтобы удовлетворить белое большинство. Я же хотел, чтобы белые восприняли Суитбека так, как они воспринимают иностранный, итальянский или японский, фильм. Они должны понять наконец нашу культуру»
Жестокий кризис еще сотрясал Голливуд, переживавший летом 1970 года, по словам аналитиков, самый неудачный финансовый год в своей истории, еще неотвратимо падали сборы у могущественных голливудских компаний, а среди черного населения Америки уже рождался неистовый энтузиазм кинозрителя, вызванный историческим вторжением негритянских художников в область, которая была для них до сих пор наглухо закрытой, — в кинематограф белых. Если «Хлопок» принес своему создателю более 9 миллионов долларов, то «Шикарная песня славного Суитбека» собрала 12 миллионов, а необузданный и злой «Шэфт» с талантливым черным актером Ричардом Раундтри без труда в короткие сроки дал постановщикам около 15 миллионов.
Бизнесмены от кино тут же подсчитали рентабельность продукции, рассчитанной на столь специфические вкусы. Оказалось, что черная публика, лишенная кабельного телевидения, видеосистем, заслуживает «спецкинооб-служивания» в кинотеатрах, так как составляет около 40 процентов национального кинорынка. И, подливая масло в огонь черного национализма, хозяева кинобизнеса теперь уже в превосходных степенях восхваляли силу человека с черной кожей, его непременное торжество над белым. Произошел крен в другую сторону — к расовой ненависти со стороны черных. Голливуд и тут преуспел в безудержном насилии, в эксплуатации секса, склоняя «черное кино» к коммерческим моделям «белых» фильмов.
Киноиндустрии не надо было ничего придумывать. Достаточно было взять расхожие образцы гангстерских фильмов, гиньолей, вестернов, фильмов со знакомыми зрителю персонажами — Джеймсом Бондом, Франкенштейном, Дракулой — только с черной кожей. Их взяли. На экранах замелькали «Блэкулы», «Блэкенштейны», «Черные вампиры», «Черные Иисусы» с продолжениями. Фильмы об этих супершпионах, суперполицейских, супергангстерах заполнены потасовками, грубым сексом, погонями и перестрелками. Они идут под одобрительный рев зрительных залов, заполненных до отказа неграми: «Врежь этому белому ублюдку!»
Весной 1971 года в центре Детройта в четырех из пяти первоэкранных кинотеатров шли фильмы «черной волны». К сентябрю 1972 года «черная волна» насчитывала уже не менее 50 картин.
В восторженной реакции негритянского населения на черного киногероя-победителя проявлял себя комплекс неполноценности, раскрепощалась подавленная агрессивность. Заслуживает внимания замечание Джеймса Монако о том, что «блэксплуатационные» (коммерческие) фильмы не были абсолютно негативным явлением. Они выполняли, по крайней мере, одну из поставленных Джеймсом Марреем задач: «Они исправляли допущенные белыми искажения в изображении мира черных, даже если сами были не очень реалистичными»1.
На этом агрессивном фоне особенно резко выделялись отдельные реалистические картины, снятые белыми либерально настроенными художниками. Например, маститый Уильям Уайлер передал в своем «Освобождении Л.-Б. Джонса» (1970) невыносимую психологическую тяжесть расизма, отравляющего духовную атмосферу в маленьком городке штата Теннесси. Лицо закоренелого расиста, который относится к неграм исключительно как к животным, а не людям, показал он в облике фермера и самодовольных полицейских. Возмездие обрушивается на белого убийцу, оставшегося безнаказанным благодаря «умелым» действиям полиции, как индивидуалистический акт отчаяния и вековой ненависти, которые слились в едином разрушительном порыве. Белый режиссер несомненно остается на стороне решившегося на отчаянный, самоубийственный поступок юноши-негра, но вывод фильма — в реакции благопристойной пары молодых либералов, на глазах которых развернулась эта печальная история. Они покидают городок, полные пессимизма относительно возможностей каких-либо мирных перемен к лучшему.
Действие фильма «Саундер» (1972) другого белого режиссера, Мартина Ритта, происходит в Луизиане, в сельской местности во время «великой депрессии». С нескрываемой симпатией к своим героям автор рассказывает о семье негров-издолыциков, в борьбе за выживание сохраняющей человечность и стойкость духа. Без коммерческих эффектов, неспешный в своих повествовательных ритмах, этот фильм показал общность судеб и характеров бедняков с любым цветом кожи, раскрыв, как выразился американский критик, «повседневный героизм обыденной жизни негров, борьбы за то, чтобы попросту жить в Америке, сохраняя достоинство и цельность личности»2.
На фоне «эксплуатационной черной волны» гражданской зрелостью выделилась политически острая картина
1 Murray J. То Wind an Image, p. XIV.
2 Цит. по кн.: На экране Америка, с. 401.
об Анджеле Дэвис и осужденных за политическую деятельность «соледадских братьях» под названием «Братья» (1977) еще одного белого режиссера — Артура Баррона. Любопытно свидетельство критика, отметившего в рецензии, что «этого фильма ждали — ждали «черного» фильма, который сможет противостоять «черной» коммерческой продукции, найдет достойное место чувствам и опыту негритянского народа в основных направлениях нынешнего американского кинематографа».
В том же 1977 году американцы, наконец, пережили настоящее потрясение, вызванное показом по телевидению масштабного исторического фильма «Корни» — экранизации нашумевшего, выдержавшего с октября 1976 года 13 изданий одноименного романа-исследования Алекса Хэйли, в котором корни американских негров прослеживаются на истории одной негритянской семьи, начавшей свой тяжкий путь на американскую Голгофу рабства от африканской деревушки, где в 1750 году родился свободный африканский мальчик Кунт Кинте. В течение восьми дней января почти 130 миллионов американцев каждый вечер собирались у телевизоров дома, в барах, клубах, библиотеках, как будто впервые открывая для себя трагедию целого народа, в цепях привезенного с далеких берегов Африки в Новый Свет на двухсотлетнее рабство.
28 января «Нью-Йорк тайме» опубликовала впервые впечатления от этого сериала. «Я плакала, как ребенок, — рассказывала молодая негритянка. — Я никогда не думала, что это было так чудовищно». «Здесь не показано ни одного приличного белого, — возмутилась представительница обеспеченных «средних» слоев, живущая в богатом пригороде. «Ну, знаешь, — отозвался ее муж, — хорошие белые взяли свое еще в твоих любимых «Унесенных ветром». И потом, каким еще может казаться белый черному рабу?»
«Все это чудовищно, — воскликнул их восемнадцатилетний сын. — Рабство — это зло, и этот фильм показывает, насколько это зло страшно»2.
В Техасе Алексу Хэйли белый мальчишка признавался с удивлением, что его папочка-расист в тот вечер рыдал перед телевизором — первый раз в жизни. Так это было или нет, но в феврале того же года журнал «Ньюсуик» писал: «Корни» для понимания расовых отно1 Цит. по кн.: На экране Америка, с. 401.
шений в Америке значат больше, чем любое событие со времен движения за гражданские права в 60-е годы...»1. И действительно, этот самый популярный телефильм за всю историю телевидения дал новый импульс развитию расового самосознания в США. Он прояснил кое-что и в развитии «черной волны» в кинематографе. Ее быстрый отлив побудил Дж. Монако чересчур категорично констатировать, что «черный фильм», бывший одним из самых ярких явлений в кино в начале 70-х годов, почти полностью исчез с экрана, как только студии научились эксплуатировать негритянский рынок вместо того, чтобы служить интересам черных американцев»2.
На самом деле интересы черных американцев быстро менялись. Процесс их ускоряющегося духовного развития пронизывал всю американскую культуру: белым американцам тоже надо было осмыслить перемены, учиться жить с черным населением Америки как со своими соотечественниками, а не с низшей расой, нуждающейся в патронате. И не эксплуатационные «Блэкулы» и «Блэ-кенштейны» доказывали, что между негритянской и белой культурами нет непреодолимой пропасти, а такие уже более поздние картины больших мастеров американского кино, как «Регтайм» (1981) Милоша Формана, «Коттон-клаб» (1984) Фрэнсиса Копполы, «Армейская история» (1985) Нормана Джюисона. На них все чаще сходились и черная и белая публика, обеспечивая успех «черному фильму», и не так уж и важно было, какого цвета кожи его режиссер, если фильм поднимается до высот человеческого духа.
Дальнейшее «взросление» негритянского кинематографа прослеживается в фильмах о рабочем классе. Еще в 1976 году молодой негритянский режиссер Майкл Шульц снял фильм «Автомойка» — групповой портрет чернокожих рабочих, который собрал 9 миллионов долларов и стал одним из самых кассовых фильмов «черной волны». В нем разыгран всего лишь один день из жизни рабочих на лос-анджелесской автомойке. Как говорится, от звонка до звонка. И без традиционного в американском кино сюжета. Вместо него — шум, суета рабочего дня, калейдоскоп не связанных между собой микрособытий и дух товарищества, который газета «Гардиан» в рецензии на фильм проницательно назвала и расовым и классовым одновременно. Это — спонтанное товарищество, без которого не выжить и которое обеспечивает взаимное уважение, помогает каждому и всем вместе отстоять свою индивидуальность в сфере отчужденного труда, свое достоинство — среди бесчисленных мелких унижений, которым не перестает подвергаться черный человек в США и по сей день, может быть, только в более сглаженных, скрытых формах.
Парад характеров, портретная галерея представителей разных идейных течений, связанных с различными этапами эволюции расового самосознания, — от юного маоиста (сына белого хозяина автомойки), красующегося в безрукавке с портретом «великого кормчего» и потчующего рабочих цитатами из красной книжечки, до преуспевающего черного магната в роскошном авто с подобострастной свитой или Абдулы, подчеркнуто замкнутого и молчаливого среди непоседливой, гогочущей, пляшущей бригады мойщиков, бывшего активиста «черных пантер», принявшего, как знаменитый боксер Касси-ус Клей, магометанство, а вместе с ним и вегетарианство и воздержание, что, впрочем, не избавило его от постоянного и назойливого надзора полиции. Финал картины, когда Абдула берет в руки револьвер, чтобы тоскливо, от отчаяния ограбить кассу своего хозяина, вдруг переводит этот суматошный, полный музыки, похожей на танец «диско», фильм в драматическую тональность.
Здесь нельзя не вернуться к одному из самых драматических и реалистических фильмов о рабочем классе конца 70-х годов, к фильму Пола Шрэйдера «Синий воротничок». Не будучи, так сказать, «черным фильмом» по определению, он тем не менее не избегает специфически негритянских проблем в сюжете о положении рабочего класса и конфликте рядовых членов профсоюза (из которых двое главных героев — негры) с продажными и корыстолюбивыми профсоюзными боссами. Великолепные черные актеры Ричард Прайор и Цафет Котто достоверно передают характеры своих персонажей, сегодняшних американцев, терпящих на заводах «Крайслер» двойной — классовый и расовый — гнет, вступающих в стихийную и безнадежную борьбу с тем, кто (или что) первым попадется на пути, будь то неисправный автомат газированной воды или проворовавшийся профсоюзный деятель.
Заметным событием в 1981 году оказался и фильм Милоша Формана «Регтайм». Снятый по известному роману Э.-Л. Доктороу, этот фильм переносил зрителя к началу XX века, но не был типичным «ретро». Его герой стал символом человеческого достоинства черного американца, готового идти на смерть ради последовательной защиты не жизни, своей оскорбленной чести. Одного из персонажей романа, негритянского лидера Уокера, только что добившегося первого успеха на сцене (он музыкант) и готовящегося к браку, спускают, что называется, с небес на землю самым гнусным образом — причем именно те, кто ненавидит его за гражданскую активность. Чтобы поставить черномазого на место, расисты шутки ради зажимают между двумя пожарными конками его новехонький кабриолет, издеваясь над ним на глазах у прохожих. Невозмутимый автомобилист идет за полицейским. Тот, смущенный своей миссией, улаживает инцидент. Но хозяин машины требует большего: он отказывается сесть в машину, пока не будет вычищено загаженное сиденье. Это уж слишком даже для полицейского. Подумаешь, мистер! Но негр подает в суд и этим лишь усугубляет неприятности: машину, не взятую в загаженном виде у пожарников, неизвестные просто крушат и калечат. Над негром белые откровенно издеваются. Суд отказывает ему в праве на защиту. И тогда, бросив так блестяще складывавшуюся карьеру музыканта, отказавшись от назначенной уже долгожданной свадьбы, он вступает в смертельную борьбу. Собирает горсть друзей — черных и одного белого — и публично, не таясь, объявляет войну своим обидчикам. Город расистов в панике. Бунтари захватывают здание национальной библиотеки. Забаррикадировавшись, диктуют условия мэру города: отдайте обидчика, и мы сдадимся. Решившись за удовлетворение попранного достоинства заплатить своей жизнью, Уокер идет до конца — гордо и осмысленно. И в конце концов мэр все-таки вынужден выдать ему потерявшего спесь белого борова. Теперь, выполняя свою часть условий, он без оружия сдается властям. Но тут же падает на ступенях, прошитый пулями, несмотря на честное слово судьи, шерифа и кто там еще у них есть...
На содержании голливудских фильмов 70-х — 80-х годов заметно сказывается влияние и другой общественно-политической, весьма активной силы, проявившей себя в этот период. Речь идет о набиравшем в 70-е годы авторитет и массовость женском движении, объединившем в борьбе за гражданские права миллионы американских феминисток и обозначившем решительные требования перемен в экономическом, политическом, социальнокультурном положении американской женщины.
Причины подъема женской активности заключались в следующем. По свидетельству Объединенной экономической комиссии конгресса, увеличение числа работающих женщин стало одним из важнейших изменений, произошедших в американской экономике в этом веке. Трудящиеся женщины не могли в конце концов не ощутить и не осознать дискриминации в области экономики — и при найме на работу, и в оплате труда, и при продвижении по службе, а также в законодательной области, не предусматривающей охраны материнства, заботы о детях и т. п. Развернувшееся в 70-е годы движение под названием Women’s Liberation (женское освобождение) было начато представительницами интеллигенции, прошедшими школу бунтарских 60-х. Тогда они стояли самоотверженно и гордо плечом к плечу с парнями в пикетах студенческих забастовок, выступали на митингах за гражданские права негров, шли в рядах антивоенных демонстраций, бесстрашно вставляли цветы в нацеленные на них стволы карабинов национальных гвардейцев. «Нынешнее женское движение в США началось по преимуществу, если не целиком, теми, кто идейно и психологически сформировался движением 60-х годов за гражданские права, студенческими выступлениями и в целом активными действиями левых сил»1, — отмечается в антологии «Единство женщин — это сила».
Поколение бунтарей побудило Голливуд отказаться от прежних стереотипов жеманных героинь, от наивных и сусальных «золушек», от сентиментальных сюжетов с неизменным «хэппиэндом». Вместо ослепительной и недоступной «секс-бомбы» Мерилин Монро, олицетворявшей самодовольство 50-х годов, на экране замелькали джинсовые девочки-подростки с минимальными признаками пола — от Катрин Росс в «Выпускнике» Майка Николса до Эли Макгроу в «Истории одной любви» Артура Хиллера.
Долгое время в новом американском кино вообще не появлялось ярких женских образов. «Не будет большим преувеличением, если сказать, что женщины того же поколения, что и Роберт Рэдфорд, Эл Пачино, Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, оказались вытесненными с экрана»2, — писал Д. Монако. Центровые темы старого кинематографа с ведущими женскими ролями — любовь, брак, семейное счастье — на какое-то время перестали занимать американского зрителя. И в самом деле: жен1 Sisterhood is powerful. Ed. by R. Morgan. New York, A Vintage Book, 1970, p. XX.
2 Monaco J. American Film Now, p. 94.
щинам нечего было делать в фильмах-катастрофах, в жанре поп-мистицизма, где все внимание отдавалось героям, действующим в экстремальных ситуациях. В кассовых супербоевиках-блокбастерах все больше действовали дьяволы, монстры и «летающие тарелки», электронные чучела акул и Кинг-Конгов. Семья же, брак и любовь после сокрушительной атаки контркультуры потеряли на экране ореол святости, а вместе с ним исчезла и женщина как олицетворение чистоты и целомудрия.
Эволюция происходила в течение последнего двадцатилетия в направлении, кратко и исчерпывающе сформулированном в названии книги известного кинокритика Молли Хаскелл — «От преклонения к изнасилованию». Пожиная плоды отчаянной смелости поколения 60-х годов, беспринципная «массовая культура» спешила придать товарный вид эмансипации, понимая ее как свободу эксплуатировать порнографию и жестокость.
Выражая общие настроения, Джейн Фонда в начале 70-х годов решительно отказалась от голливудских предложений на роли, по ее мнению, унижающие женское достоинство, и на некоторое время ушла из кинематографа. Она заявила в печати: «Я начала понимать, какую роль играет кино в формировании наших мыслей, чувств и стереотипов. И стала внимательней относиться к сценариям, которые мне присылали. И почти в каждом из них обнаруживала фальшь и ложь... Многие считали мой отказ от работы безумием. Но в 1972 году я твердо решила не делать в кино того, к чему я привыкла раньше, даже если мне придется вообще его бросить. Я сочла для себя неприемлемым делать то, во что не верю...».
В 70-х годах мощный подъем женского движения выплеснул киноволну семейно-бытовых проблем и превратил женскую тему чуть ли не в сердцевину социального кинематографа этого десятилетия. Под влиянием растущей гражданской активности женщин героини американских фильмов становились гораздо более полноценными личностями, выходили за рамки семьи, за рамки второстепенных, служебных киноролей. В начале десятилетия можно было уже заметить, как на место исчезнувших стереотипных героинь экрана постепенно приходили другие стереотипы. Во-первых, появилась «просто девушка» — отстранение холодная, второстепенная участница типично приключенческих или так называемых «мужских» фильмов. Во-вторых, домашняя хозяйка и верная жена, наиболее исчерпывающе воплощенные актрисами Сэнди Дэннис и Барбарой Харрис, совместивших в домашней хозяйке еще и объект сексуального влечения. В-третьих, благодаря маленькой Татум О’Нил, удачно дебютировавшей в «Бумажной луне» П. Богдановича, получили признательность зрителей образы девочек. Затем прославилась Джуди Фостер, тоже ребенком появившаяся в «Багси Мэлоун» Алана Паркера и в «Таксисте» Мартина Скорсезе, указав путь и другим несовершеннолетним актрисам, которые с неожиданной силой передали недетское отношение к миру своих маленьких героинь. В-четвертых, и это самое главное, женщина-личность, человек самостоятельной и необычной судьбы, возникла на экранах в образах, тесно связанных с такими творческими индивидуальностями, как Барбра Стрэйзанд, Лайза Минелли, а также негритянская актриса Диана Росс. Картины с их участием («Смешная девчонка», «Какими мы были», «Звезда родилась», «Кабаре», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Леди поет блюз») принесли выдающиеся сборы и показали, куда движется и чего требует зритель. Существенная деталь: все три актрисы — певицы, и успех им на первых порах обеспечила мода на «ретро» плюс музыка ну и, наконец, нестандартные сильные характеры их героинь, только входившие тогда в моду.
Дух времени одним из первых в американском кино подхватил и осознанно выразил в мощном произведении критического реализма «Оклахома, как она есть» (1973) Стэнли Креймер. Этот фильм с центральным женским характером, широко демонстрировавшийся на наших экранах, не является собственно феминистским, так как не касается специальных «женских» проблем. Таковым его делает наличие волевой, энергичной, не уступающей мужчинам героини, вынужденной отчаянно защищать себя, свой домашний очаг и свою землю, богатую нефтью, от бандитских посягательств монополий. Ее убедительно сыграла прославившаяся после «Бонни и Клайда» актриса Фэй Данауэй, для этой роли самоотверженно огрубившая свою обаятельную внешность. Появление подобной неженственной героини на экране было предопределено нарастающим женским движением.
Наконец, феминистские идеи проникают в кинематограф через фильмы об обновленных семейных отношениях. Они побуждают самых смелых, ищущих актуальные сюжеты режиссеров откликнуться на последние «достижения» феминисток в области, где пуританские добродетели двухсотлетней закваски катастрофически теряли силу в результате выравнивания социального положения полов, урбанизации и крушения системы ценностей. Анализируя результаты переписи 1980 года, журнал «Ньюсуик», как уже говорилось выше, отмечал такие признаки распада семьи, как распространение ранних внебрачных связей, появление большого числа внебрачных детей, случаев длительного сожительства вне брака, массы одиноких женщин (составляющих три пятых всех одиноких американцев), лиц, никогда не вступавших в брак. Журнал констатировал, что терпимость общества по отношению к подобным явлениям все более укрепляется, поощряя многообразие образов жизни1.
«Антисемейные» тенденции новейшего времени, нашедшие подтверждение в пугающих традиционалистов данных статистики, постепенно откристаллизовались в киносюжетах в некую обобщенную идею, подспудно овладевающую сознанием, видимо, не только экранных героинь. А именно в идею преодоления домашней хозяйкой страха потерять мужа — опору, семью как фундамент жизни, выйти один на один с обществом, столкнуться с безработицей, одиночеством, распадом устоев. В русле этой идеи и следует, очевидно, рассматривать одну из первых картин такого рода — известный советскому зрителю фильм Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет». Еще не по собственной воле остается без мужа героиня. Муж — водитель машины, показанный, кстати сказать, в те несколько минут, что были ему отведены по сюжету, достаточно неприглядно, погибает в начале картины в автомобильной катастрофе. И вдова, которую вдохновенно, как будто себя, играет актриса Элин Бер-стин, пережив несчастье, собирается с силами жить дальше. Но уже как-то совсем иначе, полагаясь во всем только на свои силы — и в воспитании сорванца-сына, с которым она сразу находит теперь общий язык, и в поисках средств к существованию, и в выборе нового места жительства, и во взаимоотношениях с миром. Скорсезе изображает традиционное мужское сознание в портретной галерее провинциальных типов, бросающих на хорошенькую женщину, ищущую работу, взгляды, не оставляющие сомнений в их желаниях. Провинция — в любой стране провинция, а в Америке она еще и воинственна в отстаивании своих устоев и ценностей, потому что считается, что они и есть устои американизма. Скорсезе тоже пасует перед ними и не находит иного выхода, как выдать свою героиню, не обретшую счастья в независимом существовании, вторично замуж.
Гораздо дальше в вопросах семейной эмансипации женщин идет Пол Мазурски своей картиной «Незамужняя женщина» (1978). Здесь внешне благополучная семья разрушается волей женщины, органически, до спазматической рвоты на улице, не готовой примириться с изменой мужа, наивно сообщившего ей о своих возросших сексуальных потребностях, которые он уже начал удовлетворять с помощью продавщицы из соседнего магазина. Изгнав его из своей жизни и тщательно ликвидировав в доме все следы семейного уюта, Эрика, которую, не теряя реализма в этом почти эксцентрическом фильме, блестяще играет Джилл Клейберг, направляется прямым ходом к психоаналитику, чтобы подправить пошатнувшуюся от этого удара судьбы психику и выработать новые навыки самостоятельной жизни. «Я напугана, — передает свое состояние Эрика. — Раньше жизнь текла безмятежно, а теперь каждый день, как взрыв, смута и растерянность. Не знаешь, чего и ждать...» Вот она обсуждает с давно не встречавшимися подругами всякие проблемы и в том числе увлеченно и опять-таки деловито значение оргазма для общего самочувствия. Этот эпизод — несомненный парафраз в духе эмансипированных энтузиасток из групп «женского освобождения» типа «Хлеб и розы» или «Красные чулки», популярных в начале 70-х годов среди городской интеллигенции США. Вот она поучает восемнадцатилетнюю дочь: «Хорошо быть королевой, но лучше быть королем». На что Пэтти, презирающая мужчин, «этих самонадеянных подонков», безапелляционно заявляет: «Мама, я никогда не выйду замуж... Зачем? Все равно все разводятся...» Далее Эрику просвещает один из случайных партнеров (с которым она пытается вступить в связь без любви): «Есть работа, еда, секс — и более ничего!»
Говорят, этому фильму, исследовавшему характер не эмансипированной, а как раз традиционной американки, вышедшей из кокона семьи так, как советовал психоаналитик («Ну просто откройте дверь и выйдите!»), стоя аплодировали зрители Нью-Йорка независимо от пола и расы — настолько он соответствовал распространенным там феминистским настроениям.
В 1979 году чемпионом кассовых сборов становится «Крамер против Крамера». Не фильм-катастрофа, не гиньоль, не космический боевик, не приключенческий и не остросюжетный, этот фильм Роберта Бентона собирает почти 62 миллиона долларов только потому, что улавливает в по-прежнему мощном женском движении легкие оттенки морального консерватизма. Советские зрители помнят эту скромно снятую мелодраму о распавшейся супружеской паре и очаровательном ребенке, который остался на попечении отца, застигнутого врасплох неожиданным поворотом событий. Фильм украшает знаменитый Дастин Хоффман, актер поразительного обаяния, вот уже два десятилетия воплощающий героя, вынесенного на экран волной бунтующего поколения 60-х. И если здесь он вызывает симпатии американцев своим решительным выбором между карьерой и личной заботой о воспитании ребенка (новейшая модель «альтернативного» поведения!), то его партнерша — жена и мать, покинувшая семью ради самоутверждения, без всяких на то видимых причин, — в фильме хоть и ненавязчиво, но осуждается. Под занавес она и сама, попробовав где-то там, за кадром, самостоятельной жизни, не проявляет по этому поводу большого удовлетворения и вновь проникается чувством ответственности, по крайней мере, перед ребенком.
И как будто специально, чтобы закрепить в сознании зрителей наметившийся в государственной политике поворот к традиционным семейным нормам, в 1982 году Артур Хиллер снимает с Элом Пачино в главной роли язвительную комедию «Автора, автора!». Здесь автор уже откровенно издевается над «новой моралью», высмеивая неуемную влюбчивость легкомысленной жены погруженного в себя, увлеченного работой над пьесой драматурга. Исповедуя искренность и свободу чувств, она то и дело возвращается к покинутому мужу с новым ребенком, чтобы вскоре вновь уйти из увеличивающейся таким образом семьи ради нового увлечения. Пьеса, над которой бьется добросердечный герой Эла Пачино, это и есть горестные размышления драматурга о своей собственной незадачливой семейной жизни. Ключом как к пьесе, так и к фильму становится репетируемый в присутствии драматурга сценический эпизод, где брошенный очередной раз муж выносит наконец назидательный приговор беглянке: «Ты хочешь жить, меняя мужчин? Ты такая — и весь ответ? А люди, которых ты бросаешь, а твои дети — куда деть их? Твоя свобода дорого стоит другим!» Вот, собственно, и весь фильм. И все драматургические ходы, и обаятельный образ безразличного к потребительству, безгранично терпеливого и любимого своими и чужими детьми мужа, и прелестные дети разных возрастов, образующие эту безалаберную, но дружную семью, — все составляет здесь контекст для осуждения зарвавшейся феминистки.
Этим не очень изящным упреком, брошенным явно из лагеря «морального большинства» Америки 80-х женщинам, борющимся за право на самоопределение в семейных отношениях, пожалуй, завершается некий цикл картин, в которых Голливуд сначала подхватил лозунги феминисток в области морали и тут же по-своему переварил и «усмирил» их, приведя к общему консервативному знаменателю. Остается еще вспомнить упоминавшийся фильм «Нежное милосердие» об идиллическом возрождении спившейся эстрадной «звезды» в лоне семьи и церкви, чтобы увидеть, как круг замкнулся...
Впрочем, Голливуду не удалось справиться с женским движением такой «детолюбивой» традиционалистской логикой. В общественном положении американской женщины произошли необратимые изменения. Так что лозунги, идеи и сам демократический дух феминистского движения находили в кинематографе другие возможности для самоутверждения общественно полноценного женского характера, который, кстати сказать, в реальной действительности проявлял себя все увереннее прежде всего как раз не в семье, а в общественно-политической сфере. Появление в 1982 году удивительно естественного и органичного при всей эксцентричности сюжета фильма С. Поллака «Тутси», необыкновенный успех его у американской аудитории (94,6 миллиона долларов) свидетельствовали о колоссальных сдвигах в общественном сознании, принимающем с несомненной симпатией, а то и с восторгом Дастина Хоффмана в роли умеющей постоять за себя женщины. Решительно новое, полное искреннего уважения отношение к противоположному полу страстно и убедительно защищает его герой, безработный актер, которого берут на работу, но в роли женщины, главной героини телевизионного сериала. За каскадом комических ситуаций раскрывается прекрасная возможность обретения уникального для мужчины опыта постижения женской психологии и воспитания мужской самокритичности.
После выхода фильма на экраны Хоффман рассказывал, как мучительно искал ключ к этой необычной роли. Работая над характером героини, которую ему предстояло играть после фильма «Крамер против Крамера» (он-то и
натолкнул его на эту оригинальную идею), актер после целого года мучительно трудного вживания в образ, поисков манеры ходить, разговаривать, общаться решил: «Я не буду пытаться создавать чей-то характер. Я просто буду самим собой в новом обличье. Пусть моя женщина будет вести себя как мужчина, вернее, просто как человек — и посмотрим, что получится»1.
Так получился этот удивительно смешной и тонкий, с глубоким социальным и гуманистическим смыслом «феминистский» фильм. Взаимоотношения Майкла-Дороти с очаровательной партнершей по телешоу (Джессика Лэндж), в которую он немедленно и бесповоротно влюбляется, а также со всем своим пестрым окружением в экранном и реальном мире, его необычный опыт, обретенный в женском платье, позволили Майклу преодолеть пресловутый мужской шовинизм и обеспечили «Тутси» выход в десятку самых кассовых фильмов за всю историю американского кино. Примечательный факт: стоило авторам выйти из тупика, в который завела кинематограф спекуляция на темы любви к детям и домашнему очагу, как в спорах о достоинстве женщины и ее праве на выбор своей судьбы зритель снова стал на сторону женщины.
Однако консерваторы не сдавались. Пытаясь увязать ценности традиционного американизма с новыми веяниями, они нашли и другой способ нейтрализации взрывного потенциала женского движения Голливудом. Он прослеживается по линии, намеченной одним из самых вызывающих феминистских фильмов «нового» Голливуда — «Губная помада» (1976) Ламонта Джонсона. Не свободная от коммерческой эксплуатации сексапильности актрисы и от рискованных постельных сцен, снижающих ее публицистический пафос, картина тем не менее обращает к зрителю вопрос: «Что превращает женщину в объект сексуального преследования?» И отвечает: во всяком случае не женщина. На суде, где выясняются обстоятельства изощренного изнасилования героини элегантным и образованным молодым человеком, учителем музыки, пострадавшая все больше представляется законниками как обвиняемая. Дело все в том, что она по профессии «cover-girl», то есть девушка, работающая моделью для обложек рекламных журналов, и адвокат респектабельного насильника настойчиво приводит доказательства ухищрений, которые якобы сознательно предпринимает истица, чтобы выглядеть сексапильной, чтобы вызывать своим искусно полуобнаженным красивым телом на бесчисленных фотографиях их вожделение. Защитник интересов истицы резонно доказывает, что личная жизнь женщины здесь ни при чем: такова ее профессия — нравиться читателям. Иначе не будет спроса на товары, которые ею рекламируются. Суд, однако, осуждает не профессию, а женщину и оправдывает «не устоявшего» перед соблазном мужчину. Поскольку закон не в состоянии ее защитить, героиня далее действует, как во времена дикого Запада. Когда осмелевший от безнаказанности сексуальный маньяк вскоре после судебного разбирательства посягает и на ее младшую сестру, втянутую бесстыдным судилищем в подробности происшедшего на ее глазах насилия, выстрелом из карабина, припасенного на такой крайний случай в багажнике автомобиля, героиня исполняет приговор, который не осмелился вынести суд присяжных... Так «Губная помада» превращалась в женский вариант упомянутых городских вестернов: если закон не в состоянии оградить женщину от унижений и насилия, учит фильм, она сама должна прибегнуть к самозащите.
Поразительно, как живуч дух дикого Запада в американской культуре: семь лет спустя, в 1983 году, в картине «Пистолет» Тони Гаррета повторяется та же ситуация изощренного сексуального насилия. Но теперь, когда ведомая Рейганом страна «возвращается» к своим корням, героиня, молоденькая учительница из провинции, и не помышляет о том, чтобы искать защиты у суда. Она, как мы уже видели, использует уроки, преподанные ей самим же насильником, внушая зрителям со всей силой женского обаяния: «На пистолетах, только на пистолетах узнается, где добро, а где зло!..»
Что же касается собственно семьи и идиллий семейного счастья, то нельзя, пожалуй, не отметить, что на слащавое «Нежное милосердие» Боб Рэйфелсон ответил в 1981 году масштабным произведением критического реализма «Почтальон всегда звонит дважды» (по роману С. Крэйна). Этот римэйк1 картины Тэя Гарнетта 1946 года и фильма Л. Висконти «Одержимость» (1942), теперь уже с участием таких актеров, как популярнейший Джек Николсон и восходящая «звезда» Джессика Лэндж, не оставляет камня на камне от оплота консерваторов —
1 Римэйк — распространенная в Голливуде практика создания фильмов по старым киносюжетам.
американской семьи, где можно якобы укрыться и переждать все бури XX века.
Пожилой грек, хозяин придорожной таверны в глухой американской провинции, размышляя о своей эмигрантской судьбе на чужбине, говорит пышущей жизнью молоденькой жене Коре: «Здесь всего можно добиться, это правда. А счастья — нет. Пустая жизнь, без идеалов и ценностей». И драматические события, следующие длинной, неразрывной цепью, лишь подтверждают этот горький итог. Хозяина дважды пытаются убрать с дороги его жена и полюбившийся ей бродяга, нанятый мужем для подспорья в хозяйстве. Тайная связь и кажущееся таким близким счастье с новым супругом при старом хозяйстве толкают любовников на изобретательные попытки убить мешающего им владельца таверны. Придумывают и такое: для доказательства «подлинности» аварии в сбрасываемой в овраг машине изрядно ломает себе кости и Фрэнк, подталкиваемый нетерпеливой Корой к намеченной ими цели. И вот старый Ник Попадакис мертв. Дорога к семейному счастью открыта, хотя и с затруднениями: любовники попадают на скамью подсудимых по подозрению в преступлении. Впрочем, здесь суд не интересуется погибшим. Подозреваемые — просто шахматные фигуры в сложной игре страховых компаний. Откупаясь от одной из них, они выходят сухими из воды, чтобы начать наконец новую жизнь. Но процветание подточено изнутри душевным опустошением Коры, пьянством Фрэнка и взаимным охлаждением чувств. Фрэнк опускается. Скандалы, измены, ссоры преследуют эту так жаждавшую тихого счастья пару. Ожидание ребенка возвращает им душевное равновесие, и Фрэнк, полный надежд на лучшую жизнь, ведет Кору под венец... чтобы на обратном пути из церкви потерять ее навсегда. Она умирает от удара головой о камень, выброшенная из машины резким поворотом руля, когда счастливый Фрэнк, отвлеченный ее поцелуем, забывает о дороге. Волчьим воем отчаяния воет над трупом жены вчерашний бродяга, оставшись в один день владельцем таверны и вдовцом.
Весь фильм — как бы две закрученные в противоположные стороны спирали движения: одна — вверх, к материальному благополучию, другая — вниз, в пропасть духовной опустошенности. «Мне все равно, — говорит Кора, подчиняясь зову страсти и решаясь на убийство мужа, — все равно, что хорошо, что плохо...». Лишенные нравственного начала, герои руководствуются только своими желаниями. Так, на вокзале, решив вдвоем бежать от хозяина и мужа, они останавливаются на миг около игроков в монету, и Фрэнк, загоревшись внезапным желанием, забыв все, как ребенок, сдает свой билет на поезд в Чикаго, чтобы сделать в этой игре ставку. Точно так же, ради интереса, он соблазняется экзотической циркачкой из заезжего цирка. И совершенное убийство не вызывает у них нравственного чувства раскаяния. Только страх, как бы не раскрылось преступление. Но постепенно, с годами, улетучивается и он вместе с воспоминанием о том, как им это все досталось, и парочка превращается во вполне добропорядочную и преуспевающую семью, каких немало в «средних» слоях Америки. И только роковая смерть Коры, придуманная Бобом Рэйфелсоном, напоминает зрителям о непомерной цене и призрачности этого безнравственного счастья.
Между тем в стороне от узкого мирка мещанского благополучия росло в общественном сознании и в прогрессивном кинематографе совершенно иное понимание женского счастья — как полноценной гражданской, истинно человеческой жизни, неразрывно связанной с важнейшими свершениями времени.
В 1977 году в США много писали и говорили о фильме «Джулия», снятом немолодым уже Фрэдом Циннеманом по воспоминаниям одной из самых блистательных фигур в прогрессивной культуре США, сценаристки, писательницы Лилиан Хэллман. «Джулия» — картина о прошлом. О тяжелых временах, когда Европа была заражена коричневой чумой фашизма, и о людях, которым совесть не позволяла отсиживаться вдали от опасности и борьбы. Джейн Фонда вместе с английской актрисой Ванессой Рэдгрэйв сумели с поразительной силой передать свое уважение к этим людям, воплотив на экране недюжинные характеры, напряженную духовную жизнь своих героинь, ввергнутых историей в героическую борьбу антифашистского подполья в Европе 30-х годов.
Джейн Фонда, основавшая в 1973 году собственную независимую кинокомпанию, чтобы, по ее словам, «создавать такие фильмы, которые отказывается делать Голливуд», после пяти лет неимоверных усилий, потраченных на преодоление всех препятствий, вместе с режиссером Хэлом Эшби выпускает знаменитый антивоенный фильм «Возвращение домой». В центре этого фильма, выразившего отношение леворадикальной Америки к войне во Вьетнаме, снова полноценный женский характер. Именно женский, потому что через отношение к двум мужчинам,
через мучительную любовь — уходящую и приходящую — показывает актриса пробуждение личности, женщины и гражданина. Так в одном сюжете сливаются воедино духовные пути двух массовых демократических движений: антивоенного и женского, своим присутствием в общественной жизни обязывающих наиболее ответственных и политически активных художников откликаться на требования времени. Причем откликнуться на требование времени не значило в США явиться куда-то на студию хотя бы и с готовым сценарием и сказать: я хочу сняться (или снять) в таком и таком фильме.
«С момента образования нашей кинокомпании, — жаловалась как-то Джейн Фонда, — я узнала, как трудно собрать фильм, свести воедино все компоненты, необходимые для его создания. Это требует связей, многих контактов, дипломатии. Вы должны знать все ходы и выходы в киноиндустрии, у вас везде должны быть друзья, вы должны быть влиятельным лицом и так далее. Даже при таких условиях, даже при том, что я — все-таки Джейн Фонда и у меня есть, что сказать людям, чрезвычайно сложно найти тех, кто осмелился бы сделать такой фильм — и политический и эмоционально волнующий одновременно» х.
Осмелились не случайные люди. Сценарист Уолдо Солт еще в 50-е годы считался политически «неблагонадежным» и попал в «черные списки». Позже о нем говорили, что, если бы «голливудская десятка» была «голливудской дюжиной», «Солт был бы в ней одиннадцатым». Допущенный к работе только в 60-е годы, талантливый сценарист сразу уловил пульс времени, приобщившись к бунтующему поколению сценарием знаменитого контркультурного «Полуночного ковбоя» (1969), затем написав сценарий «Дня саранчи» (1975). Режиссер Хэл Эшби также к этому времени имел на своем счету смелый фильм «Поезд мчится к славе» (1976) о прославленном певце рабочего класса Вуди Гатри. А о гражданском пафосе оператора Хаскелла Уэкслера мы уже писали.
Вот кого собрала тогда в творческую группу для работы над «Возвращением домой» энергичная актриса и политическая деятельница Джейн Фонда. Время показало, насколько своевременными и важными для совести Америки оказались усилия энтузиастов, создавших этот честный и горький фильм-прозрение. В 1978 году «Возвращение домой» был единственным американским художественным фильмом, достойно противостоявшим консервативному патриотизму пресловутого «Охотника на оленей». Фильм X. Эшби тоже начинается с проводов добровольцев, отправляющихся во Вьетнам защищать идеалы «свободного мира». Тот же гимн и звездно-полосатый флаг, перед которым стоит навытяжку Салли, жена капитана морского флота, только что покинувшего ее ради воинской доблести. На глазах у нее слезы патриотического умиления и экстаза. Именно эти чувства приводят героиню в военный госпиталь, где она среди стонов, криков и проклятий стоически кормит с ложечки раздраженных, не стесняющихся в выражениях искалеченных ветеранов, выносит из-под их безжизненных тел утку, меняет грязное белье и, исполненная жалости к поверженным героям, постепенно постигает их духовные муки, оказавшиеся куда более нестерпимыми, чем физические. И отдает свою любовь одному из них, парализованному, прикованному к инвалидному креслу Люку, как оказалось, бывшему сокурснику по колледжу, который своей яростью, ненавистью к милитаризму вскоре заражает и ее, постепенно прозревающую вчерашнюю ура-патриотку.
Возможность полноценной жизни обусловливается в фильме не чувством любви, а гражданской зрелостью, вооружающей человека даже физически немощного способностью действовать, бороться, сгорать от стыда и позора не за себя лично, а за свою страну и эту проклятую войну во Вьетнаме. Отсутствие же зрелости, наоборот, означает непонимание происходящего, душевный разлад с самим собой и в конце концов гибель, что и происходит с вернувшимся из Вьетнама «героем» — мужем Салли, который навсегда скрывается в пляжном прибое не только потому, что узнает о потере жены и семьи...
Характерно, что, как и в случае с «черной волной» американского кино, дальнейшее развитие «женского фильма» также отмечено сближением с фильмами о рабочем классе. Не случайно высоко оцененный Коммунистической партией США «рабочий» фильм Мартина Ритта «Норма-Рэй», ставший эффективным средством пропаганды в борьбе за организацию новых профсоюзов, является одновременно и «женским» фильмом.
В 1983 году благодаря еще одному «женскому» фильму — «Силквуд» — героиней экрана снова становится представительница рабочего класса, безвестная двадцативосьмилетняя лаборантка фирмы «Керр-Макчи» в Креснте (штат Оклахома) Карен Силквуд. Это, кстати, не вымышленный персонаж, а реальное лицо, активистка профсоюза, трагически погибшая десятью годами раньше в автомобильной катастрофе при попытке придать гласности материалы, где ее фирма, работающая с радиоактивным плутонием, обвинялась в умышленном и опасном для жизни рабочих нарушении мер безопасности. В свое время, в 1974 году, эта история облетела прессу, смерть сочли несчастным случаем, хотя завод в Креснте все же закрыли, а трем детям Карен выдали компенсацию за гибель матери. Впрочем, актриса Мэрил Стрип, игравшая главную роль, не считает этот фильм «антиядерным». «Это гораздо более сложный фильм о довольно противоречивой личности, и в нем есть ощущение реальной жизни рабочих»1 — говорила она в интервью журналу «Амэрикэн филм». Режиссер Майк Николс, вернувшийся этим фильмом в кино после восьмилетнего перерыва, даже не счел нужным менять имя своей героини, тем самым предельно обостряя политическую актуальность киносюжета. Фильм вызвал большой общественный резонанс, целый ураган в прессе, потому что оказался в фокусе сразу трех массовых движений: женского, рабочего и экологического (последнее выступало против использования ядерного топлива, представляющего угрозу людям и окружающей среде). Логика кинематографического объединения в одном сюжете разных аспектов общественной жизни как бы подсказывалась логикой их политического объединения в реальности.
Советские зрители помнят картину Джона Бриджеса «Китайский синдром» (1979) о безуспешной попытке горстки защитников общественных интересов довести до сведения общественности факт угрожающей жизни населения опасной радиоактивности местной ядерной электростанции. Помнят, как любой ценой, вплоть до шантажа и применения оружия, охраняла свои прибыли и частнособственнические интересы владеющая электростанцией компания. Не государственные, не общественные, а именно свои интересы преследовали 2690 корпораций различных масштабов, которые, по сведениям Административного управления судов США, были осуждены за совершение федеральных уголовных преступлений за десятилетие — с 1971 по 1980 год. А сколько ускользнули от закона? В картине Бриджеса в схватку с компанией вступает «сторожевой пес демократии» — пресса и телевидение в лице отважной журналистки, роль которой сыграла с большой гражданской страстью Джейн Фонда (опять деятельный женский образ!). В фильме Николса за общественные интересы поднимается рядовая работница-профсоюзница, и перепуганный мир бизнеса ополчается на фильм якобы за искажение реальных фактов, а на самом деле беспокоясь о другом: как бы кинематографическая Карен Силквуд не превратилась в антиядерную Жанну д’Арк.
Это беспокойство можно понять: через крайности феминистских лозунгов против «сексуальной эксплуатации» женщин, через наивные призывы к сбзданию гуманистической «женской культуры», способной решительно и бесповоротно «подорвать самые корни капитализма», через решительное утверждение духовного равноправия с мужчиной женщины Америки поднимались до участия в рабочем движении. Куда неприятней сексуальной революции для бизнеса демонстрации за поправку к конституции о равноправии женщин, за равную с мужчинами оплату труда, за справедливое представительство женщин в органах власти, в сфере науки, культуры, бизнеса и политики. Поправку к конституции конгресс в очередной раз провалил (с трудом, большинством в один голос!), но зато впервые в истории страны на президентских выборах 1984 года демократическая партия, искавшая поддержки женщин-избирательниц, решилась выдвинуть кандидатом в вице-президенты США женщину.
А участие работающих женщин в местных движениях (в женских организациях по месту жительства и на производстве, которые охватывают, по официальным данным, более 10 миллионов человек) рассматривается многими исследователями в США как переходный этап к профсоюзам, как осознание необходимости сближаться с профсоюзами и организовываться в них.
Знаменательно, что исполнявшая роль Силквуд новая «звезда» Голливуда Мэрил Стрип оказалась последовательным человеком. Она навлекла на себя раздражение и гнев большого бизнеса смелым вторжением в эпицентры большой политики не только на экране. Выяснилось, что эта актриса обладает и ярким дарованием и незаурядным общественным темпераментом, который привел ее в ряды массового антивоенного движения 80-х. Она выступает на митингах за сокращение ассигнований на производство ядерного оружия, участвует в демонстрациях и сборах средств для антивоенных организаций. В документальном фильме телекомпании Пи-Би-Эс «Восемь минут до полуночи», картине о последствиях возможного ядер-ного конфликта, звучит ее вступительное слово. Недаром в 1984 году в Бостоне ей была вручена «Премия за лидерство» — лидерство в борьбе американских киноактеров за замораживание ядерных вооружений.
Надо сказать, что этот новый вал антивоенного движения 80-х годов, накативший после спада 70-х, захватил не одну Мэрил Стрип. В его рядах оказались и Джоан Вудворд (вместе с Полом Ньюмэном, названным корреспондентом ТАСС в США А. Лютым за свою многогранную политическую активность «почти легендарным»), и Джейн Фонда, и Салли Филд, и Джоан Харви, получившая на XIII Международном фестивале в Москве летом 1983 года специальный приз жюри за публицистический фильм «Америка от Гитлера до ракет МХ», — актрисы и режиссеры, выросшие благодаря серьезным женским ролям в политических деятельниц. А может быть, и наоборот: они пришли к победам в искусстве благодаря своей гражданской и политической активности и близости к массовым демократическим движениям. В жизни бывает по-разному.
Непривычная для американцев тревога по поводу собственной безопасности в начале 80-х годов привела к такому подъему движения за замораживание ядерного вооружения, против угрозы ядерной войны, за сокращение военного бюджета и против вмешательства США в дела стран Центральной Америки, что антивоенные настроения незамедлительно дали всходы и в кинематографе. Чем больше рейгановская пропаганда запугивала население своей страны «угрозой советской ядерной мощи», тем больше страх перед ядерным апокалипсисом подталкивал американцев к борьбе за мир.
Детонатором именно этого эпидемического страха и оказался уже упомянутый фильм Н. Мейера «На следующий день». Однако реальную силу движения за замораживание и разоружение, поднимающуюся с низового уровня во всех концах страны, лучше передает прекрасный документальный фильм «В наших руках» (1983). Этот взволнованный публицистический репортаж о самой большой в истории США мирной демонстрации 12 июня 1982 года в Нью-Йорке, которая проходила под лозунгом за ядерное разоружение, снимался сорока съемочными группами. Они были созданы из добровольцев во главе с Робертом Ричтером и Стэнли Варновом (последний принимал участие в создании гигантского фильма-отчета о фестивале хиппи 1969 года «Вудсток», а позднее работал с М. Форманом над антивоенным мюзиклом «Волосы»).
Съемки и интервью начались еще в период подготовки демонстрации в разных концах страны и продолжались длительное время после нее, фиксируя ее политические и гражданские последствия. «Одни группы следовали за демонстрантами от мест их жительства до места сбора в Манхэттене; другие снимали отдельные колонны; третьи — трибуну в Центральном парке; группа под руководством уже снискавшей себе репутацию мужественного борца за интересы трудящихся Барбары Коппл (автора упоминавшейся картины о забастовке горняков «Округ Харлан, США») снимала совещания организаторов; еще одна группа делала общие планы с вертолета»1; — так описывал эту грандиозную съемку репортер.
На экране ощущается впечатляющая мощь народной воли: волна за волной накатывается на улицы Нью-Йорка прилив демонстрации. Явственно видны разные слои населения: члены профсоюзов, организации пожилых американцев — «седые пантеры», феминистки, жители зажиточных пригородов, негры и другие этнические меньшинства, религиозные общины, уличные актеры, студенты... Длинные планы этих нескончаемых людских потоков монтируются с выступлениями доктора Бенджамина Спока, актера и певца Пита Сигера, Джеймса Гэйлора, Риты Маррей и многих других видных общественных деятелей страны, присоединившихся к антиядерному движению. В фильме немало интервью с простыми американцами, а также с людьми, приехавшими на демонстрацию из-за рубежа, например, с жертвами атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки. Неудивительно, что этот фильм, финансировавшийся более чем 350 организациями и отдельными лицами, широко отмеченный прогрессивной печатью, до сих пор встречает массу препятствий на пути к зрителю. Предназначенный для широкого показа в кинотеатрах и по телевидению, он пока демонстрировался лишь в некоторых городах. Сборы от проката пошли в пользу антиядерного движения.
Новые ожесточенные атаки империализма на патриотические и демократические движения и режимы с целью взорвать или хотя бы затормозить прогрессивное развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки, бесцеремонное и все более откровенное военное вмешательство во внутреннюю жизнь и гражданскую войну Сальвадора и Никарагуа вызвали оживление специфически «латиноамериканского» направления в антивоенном движении 80-х годов. Его активистами вне Голливуда и ведущих телесетей были сняты в 1981 — 1983 годах документально-публицистические фильмы: «Сальвадор: еще один Вьетнам», «Сальвадор: народ победит», «Решено: победить!», «Америка на переходе» — и ряд других, где интервенция США в страны Центральной Америки рассматривается как нарушение международного права и преступление против народов. Многие из них демонстрировались на Международном кинофестивале в Чикаго, на Американском кинофестивале в Нью-Йорке, а некоторые даже были выдвинуты на «Оскара» — премию Американской киноакадемии, настолько сильны были действовавшие в их пользу факторы общественного мнения.
Эти же факторы побудили Константина Коста-Гавраса, грека по происхождению, француза по паспорту, американца по финансовым источникам и столь же пестрого по убеждениям1 снять фильм «Пропавший без вести». Вышедший на экраны в 1982 году, этот фильм тоже сохраняет все связи с реальными фактами вплоть до имен действующих лиц. Методом «художественной реконструкции» здесь воссоздаются трагические обстоятельства исчезнования и, как впоследствии выясняется, убийства двух молодых американцев пиночетовскими головорезами по указанию американских военных советников. Обстоятельства эти получили в свое время огласку только по одной «досадной» причине: отец одного из убитых оказался необычайно упорным в выяснении истинных обстоятельств исчезновения сына. В 1979 году его адвокат Томас Хаузер, посвященный в семейные дела, написал книгу «Казнь Чарлза Хормэна: американское жертвоприношение», на основе которой Коста-Гаврас и снял самую лучшую свою картину.
Приехав в Чили, отец шаг за шагом распутывает клубок лжи и умолчаний, и ему постепенно открывается тайна негласного участия США в военном перевороте. Тайна, которая стоила его сыну жизни.
1 Среди фильмов Коста-Гавраса — политический «Z» (1969) — о заговоре с целью убийства греческого коммуниста и законного члена парламента фашиствующими элементами; антисоветский фильм «Признание» (1970), основанный на фальшивке Артура Лондона о деле Сланского (1951 год, Чехословакия); «Осадное положение» (1973) о похищении в 1970 году в Уругвае тайного американского советника правительства.
Он видит воочию новый режим: комендантский час, костры на площадях, сотни испуганных беженцев в итальянском посольстве, аресты, обыски, облавы, трупы плывущих по реке, скованные страхом лица... и своих соотечественников, деловито сотрудничающих с новой властью. Ему, подавленному увиденным, американский посол цинично и просто объясняет: «Если бы вы лично не попали во все это, вы бы спокойно сидели дома и одобряли действия правительства. Вы, должно быть, не знаете, что три тысячи американских фирм занимаются здесь бизнесом, и мы охраняем их интересы. Ваш сын бывал там, где ему не следовало быть... Если играешь с огнем, можно и обжечься...» Вера в законность и справедливость еще теплится в глубине сознания потрясенного бизнесмена, и он бросает в ответ: «Я буду судиться с вами! Это мое право! Слава богу, мы еще живем в стране, где таких, как вы, сажают в тюрьму!» Это последний всплеск его идеализма. В послесловии к фильму сообщается, что настойчивый отец действительно судился с одиннадцатью официальными лицами включая Киссинджера. Дело было прекращено под предлогом недостатка улик и сохранения государственной тайны...
С явной симпатией обрисованы в фильме молодые американцы левых взглядов, нашедшие контакт с местной беднотой. Их симпатии к демократическому правительству Народного фронта несомненны. Их участие в выпуске рабочей газеты, мечты о братстве трудящихся, о счастье в борьбе за скорую победу революции в развивающихся странах — штрихи идеологии левых радикалов, к которым принадлежит по убеждениям и сам режиссер. Трудно переоценить политическое значение этого фильма, ставшего смелым гражданским актом, вызовом администрации Белого дома.
На этот вызов официальные лица поспешили ответить упреками в искажении фактов, используемых якобы для того, чтобы поставить «надуманный, полностью антиамериканский спектакль». «Нью-Йорк тайме» утверждала, что автор не имел права предпосылать фильму такие титры: «Этот фильм основан на действительных событиях. Все события и факты документальны. Некоторые имена изменены, чтобы защитить невиновных и сам фильм». Что автор не удосужился даже встретиться с официальными лицами в Вашингтоне, что его выводы дедуктивны и основаны не на фактах, а на широко распространенных предрассудках о методах работы американских секретных служб и т. п. На что автор фильма
резонно отвечал: кино — не судебный процесс, и в искусстве могут быть домыслены второстепенные детали ради главного, ради выражения авторского отношения к важнейшим событиям современности, и это отношение можно объяснить как негодование по поводу военного вмешательства США в дела других стран. А это и есть правда.
Пример «Пропавшего без вести» заставил руководителей кинобизнеса, как выразился журнал «Фотоплэй», «повертеть головой в поисках кассовых моделей современного политического фильма». Пока бизнес «вертел головой», никому не известный Роджер Споттисвуд снял еще более антиамериканский, разоблачительный фильм «Под огнем», где грубое вмешательство США на этот раз в гражданскую войну в Никарагуа рассматривается как зло, причиняющее непоправимый ущерб авторитету американского правительства, разрушающее и без того негладкие его отношения с развивающимися странами, превращающее его солдат в убийц и, палачей.
В апреле 1984 года в газете «Нью-Йорк тайме» вышла упоминавшаяся статья Лэсли Гэлба «Могут ли фильмы отражать общественные настроения?». Утверждая сравнительно недавно завоеванную буржуазной теоретической мыслью истину, что фильмы и раньше «улавливали, а иногда даже и активно формировали американскую политическую культуру, временами предсказывая будущее лучше, чем иные политические прорицатели»2, известный политик, всматриваясь в текущий кинорепертуар, обнаруживает в нем симптомы важных сдвигов в общественном сознании. Точнее, чем опросы общественного мнения, экран 80-х фиксирует смещение зрительского внимания с внутренней жизни на внешнеполитические проблемы, ранее всегда мало волновавшие американцев, уверенных в своей безопасности и превосходстве над миром. Гэлб рассматривает большой общественный резонанс картины Мейера «На следующий день» как знак охватившей его соотечественников тревоги перед лицом впервые реально ощущаемой угрозы ядерной войны. В этом контексте упоминает критик и «Военные игры» (1983) Джона Бадхема, очень своевременный и современный фильм (собравший в прокате 36,6 миллиона долларов) о хрупкости жизни, которая насыщается ядерным оружием и которую может прервать в любой момент такой пустяк, как, например, модные нынче «компьютер1 “Photolpay”, 1984, March, p. 11.
2 “The New York Times”, 1984, 1 Apr., H-36.
ные хулиганы» — хаккеры (их немало развелось в последнее время в США и в европейских странах, где свободно продаются для домашних нужд довольно мощные компьютеры). Забавы ради с их помощью хаккеры проникают в разветвленные по всему свету чужие информационные сети: достаточно только случайно набрать на диске телефона засекреченный номер, подключить трубку телефона к приемнику акустических сигналов в собственном компьютере, дать машине задание разгадать чужой код или пароль — и связь установлена. Хаккер тем самым вторгается в банки неприкосновенной информации и, более того, отдает приказы подключенным к этим банкам техническим системам. В фильме Бедхема сметливые ребятишки таким образом подключаются к компьютерной системе Пентагона и начинают управлять пусковыми устройствами ядерных ракет...
Картины вроде «Пропавшего без вести» и «Под огнем» тоже, надо сказать, питает в значительной степени страх, страх перед «новыми Вьетнамами», перспектива которых все очевидней открывается в Центральной Америке в результате чрезмерной заинтересованности США во внутренних делах Сальвадора и Никарагуа. Из этого исторически нового для «среднего американца» чувства и вырастают ныне названные критиком две тенденции в политическом сознании — имперская тенденция, которая характерна для главы американского правительства, рассчитывающего сверхъядерной силой повернуть историю вспять и восстановить распадающуюся империю, и тенденция реалистическая, которую Гэлб видит в новом подъеме либеральных настроений в стране. И если первая выражается в фильмах от «Охотника на оленей» до «Конана-варвара», то либеральным настроениям, опирающимся сегодня прежде всего на антивоенное движение, созвучны не только непосредственно антивоенные картины, но и фильмы, где выражены более или менее замаскированные опасения по поводу того же «авторитарного правительства», которым, как и десять лет назад, во времена «Уотергейта», «овладевали темные силы, поставившие мир на грань ядерной катастрофы». При этом Гэлб называет знакомый нашим зрителям «Голубой гром», а мы к нему можем прибавить и упоминавшийся «Уикэнд Остермана».
Многое говорит Л. Гэлбу, между прочим, и восторженный прием, оказанный значительной частью Америки
фильму «Ганди» английского режиссера Ричарда Аттенборо. Этот непривычно для Соединенных Штатов миролюбивый фильм, посвященный почтительному изложению биографии, философии и истории борьбы за независимость Индии великого Махатмы Ганди, блеснул как светлый луч надежды среди мрачных пророчеств и предсказаний о конце света, прозвучал как чистый голос флейты среди какофонии насилия и смерти, которыми западное искусство пробивает человечеству дорогу к «миру и процветанию». И дело в данном случае здесь не в исторической достоверности и биографической точности, которых местами недостает фильму, даже не в спорности идеи непротивления злу насилием, ради которой немало лет своей творческой жизни отдал этому замыслу Аттенборо.
Существо интереса, проявленного многими американцами к этому отнюдь не приключенческому, исторически масштабному полотну, совершенно очевидно коренится в главной и принципиальной идее фильма: доказать сегодня перспективность философии мира и любви, которую проводил в своей деятельности и государственной политике известный всему человечеству мыслитель и политический деятель Индии, показать могучую силу доброй, но непреклонной воли мирного народа, победившего колониальное рабство не оружием, а решительным отказом от сотрудничества с угнетателями, заклеймить как пережиток варварства всякую политику с позиции силы. Именно это послание английского режиссера, нашедшего в Индии вдохновляющий пример всему человечеству, звучит в финальной сцене впечатляющих похорон Учителя, в которой участвует около миллиона добровольцев. Такой массовки не знала еще история мирового кино. И то, что этот исполненный веры в добрые начала нашей многострадальной цивилизации фильм нашел в сегодняшней Америке своего зрителя, а не утонул незамеченным в океане крови и насилия, служит Гэлбу еще одним доказательством жизнестойкости и укорененности в общественном сознании новой волны американского либерализма, вызванной тяжелыми последствиями крушения разрядки международной напряженности, развалом структуры международных отношений. Это, как выразился американский критик, «предупреждающий знак того, что в стране вызревают новые политические сдвиги...»1.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Итак, подведем некоторые итоги. Отметим, что господствующий класс США, все еще не имея перед собой мощной организованной силы сопротивления рабочего класса и других социальных групп, в полной мере пользуется своим монопольным идеологическим влиянием.
Несмотря на многоликость действующих на арене общественной жизни США политических сил, ни рабочий класс, ни негритянское движение, ни женские, ни антивоенные организации не могут пока противопоставить господствующей буржуазной идеологии развитое классовое сознание, цельную идеологию, о чем свидетельствует проведенный нами анализ содержания ценностного фонда американского кинематографа.
До тех пор пока силы сопротивления капиталу не примут теорию классов и классовой борьбы, они останутся в рамках идеологии буржуазного индивидуализма, то есть в плену теории исключительности «американского пути», в плену веры в то, что американское общество движется по пути реформ к стиранию классовых различий и осуществлению «американской мечты».
Любая сколь угодно «радикальная» критика бюрократии, «большого правительства» и «большого бизнеса» не испугает правящий класс до тех пор, пока она останется индивидуалистической, ибо правящий класс хорошо понимает, что нет альтернативы его классовому господству, пока общественное сознание варится в соку идеологии индивидуализма.
И все-таки нынешний этап общественно-политического развития США не может быть устойчивым. Ибо рейганизм, хочет он того или нет, играет большую просветительскую роль в плане развития политического сознания американцев. Разоблачая себя в своих экономических и политических действиях как идеологию усиления социального неравенства и оправдания этого неравенства, своей грубой политикой перераспределения в пользу власть имущих он подготавливает новый этап развития противоречий и, следовательно, повышения уровня политической борьбы.
Американская творческая интеллигенция начинает понимать, что пока она не сумеет преодолеть элитарность и тем самым не откроет себе доступ к массовым движениям, она не сможет творить свободно, в соответствии с идеалами гуманизма и демократии. Только выйдя за пределы культурного истэблишмента и послушного ему рынка к демократическим массовым движениям, она способна выполнить свою историческую миссию — выработать прогрессивную, а в перспективе и социалистическую идеологию.
Улавливая глубинные процессы, происходящие во всех социальных группах общества, и превращая их в идеи и художественные образы, интеллигенция тем самым оправдывает свое назначение самой динамической силы общества в том случае, когда она осмысливает и выражает интересы трудящихся, всех антимонополистических и антимилитаристских движений, которые в свою очередь обеспечивают ей поддержку и опору даже в условиях господства буржуазной идеологии.
В противном случае интеллигенция превращается во что угодно — в бюрократию, в деляг, в приспособленцев, в шутов и развратителей. Так и произошло с той частью интеллигенции, которая, убоявшись репрессий маккартизма 50-х годов, пошла в русле генеральной тенденции «нового» Голливуда — поглощения и монополизации духовного производства сверхкрупными, транснациональными промышленными и банковскими корпорациями.
В современных идеологических комплексах, объединяющих предприятия по производству фильмов, телепрограмм, газет, журналов, книг, радиопрограмм, видеокассет, музыкальных записей, а также их материальной основы — бумаги, электронного оборудования и средств массовой коммуникации, разработана новейшая технология духовного подавления и манипулирования общественным сознанием.
Наиболее ярко оно проявляется в политике тотального господства на рынках «массовой культуры» — в многочисленных кино-теле-театрально-литературных сверхбоевиках, которыми наглухо закупориваются прокатные каналы массовой коммуникации. Для произведений, выражающих настроения недовольных меньшинств, а также идеи, не поддерживаемые официальным курсом, остаются лишь лазейки и щели на их пути к общественному сознанию.
Но нынешняя активность самых низших уровней политической структуры американского общества, стремительный подъем так называемых низовых движений, рост политического сознания широких профсоюзных масс уже привели к расширению внеголливудской активности кинематографистов, связавших себя с общественными движениями современности, к развитию «независимого» духовного производства, то есть отдельной от монополий индустрии сознания, в частности регионального кинематографа, отличающегося остротой поднимаемых им проблем.
Если в 60-х годах творческая интеллигенция отгораживалась от рабочего класса, считая его полностью интегрированным в систему и лишенным революционного потенциала, то сейчас рабочий класс и его сознание передвигаются в центр внимания художников.
Если в прошлом прогрессивные тенденции в Голливуде вносились и развивались эмигрантами из Европы, находившимися под влиянием социалистических идей, то сейчас прогрессивные кинематографисты США опираются на массовые демократические и рабочие движения в самих Соединенных Штатах, ищут собственные демократические альтернативы американскому капитализму.
Так что торжество рейганизма означает, по сути, и момент его гибели. Отсутствие новых идей и вакханалия примитивизма в духовной сфере порождают протест и сопротивление со стороны мыслящей части общества, которую не сумели ни подкупить, ни подавить. С этой частью интеллигенции, все тесней сплачивающейся вокруг демократических сил и рабочего движения, и связывает свои надежды прогрессивная Америка... |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) —
творческая студия БК-МТГК.
|