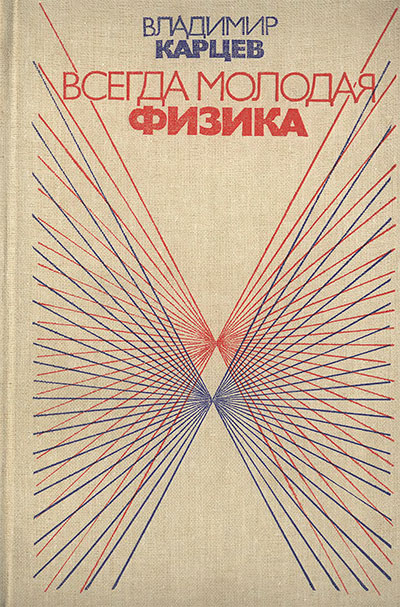Полный текст книги
ОГЛВЛЕНИЕ
Предисловие 5
Глава I. Свет неизреченный 9
Глава II. Петр... Брюс... Ньютон? 24
Глава III, Дела академические 34
Глава IV. Не путать с поэтом того же имени 47
Глава V. Питомцы муз, воспитанных Москвой 62
Глава VI. Истоки школы 78
Глава VII. «Физические науки не знают страха перед мыслью...» 101
Глава VIII. Взвешенный луч 119
Глава IX. Свет — мое призвание 163
Глава X. Рождение ФИАНа 207
Глава XI. Пирамиды ядерного века 249
fлaвa XII. Лаборатория № 2 267
лава XIII. Великий синтез 311
Глава XIV. В поисках вечного движения 333
Часто говорят, что мы живем в «золотой век науки», когда кажется, что нет предела человеческим возможностям и научным открытиям.
Но возрастание роли физики и увеличение ее, возможностей приводит к необходимости повышения ответственности ученых за судьбы нашей планеты. Честь, совесть, благородство, ответственность, жертвенность выступают сегодня в физике как важная характеристика научного творчества. Если ранее лишь мощь интеллекта служила для великих физиков мерилом сравнения, то теперь не меньшее значение приобретают и их морально-нравственные качества, их отношение к добру и злу, к войне и миру, к угнетению и равноправию, к свободе и насилию.
Физика, как и любая наука, интернациональна. Она не знает лоскутной картины географических карт. Научные идеи пересекают любые государственные границы.
Однако нравственный, моральный аспект современного научного исследования заставляет нас уделять все большее и большее внимание особенностям научного творчества ученых отдельных стран, даже отдельных городов.
Благодатная тема — физики Москвы. Вот где можно найти настоящих героев науки, образцы для подражания, модели «делать жизнь с кого».
Их поведение в критических ситуациях, в положении выбора при решении сложнейших жизненных дилемм дает богатый материал для глубоких раздумий о месте физика в обществе.
Череда героев — трудно иначе назвать вереницу дейст вующих лиц этой книги, — проходящая через века, в книге всегда остается географически в одной точке — в Москве. Чем заворожила их Москва? Существуют ли все-таки или нет особенности «физики московской»?
На мой взгляд, убедителен основной лейтмотив книги о Москве как научном центре физических исследований — идея преемственности, идея традиции. Действительно, эксперименты в области света так естественно проходят от Столетова к Лебедеву, а затем к Вавилову и его последователям. Нить, связывающая различные поколения физиков Москвы, никогда не порывается...
Вице-президент АН СССР, академик
Е. П. Велихов
ПРЕДИСЛОВИЕ
Среди различных целей, для которых предназначается предисловие к книге, доминирующую роль довольно часто играет попытка автора смягчить грядущие удары критики при помощи правильно построенной защиты, в которой сочетается чистосердечное признание недостатков своего труда с доказательством их абсолютной неизбежности.
Слова, приведенные в эпиграфе, принадлежат одному из руководителей советской термоядерной программы, известному московскому физику академику Льву Андреевичу Арцимовичу. Трудно не оценить столь тонкое понимание задач предисловия, и поэтому автор данной книги сразу же начнет с тех недостатков, которые, как ему кажется, для нее наиболее характерны.
Необъятность темы! Вот что вызовет порой забвение, порой скороговорку в отношении ряда важнейших событий, многозначащих фигур, мимо которых иногда вынужден будешь проходить с сожалением, понимая, что остановись тут, увлекись, и обойдены будут события еще более важные, фигуры еще более многозначащие. Или точнее: в галерее фигур, в толчее событий, в шумливой толпе комментаторов могут затеряться даже те, кому удалось выразить свою эпоху, самого себя с наибольшей остротой, те, что стали символами самой физики. Но есть явления, мимо которых пройти нельзя, и есть люди, которых нельзя не вспомнить. Они неизбежно вытесняют других, может быть не менее заслуживающих славы, почета, человеческой памяти.
Когда писалась эта книга, я послал письма двадцати московским ученым, которых считаю крупнейшими физиками современности. Ответы на мои вопросы были поразительно схожими — великие единодушно отклоняли высокую оценку их труда и советовали писать о других. Отказываясь вступить на страницы книги сами, они предложили мне состав ее действующих лиц, чем действительно оказали громадную помощь в этой работе. Выбор героев книги, таким образом, не субъективен — он подсказан самыми искушенными экспертами.
Существует вторая трудность, которую некоторые популяризаторы науки не принимают во внимание: не признают или попросту не замечают. Часто раздаются призывы к тому, что нужно с помощью всемогущего писательского пера донести до читателя существо некоего новейшего открытия, скажем, в физике элементарных частиц. Социальный заказ получен — и десятки журналистов и писателей набрасываются на доселе не изведанную землю, на ту область знания, в которой и сами создатели ее не успели еще толком разобраться и навести должного порядка. И вот благодатная земля затоптана из-за того, что не нашлось времени подождать, пока обманчивая простота семечка не заменена будет живыми красками возросших из него цветов научной истины — и самой жизни. Казалось бы, все уложено на полки, но вот там обвалилось, там потекло, и картина, столь ясная сегодня или, точнее, приобретшая сегодня некоторое подобие ясности, завтра оказывается в свете новых открытий и фактов бессмысленной и ненужной.
Здесь я не говорю об историческом релятивизме — нет! Видимо, есть предел тому, что можно популяризировать и объяснять на пальцах. Неудачи многих книг о новейшей физике, удивляющие некоторых (тема прекрасная, физики достойнейшие!), на самом деле неизбежны; многие книги и не должны были получиться. Нам всем пора признать, что в науке начинают появляться открытия, не поддающиеся популяризации, если под этим понимать донесение сути происходящих в науке и природе явлений до самого широкого читателя. Начинают возникать вещи, писать о которых просто — невозможно, хотя их можно популяризировать, например, для ученых, работающих в другой области знания (существуют даже специальные научно-популярные журналы «для ученых»: у нас — это «Природа», у «них», то есть в Соединенных Штатах, — «Сайнтифик Америкен», недавно появившийся на русском языке под названием «В мире науки»).
С ясной мыслью и смущением в сердце принимается ученый-специалист рассказывать о волнующих его вещах. Специалист этот напоминает акробата, балансирующего на проволоке: и справа, и слева от него — пропасть непонимания. С одной стороны, оно возникает из-за строгости коллег, которые не допустят вольного обращения с научными фактами; потеря научной репутации — это первая пропасть. Пропасть вторая — обычное непонимание, разговор с читателем на разных языках.
Сотни книг написаны, например, о теории относительности. Среди них научные трактаты, философские перетолкования, популярные книги для массового читателя. И все они — разноязыкие. Как, например, объяснить то, что время относительно, то есть течет по-разному для людей, находящихся в разных условиях? Как перейти от «житейского» понятия относительности к научному? В житейском смысле оно понимается всеми довольно хорошо. Все мы, например, улыбнемся, прочитав отрывок из описания летописцем праздничного обеда в некоем известном старонемецком университете: «В зале обедало около пятисот человек, господа студенты веселились вдоволь, но не произошло ни малейшего несчастья, ни даже беспорядка, за исключением того, что все стаканы, бутылки, столы, скамьи и окна были разбиты вдребезги...» Юмористический «заряд» этого описания Как раз и заключается в относительности понятия «порядок».
Перейти же к научному определению относительности сложнее. Как может поступить в этом случае автор?
Способ первый: написать формулу. Это метод самый верный и краткий, однако далеко не для всех доступный.
Способ второй: упростить понятия до вульгаризации. Например: «...если влюбленный юноша сидит рядом с любимой девушкой, час кажется ему минутой, но если тот же юноша сядет на одну минуту на горячую плиту, то эта минута будет тянуться для него бесконечно».
Путь, который избрал ацтор, — еще одна попытка найти новый способ популяризации. В книге будет сравнительно мало «проводов и железа». В ней найдут отражение некоторые яркие страницы из физической летописи Москвы — от открытия электромагнетизма до первых попыток получить электроэнергию из атома. Главными героями книги станут город и люди. Речь пойдет о физиках Москвы, а не о физике Москвы, ибо нет физики московской, как нет физики новгородской и лос-анджелесской. Фабулой нашего повествования будут перипетии самой физики, «драмы науки», которые могут быть не менее захватывающими, чем приключенческие повести...
Почему Москва притягивала ученых во все времена, почему именно она сегодня стала центром советской физической мысли? Ответ не так прост, каким может показаться. Столичное положение Москвы среди прочих городов России? Конечно, и это имело значение. Но тогда как объяснить, что первые физические школы России родились именно в Москве, а не в столичном Санкт-Петербурге? Не повинен ли в этом особый интеллектуальный климат, сложившийся именно в Москве и именно в определенные периоды? Уж не сам ли московский воздух привадил сюда великих физиков мира?
Автор полностью отдает себе отчет в сложности поставленной перед ним задачи. Показать Москву как научный центр всегда молодой физики, отойти к истокам науки в Москве, приблизиться затем к сегодняшним проблемам и людям и войти в сложную атмосферу «дней творенья». Показать и город, и институты, и проблемы, и людей. Все это надо сделать в рамках уже сформировавшейся традиции советской научно-художественной литературы. Нужно побывать во всех основных центрах, поговорить с главными участниками грандиозного процесса развития физики, вникнуть в существо решаемых проблем, донести их до читателя...
Поневоле вспомнишь чудака Эразма из Роттердама, который еще в 1511 году предостерегал от излишних иллюзий, связанных с писанием книг, и давал советы тем, «кто рассчитывает стяжать бессмертную славу, выпуская в свет книги». «Поглядите, как мучаются такие люди, — писал он, — прибавляют, изменяют, вычеркивают, переставляют, переделывают заново, показывают друзьям, затем, лет эдак через девять, печатают, все еще недовольные собственным трудом, и покупают ценой стольких бдений (а сон всего слаще), стольких жертв и стольких мук лишь ничтожную награду в виде одобрения нескольких тонких ценителей. Прибавьте к этому расстроенное здоровье, увядшую красоту, близорукость, а то и совершенную слепоту, завистливость, воздержание, раннюю старость, преждевременную кончину, да всего и не перечислишь».
Имея в виду столь блестящие перспективы, воскликнем все же: «Тема стоит мессы!» — и ввяжемся в битву.
Читателя же просим быть снисходительным: необычность и сложность темы вызвала в ряде случаев и необычные решения, и сложный рисунок книги, и разноголосицу...
ГЛАВА I
СВЕТ НЕИЗРЕЧЕННЫЙ...
1
Чем смелее вторгается динамичный XX век в исконные земли Москвы, в ее сердце, тем больше узнаем мы о ее прошлом, тем сильнее гордость наша за предков своих. Копни любое место старой Москвы — и ты узнаешь много интересного. Археологи, спускаясь все глубже и глубже, десятками пересчитывая культурные слои, обнаруживают то следы безбедной жизни, то следы пожара, то следы войны, запустения, а потом и нового расцвета. Всякие неожиданности хранит московская земля — встречаются и клады, и запасы про черный день, и забытые могилы: историки получают все новый и новый материал.
Издавна в Москве велись летописи, строились храмы и гражданские строения, светилась чистыми красками знаменитая впоследствии московская школа древнерусской живописи, прославленная именем Андрея Рублева. К началу XVI века Кремль — одна из наиболее неприступных крепостей Европы. На его территории чудеса архитектуры и шедевры строительства — Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, колокольня Ивана Великого. Москва становится одним из самых крупных и культурных городов Европы. В ней процветают разнообразнейшие ремесла — скрытые двигатели науки.
Не только красоту белокаменных стен отмечают древние путешественники — они высоко отзываются о московских ремесленниках, великолепно делающих самые различные вещи «благодаря природной понятливости и способности ума».
За стенами Белого города Колокольников переулок вызывает воспоминания о когда-то живших мастерах. Здесь был завод братьев Материных, отливавших «Царь-колокол». Церковь Троицы и Яузского моста, ранее называвшаяся «Троица в денежных мастерах», Серебрянический переулок и Серебрянические набережные напоминают о том, что в этих местах делали деньги, на «белых дворах» жили денежные мастера.
Сама река Яуза была трудовой — она вертела колеса многочисленных водяных мельниц, приводивших в движение не только мукомольни, но и сафьянный и пушечный заводы, многие металлические и металлургические предприятия.
Еще в грамоте подольского князя Александра Кар-патовича, в 1375 году, а затем в 1389 году — в завещании князя Дмитрия Донского упоминаются водяные мельницы, на реках Яузе и Ходынке. Мельницы вообще никогда не забывались: так, в завещании князя Владимира Андреевича, написанном в 1440 году, тоже говорится о водяных мельницах на реках Яузе и Неглинной. Как сообщают летописи, на Неглинной реке в 1519 году работали три мельницы и одна толчея. Там же была насыпана и каменная плотина: «Князь Великий Василий Иванович пруды копал и мельницу каменную доспел на Неглинке»...
Взметнувшийся на крутом яузском берегу Андроников монастырь хранит фрески Рублева: они — свидетельство не только гениальности первого русского художника, но и глубоких познаний, и его, и его современников в прикладной химии красителей. Из коры деревьев, стеблей пшеницы и ржи, ягодного сока, пахучих лепестков лесных цветов рождались сочные зеленые, синие, "желтые краски. Сложный процесс обработки ольховой коры совместно с ржавым железом и железным купоросом давал идеальную черную краску. Сама химия трактовалась тогда как «соци всего овоща».
Уже с XV века в Москве известно множество ремесленных слобод — и ка окраинах Москвы, и совсем недалеко от Кремля. На высоком берегу речки Неглинной, где сейчас находится универмаг «Детский мир», с 70-х годов XV века действовала «пушечная изба», а потом и Пушечный двор. Как утверждают историки, он был крупнейшим по тому времени литейным производством. Там, где теперь сбегает с площади Дзержинского Пушечная улица, делали пушки и колокола. На месте нынешней станции метро «Новокузнецкая» существовала некогда кузнецкая слобода, а в районе теперешних Бронных улиц жили и работали мастера-оружейники.
Велики были знания, велико было мастерство русских литейщиков. Они выдвинули русскую огнестрельную артиллерию в середине XVI века на первое место в мировом масштабе. Русские пушки были гордостью москвичей и завистью посещавших столицу иностранцев. Да и до сих пор наиболее известная пушка, отлитая русскими мастерами — Андреем Чоховым «со товарищи», — «Царь-пупжа», уста-, ковленная в Кремле, поражает и размерами, и своеобразным изяществом, красотой чугунной лепнины. А ведь со времени изготовления этого орудия прошло уже почти четыреста лет — пушка отлита в 1586 году!
Русское огнестрельное оружие помогало противостоять наседавшим со всех границ неприятелям. Каждая приграничная крепость в России была оснащена «нарядом» — огнестрельной артиллерией. В казанском походе войско сопровождали 150 орудий. Прекрасные качества русских пушек были известны в Европе, и их охотно покупали за границу. Так, около 600 пушек вывезли в 1646 году в Голландию. Русские мастера изобрели нарезное оружие, кли-новый замок.
Нестираемые автографы на изделиях русских мастеров-литейщиков сохранили с XII по XVII век почти триста славных имен. Первым среди них, конечно, был уже известный-нам москвич Андрей Чохов. Он отлил множество колоколов и орудий, вошедших в историю, ставших историческими памятниками. Среди них — колокол «Реут» в 2000 пудов, колокола для колокольни Ивана Великого в Кремле, серия мортир, пищалей («Волк»), огненная пищаль «Егуп», крупнейшие по тем временам «Инрог», стенобитная пушка «Соловей», уже называвшаяся «Царь-пушка», «Лисица», «Лев», «Троил», «Аспид», «Скоропея», «Царь Ахиллес». Длина последней из упомянутых пушек — 6 метров, масса — более 3 тонн. Изготавливали орудие 60 человек. В конце своего творческого пути, в 1588 году Андрей Чохов отлил скорострельное орудие, имевшее сто стволов. Это было для того времени неслыханным достижением техники.
При изготовлении отливок мастера ориентировались лишь на цветовые оттенки раскаленного металла. О точности, обостренности такого восприятия цветов можно судить хотя бы по тому, что мастера различали цвета, соответствующие, например, температурам 1425 и 1475 градусов, 1300 и 1350, 1200 и 1250 градусов. Нет ли в этом примечательном факте намека на грядущие успехи россиян в исследованиях света и тонких световых эффектов?
Особых успехов добились российские, и в частности московские, мастера в прикладной механике.
Еще в X — XIII веках на Руси были известны и широко использовались колеса, шарниры, ползуны, клинья, коромысла, повозки, подъемные механизмы с блоками и воротами. С X века весьма широко применяются токарные станки по дереву. С XII — XIII веков широко распространяются водяные мельницы, ткацкие станки, а также механические аккумуляторы энергии — метательные орудия (лук, праща), затем станковые камнеметы (пороки, пускичи, стрикусы). Подлинными творцами показали себя русские мастера в изготовлении замков; им обязаны мы изобретением цилиндрических замков и замков с фигурной скважиной, быстро распространившихся по Европе. Много выдумки и остроумия заложено в орудия для ловчей охоты — капканы, ловушки, самоловы, самострелы, петли и силки. В них использовались пружины, натянутые луки, сила тяжести и сила животного.
С XIV века русские владели секретом огнестрельного оружия, могли строить (а следовательно, рассчитывать) пушки и пищали, попадать в цель на большом расстоянии при разных условиях и, значит, знали механику полета ядра. Интересно, что битва на Куликовом поле была, видимо, последней в мировой истории баталией, в которой не гремели еще ружья и пушки. Уже через два года, в 1382 году, «Повесть о московском взятии от царя Тохтамыша» сообщает, что защитники Москвы «стреляху, тюфяки пу-шаху и пушки».
Свидетельство высочайшего по тому времени развития российской механики — установка на одной из башен Московского Кремля крупных часов. Шел 1404 год, и эти часы — первые в России — были в числе первых и в Европе. На башне Страсбургского собора потрясенные горожане увидели часы в 1352 году, на Флорентийском соборе — в 1354-м, на Руанском — в 1389 году. Летописец XV века так писал о кремлевских башенных часах с механической фигурой: «Сей же часник наречется часомерье; на всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и рассчитая часы нощныя и дневныя, не бо человек ударяще, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако створено есть человеческою хитростью, преизмечтано и преухищрено». Через несколько лет после московских появились часы на башнях Псковского и Новгородского кремля.
Часы стали воплощением, реализацией на практике большого круга естественно-технических знаний: постройка их требовала познаний в области физики и механики, для сверки и регулировки нужно было хорошо знать астрономию и математику. Что может быть более сильным
аргументом в пользу реального существования отечественной науки в столь далекие времена!
Много диковинного создано было московскими мастерами — механиками и строителями — всего не перечесть. Закончим еще одним, последним примером.
Петр Высоцкий, российский часовых дел мастер, создал во второй половине XVII века медных механических львов, которые умели разевать пасть, рыком отпугивать собравшихся, страшно вращать глазами, отыскивая жертву. Поэт Симеон Полоцкий под впечатлением этого чуда написал стихи;
Яко живии львы глас испущают,
Очеса движут, зияют устами,
Видится, хощут и ходити ногами,
Страх приступити, тако устроени.
В общем потоке зарождающейся российской науки была еще одна могучая струя. Это — строительная механика, статика масс; развитие знаний в этой области позволило воздвигнуть сооружения, и до сего времени поражающие воображение: церковь Вознесения в селе Коломенском, близ Москвы, а сейчас недалеко от станций метро Каширская и Коломенская, «дурашливый» Покровский собор — храм Василия Блаженного на Красной площади. А прекрасная в каждой своей проекции, в каждом ракурсе, при всяком освещении колокольня Ивана Великого в Кремле!
Известный историк российской науки и техники того времени В. К. Кузаков считает, что церковь Вознесения вобрала в себя столь большое число технических и научных достижений той эпохи, что и современные строители, вооруженные научными достижениями XX века, сочли бы постройку такого сооружения ответственной и далеко не легкой задачей! Идеально распределение масс — и по прочности, и по устойчивости, и в эстетическом отношении.
Много технической изощренности заложено в храм Василия Блаженного. Он крайне сложен по архитектуре и конструкции — его идеи нерегулярности, непохожести в каждой проекции, отсутствие симметрии потребовали введения особого расчета и планирования девяти приделов.
Храм — свидетельство освобождения от церковного академизма. Это — вызов закону, порядку, аскетизму, даже скромности!
Неисчерпаемы россыпи российской культуры. Крупнейший специалист в области русской литературы академик Д. С. Лихачев писал так: «Если исходить из современных представлений о высоте культуры, признаки отсталости Древней Руси действительно были, но, как неожиданно обнаружилось в XX веке, они сочетались в Древней Руси с ценностями самого высокого порядка — в зодчестве, иконописи и стенописи, в декоративном искусстве, в шитье, а теперь стало еще яснее: и в древнерусской хоровой музыке и в древнерусской литературе. Не вернее ли думать, чтоте области, где эта отсталость замечается, просто менее характерны для культуры Древней Руси и не по ним следует о ней судить?»
В этом высказывании не упоминается российская наука, но и она представляла собой своеобразнейший, неповторимый феномен!
То, что сейчас называется «физикой», было растворено, рассеяно во всевозможных знаниях, относящихся к ремеслам, технике, метеорологии, механике.
И в летописях, и в древних книгах много внимания уделяется, например, метеорологии, как области знания, непосредственно связанной с условиями, влияющими на урожай. Метеорологические регулярные наблюдения, первый шаг к истинному физическому знанию, начали вести в России не позже XII века. Впоследствии они получили гениально краткие обобщения в виде пословиц и поговорок, например: «Вознесение с дождем — Илья с грозой».
Нашим предкам уже тогда было известно, что ярко-красный цвет солнца — «к дождю», а радужные венчики вокруг луны сулят ненастье. В первом случае физическое объяснение состоит в том, что влажность атмосферы определяет рассеивание света: при большей влажности голубые и фиолетовые лучи поглощаются активнее красных. Во втором — речь идет, по существу, о дифракции света на каяельках воды в сыром воздухе: чем больше венец, тем больше вероятность дождя.
Природа требовала объяснения, прекрасный и непонятный мир простирался у ног изумленных предков. 30 июля 1547 года в Москве выпал удивительный град. По словам летописца, он был «силен и велик, с яблоко лесное», причем градины отличались различной формой: «ово кругло, ово грановито».
Почему так происходит? Почему гремит гром и сверкает молния? Почему «небесный свет огнен пламовиден», «совокупится с молниею», затем «исходит доле и сожига-ет»? Этот «свет неизреченный», — пишет древний россиянин, — не эфир, а «огненно бо то есть существо. сотворено быть в невещественном огни», то есть свет возник из некоторой материи, из которой первоначально сотворены были солнце, луна и звезды.
Взыскующий голос читателя вправе спросить, отчего же автор, рассказывающий о начале развития в Москве техники и разных ремесел, о первых попытках познания природы и ее законов, не говорит о научных теориях российских мыслителей? Было ли что-либо, напоминающее простейшие физические открытия, начертано на бумаге? Можно ли встретить следы того позитивного теоретического знания, которое отличает сеюдняшнюю физику?
Оказывается, уже в Древней Руси существовала физическая литература. В форме, конечно, для нас непривычной и неожиданной. С принятием на Руси христианства, сюда проникает и теоретическое обоснование его. Русские узнали о христианстве из труда богослова, философа и поэта Иоанна Дамаскина «Точное изложение православной веры». В его отдельных главах, носивших многозначительные названия «Диалектика», «Философские главы», излагалась «Физика» Аристотеля, рассматривались основные понятия: движение, рост, перемена.
Из «Хроники» Георгия Амартола на Руси было известно и об атомах; они есть «непресекома и яеразделна телеса», «иже пресекованне и разделение прияти не могут». «Шестоднев» Иоанна, экзарха болгарского, сообщает о первоэлементах мира с определенным набором свойств.
Литература, прямо или косвенно касающаяся вопросов науки, пришла на Русь в переводах с византийских и болгарских оригиналов. Популярны были прежде всего «Пчелы» — сборники избранных изречений из Аристотеля, Сократа, Фукидида, Плагона, в концентрированном виде доносившие до русского читателя классические мысли и мудрость древних мыслителей. Ранние русские энциклопедии — это «Изборники», «Шестодневы», «Физиологи». В них можно было найти ценные сведения по истории, географии, астрономии, физике, метеорологии, механике, биологии, разумеется, соответствующим образом окрашенные в цвета православной веры. Из исторических хроник образованный русский читатель мог знать о походах Александра Македонского, взлете и падении Римской империи.
Свежие мысли античных мудрецов за долгие века русского средневековья точно так же, как и аристотелевские доктрины в Европе, превратились в железные путы для развития науки. Повторяясь из книги в книгу, из рукописи в рукопись, эти идеи, искажаясь и обволакиваясь теологическими наслоениями, постепенно теряли ясность и превращались в туманные, ничего не значащие фразы, звучащие как заклинания. Естественнонаучная литература западного происхождения в русском переводе церковью запрещалась.
Самое страшное для церкви — ереси: борьба с ними не знает послаблений. Еретическая или «отреченная литература», ходившая на Руси и бывшая весьма популярной, внесена была в постоянно обновлявшиеся списки запрещенных произведений. В основном эти списки состояли из народных преданий и представлений, уходящих в языческое мифотворчество, а также переводных трудов с западных языков.
«Голубиная книга», или, точнее, «Стих о книге голубиной» (народная энциклопедия мироздания), «Шестокрыл» (таблицы для вычисления точных дат солнечных и лунных затмений, фаз луны), «Трепетники», «Громники», «Лунники», «Планетники», «Беги небесные», «Острология», «Мартолей», «Аристотелевьиврата», «Тайная тайных», «Рафли», «Звездочетец», «Воронограй», «Зодий», «Молниянник», «О часах добрых и злых», «Зелейник» — вот что входило в запрещенные списки. Уже в этих названиях чудятся, мерещатся зыбкие контуры истинного знания.
Авторов книг, содержащих научное знание, причислили к волхвам, зелейщикам, обаянникам, кудесникам, сновидцам, звездочетцам, к донникам, ведунам, ведуньям, ворожеям. «Шестокрылология, зодии, альманак, звездочет» перечисленысо «стенотреском», «ухозвоном», «лопаточником», «мышеписком». Все это вместе с естественнонаучными трудами собрано воедино, объявлено ересью, запрещено и проклято навсегда. В византийской традиции, которую унаследовала русская церковь, пишет В. К. Кузаков, «не в моде было разыскивать причины естественных вещей — величину солнца и размеры земли, движение звезд. Навстречу, по существу, против этой традиции шли еретики с их естественнонаучной литературой, грамотность многих москвичей, народные наблюдения, народная смекалка и опыт».
Специфическая особенность мышления русского человека средневековья — конкретность. Конкретны и просты «научные истины». Тело человека — земля, кости — камни, жилы — корни, кровь — вода, волосы — трава, как в «книге голубиной». Четкое разделение мира, мира без полутонов, решительно препятствовало проявлению теоретического типа мышления, появлению промежуточных форм, научных абстракций.
Выходит, и в науке российские традиции были столь своеобычными, что нельзя мерить их европейской меркой; для российского мышления было нетипично абстрагирование, теоретизирование. Это, конечно, внушает определенные сожаления, но русские хорошо знали, например, химию, астрономию и исключительно плодотворно пользовались ими на практике, избежав ловушек астрологии и алхимии.
Есть и еще одна яркая черта у древней русской науки. С XIII века становится весьма отчетливой ее «географическая» ипостась, связанная с практическим освоением громадных территорий. Это повлекло, как считает советский исследователь Б. А. Старостин, к серьезной перестройке бсей системы познавательной ориентации в пространстве.
— Раньше, то есть во времена Киевской Руси, — рассказывал мне Борис Александрович в актовом зале Института истории естествознания и техники Академии наук СССР, полном старинных резных кресел и бесценных инкунабул, виднеющихся сквозь толстые стекла книжных витрин, — внешнеполитические связи и, стало быть, географические интересы страны ориентировались вдоль пути «из варяг в греки» — то есть с севера на юг, вдоль меридиана; связи с западными и восточными соседями носили сравниельно более спорадический характер. этом легко убедиться, например, по «Повести временных лет», где варяги и Византия упоминаются, западно-европейский или восточный мир почти совсем нет. С этой меридиональной ориентированностью в какой-то мере связано и принятие христианства от южных соседей, и оживленные торговые, военные, политические сношения со скандинавами, и основные пути расселения восточных славян в домонгольский период. Для периода же XV — XVII веков характерна заброшенность многих былых проторенных путей на север и юг и резкое повышение интереса к западным и восточным территориям, приведшее через два века после Куликовской битвы к взятию Полоцка и Казани, а еще столетием позже — к осуществлению идеи «окна в Европу» и выходу России к Тихому океану...
— Можно, выходит, сказать, — продолжаю я спрашивать Б. А. Старостина, — что новая ориентация (в отличие от меридиональной) Московской Руси заставила россиян, образно говоря, взглянуть в глаза Солнцу?
Может быть, можно говорить о какой-то особой, связанной с Солнцем, и научной культуре россиян? Может, можно даже перекинуть хрупкий солнечный мостик в век девятнадцатый — к солнечным экспериментам Столетова и Лебедева, в век двадцатый — к оптике Вавилова. Хохлова, Басова и Прохорова?
— Ну конечно! Я называю это «солярным пластом» российской науки. Для древнерусской культуры почитание солнца органично с самого ее возникновения, о чем свидетельствуют излюбленные солнечные мотивы в фольклоре, орнаментике, резьбе. Договоры князей заключались «на вся лета, дондеже сияет солнце». Принятие христианства не уничтожило этого отношения к солнцу, достаточно вспомнить праздник масленицы, а также такие солярные символы как блины или хоровод.
Об исключительно остром восприятии солнца и оттенков (бликов, переходов) света свидетельствуют в особенности знаменитые русские церковные фрески. Тот же образно-метафорический язык находим и в литературе. В течение всего развития древнерусской словесности солнце выступает как символ добра и разума.
— В искусстве Солнце сияет явно! Но, может быть, есть отметины, оставленные Солнцем, и в научном мышлении, в его излюбленных сюжетах, предцочитаемых объектах?
— Конечно же, «солярный пласт» культуры оказал влияние и на естественнонаучные взгляды русских. Их развитие в период, последовавший за свержением золотоордынского ига, было многосторонним и выразилось, в частности, в попытках систематизировать календарные и астрономические представления, в появлении «кружков», целью которых стали собственные астрономические наблюдения и изучение западных источников. Прогресс естественнонаучных знаний нашел отражение и в серии географических открытий, послуживших затем основой географических и картографических исследований Восточной Европы и Северной Азии не только в отечественной, но и в мировой науке...
Да, географические открытия россиян не менее значительны, чем открытия, сделанные англичанами, голландцами, норманнами и испанцами! Походы Ермака, завоевания, Сибири, экспедиции к Каспийскому морю и в Среднюю Азию, наконец, поход Афанасия Никитина в Индию!
Конец феодальной, раздробленности, единение русских земель в XV веке вокруг Москвы вызвали потребность в географических картах. Известны географические «чертежи», датируемые началом XVI века, широко используемые иностранными картографами.
«Книга Большому чертежу», планы Московии русичей вливаются в атласы европейских картографов, обогащают европейскую науку. Русь открывает себя Европе, но продолжает быть в то же время загадочной и малодоступной, как и прежде. Идея «окна» возникает не только на Востоке, она зреет и на Западе.
4
Укрепление и возвышение Москвы, образование московского государства благоприятствуют развитию естественнонаучных, знаний; светская литература бурно расцветает вне церковных стен, «в миру».
Шестнадцатый век — век особый в истории московской науки, главным образом потому, что 19 апреля 1553 года на месте теперешнего Историко-архивного института на улице 25 Октября дьякон церкви Николы Гостунского Иван Федоров да Петр Мстиславец в своей первой в Москве государственной книгопечатне начали верстать первую книгу, Другие, частные книгопечатни существовали в Москве и раньше, однако работали они неряшливо и грубо.
А здесь — необычайно строгий, лаконичный и вместе с тем изящный праздничный шрифт, разновидность московского рукописного полуустава, аккуратный набор, отсутствие ошибок, нарядные заставки в стиле древних русских рукописей, красочные инициалы, гравюры. «Апостол», не раз прославленный...
Это чудо — как бы золотой отсвет российского возрождения, родственного возрождению европейскому, его развитие и продолжение.
Казалось, открылись широкие горизонты русской культуры. Однако нашлись мощные силы, которые ее развитие сочли страшной ошибкой, способной привести к ужасным. трагическим последствиям...
«...Часто мы стали подвергаться жесточайшему озлоблению... — пишет сам Иван Федоров, — со стороны многих начальников, священно-начальников и учителей, которые, по зависти к нам, заподозревая нас в разных ересях, желая благое во зло превратить и дело божие в конец погубить, не потому чтобы они были очень учены и исполнены духовного разума, а так понапрасну пронесли о нас злое слово. Эта зависть и ненависть принудили нас покинуть нашу землю, род и отечество и бежать в стороны чуждые, незнакомые».
Это произошло всего через четыре года после издания знаменитого «Апостола». Русская армия терпела поражения в Ливонии, двор был полон слухов о заговорах, свободомыслие было осуждено. Развязался черный террор опричнины. Иван Федоров бежит из Москвы, а позади него — зарево: пылает его типография, подожженная по наущению церкви.
Флетчер, англичанин, живший в те годы в Москве, писал, анализируя возможные причины поджога книгопечатни: «Будучи сами невеждами во всем, они стараются всеми средствами воспрепятствовать распространению просвещения, как бы опасаясь, чтобы не обнаружилось их собственное невежество и нечестие. По этой причине они уверили царей, что всякий успех в образовании может произвести переворот в государстве и, следовательно, должен быть опасным для их власти».
Но сила книги, сила знания неодолима. Уже Собор 1555 года признал, что следует отдавать детей «на учение грамоте и учение книжное». Начало систематического образования знаменуется созданием первых русских учебников. Среди них — «Начальное чтение человеком», вышедшее впервые в 1634 году. Появляются «Грамматика» Смотриц-кого и «Арифметика» Магницкого. Уже в 1648 году на Московском печатном дворе, его складах содержится около 12 тысяч книг, в том числе светских. А к концу XVII века Печатный двор произвел сотни тысяч букварей и других учебников. В Москве организуются многочисленные школы, в том числе специализированные, например медицинская (1654 г.), где изучают труд Везалия «О строении человеческого тела» и знают книги «О болезнях детячь-их», «Помогание женкам в рожении» да и многие другие.
Начало возникновения физики в России в привычном нам обличье — с измерениями, определениями, формулами, практическими примерами — нашло отражение в «Уставе ратных, пушечных и других дел», изданном в 1620 году. Основой его послужила германская «Военная книга» Фронспергера, добавления сделаны Онисимом Михайловым. Книга эта — энциклопедия науки и техники того времени. Большая часть ее посвящена, конечно, технике военной. В числах и зависимостях показано влияние наклона орудия на дальность стрельбы: «чем направление выше бывает, тем черты на воздух в кругах менши бывают, а ядра ближе падают». Описаны подъемные приспособления для взятия крепостей, устройства, помогающие найти предполагаемый подкоп.
Одновременно с «Уставом ратных, пушечных и других дел» выпускаются «Устав корабельный», «Воинская книга о всякой стрельбе и огненной хитрости», «Огненные художества» Лангрини, «Военное искусство» Вальгаузена. Благодаря этим трудам в практику русской технической мысли вошли многие западные измерительные физические приборы, в том числе европейский компас, ареометр, методы сложных вычислений, пока в области баллистики.
Интересные открытия ждали исследователей при реставрации одного из прелестнейших архитектурных памятников Москвы XVII века — Крутицкого подворья, точеные маковки которого встают за Новоспасским мостом, за старым монастырем на Москве-реке. Изразцовые стены, каменные перильца, мозаичные окна, богатство ярких цветовых оттенков этого дворца-церкви свидетельствуют о яркой фантазии, оптимизме, смелом полете мысли...
В юго-западной части палат Подворья обнаружился неясного предназначения каменный столб, ни конструктивно, ни декоративно не связанный со всем строением. Внутри него — круглого сечения желоб, пронизывающий столб сверху донизу. Создается впечатление, что оттуда вынут какой-то прибор...
Исследователи считают, что именно здесь, на Крутицком подворье, находилась древнейшая в Москве и забытая впоследствии, в бурную эпоху Петра, обсерватория.
О большом интересе москвичей к астрономии мы говорили. Уже в XVI веке в Москве были телескопы. Один из купцов, например, уступил царю Михаилу Федоровичу «трубочку, что дальнее, а в нее смотря, видится блиско...». А в середине XVII века зрительные трубы были обычным предметом торговли.
Г1о мнению исследователей, в Крутицком подворье располагался первый просветительский центр Москвы. Не случайно здесь Епифанием Славинецким был переведен «Лу-цидариус» — «Просветитель» — своего рода энциклопедия. В палатах митрополичьего дворца собиралось древнейшее научное общество Москвы — Крутицкое, включавшее, помимо Епифания Славинепкого, много церковных и светских деятелей. Оно вело большую просветительную работу среди московского населения. Оказывается, первой заботой его членов была, по существу,, антицерковная, атеистическая деятельность — они знакомили с учением Коперника.
Епифаний Славинецкий перевел на русский язык целый ряд книг, и в том числе «Космографию» Иоганна Блеу, которой предпослал написанное им «Зерцало всея вселенный». Именно здесь, в противовес птолемеевской системе, изложенной в книге Иоганна Блеу, Славинецкий описывает гелиоцентрическую систему Коперника.
В XVI и XVII веках, случалось, посылали способных и близких к царю российских юношей учиться за границу. Видимо, таковым оказался «Ивашко князь Елизарьев сын» — автор одного из первых русских математических учебников. Эта рукопись, находящаяся ныне в Государственном историческом музее в Москве под наименованием «Синодальная-42» и датируемая 1625 годом, есть не что иное, как созданный задолго до знаменитого Магницкого передовой по тому времени учебник, содержащий блестящее изложение Евклида, Архимеда, Рамуса, выдержки из научных трудов на английском, немецком, латинском языках. Автор описывает интересные приборы: посох Якова — градшток, гирометр (для определения времени ночью), квадрант,гироскопий Апиана.
Что же, выходит, и наука российская являет собой значимый факт русской истории допетровского времени? Почему ж истории естественнонаучных представлений на Руси, например развитию физики и механики, не уделялось до сих пор достаточного внимания? «Причина, очевидно, в том, — считает В. К. Кузаков, — что именно эпоха Петра оставила после себя столько изменений в жизни русского общества и такое обилие разного рода источников, отражающих эти изменения... Развитие науки при Петре, по сравнению с медленным накоплением фактических сведений предыдущего периода, было своеобразным взрывом, эффект которого как бы гипнотизировал исследователей, заставляя их заниматься этим феноменом. Сравнение эпохи Петра с предшествующими столетиями было не в пользу последних. В какой-то мере это давало право для поспешного заключения о создании основ науки в России лишь с петровских преобразований. Тезис, верный лишь до известного предела, привел к тому, что из тематики исторических исследований на долгое время выпал многовековой период накопления фактов, сложения разнообразных представлений, Без них петровские достижения повисали в воздухе...»
...На Международном конгрессе по истории науки, проходившем в Бухаресте, в небольшом ухоженном саду, прилежащем к государственному румынскому архиву, я разговорился с высоким, стройным канадским профессором. Что-то славянское проглядывало в его лице, пшенично-голубые черты России, да и говорил он по-русски не хуже нас с вами, хотя уже чуть не сто лет прошло с тех пор, как его предки покинули московскую равнину.
Валентин Босс волновался: он только что сделал доклад об обнаруженной им в одном из английских архивов рукописи Брюса, написанной в конце XVII века. Это — сенсационная находка, подтверждающая высочайший уровень российской науки того времени...
Но Валентин Босс волновался не только поэтому. Его одолела безумная страсть исследователя. Он предчувствовал, что в наших московских архивах есть множество сви-k детельств допетровской науки.
Что ж, в счастливый путь! Но, может быть, и других историков науки увлечет благодатнейшая тема: «Российская наука до «прорубления окна»?
ГЛАВА II
ПЕТР... БРЮС... НЬЮТОН?
1
Когда только еще формирующаяся библиотека Санкт-Петербургской академии наук получила по завещаниям несколько частных библиотек и включила их в свой состав, одна из них вызвала особый интерес. Она содержала, кроме книг, богатейшие коллекции физических приборов, географических карт, моделей и медалей, принадлежавших таинственному Якову Вилимовичу Брюсу, чернокнижнику и чародею, издателю знаменитого Брюсова календаря, ученому советнику Петра.
После смерти Брюса хранителем библиотеки назначили графа П. С. Салтыкова. Поскольку такая уникальная библиотека была в России одна, по поводу нее был издан особый указ Совета министров с требованием назначить образованного человека для произведения описи библиотеки (а также всех чудес из домашнего собрания Брюса, которые впоследствии перешли в Кунсткамеру). Государственный секретарь Аладин и подполковник Гурьев — вот кому пришлось заняться переписью библиотеки.
В библиотеке оказалось 663 книги на немецком языке, 302 — на английском, 188 — на латинском, 85 — на голландском, 34 — на русском, 19 — на испанском, 7 — на итальянском, 6 — на французском, 4 — на финском, 8 — на шведском, 6 — на польском, 21 — на чешском и одна — «на непонятном».
Среди этих изданий в составленных впоследствии ката-Л01ах значатся:
315. Филозофия натуралис, на английском языке (это, видимо, знаменитые «Начала» Ньютона, на латинском, — книга, которая имелась и в библиотеке Петра).
532. Математикаль элиманс натураль филозофии, чрез Исаак Навтона, в двух томах, на английском.
569. Метод оф флецком, на английском языке (это, по-видимому, посмертное издание книги Ньютона по исчислению, подготовленное Джоном Колсоном).
570. Демонстрацион принцибале сексион Исака Нефто на филозофическия, на английском языке.
590. Треатис оф те систем ворлд Исак Невгон, на английском.
710. Ронауст, Сустема о натуральной филозофии, усмотрена доктором Самуилом Кларкесом, взята от Ридера Иса-ко Нейтонс, филозофа, с прибавлением.
1420. Госп. Невтона математическия и филозофическия наставления, на английском языке, в Лондоне. 1716.
В библиотеке Брюса обнаружилось множество работ не только чужих авторов, но и написанных им самим. Нашлась странная рукопись на немецком языке, испещренная следами нетерпеливой руки Брюса, — и в ней заметки по арифметике, геометрии, тригонометрии. Здесь же было целое собрание статей Брюса, датируемых концом XVII века, точнее, 1697 годом и написанных по английски: «О делении угла», «О построении таблиц синусов», «О составлении логарифмов», а также заметки по астрономии с изложением теории движения планет, о затмении Луны и Солнца, содержащие бездну вычислений, таблиц и чертежей.
Профессор Валентин Босс показывал мне копию раскопанной им рукописи Брюса на английском языке, называвшейся «Теорией планетного движения» и датированной 1698 годом. Брюс принял и знал закон обратных квадратов расстояния за несколько десятилетий до того, как его приняли в Санкт-Петербургской академии. «Теория планетного движения» Брюса — самое раннее свидетельство знакомства россиян с теориями Ньютона и русско-английских научных связей. Этому предшествовала долгая история установления отношений между двумя великими народами.
2
Штормовой осенью 1553 года английский корабль под командованием капитана Ченслора вынужденно бросил якорь у пристани русского монастыря. Монастырь святого Николая стоял в устье Северной Двины, недалеко от Холмогор, на самом севере российских обширных владений. Шел корабль Ченслора вдоль северной кромки Европы в Индию и Китай, но не теплее становилось, а все холоднее и непо-годливее. Ченслор стал подумывать о зимовке и в это время наткнулся на неведомую ему пристань. О прибытии корабля в беломорский монастырь вскоре узнал Иван Грозный, он повелел Ченслору прибыть в Москву — и это положило начало русско-английским регулярным торговым и прочим связям, от которых обе страны имели изрядные выгоды. Со временем Россия приобрела роль ведущей державы в английском импорте — Англия покупала железо, лес, пеньку, канаты, воск, паруса, смолу, деготь, солонину, слюду; обратно шли сукно, кожа, медь, свинец, ткани, женские украшения. Был создан торговый порт — Новые Хол-могоры, или, позже, Архангельск. На линии Архангельск — Ливерпуль постоянно находилось 14 крупных судов водоизмещением от 60 до 160 тонн.
В Москву зачастили не только английские купцы, но и английские врачи, специалисты по добыче металлов, главным образом золото- и среброискатели, строительные инженеры. Немало англичан осело в Москве; особенно много их появилось после казни Марии Стюарт, когда верные ей шотландцы, спасаясь от преследований, покидали родину и прибывали в Россию.
История же российских Брюсов восходит к другим давним временам. Ко временам Кромвеля, когда многие шотландцы решили попытать счастья за границей. Двое из них, братья Джеймс и Джон, из старинного шотландского рода Эйртов, приняли решение встретиться в порту Лейт прямо на корабле перед отплытием. Случай распорядился так, что в Лейтском порту оказались два судовладельца с одинаковой фамилией и оба корабля шли в Европу, но один направился в Россию, другой в Пруссию. Братья оказались на разных кораблях, и им не суждено было когда-нибудь встретиться.
Джеймс Брюс дослужился в армии царя Федора Алексеевича до генерал-майора и скончался в 1680 году. Сын его Вильям тоже пошел по армейской стезе: в чине полковника петровской армии он геройски погиб в 1695 году от турецкого ятагана под Азовом.
О детстве «Якушки» Брюса — теперь уже Джакоба Даьиэля, или по-русски Якова Вилимовича, — известно лишь, что получил он превосходное для того времени образование. Странные, непривычные предметы развлекали его — математика и натуральная философия, сиречь физика.
Он также участвовал в азовской кампании и был в армии инженером: после смерти отца он вычертил первые карты Татарии и Малой Азии, за что в возрасте двадцати шести лет его удостоили звания полковника. Петр любил «Якушку» страстно, и, видимо, именно влиянием Брюса объясняется его интерес к научным материям. Брюс хаживал с Петром и на тайные встречи «Общества Нептуна» в московской Сухаревой башне. Сокрывшись, члены общества, предводимые небезызвестным Францем Лефортом, читали ученые трактаты и занимались физическими экспериментами — дела поистине невозможные, еретические и постыдные в России конца XVII века. Брюс владел английским и немецким, а может быть, и популярным тогда голландским языками, прекрасно понимал величие и возможности, а также беды и нужды России.
Не случайно Брюс оказался одним из шестнадцати компаньонов молодого Петра в его путешествии в Англию. Роль Брюса в истории русской науки еще надлежит оценить. Его благотворное влияние на Петра, на формирование отношения его к технике, наукам, образованию было необычайно сильным. И не этим ли вызвана и сама идея посетить именно Англию?
Позже Петр в предисловии к «Морскому регламенту» объяснял причины поездки в Англию необходимостью совершенствоваться в теоретическом знании. В Голландии, где Петр своими руками построил корабль и под руководством мастера Поля усвоил все то, что «подобало доброму плотнику знать», он понял, что не только руками надлежит будущие великие дела творить, но знать нужно и весьма глубоко всякую теорию, и в том числе корабельную. В Голландии же теорию не почитали, почему Петру «зело стало противно, что такой дальний путь для сего воспринял, а желаемого конца не достиг». Именно таким образом ответил он на вопрос одного англичанина: «От чего так печален?»
Петр считал, что в Англии «архитектура сия так в совершенстве, как и другие, и что кратким временем научиться мочно».
Итак, забрав с собой шестнадцать «волонтеров», включая Меншикова и Брюса, Петр отправился в Англию. II января 1698 года царская яхта бросила якорь у лондонских доков. С этого началось четырехмесячное анонимное пребывание Петра в Англии, приведшее ко многим важным последствиям как в целом для России, так и, в частности, для ее науки.
3
Петру исполнилось двадцать шесть лет. Он был молод и любознателен, полон великих планов. «Царь Петр Алексеевич, — писал современник, — был высокого роста, скорее худощавый, чем полный; волосы у него были густые, короткие, темно-каштанового цвета, глаза большие, черные, с длинными ресницами, рот хорошей формы, но нижняя губа немного испорченная; выражение лица прекрасное, с первого взгляда внушающее уважение. При его большом росте ноги показались мне очень тонкими, голова у него часто конвульсивно дергалась вправо».
Петр не терял времени зря — он изучал государственное устройство страны, ее законодательство, денежную систему, образование, подробно знакомился с наукой. Современник вспоминал: «Большая привязанность монарха к серьезным делам всегда удаляла его от известных удовольствий и развлечений; их он избегал очень ловко, несмотря на все усилия прекрасных придворных дам, делавших попытки понравиться ему и готовых подарить свою любовь великому монарху, прибывшему из далекой страны».
Петр посетил множество мест в Лондоне и его окрестностях, большинство из них связаны были с наукой и техникой, познания в которых он предполагал использовать для улучшения государственного устройства и хозяйства России. Он побывал в Королевском обществе, Вулвичском арсенале, Королевской обсерватории в Гринвиче, на Монетном дворе, познакомился с оружейными и прочими коллекциями Тауэра... Любимым же местом его времяпрепровождения были Дептфордские доки.
...До сих пор один вопрос привлекает наибольшее внимание исследователей. Встречался ли Петр с Ньютоном?
К сожалению, прямого ответа на него пока не получено. Дело прежде всего в том, что пребывание Петра в Лондоне держалось в строгой тайне. Он жил инкогнито. Хотя в газетах и появилось множество слухов насчет того, что в Лондон прибыл царь из далекой России, конкретных сведений о его времяпрепровождении не публиковалось. Кое-какие намеки промелькнули в газете «Постмен». Известно, что царь встречался с Вильямом Третьим. Известно, что он, не желая быть узнанным, не пошел на заседание Парламента, а слушал ход заседания с крыши. (Это дало повод одному остроумцу заметить, что он видел редчайшую вещь — короля на троне и императора на крыше.)
Хотя подобные весьма красочные подробности муссировались довольно широко, точной и официальной летописи пребывания Петра в Лондоне не велось. Это главная причина того, что вопрос, встречался ли он с Ньютоном или нет, продолжает представлять собой захватывающую историко-научную загадку.
Даже поездка Петра в Оксфорд не отражена в университетских архивах. Посещение Петром Монетного двора в Тауэре, может быть, и получило отражение в косвенных документах, но они завалены тысячами страниц архивных бумаг — свидетельствами бурного прошлого Монетного двора, до сих пор не разобранных.
Единственным документом, способным пролить хоть немного света на пребывание Петра в Англии, приходится признать так называемый «Юрнал», тайный дневник, который вел Петр и его ближайшие соратники в Лондоне.
В «Юрнале» названо множество дел, которыми занимался Петр. В то же время регулярного описания встреч, свиданий, назначений не велось. Он был, например, в Ко» ролевском обществе, но нет ни одного упоминания о том, с кем он встречался. Ни в одной из записей Ньютон впрямую не назван по имени. Даже тогда, когда Петр посетил Тауэр и Королевский Монетный двор, управляющим которого был Ньютон (это произошло 27 января и 3 апреля 1698 года), нет никаких свидетельств того, что Ньютон находился среди тех, кто встречал царя.
Когда Петр пребывал в Лондоне, Ньютон жил на Джер-мен-стрит, где его внучатая племянница Кетрин Бартон вела нехитрое хозяйство. Надо сказать, что Кетрин Бартон была очень дружна с лорд-канцлером Монтегю и через нее Ньютон, конечно, был в курсе того, кто был гостем короля, в частности, он наверняка знал о том, что царь интересуется Монетным двором. Более того, известно, что Монтегю присутствовал при визите Петра на Монетный двор 3 февраля. Кстати сказать, об этом визите ничего не говорится в «Юрнале».
Совсем недавно была обнаружена маленькая записка, адресованная Исааку Ньютону Джоном Ньютоном. Джон Ньютон был родственником Ньютона и тоже служил на Монетном дворе. Вот что пишет младший Ньютон старшему: «Глубокоуважаемый сэр! Завтра сюда между двенадцатью и часом намеревается прибыть царь. Думаю, что обязан сообщить вам о том, что он, по-видимому, ожидает
увидеть здесь вас. Я принял возможные меры для того, чтобы все было в порядке и готовности».
Интересно, что эта записка была написана на следующий день после того, как Петр посетил Королевское общество, президентом которого был Чарльз Монтегю. Может быть, Петра так заинтересовали научные проблемы, что он решил немедленно встретиться с самим Ньютоном? Это не кажется невероятным, если иметь в виду большой интерес Петра к.науке и технике. Не означает ли это также и того, что царь ожидал увидеть именно Ньютона в Монетном дворе и именно с ним желал говорить? Этот вопрос все еще остается загадкой, все еще не имеет ответа.
В «Юрнале» за 13 апреля отражен четвертый визит Петра на Монетный двор, В тот раз его сопровождал Брюс. В «Юрнале» сказано кратко: «Был с Яковом Брюсом в Туре, где денги делают». Замечание, что в Тауэре царь был именно с Брюсом, придает встрече с Ньютоном значительно большую вероятность. Ведь не кто иной, как Яков Брюс, лучше всех был осведомлен о том, кто является наиболее крупным ученым в Англии и с кем надлежит в первую очередь встретиться царю.
Яков Брюс организовал, в частности, и встречу Петра с другим крупнейшим деятелем английской науки — Джоном Флемстидом, королевским астрономом. В «Юрнале» отмечен визит царя в Гринвичскую обсерваторию — любимое детище Флемстида.
4
Согласно собственноручной записи Флемстида, Петр был в обсерватории дважды: б февраля и 9 марта. Каждый раз Петр приносил с собой астрономические инструменты и сам проводил наблюдения. Но даже не это поразило Флемстида. Его удивило то, что Петра каждый раз сопровождал «Брюс, по роду шотландец, по рождению москвич».
Чувствуя, что подходит время отъезда,, а еще многое предстоит выяснить и изучить, Петр поручил Якушке Брюсу остаться еще на некоторое время в Англии и получше изучить навигацию и математику.
Незаметной строкой в царских расходах в Англии внесена запись о том, что 17 апреля 1698 года он уплатил некоему «Ивану Кольсуну» 48 гиней за «обучение Якова Брюса в течение шести месяцев, как обусловлено контрактом, включая кров и пропитание» (рядом в перечне расходов — 150 гиней за небольшую яхту нз кипарисового дерева).
После отъезда Петра Яков Брюс жил в доме Джона Колсона. Но историки затрудняются ответить — у какого Колсона. Дело в том, что на одной и той же улице, в одном и том же доме жили два Джона Колсона, оба — математик ки, родственники. Старший после завершения морской службы открыл математическую школу в Ваппинге. Этот Колсон написал 29 июня 1699 года Петру письмо, связанное с задуманной царем «государственной наукой» (вот как далеко уходят истоки «академического» замысла Петра!). Умер он в 1709 году. Другой, молодой Колсон, ученик и друг Ньютона, позднее занял Лукасианскую кафедру в Кембридже, приняв ее у Ньютона. Он умер в 1760 году, будучи членом Королевского общества и автором множества статей.
Кто-то из этих двух Колсонов в течение года обучал Брюса математике, за что получил значительную по тем временам сумму 48 гиней. Кто-то из них двоих стал своеобразным «медиумом», с помощью которого самые последние достижения английской науки стали известны в России.
По возвращении в Россию Брюс стал во главе сложного общественного движения, в результате которого развитие русской культуры и науки приобрело более «европейский» тип. Он был назначен директором новой математической школы в Москве. Брюс отдал много сил становлению в России полноценного научного образования и заложил первые, еще грубые и плохо отесанные камни в основании пути к созданию Российской академии наук.
Поистине тернист оказался этот путь...
5
Едва узнав о том, что в Гааге вышла книжка Гюйгенса «Космотеорос», Петр повелел перевести ее на русский язык и поручил сделать это Брюсу. Книга для российского общества была необычна во всех отношениях: в ней появились, кроме Земли, и миры с инопланетянами, Земля покинула свое центральное место в мироздании и стала вращаться вокруг Солнца вместе с другими планетами. Эти планеты населились жителями, во всем похожими на землян, но со своими проблемами, с особым устройством своего общества. Хотя по животному и растительному миру, по ландшафту и облику обитателей планеты не более отличались от Земли, чем Европа от Азии или Африки, текст книги вызвал в России протесты необычайные. По представлениям тогдашних российских властителей дум, она была, несомненно, «сатанинской». В церковных кругах возникла резкая оппозиция.
Поговаривали, что царь «обезумился», приказав своему верному слуге Брюсу перевести эту книгу в России. Главным и наиболее опасным противником книги оказался Михаил Петрович Аврамов, типограф, издавший ее не только вопреки своему желанию, но и с полным отвращением к этому богомерзкому деянию. Мало того, что книга была атеистической и уже в силу этого совершенно неприемлемой, она нарушала дремотность, которой до сих пор был г окутана Россия, взрывала устоявшийся мир, в котором так уверенно и уютно чувствовал себя Михаил Петрович Аврамов. Он искренне считал, что появление книги приведем к разрушению России, к падению российского общества Аврамов писал: «Неужто есть такие звезды, от которых свет идет двадцать пять тысяч лет? Это басни, придуманные злонамеренными, которым дозволяется сейчас занимать славные должности». Этим людям, считал Аврамов, нужно поставить надежный заслон, замкнуть их уста и не давать воли.
Петр же, по мнению Аврамова, «обезумился» через излишнее чтение Овидия и Вергилия. Особенно же горестно Аврамову, что Овидий и Вергилий самому ему когда-то очень нравились, и однажды он, в слепом порыве, порекомендовал этих авторов царю и даже просил его позволит ему перевести их для избранного круга лиц.
«Дьявол водил моей рукой, — признавался Аврамов, — когда я предлагал царю напечатать эти книги за свой собственный счет, по своей собственной инициативе, с изобрш жениями страшных богов и их недостойных деянийм! Мысль об этом отравила Аврамову всю его последующую жизнь. Везде он каялся и в том, что позволил Москве бьшь украшенной недостойными образами греческой мифологшб
Но самое страшное началось, считал Аврамов, в 171S году, когда генерал Яков Брюс подпоил Петру вновь перг веденную книжечку «Космотеорос». Брюс расхваливал «недостойного автора Христофера Хьюенса» и других п добных ему и утверждал, что их умные книги нужны дл образования и больше всего для навигации. Такими речами Брюс будто и «окрал» государя.
По словам Аврамова, царь принял перевод Брюса, даже не взглянув на него, и тут же «накрепко приказал» Аврамову напечатать максимальный тираж книжки, который должен был составить не меньше, чем 1200 экземпляров.
Но судьба «Космотеороса» была совсем не легкой. То, что Аврамов был самого низкого мнения о его достоинствах, оказалось более важным, чем точка зрения Брюса и Петра Великого. Аврамов не был слишком влиятельным человеком во дворе, но он являлся управляющим типографии, которой поручено печатать книгу. Когда царь уехал в Европу и принимал почести Парижской академии, когда за службу науке его приветствовал Фонтенель, наступил, с аврамовской точки зрения, счастливый момент, который не-зможно было пропустить. «Поскольку царь отсутствовал, — признавался потом Аврамов с обезоруживающей .рямотой, — я внимательно перечитал книгу и она оказалась во всем противной богу, и сердце мое задрожало, и душа моя переполнилась гневом, и пал я перед Богоматерью, обливаясь жестокими слезами и боялся печатать ее и боялся не печатать...»
Состояние нерешительности разрешилось вскоре так: Аврамов пришел к выводу, что «сумасброды-безбожники», все эти «бритые богоборцы» не должны получить больше чем тридцать копий этой книги и даже эти тридцать копий он постарался запрятать как можно подальше.
Перевод «Космотеороса» Гюйгенса был наиболее важным переводом, сделанным Брюсом, хотя он гораздо более знаком по своим другим работам. Широко известно, в частности, то, что в 1707 году он активно занимался пропагандой в России теории Коперника и в 1709 году впервые накатал знаменитый «Брюсов календарь», который основван на этой теории. «Брюсов календарь» выходил с тех р каждый год и стал очень популярен в народе.
Брюс стал главным научным советником Петра. Он лого раз ездил за границу и приглашал в Россию зару-жных ученых и инженеров. Не он ли убедил царя вступить в переписку с Лейбницем?
Сам Брюс получал доень богатую корреспонденцию от Ф$етра. Множество страниц писем посвящено любимому снятию царя — астрономии.
Для нашей темы чрезвычайно важно, что именно Брюс впервые обнародовал в России ньютоновские взгляды на свет и цвет. Будучи в Лондоне, он много слышал о новых теориях, с которыми, как известно, Ньютон уже с 1669 года знакомил на своих публичных лекциях.
Не случайно многие ньютоновские работы по оптике перечислены в каталоге брюсовской библиотеки.
В коллекции Брюса оказалась и «Зрительная трубка не-утоновой инвенции. Цена 71 рубль 70 копеек (Тамесу не плачено)»1.
1 Тамес — по-видчмому, это Джин Томас, мастер по изготовлению физических инструментов.
Брюс и сам делал оптические инструменты. Так он изготовил ньютоновскую линзу «спекулум», на подставке которой написано: «Зделано собственным тщанием графа Якова Вилимовича Брюса в 1733 году августе месяце». Брюс соорудил и первый в России ньютоновский телескоп.
...Говоря о людях, много потрудившихся для развития науки, нельзя забыть и об Александре Меншикове. Уже после смерти Петра Меншиков продолжал помогать движению науки и не изменил своим ранним научным увлечениям и вкусам. Он постоянно занимался астрономией и добился того, что и Петр Второй, и его собственный сын ревностно погружались в научные эксперименты, изучили действие воздушных насосов и других физических инструментов, которые были тогда большой редкостью.
Меншиков оказал неоценимую помощь как в становлении систематического научного образования в России, так и в создании Российской академии. Он был избран членом Лондонского королевского общества и переписывался с Ньютоном (в бумагах Ньютона обнаружены, по меньшей мере, три черновика его письма, адресованного Меншикову!).
ГЛАВА III
ДЕЛА АКАДЕМИЧЕСКИЕ...
1
Почему именно рубеж XVII и XVIII веков отмечен переломом в развитии русской науки? В первую очередь это, видимо, объясняется общим улучшением в эти годы экономики России, успехом ее внешней политики, миром, наступившим на ее границах.
Россия уверенно выходила в ряды ведущих мировых держав Ей нужна была мощная экономика, перестройка государственного управления, реорганизация и модерниза-ция армии Эти задачи требовали вмешательства и участия науки Без нее нельзя было наладить промышленность, использовать богатые природные ресурсы России, невозможны были военные и административные преобразования.
А ведь в то время, когда Ньютон написал «Математические начала натуральной философии», то есть в 1687 году, в России по существу еще не было математического образования, а из научного оборудования имелось лишь несколько телескопов, астролябий и других сравнительно несложных инструментов.
Свежие веяния, которых так недоставало в России, сеяли ужас в умах староверов, для которых западная наука была накрепко повязана с западной религией. Коперник и Мартин Лютер имели между собой дьявольскую связь. Лютеране несли ответственность за распространение еретических учений — гелиоцентрической теории! Вызвать из небытия науку Запада и насадить ее на российской почве мог только человек, обладающий даром провидения, смелый и решительный. Именно таким был Петр. Именно он встал у колыбели возникающей российской науки. На его стороне были Ньютон и Лейбниц, «Начала» и «Космоте-орос»...
Но не только «Начала» и «Космотеорос».
Чтобы разбудить умы, стряхнуть тенета векового покоя России, понадобились книги, которые проникают в сознание простых людей- Царь прекрасно понимал это и настоял, чтобы Феофилакт Лопатинский, профессор и ректор Московской духовной академии, епископ Тверской, крупный публицист, писатель и поэт, занялся переводом на русский язык популярнейшей в Европе книги Полидора Вергилия Урбинского. На титуле русского издания значилось: «Полидора Вергилия Урбинского Восемь книг о изобретателях вещей. Переведены с латинского на старороссийский язык в Москве и напечатаны повелением Великого госуда-„ ря царя и великого князя Петра Всероссийского импера-. тора в лето господне 1720-е мая, пятый день». Книга содержит четыреста с лишним крупноформатных страниц, имеет прекрасно выполненные гравюры.
Издание этой книги (как и Гюйгенса) было далеко не простым делом. 21 сентября 1718 года управляющий Монастырским приказом, где числилась Московская типография, Мусин-Пушкин написал смотрителю ее о том, что Петр, находясь на свадьбе у Голицына, сделал ему строгое внушение, вызванное медленным ходом работы над книгой Полидора Вергилия. «Да для чего, спрашивал Государь, по сию пору не переведена книга Вергилия Урбина о начале всяких изобретений, книга небольшая, а так мешкаете. Отпиши об том Лопатинскому...»
Через некоторое время Мусин-Пушкин вновь напоми-нает смотрителю типографии: «Писал я к тебе многожды о переводе книг, и чтоб говорил ты отцу Лопатинскому, дабы скорее переводил, а ныне Великий Государь приказал: ежели не переведут книг, Лексикона и прочих, до того времени жалованья не выдавать, пока не переведут...»
Книга Полидора Вергилия снискала к тому времени всемирную славу. Ее много сотен (!) раз издавали в различных странах. Это не случайно, ибо посвящена книга интереснейшему вопросу — истории науки и техники. Именно это обратило на себя внимание Петра. Вергилий Урбинский, изучив труды множества старых авторов, создал историческую энциклопедию знания того времени. На страницах книги восстают фигуры Аристотеля, Анаксимена, Демокрита, Гераклита, Архимеда, Катона, многих других мыслителей древности. Интересно, что суждения мудрецов изложены на фоне разговоров о божественном промысле, о священном писании. Но содержание восстает против формы, суть взрывает оболочку.
В книге можно встретить сведения об истоках поэзии, драматургии, медицины, арифметики, грамматики, музыки, астрономии, архитектуры и строительства, узнать, откуда берут начало игра в мяч, шахматы, олимпийские игры. Автор рассказывает об изобретении календаря, весов, часов — солнечных и песочных.
К отнюдь не божественному началу всех вещей возвращает читателя автор книги. Он говорит о появлении самых простых, а потом и более сложных инструментов, таких, как пила, бурав, сверло, долото. Каково происхождение циркуля, секиры, гвоздей, клея? Как делать бочки, сосуды, плетенки? Откуда повелись прядение и ткачество? Какие были раньше одежда и обувь?
Специально останавливается автор на мореплавании: «кто первее изобрел науку мореплавания, суды различного рода, весло, парусы, якорь, плавание и брань корабельную на море». Многих изобретателей автор не знает; в таком случае он приносит читателю извинения, что не смог разглядеть «в тени времен» тех, кто открыл миру, например, механические часы с боем или артиллерийские орудия.
Книга заканчивается обращением к русскому читателю, в нем доказывается необходимость изучения истории техники истории вещей и явлений: «Сочинитель подобен трудолюбивой пчеле, не токмо благоуханные цветы и древеса" но и мертвые телеса летающей и от всех дивный пчел-ник и сладкий мед учиняющей».
Книга Полидора приобрела громадное число русских почитателей. В 1782 году она вышла вторично под названием «О первых изобретателях всех вещей». Заметка в «Московских ведомостях» за номером 23 от 11 марта 1783 года сообщает: «Книга сия содержит в себе самые первые начала изобретенных вещей, встречающихся в свете; причины, для которых они изобретены, имена изобретателей их и все перемены, случившиеся с изобретателями; она тем вяше основательно заслужит благоволения общества, чем предметы, содержащиеся в оной, могут вдовольствовагь любопытство всякого рода читателя».
2
К концу жизни Петра русское общество могло уже подвести первые итоги и научных работ. Сначала стоит сказать о Брюсе, в трудах которого ощущается мощный почерк мировой науки. Его «Теория планетного движения» — это первый след в русской культуре, свидетельствующий о том, что в России появляются научные труды, находящиеся на уровне новейшей европейской науки.
В мае 1709 года появляется в Москве «Брюсов календарь». Нужно сказать, что Брюс не был реальным автором календаря. Он наблюдал за его изданием, а действительным автором и составителем являлся Василий Анофриевич Киприянов, посадский московской Кадашевской слободы.
Киприянов был книгоиздателем, типографом, библиотекарем и активным популяризатором научных знаний. На его счету участие на заре нового, XVIII века в издании «Арифметики» Л. Ф. Магницкого. Он стоял у истоков Первой Гражданской типографии, выпускал первые учебники для петровских школ. В типографии Киприянова начали впервые осваивать непривычные знаки синусов и тангенсов, стали первыми в России печатать географические карты полушарий. Появилась карта и Московской губернии. Петр Первый присвоил Куприянову почетное звание «Библиотекаря».
Составленный Киприяновым «Брюсов календарь», широко разошедшийся, растворившийся в самых глубинных народных массах, способствовал проникновению в сознание россиян новейших достижений мировой науки.
Что такое «Брюсов календарь»? Это — календарь, вешающийся на стену и имеющий шесть отдельных таблиц. В таблицах — сведения о восходе и заходе солнца, о солнечных и лунных затмениях, о движении планет и их положении на звездном небе. Таблицы географических координат городов Земли. Москва теряет положение центра, становится одним из них, как Земля становится одной из планет. И это придает роли и значению Москвы новое звучание. Петр, понимая это, говаривал: «Теперь мы — в мире, и мир — в нас».
Конечно, «Брюсов календарь» — это не календарь в полном смысле этого слова, такой, как мы его понимаем сегодня. В нем многое вызывает улыбку. Здесь масса астрологической мишуры. Исходя из положения светил, предсказывается будущая погода, урожай, «война и победа, мор и глад». Интересно, что все эти сведения излагались в календаре, скорее, на потребу привычных к тому читателей, поскольку в самом календаре записано: «войну и мир собственно из звездочтения провещати невозможное дело».
...Через прорубленное Петром «окно в Европу» в Россию начали проникать идеи Ньютона, Декарта. Они неизбежно сталкивались с тем, что пестовалось ведущим научным центром Москвы того времени — Славяно-греко-латинской академией. Сурово карала академия за интерес к новым веяниям. Ведущие ее деятели братья Лихуды были изгнаны, лишь только они стали, как было писано в Указе, «за-бавлятися около физики и философии».
Но уже на заре XVIII века, в 1701 и 1702 годах, в Москве происходит первый научный диспут! Он был предложен самим московским митрополитом, чтобы противостоять наплыву в Москву новой западной науки. Это был, по существу, диспут между Декартом и Ньютоном, с одной стороны, и ортодоксальными религиозными деятелями, с другой.
На стороне первых оказался еще один член петровской «ученой дружины» Антиох Дмитриевич Кантемир, долгие годы прослуживший на посту русского посла во Франции. Сам Вольтер почитал за честь переписываться с Кантемиром постоянно повторяя адресату, что «среди французов, котооые знают ваши заслуги, нет более уважающего вас, чем ваш покорный слуга Вольтер».
Кантемир перевел на русский язык замечательный труд Фонтенеля «Беседы о множественности миров». Тот же упоминавшийся нами Аврамов препятствовал его изданию, справедливо видя атеистические тенденции и в этом сочинении: система Коперника излагалась здесь уже как очевидная и не требующая доказательств. Мощную защиту получил Декарт и от другого члена петровской «ученой дружины» — Василия Никитича Татищева. В своем «Разговоре о пользе наук и училищ» он писал: «в физике или всей философии... в математике а паче в астрономии Коперник и Галилей, яко же Араго, несмотря на... пресечения... истину доказали». Несколько работ по прикладной геометрии написал еще один член «ученой дружины» Петра — фельдмаршал Б. К. Миних.
3
В России набухала почва для бурного прорастания культуры и науки. Глубоко осознавал это и сам Петр. Не случаен его пристальный интерес к наукам. Он посетил множество научных музеев многих стран. Он любил бывать у голландца анатома Ф. Рюйша, который умел бальзамировать трупы и собрал богатейшую коллекцию анатомических препаратов. Он слушал его объяснения и смотрел в это время на странную, созданную Рюйшем кавалькаду скелетов казненных грешников, восседающих на скелетах невинных животных.
Вместе с известным врачом Г. Бургаве Петр восхищался редкостями ботанического сада. Во время пребывания в Дельфте, сбежав от толпы любопытствующих, он с Левенгуком, изобретателем микроскопа, отплыл в море и там вместе с ним наслаждался неведомым и удивительным миром, глядя в микроскоп и рассматривая не видимые простым глазом мелкие существа.
Петр интересовался и лейденскими банками, о которых один из их изобретателей, профессор Мушенбрук, писал так:
«Хочу сообщить вам новый и страшный опыт, который никак не советую повторять. Я делал некоторые исследования над электрической силой и для этой цели повесил на Двух шнурах из голубого шелка железный ствол, получавший, через сообщение, электричество от стеклянного шара, который приводился в быстрое вращение и натирался прикосновениями рук. На другом конце свободно висела медная проволока, конец которой был погружен в круглый стеклянный сосуд, отчасти наполненный водой, который я держал в правой руке, другой же рукой я пробовал извлечь искры из наэлектризованного ствола. Вдруг моя правая рука была поражена с такой силой, что все тело содрогнулось, как от удара молнии. Сосуд, хотя и из тонкого стекла, обыкновенно сотрясением этим не разбивается, но рука и все тело поражаются столь страшным образом, что и сказать не могу, одним словом, я думал, что пришел конец...»
Новость о лейденской банке с большой скоростью распространилась по Европе. Мушенбрук, и до того известный, стал лейденской достопримечательностью. Работая на верфях в Голландии, Петр пожелал познакомиться с ним, а позже приказал для новой Академии наук различные приборы именно Мушенбруку «сделать повелеть». Однако Мушенбрук не был ученым высокого класса. Его представления о мире можно проследить по его курсу физики. Он был составлен из 42 разделов, самых разнокалиберных. О фонтанах. О зрении. О метеорах. О ветрах. Ему не хватало N широты взглядов, способности к обобщению. Вероятно, этим можно объяснить, что он вошел в историю не как крупный физик, а как человек, одним из первых испытавший на себе электрический удар лейденской банки. «...Ради французской короны я не согласился бы еще раз подвергнуться столь жуткому сотрясению...» — признавался он.
Известно, что Петр несколько раз встречался и переписывался с Г. Лейбницем. Переписывался он и с профессором X. Вольфом. Был в колледже Мазарини и в Сорбонне во Франции, виделся с астрономом Ж. Кассини, с математиком П. Варипьоном. Он был близко знаком с Г. Делилем и часто беседовал с ним о географии. Будучи в Париже в 1717 году, Петр посетил заседание Французской академии, созванное специально ради него. Ему продемонстрировали различные изобретения, химические опыты. Видя громадный вклад Петра в развитие культуры и науки в России, академия предложила избрать его своим членом. На это предложение был послан ответ, составленный по поручению царя его лейб-медиком Арескиным: «Его Величеству весьма приятно, что ваше знаменитое собрание удостоило Его принятием в число своих членов, представляя Ему благородные труды с 1699 года, принадлежащие по праву каж-
дому академику. Он при случае постарается засвидетельствовать вам свою за то благодарность.
Его Величество также одобряет ваше мнение, что пред наукой отличие состоит не столько в высоком звании, сколько в гении, талантах и трудолюбии; а тщательными своими изысканиями всех возможных редкостей и открытий в своих владениях и сообщением оных академии Его Величество постарается заслужить имя исправного члена вашего знаменитого собрания».
Получив письмо, Французская академия единогласно избрала Петра своим почетным членом. В свою очередь, он, благодаря академию, в ответном письме написал: «Мы ничего больше не желаем, как чтоб чрез прилежность, которую мы прилагать будем, науки в лучший цвет привести».
Почему же Петр, такой обычно стремительный и быстрый в своих решениях и неуклонный в их проведении, колеблется: создавать или не создавать Академию? Он видит пример Европы. Он слышит советы видных деятелей России, например Федора Салтыкова, предлагающих учредить Российскую академию или скорее даже академии: при монастырях в каждой из восьми губерний — по две академии с двумя тысячами студентов. Наконец, в 1718 году на одном из проектов царь написал: «Сделать Академию, а ныне приискать из русских, кто учен и к тому склонность имеет...»
Почему же раздумья Петра, обычно быстрого в делах, продолжаются чуть не двадцать лет? Почему даже самые близкие его советники, члены его «ученой дружины» колеблются: нужна ли Академия? Даже В. Н. Татищев, государственный деятель крупного масштаба, один из крупных ученых того времени, полагал преждевременным создавать в России Академию, мотивируя это тем, что в стране нет еще никаких школ: «Напрасно ищете семян, когда земля, которую сеять, не приготовлена».
Петр, знавший об этом мнении, так ответил Татищеву:
«Некоторый дворянин желал в деревне у себя мельницу построить, а не имел воды. И видя у соседей озера и болота, имеющие воды довольство, немедленно зачал, по согласию оных, канал копать и на мельницу припас заготовлять, которого хотя при себе в совершенство привести не мог, но дети, сожалея положенного инживения родителем их, по нужде принялись и совершили».
Стремление использовать накопленный к тому времени научный потенциал Запада, создать в России научные шко-
лы, повысить грамотность, наладить систему образования всецело владело Петром. В 1721 году он посылает за границу И. Д. Шумахера, поручая ему изучить работу зарубежных академий и завербовать в Россию лучших ученых Европы, благо там за научные труды платили скудно.
Шумахер успешно выполнил свою миссию. Одаренный от природы человек, дипломат, сделавший карьеру тем, что работал в библиотеке царя и Кунсткамере, а также тем (может, еще в большей степени), что был женат на дочери царского шеф-повара Фельтена, он посетил Германию, Францию, Голландию, Англию и досконально проработал вопросы, связанные с созданием Академии.
В 1723 году царь, возвратившись из персидского похода, выслушал Шумахера и поручил ему подготовить проект Устава.
Одновременно развернулось строительство здания Кунсткамеры с библиотекой и возникла проблема официально законодательно оформить факт учреждения Академии.
В январе 1724 года Петр написал «определение об Академии», «в которой бы языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам и переводить книги». Он приказал, кроме того, «назначить место для сего и доход».
Вопрос о финансовых средствах Академии был весьма не праздным. Долгих размышлений стоило решение о том, чтобы на Академию были потрачены так называемые «почтовые деньги», деньги с почтовых сборов. 22 января на заседании Сената, длившемся несколько часов, в присутствии адмирала П. М. Апраксина, канцлера Г. И. Головкина, князя А. Д. Меншикова, генерал-прокурора П. И. Ягужинско-го, был рассмотрен документ, подготовленный лейб-медиком Л. Л. Блюментростом. Петр своей рукой сделал на нем важные пометки.
Больше всего его интересовал вопрос о налаживании переводов научных книг, в обилии появившихся на Западе. Он написал: «Сие надо делать таким образом: которые умеют языки, а художеств не умеют, тех отдать учиться художествам, а которые умеют художества, а языку не умеют, тех послать учиться языкам и, чтоб все из русских или иноземцев, кои или здесь родились, или зело давно приехали и наш язык как природный знают, ибо на свой, язык всегда легче переводить, нежели со своего на чужий».
Что за «художества» имел в виду Петр? Он сам поясняет это: «Художества же следующие: математическая хотя до сферических триангелов, механическая, анатомическая, хирургическая, ботаническая, архитектур милитарис, цивилис, гидроника и иротчия тому подобный».
Уже через неделю был опубликован Указ Сената, извещавший учреждение Академии наук. В нем говорилось: «Всепресветлейший державный Петр Великий... указал учинить Академию, в которой бы учились языкам,,также протчим наукам и знатным художествам и переводили бы книги».
Академии были выделены деньги — двадцать пять тысяч рублей из средств, которые собирались с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга.
Создание Академии не было еще завершено, когда внезапно скончался Петр — это произошло 28 января 1725 года. Екатерина, верная заветам супруга, в декабре 1725 года издала Указ о «Заведении Академии наук и о назначении Президентом оной лейб-медика Блюментроста».
4
К августу 1725 года в Академию съехались иностранные ученые. Для них был проведен торжественный прием «нарочитой пышности». Спустя некоторое время состоялось и первое собрание членов Академии наук, доклады которых были опубликованы впоследствии в первом томе «Комментариев» Академии. Протокол велся на латинском языке и датирован 2 (13 ноября). На заседании обсуждалось учение Ньютона о силе притяжения. Я. Герман сделал доклад о фигуре Земли.
Академия приступила к работе...
В чем же состояли, по Уставу, обязанности академиков?
«Должность их: все тоег что уже в науках учинено — свидетельствовать, что к исправлению и размножению оных потребно есть — производить, что каждый в таком случае изобрел — сообщать и секретарю вручать. О всех декувертах, которые свидетельствованию и апробации их поданы будут, имеют они непристрастное рассуждение чинить: сиречь истинны ли оные, великой ли или малой пользы суть и известны ли оные были прежде сего или нет?»
Признается и необходимость научных собраний академиков: «Надлежит им еженедельно приватно собираться и о том, что предлагается, мнение свое открывать, советом и мнением протчих пользоваться ш партикулярно учиненные
эксперименты в присутствии всех членов поверять. А расходы, которые к экспериментам потребны будут, имеют плачены быть из казны академии. А публичным собраниям трижды в год надлежит».
Академики обязаны были делать и рефераты научных работ: «Каждый должен из тех книг, которые в других государствах выдаются ц его науки касаются, экстракт чинить и оный академии вручать. И того для надлежит все те книги, которые академия за потребных признает, из доходов ее покупать».
Не забыта была и нива просвещения:
«Понеже намерение при сем здании такое, чтоб не токмо художествы и науки размножались, но и чтоб народ от того пользу имел: того ради требуется, чтобы каждый академикус обязан был систему из своей науки на латинском языке писать и ежедневно один час свою науку публично учить».
За все это академикам назначалось весьма высокое жалованье — до 2000 рублей в год. В целях сохранения добрых нравов и постоянной трудоспособности ученых было предусмотрено следующее: «Ея В. именно приказала, чтобы дом академический домашними потребами удос-татчить и академиков недели три или месяц не в зачет кушаньем довольствовать; а потом подрядить за настоящую цену, наняв от академии, эконома, кормить в том же доме. И дать ему в зачет несколько денег, который из трактамента академических членов возвращены будут по учреждении оной академии, дабы хотя в трактиры и другие мелкие домы, с непотребными обращаючись, не обучились их непотребных обычаев и в других забавах времени не теряли б бездельно. Ибо суть такие образцы из многих иностранных, которые в отечестве своем добронравны бывши, с роскошниками и пияницами в бездельничестве пропали и государственного убытку больше, неже прибыли, учинили».
Тогда же была определена и заработная плата служащим Академии. Нужно сказать, что в середине XVIII века соотношение членов Академии и ее служащих составляло 1 : 15, то есть на каждого ученого приходилось примерно 15 служащих. Такая пропорция способна вызвать зависть сегодняшних организаторов науки.
Кто входил в число этих «служащих»? Преподаватели, переводчики, канцеляристы, сторожа, ученики, студенты, мастеровые. Их режим был довольно жестким. В зимние
месяцы они работали 9 часов в день, весною и осенью — по 11, летом — по 12 часов. Несмотря на то что рабочий день их был весьма продолжителен, он представляется тем не менее довольно льготным по сравнению с режимом для рабочих, которые должны были работать зимой по 11,5, а летом — по 15 часов в день.
Часты были и работы сверхурочные, как мы их называем сейчас. Впрочем, это и не удивительно, если учесть, что праздников в России, считая воскресенья, насчитывалось около 100 в году. Отпуска служащим не полагалось, но канцелярия могла предоставить особо отличившимся оплачиваемый отпуск на срок до трех дней, а иногда и до месяца для свидания с родственниками или просто так, «для собственных нужд».
Суров был и трудовой распорядок. За ним наблюдал «экзекутор» или «надзиратель». Чаще всего он назначался из военных. Руководители департаментов ежемесячно пб-давали в канцелярию рапорты о поведении своих подчиненных и проделанной ими работе. Назначение на службу в Академию приравнивалось к рекрутчине. Со служащими Академии особенно не считались и часто, вопреки их желанию и слезам родных, посылали учиться за границу.
Жалованье академическим служащим выдавали трижды в год, и, как правило, оно задерживалось — ко временам Ломоносова задержки на год считались явлением нормальным. Денег этих на прожитье не хватало. Академические служители порой «такую претерпевали нужду, что принуждены были брать жалование книгами и продавать сами, получая вместо рубля по 70 копеек и меньше».
Льготные условия жизни академиков, естественно, вызвали большой наплыв и любителей легкой наживы. Первым физиком Академии оказался Христиан Мартини. Он прибыл в Петербург в 1725 году, в год ее основания, и тут же заявил, что собирается сделать доклад об изобретенном им новом «перпетуум-мобиле». Не довольствуясь своими успехами в области физики, Мартини в следующем году попробовал свои силы в качестве профессора логики и метафизики, но и здесь его скоро распознали, в связи с чем он вынужден был (в 1729 году) покинуть русскую землю. Таких заезжих гастролеров можно насчитать немало.
Место Мартини по кафедре физики занял в 1726 году талантливый Г. Б. Бильфингер. В академических «Комментариях» была опубликована на латинском языке его статья «О причине тяжести и движении вихрей»,, где делается очень интересная попытка объяснить явления тяготения с помощью декартовских вихрей. Работа была премирована Парижской академией. Изложение этой статьи и другая (о барометрах), помещенные в «Кратком описании Комментариев», издававшемся Академией наук, — по-видимому, первые сообщения по физике, увидевшие свет в России и напечатанные на русском языке. Но Биль-фингеру не удалось долго удержаться в академии. Он приобрел врага в лице властолюбивого Шумахера и вынужден был в 1731 году выехать из России.
Профессором экспериментальной и теоретической физики с 1727 года числился Леонард Эйлер, крупнейший ученый того времени. Он оставил прекрасный след в физических работах академии. Это трехтомная «Диоптрика» и «Письма о разных физических и философских материях», .переведенные на русский язык его учеником С. Я. Румовским. Среди других учеников Эйлера можно назвать
С. К. Котельникова и племянника М. В. Ломоносова М. Е. Головина. Котельников, кстати сказать, выполнил очень интересную работу, посвященную геометрической оптике и теории радуги, а Головину принадлежит весьма добротное исследование по акустике, распространению звуков в твердых телах. Но не здесь лежало, видимо, магистральное направление российской физики. Свет, а не звук, глаз, не ухо были главными объектами и инструментами познания россиян.
Яркие физические работы Головина не имели столь же яркого продолжения. Хотя академик Г. В. Крафт, заменивший Эйлера, был весьма разносторонним ученым — математиком, астрономом, физиологом и даже астрологом, — он мало занимался физикой. Главное его «достижение» в науке — это сочинение под следующим названием: «Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санкт-Петербурге в Генваре месяце 1740 года Ледяного дома и всех находившихся в нем домовых вещей и уборов с приложенными при том гридорованными фигурами также и некоторыми примечаниями о бывшей в 1740 году во всей Эвропе жестокой стуже, сочиненное для охотников до натуральной науки чрез Георга Волфганга Крафта Санкт-Петербургской императорской Академии наук члена и физики профессора».
Этот труд, немедленно переведенный в Германии и Франции, вскоре прославил автора и стал библиографи-
ческой редкостью. Что касается собственно физики, то нужно еще раз повторить, что Крафт работал в ней немного, его занятия носят узко эмпирический характер Он усовершенствовал термометр. Больше о нем как физике сказать нечего.
Из плеяды академиков первых лет заслуживает упоминания и, более того, всяческого почитания Ф. У. Т. Эпи-нус — ученый, много сделавший в области теории электрических и магнитных явлений и почитавшийся в научном мире, как свидетельствует У. Уэвелл в своей «Истории индуктивных наук», куда выше, например, Б. Франклина.
Молодая российская наука уверенно заявляла о себе. Ученые России смело работали в самых сложных областях знания, исследовали явления природы, наиболее загадочные, наиболее неясные. Работы по физике электрических, магнитных, оптических и тепловых явлений, проводившиеся в России, вполне соответствовали мировому уровню науки того времени.
ГЛАВА IV
НЕ ПУТАТЬ С ПОЭТОМ ТОГО ЖЕ ИМЕНИ...
1
До нас дошло всего три его портрета, да и то выполненных «друг с друга». Как писали впоследствии, «на всех трех портретах изображен отменно упитанный господин средних лет с двумя подбородками. Господин облачен в роскошно расшитый золотом сюртук. Холеные, с припухлостями руки господина сложены очень элегантно, правый мизинец оттопырен с тем непременным изяществом, с каким положено было его оттопыривать в лучших домах Петербурга середины XVIII века. Господин держит гусиное перо, взор его устремлен вдаль: господин «мечтает мечту».
Официальный художник явно хотел подогнать оригинал под одному ему известный идеал процветающего, сытого и мечтательного придворного. Возможно, художник был вечно голоден, худ, плохо одет, а руки его были в красках. Поэтому и придал он модели столь «прекрасные», по его мнению, черты. (Пример одного такого художника нам известен — это живописец праздности французского двора, островов любви, роскошно одетых дам и кавалеров — Антуан Ватто, нищий и больной, материализовав ший в полотнах свои мечты и свое понимание счастья.) Может быть, так было и с портретистом Ломоносова?
Во всяком случае, только привычкой к портрету можно объяснить притупление чувства протеста против образа, столь не вяжущегося с нашим представлением о прямолинейном, простом и невероятно трудолюбивом человеке, вышедшем из самой гущи русского народа. Обильно напудренный и тщательно завитой парик — едва ли не главный объект внимания художника — Ломоносов, по свидетельству его племянницы Матрены Евсеевны, использовал своеобразно: он им «утирался, когда принимался за шти». Руки его были грубы, по-медвежьи сильны, обожжены и съедены кислотой. Ходил он чаще всего в затрапезном лабораторном фартуке.
Раньше считали, что родился Ломоносов в глухой деревне Денисовке, недалеко от Холмогор, но последние исследования выявляют, что он родился в еще более глухой деревне Мишанинской, «недалеко от Денисовки».
В доме своего односельчанина X. Дудина молодой Михаил Ломоносов увидел однажды странные книги, совсем не церковного содержания. Мы не знаем их точных названий, но исследователи утверждают, что это, по всей видимости, были «Грамматика» Мелентия Смотрицкого и «Арифметика» Леонтия Магницкого. После смерти односельчанина книги перешли Ломоносову в наследство, открыв перед ним, по его собственному выражению, «врата его учености». Стали они первой искрой великого огня, засверкавшего в темноте российской глубинки.
Ломоносов впоследствии вспоминал о тех временах: «...имеючи отца, хотя по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного, и злую и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по пустому за книгами. Для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было в уединенных и пустых местах и терпеть стужу и голод, пока я ушел в Спасские школы».
Он стремился в Москву, он знал, куда идти. От выпускников Московской Славяно-греко-латинской академии Ломоносов много был наслышан о московском образовании, о высокой культуре Москвы. Но тяжело пришлось ему здесь. Не было ни родственников, ни денег. Ночевал в розвальнях, на которых прибыл из Холмогор. Затем его приютили знакомые, а уж потом стал он выбирать себе место для учения. В Москве были тогда Славяно-греколатинская академия, или в просторечии Спасские школы, Артиллерийская инженерная и Навигацкая школы Медицинское училище, цифирные школы.
Поначалу Ломоносов пошел было в Навигацкую школу. Размещалась она в центре Москвы, близ Сухаревской башни. В школе учили грамоте, арифметике, геометрии, тригонометрии. Обучение носило практический характер, и это разочаровало Ломоносова, который хотел вкусить учености во всей ее возможной полноте и начать приобретать ее именно с латыни, с международного языка наук.
Вот почему в январе 1703 года еще несмело стучится он на Никольской улице в ворота Заиконоспасского монастыря близ самого Кремля, где размещалась Славяно-греко-латинская академия.
Основанная в 1685 году, она была первым учебным заведением, где изучались не только классические языки, но и естественные науки. Академия выпестовала славных питомцев: В. Т. Постникова — первого русского, получившего за рубежом ученую степень доктора медицины, Л. Ф. Магницкого, давшего России знаменитую «Арифметику, сиречь науку числительную», бывшую в свое время энциклопедией математики. Здесь учился С. П. Крашенинников, известный путешественник, первооткрыватель Камчатки и других дальних земель; сподвижних Ломоносова Д. И. Виноградов, много сделавший для создания в России фарфорового производства; А. Д. Кантемир, известный в свое время поэт-сатирик, дипломат, член «ученой дружины» Петра.
При Петре Академия была самым крупным научнопросветительным центром России, а после его смерти многое было сделано для того, чтобы превратить ее в духовное учебное заведение. Вот почему и принимали туда только детей священнослужителей. Специальный указ Синода предписывал изгонять оттуда «помещиковых людей и крестьянских детей... и впредь таковых не принимать».
Ломоносов скрыл свое «подлое» происхождение, понравился ректору и 19 лет был зачислен в самый низший класс Академии, где испытал много горя и обиды.
Вообще учиться в Академии всем 236 ученикам было нелегко. За 13 лет следовало пройти восемь «школ», включавших четыре низших класса («фера», «инфима», «грамматика», «синтаксима»), два средних («пиитика», «риторика») и два высших («философия» и «богословие»). Каникул для учеников не предусматривалось. Михаилу было особенно тяжело — он находился среди младших по возрасту своих собратьев. Долго вспоминал он, как «школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают: смот-ри-де какой болван лет в двадцать пришел латыне учиться». Приходилось заниматься денно и нощно, за год оканчивать по три класса. А жить ему было негде, снимал углы у москвичей-доброхотов, денег не было. В 1753 году Ломоносов писал: «Жалование в шести нижних школах получал по три копейки на день, а в седьмом — по четыре копейки на день». И далее так характеризовал свою жизнь в академии: «Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращение от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. С одной стороны, отец, никогда детей кроме меня не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил все довольство (по тамошнему состоянию), которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил».
Читал в зти годы Ломоносов очень много и в числе прочих изучил несколько физических книг. Он все более и более влюблялся в науки. Овладел уже и латинским языком, мог читать по-гречески, знал арифметику, географию, историю.
Часто думал Ломоносов о своем научном предначертании. Влекли его путешествия, открытие новых земель. Необычайно заинтересовался он российской экспедицией в Киргиз-кайсацкие и Каракалпакские земли, устраиваемой в 1734 году знаменитым географом И. К. Кирилловым. Эта экспедиция должна была не только изучить степи За-каспия, но и освоить их, защитить народы Средней Азии от постоянных набегов. Экспедиции по штату положен был «ученый священник». Вот на эту роль и претендовал Ломоносов. И быть бы ему священником и географом, кабы ж вскрылась его ложь: ведь при поступлении в Академию сказался он духовного звания, говорил, что отец у него «холмогорской церкви Пресвятыя богородицы поя Василий Дорофеев». Не знал молодой Ломоносов, что все сведения об учениках проверяются и перепроверяются в камер-коллегии, а как только узнал, бросился в ноги ректору и рассказал ему свою горестную историю.
Едва спасен был Ломоносов от тяжкого наказания. Говорили, что помог ему просветитель Феофан Прокопович — сподвижник Петра, поборник наук и просвещения России, увидевший большой талант и особое тщание Ломоносова.
...Чем далее продвигался в науках Ломоносов, тем яснее понимал, что нужны новые знания, новые книги и учителя. Решил податься в Киево-Могилянскую академию, где, считалось, хорошо преподавали естественные науки. Это, однако, не оправдалось. «Против чаяния своего, — писал биограф Ломоносова в XVIII веке, — нашел только словопрения Аристотелевой философии; не имея же случая успеть в физике и математике, пробыл там меньше года, упражняясь больше в чтении древних летописцев и других книг, писанных на славянском, греческом, латинском языках».
Ломоносов возвращается в Москву и поступает в предпоследний класс Славяно-греко-латинской академии — «философию». Но тут, в конце 1735 года, из Санкт-Петербурга был получен приказ отобрать двадцать наиболее способных юношей для продолжения обучения в Академии наук. Таких достойных оказалось лишь двенадцать, и в их числе — Ломоносов. Отобранные, как говорил ректор Академии тогдашнему президенту Академии И. А. Корфу, «были остроумия не последнего».
Так начиналась удивительная по яркости и выразительности научная судьба российского самородка.
2
Хотя сам Ломоносов считал главным занятием жизни своей химию и физику, в нем видели прежде всего поэта и забавника, разрабатывающего, например, проекты дворцовых иллюминаций. В часах, истраченных на науку, Ломоносов должен был чуть ли не оправдываться, Так, в 1753 году он писал графу Шувалову: «Полагаю, что мне позволено будет в день несколько часов времени, чтобы их вместо бильяру употребить на физические и химические опыты...»
По-видимому, для многих в то время было неожиданностью узнать мнение знаменитого ученого Леонарда Эйлера о его научных работах: «Все записки Ломоносова по части физики и химии не только хороши, но превосходны, ибо он с такой основательностью излагает любопытнейшие, совершенно неизвестные и неизъяснимые для величайших гениев предметы, что я вполне убежден в верности его объяснений. При этом случае я готов отдать г. Ломоносову справедливость, что он обладает счастливейшим гением для открытия физических и химических явлений, и желательно было бы, чтобы все прочие академики были в состоянии проводить открытия, подобные тем, которые совершил г. Ломоносов».
Еще большей неожиданностью, видимо, для многих явилось то, что в 1760 году Ломоносов был избран почетным членом Шведской академии наук, а в 1764 году — членом Болонской академии.
Лишь наиболее прозорливые умы России видели в Ломоносове прежде всего великого ученого. А. С. Пушкин считал его «первым русским университетом».
Но возникает странное положение. Ни люди, знавшие Ломоносова, ни те, что жили после него и называли его большим ученым, «не могли описать, что же действительно сделал в науке Ломоносов, за что его надо считать великим ученым» (П. Капица).
Лишь в 1904 году профессор Борис Николаевич Мен-шуткин взял на себя труд перевести с латинского и немецкого (обоими этими языками Ломоносов прекрасно владел) оригинальные научные труды Ломоносова, изучить их вместе с личной перепиской, заметками и лабораторными журналами. И только тогда, чуть ли не через полтора столетия после его смерти, выяснилось, как гениален был первый русский ученый. Любого из его открытий — законов сохранения вещества и энергии, понятия абсолютного нуля, атмосферы у Венеры, кинетической теории газов и, наконец, теории атмосферного электричества — было бы вполне достаточно, чтобы поставить его имя рядом с самыми великими именами.
Сам М. В. Ломоносов в написанной его рукой «Рукописи сочинениям и другим трудам советника Ломоносова» указывал на следующие свои заслуги в области физики.
В комментариях напечатано.
1) Рассуждение содержащее новую систему о причинах теплоты и стужи
2) О подлинной причине упругости воздуха.
3) К тому ж прибавление.
4) Метеорологические наблюдения, учиненныя во время солнечного затмения.
5) О новом манометре, или о махине для измерения ветра.
Физическая сочинения, читанныя в публичных академических собраниях.
6) О явлениях електрических на воздухе, где изъяснено о громе, о северном сиянии и о кометах.
7) Новая теория о цветах, утвержденная многими новыми опытами физическими и химическими.
8) О сыскании точного пути на море, со многими новыми инструментами.
9) О твердости и жидкости тел и о замерзании ртути.
10) Наблюдения физическия, при прохождении Венеры по Солнцу учиненныя, где примечена великая атмосфера около Венеры...
Широко известен вклад Ломоносова в создание молекулярно-кинетической теории теплоты, непосредственно связанной с его же атомно-молекулярной концепцией строения материи. Отвергая гипотезу о существовании теплорода, Ломоносов в своем труде «Размышления о причине теплоты и холода» писал: «В наше время причина теплоты приписывается особой материи, которую большинство называет теплотворной, другие — эфиром, а некоторые — элементарным огнем... Это мнение в умах многих пустило такие глубокие корни и настолько укрепилось, что повсюду приходится читать в физических сочинениях о внедрении в поры тел названной выше теплотворной материи, как бы привлекаемой каким-то приворотным зельем; или, наоборот, — о бурном выходе ее из пор, как бы объятой ужасом. Поэтому мы считаем нашей обязанностью подвергнуть эту гипотезу проверке».
Далее Ломоносов приходит к поистине гениальному прозрению: «...нельзя назвать такую большую скорость движения, чтобы мысленно нельзя было представить себе другую, еще большую. Это по справедливости относится, конечно, и к теплотворному движению; поэтому невозможна высшая и последняя степень теплоты как движения. Наоборот, то же самое движение может настолько уменьшиться, что тело достигает, наконец, состояния совершенного покоя, и никакое дальнейшее уменьшение движения невозможно. Следовательно, по необходимости должна существовать наибольшая и последняя ступень холода, которая должна состоять в полном прекращении вращательного движения частиц». Это — концепция «абсолютного нуля».
Особое значение имеют исследования Ломоносова по оптике. Интерес к ней пробудился у молодого студента еще во время его обучения в Германии. Едва успев приехать в Петербург, он представляет на суд ученых свой труд «Рассуждения о катоптрико-диоптрическом зажигательном инструменте». В работе описывался оптический прибор совершенно нового типа. Печатью провидения отмечен и труд Ломоносова «Слово о происхождении света», в котором он, не имея еще на руках фактов, интуитивно протягивает нить между световыми и электрическими явлениями, говорит об их единой природе.
Ломоносов создает собственную теорию цветов и успешно использует ее в своих мозаичных работах при изготовлении цветных стекол и смальт. А в середине 50-х годов изобретает удивительный прибор — «ночезрительную трубу», «чтобы различать в ночное время скалы и корабли». Ломоносов так описывал ее свойства: «Изобретен мною новый оптический инструмент с трубой... чтобы ночью видеть можно было; первый опыт показывает на сумерках ясно те вещи, которые простым глазом не видны, и весьма надеяться можно, что старанием искусных мастеров может простереться да такого совершенства, какого ныне достигли телескопы и микроскопы от малого начала». Опираясь на непосредственно проведенный им в ночное время эксперимент, Ломоносов пошел дальше того, что позволяло строгое рассмотрение геометрических и инструментально-оптических проблем. Отзывы на прибор были получены отрицательные, в том числе и от Эйлера, обычно поддерживавшего Ломоносова. Однако Эйлер не до конца разобрался в этом поразительном устройстве. Ломоносов, как доказал впоследствии С. И. Вавилов, был прав, догадываясь о специфичности действия трубы в ночных условиях. В этих экспериментах он сомкнул оптические и физиологические исследования и тем далеко опередил время»
3
Теория электричества Ломоносова — логическое продолжение его теорий теплоты, справедливых и по сей день. «Все электрические явления, притяжение, искры и т. п. состоят в движении: движение же не может возбуждаться в теле без другого движения. Поэтому должна быть нечувствительная материя вне электризованного тела, которая и производит эти действия...»
Но что это за нечувствительная материя? Надо, видимо, иметь в виду, что «нечувствительная» — здесь не та материя, которая не может чувствовать, а та, которую мы не чувствуем, то есть не воспринимаем с помощью своих чувств. Может быть, это воздух, передающий электричество с помощью такого же механизма, каким через воздух передается теплота? Но нет, эксперименты показывают обратное — пушинки прилипают к янтарю, например, и в безвоздушном пространстве. И Ломоносов уверенно пишет: «Так как электрические явления происходят в пространстве, лишенном воздуха, то зависят от эфира, а потому, вероятно, нечувствительная материя и есть эфир».
А что это за новое слово? Не происходит ли здесь всем известный процесс «изгнания Сатаны с помощью Вельзевула», подмена туманного термина другим, еще более неопределенным? Что за таинственный эфир, какие свойства приписываются ему Ломоносовым? Эфир, по его мнению, «нечувствительная» среда, заполняющая весь мир, все промежутки между телами и их мельчайшими частичками. Эфир служит для передачи тепла и света; он способен двигаться и сам состоит из мельчайших частичек.
Можно даже попытаться вызвать в сознании образ, видимо, стоявший перед Ломоносовым при писании и произнесении слова «эфир». Это какая-то жидкая волнующаяся среда, движение которой дает электричество. Образ ее — сверкающая, раскаленная, тончайшая жидкость. Ломоносоз так и переводит слово «эфир» на латинский (его диссертация «Теория электричества, математически выведенная автором М. Ломоносовым» написана по-латыни) — «сжигаю», «сверкаю».
Здесь же перл гениальности: «...вероятнейшей причиной электричества будет движение эфира...» Если учесть, что вкладывал Ломоносов в понятие «эфир», особенно, когда речь шла об электрическом воздействии одного тела на другое посредством вполне йатериальной среды, то ясно, что ломоносовское понимание «эфира» чрезвычайно близко введенному впоследствии Фарадеем понятию «электромагнитного поля». Интуитивно чувствуя, что «эфир» недостаточно полно соответствует свойствам предполагаемой промежуточной среды, Ломоносов сознательно не ограничивается эфиром. Он пишет так: «...вероятнейшей причиной электричества будет движение эфира... если потом не сыщется какая-нибудь другая материя...» (!!!) Вот он, почерк гения!
Здесь, конечно, не следует и упрощать: электричество, известное Ломоносову и Франклину, — статическое электричество. До электричества «гальванического», мощного, движущегося, нужны еще десятки лет, нужны открытия Вольта и Гальвани. Да и «движение» здесь — не совсем то, которое имел в виду через десятки лет Фарадей. Но Ломоносов, естественно, не мог предусмотреть этих открытий. И тем более достойна удивления его прозорливость. Когда все стало относительно ясным, оказалось, что на скуднейшем материале, имевшемся в то время, он смог сделать глубочайшие обобщения, не потерявшие своей справедливости и по сей день, особенно если учесть, что эфир Ломоносова, как мы уже сказали, — нечто близкое современному понятию «поля».
4
До сего времени не потеряла своего значения и теория атмосферного электричества, разработанная Ломоносовым. Особую роль в ней играют восходящие и нисходящие вертикальные потоки воздуха, электризующиеся от трения при своем движении. Так считают и сейчас, через двести с лишним лет!
Теория эта создавалась Ломоносовым еще до того, как он узнал об экспериментах Франклина. «Франклину в своей теории атмосферического электричества я ничего не должен», — писал он.
Когда Петербурга достигли вести об опытах Франклина. Ломоносов с увлечением принял близкие ему самому идеи, причем безоговорочно и решительно, — это ценно, если учесть, что Америка считалась тогда научной провинцией
и любая американская теория должна была еще пробивать себе дорогу в воззрениях европейских ученых. Известно, как трудно утверждались в жизни идеи Франклина — вопреки государственным запретам, «протестам общественности» и даже иной раз с помощью судебных процессов. Ломоносов писал по поводу его работ: «Никто бы не чаял, чтобы из Америки надлежало ожидать новых наставлений об электрической силе, а однако учинены там наиважнейшие изобретения. В Филадельфии, в Северной Америке, господин Вениамин Франклин столь далеко отважился, чтобы вытягивать из атмосферы тот страшный огонь, который часто целые земли погубляет».
Ломоносов и Рихман решают повторить опыты Франклина и углубить их. Рихману, кроме того, не терпелось приспособить свой электрометр к измерению электрической силы молнии.
Особенно широкий размах приобрели исследования летом 1753 года. На 6 сентября того года назначено было очередное публичное собрание Академии наук, на котором оба ученых должны были выступить с докладами по атмосферному электричеству. Времени оставалось мало, и им нельзя было пропускать ни одной грозы.
Вот почему, едва только 26 июля с севера поднялась большая грозовая туча, ученые заспешили к своим инструментам. Туча была гигантской, внутри нее перекатывались громы, она черной стеной надвигалась на Васильевский остров, где жили Ломоносов и Рихман. Стояла страшная духота. Дождя не было. Жители захлопывали ставни, спасаясь от возможных ударов молний.
«Сперва, — пишет Ломоносов, — не было электрической силы, но через некоторое время она появилась и из проволоки стали выскакивать искры при приближении к ней проводящих предметов. Внезапно гром чрезвычайно грянул в то самое место, как я руку держал у железа и искры трещали... Все от меня прочь бежали, и жена просила, чтобы я прочь шел». Кончилось тем, что решительная жена Ломоносова потребовала, чтобы он отошел от приборов и сел за стол — -поданы были щи. И Ломоносов подчинился. «Да и электрическая сила почти перестала».
Рихман побежал домой, завидев первые же признаки грозы. Он захватил с собой гравера Соколова, чтобы он зарисовывал опыты.
Дома, не переменив даже парадного костюма, Рихман устремился к своей установке. Шелковинка электрометра находилась в вертикальном положении, то есть в таком именно, в котором и должна была быть, по представлениям Рихмана, — молнии еще не было, а «гром еще далеко отстоял».
«Теперь нет еще опасности, — сказал Рихман Соколову, — однако когда туча будет близко, то может быть опасность».
Он повернулся к электрометру, и тут прямо в лоб его ударил голубоватый огненный шар. Раздался страшный-грохот, и оба — Рихман и Соколов — упали, первый — на сундук, второй — на пол.
Жена Рихмана, услышав грохот в сенях, вбежала туда и увидела мужа бездыханным, а Соколова — оглушенным. Она попыталась восстановить мужу дыхание, но тщетно. Кликнуты были люди и посланы бегом за лекарем и за Ломоносовым. Ломоносов писал впоследствии: «Прибывший медицины и философии доктор X. Г. Кратценштейн растер тело ученого унгарской водкой, отворил кровь, дул ему в рот, зажав ноздри, чтобы тем дыхание привести в движение. Тщетно. Вздохнув, признал смерть...»
«Я пощупал у него тотчас пульс, — писал Кратценштейн, — но не было уже биения; после пустил я ему ланцетом из руки кровь, но вышла токмо одна капля оной. Я дул ему, как то с задохшимися обыкновенно делается, несколь-ко раз, зажав ноздри, в рот, дабы тем кровь привесть паки в движение, но все напрасно: при осмотре нашел я, что у него на лбу на левой стороне виска было кровавое красное пятно с рублевик величиною, башмак на левой ноге над меньшим пальцем в двух местах изодрало, а вокруг изодранного места видны были такие же крапины, но чулка не обожгло. Как скинули чулок, то под прошибленным местом нашли кровавое ж и багровое пятно, а пята была синевата, на теле сверху у груди и под ребрами на левой стороне видны были багровые пятна такой же величины, как на лбу».
Оба ученых тщательным образом рассмотрели тело Рихмана и состояние квартиры. Все было отмечено — и важное, и неважное, или, точнее, казавшееся неважным. «...Было у покойного Рихмана в левом кафтанном кармане семьдесят рублев денег, которые целы остались...», однако, «...часы движение свое остановили», и «с печи песок разлетелся».
Ломоносов сделал подробные продольный и поперечный планы дома Рихмана, где обозначил и местоположение участников драмы в момент удара, и все приборы, повреждения и другие особенности обстановки. Опрошены были и соседи. «Молнию, извне к стреле блеснувшую, многие сказывали, что видели».
Экспериментальная установка Рихмана, насколько можно судить по ее описанию в «Санкт-Петербургских ведомостях», оканчивалась железной линейкой, то есть не была заземлена. Разумеется, к такому опасному сооружению и близко допускать никого нельзя было. Однако чем больше читаешь рапорты Ломоносова и Кратценштейна, тем больше убеждаешься в том, что Рихман был жертвой не столько электрического эксперимента, сколько несчастного случая.
Например, в рапорте отмечаются повреждения от удара, непосредственно не связанные с электрической цепью, через которую могла бы пройти молния: «у дверей в кухне отшибло иверень в два фута длиною», он был разбит «в мелкие частицы» и далеко отброшен. Деревянная колода, находившаяся у дверей в сени, также разбита была «сверху донизу», ее «отшибло вместе с крючьями и вместе с дверью в сени бросило». «Посему неизвестно, не сей ли вшедший луч молнии, который по скоплению людей и в соседстве на улице жестоко шумел и пыль вертел и поднимал, без того прошел в сии двери и повредил там бывших». Ломоносов, анализируя.положение дверей и окон, а также взаимное расположение аппаратуры и пострадавших, тоже отметил, что «однако отворено было окно в ближнем покое» и «двери пола была половина»... и поэтому «движение воздуха быть могло».
Отсюда напрашивается вывод, что первопричиной несчастья была, скорее всего, шаровая молния («луч молнии... пыль вертел и поднимал»), прошедшая через входную дверь к сеням, которая вовсе не обязательно должна была быть связана с экспериментами Рихмана. Такая молния могла войти и разорваться в любом доме, где «окно было отворено» и «движение воздуха быть могло». Ведь и Соколов говорил насчет «шара». А шаровой молнии вовсе нет необходимости идти по железной проволоке для того, чтобы проникнуть внутрь помещения — для этого ей нужны лишь слабые потоки воздуха.
К сожалению, соображения подобного толка (на таких настаивал и доктор Кратценштейн) не нашли в то время должного исследователя. Слишком уж гипнотизирующей, очевидной оказывалась в глазах людей, только что узнавших об электрической природе молнии, связь между смертью Рихмана — богохульного исследователя молнии — и его аппаратурой. Я написал выше «к сожалению» не слу-
чайно. Видимо, смерть Рихмана произвела очень сильное впечатление на общественность и смогла охладить отношение к наукам тех, от кого в те времена зависело процветание наук. Ломоносов это прекрасно понимал. Так, в своем знаменитом (А. С. Пушкин восхищался им) письме к графу Шувалову он писал: «Милостивый государь Иван Иванович! Что я ныне к нашему превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того что мертвые не пишут. Я не знаю еще или по последней мере сомневаюсь, жив ли я, или мертв. Я вижу, что господина профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время... Между тем умер господин Рихман прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность. Память о нем никогда не умолкнет... Между тем, чтобы сей случай не был протолкован противу приращения наук, всепокорнейше прошу миловать науки».
5
После смерти Рихмана Ломоносов один продолжает опыты по электричеству. Понимая важность проблемы, он даже предлагает в Академии конкурсную задачу, чтобы «на 1755 год, к первому числу июня месяца... сыскать подлинную электрической силы причину и составить точную ея Теорию».
К сожалению, непомерная занятость, невозможность иметь большое число учеников и слабая оснащенность лаборатории оборудованием не позволили Ломоносову заняться разрешением этого сложного вопроса. Однако в процессе опытов над электрическими явлениями в атмосфере Ломоносов совершает еще одно открытие, способное сделать его имя знаменитым. Вот что сам он пишет об этом: «Возбужденная электрическая сила в шаре, из которого воздух вытянут, внезапные лучи испускает, которые во мгновение ока исчезают и в то же время новые на их место выскакивают, так что беспрерывное блистание бысть кажется. В северном сиянии всполохи или лучи, хотя не так скоропостижно происходят по мере пространства всего сияния, однако вид подобный имеют...»
Впервые после Ломоносова опыты по воспроизведению - полярных сияний «в шаре, из которого воздух вытянут», проводили в 1929 — 1930 годах, то есть почти через двести лет.
Два важнейших открытия сделаны Ломоносовым в процессе этого небольшого эксперимента. Он первым из ученых столкнулся здесь с искусственно созданным человеком веществом «в четвертом состоянии» — с плазмой. Кроме того, ему удалось убедительно ответить на вопросы, поставленные им несколько лет назад в стихотворной форме под впечатлением грандиозного полярного сияния, наблюдавшегося в 1743 году в Петербурге:
Но где ж, натура, твой закон?
С полночных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мечут огнь моря?
Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Свечение плазмы родственно «сполохам или лучам» северного сияния — вот ответ Ломоносова на его же вопросы, казавшиеся риторическими.
Можно бессчетно находить перлы гениальности в записках, письмах, заметках, докладах, диссертациях Ломоносова... Он много, видимо, слишком много работал — здоровье его пошатнулось.
Он сам писал об этом: «Многими трудами пришло мое здоровье в великую слабость, и часто лом в ногах и раны не допускают меня больше к исправлению должности, так что прошлой зимы и весны лежал я двенадцать недель в смертной постеле и ныне тяжко болен». Печалью и унынием проникнуты последние письма Ломоносова. «Бороться не могу, — сообщал он М. И. Воронцову 24 июля 1762 года, — будет с меня и одного неприятеля, то есть недужной старости. Больше ничего не желаю, ни власти, ни правления». И тем не менее малейшее улучшение в состоянии здоровья, перерывы в болезни он использует для научной деятельности: готовит диссертацию «О тягости по земному глобусу», составляет план работ «Система всей физики», а также «Испытание причины северного сияния и других подобных явлений». С марта 1765 года болезнь начала сильно прогрессировать. Предсмертной тоской проникнуто его письмо: «...я не тужу о смерти: пожил, потерпел, и знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют». Ломоносов умер 4 апреля 1765 года (по старому стилю) в пять часов вечера на 54-м году жизни.
Крупный русский просветитель XVIII столетия Н. И. Новиков, написавший первую биографию Ломоносова, так характеризовал его: «...нрав имел он веселый, говорил коротко и остроумно и любил в разговорах употреблять острые шутки; отечеству и друзьям своим был верен, покровительствовал упражняющимся в словесных науках и ободрял их; в обхождении был по большей части ласков, к искателям его милости щедр; но при всем том был горяч и вспыльчив».
Ломоносов умер, почитаемый больше за организатора русской науки или за стихотворца, но никак не за величайшего ученого, имя которого должно было бы стоять рядом с именами Ньютона и Франклина. И долгое время о нем вспоминали лишь в таком качестве; редко кто знал, что он был великим ученым. И только в руководствах по истории химии иной раз попадались краткие упоминания о Ломоно-сове-ученом подчас в несколько курьезном преломлении: «Среди русских химиков, которые стали известными химиками, мы упомянем Михаила Ломоносова, которого не надо смешивать с поэтом того же имени».
Было бы преувеличением сказать, что смерть Ломоносова была драматически воспринята руководством Академии и двором. Князь Павел, в частности, отреагировал на смерть гениального ученого следующей памятной фразой: «А чего дурака жалеть? Только казну разорял, а ничего не сделал».
Ломоносова-ученого почти забыли до начала XX века, когда его труды стали внимательно изучать в связи со стопятидесятилетием созданной Ломоносовым первой русской научной лаборатории. И только тогда выяснилось, что в течение полутора веков находившиеся в забвении труды Ломоносова хранили величайшие откровения.
ГЛАВА V
ПИТОМЦЫ МУЗ, ВОСПИТАННЫХ МОСКВОЙ
1
Одна из главных заслуг М. В. Ломоносова — создание Московского университета, не случайно носящего сейчас его имя. Громадное сопротивление преодолел он со стороны немецкой группы Академии. Ломоносов горестно говорил об этом: «Куда столько студентов и гимназистов? Куда их девать и употреблять будем? Спи слова твердит часто Тауберг в канцелярии Академии, и хотя ответствовано, что у нас нет природных россиян ни аптекарей, да и лекарей мало, также механиков, искусных горных людей, адвокатов и других ученых, и ниже своих профессоров в самой Академии и в других местах. Но не внимая сего, всегда твердил и другим внушал Тауберг: куда со студентами?»
Важнейший принцип был положен Ломоносовым в создание Московского университета. Не наличие кандидатов на определенные вакансии, а реальные потребности страны в специалистах того или иного профиля. Ломоносов предусмотрел три факультета — философский, юридический, медицинский, но не было в нем, как в большинстве университетов Европы, факультета богословского! Более того, он считал вмешательство церковных властей в дела университета недопустимым, духовную цензуру неприемлемой и протесты духовенства против развития науки незаконными. Ломоносов призывал «не ругать наук в проповедях».
В университете намечены были лаборатории, кабинеты, анатомический театр, библиотека. В учебном процессе предполагалось широкое использование экспериментального метода. Обучение должно вестись в связи с практическими задачами России. Преподавателям университета, по мнению Ломоносова, следует читать публичные лекции, что есть для них важнейшая общественная обязанность. При университете предусмотрена типография для печатания университетских работ.
В числе первых профессоров университета были и немцы, и молодые россияне, окончившие университет при Академии и прошедшие научную школу самого М. В. Ломоносова, Н. Н. Поповский, А. А. Барсов, И. Я. Яремский.
Официальное открытие университета состоялось 26 апреля 1755 года по старому стилю в трехэтажном, увенчанном башенкой с маковкой нарядном здании ва Красной площади. С приветственными речами выступили Поповский и Барсов. Из их уст услышаны были важные мысли о ценности философии, приучающей разум к твердому познанию истины, о необходимости перевода научного исследования и преподавания с латинского на русский язык: «Нет такой мысли, кою бы на российском языке изъяснить было невозможно». В речах прозвучал и гимн науке. Наверное, многим из присутствовавших ва открытии университета вспомнились тогда слова Ломоносова: «Наука есть ясное нозна-
ние истины, просвещение разума, непорочное увеселение ’ жизни, похвала юности, старости подпора, строительнит градов, полков крепость, утеха в несчастий, в счастии ук, шение, везде верный и неотлучный спутник».
В чем ценность науки? Ученики Ломоносова повтори! за ним: «Ни полков, ни городов надежно укрепить, ни к, раблей построить и безопасно пустить в море, не употребляв математики; ни оружия, ни огнедышащих махин, ни л карств поврежденным в сражении воинам без физики приготовить; ни законов, ни судов правости, ни честности нравов без учения философии и красноречию вывести; ни словом, ни во время войны государству надлежащего защище-ния, ни во время мира украшения без вспоможения наук приобрести Невозможно».
Ломоносов предусмотрительно включил в университетский Устав 1755 года положение о том, что в состав дисциплин фйлософского факультета входит физика — экспериментальная и теоретическая. В последующих Уставах фигурирует уже отделение физических и математических наук, в котором изучались математика, механика, астрономии теоретическая и опытная физика, химия, минералогия, сель ское хозяйство, ботаника, технология, а также торговые и фабричные науки.
Уже через год после подписания Указа о создании Московского университета бойко заработала университетска типография: выпускаются учебники, торгует книжная лав ка, регулярно выходит новая газета «Московские ведомости». Открывается университетская библиотека не только для профессоров и учащихся, но и для всех желающих основывается университетский публичный театр.
С самого начала Московский университет был безбожным. Не ученых священников, а медиков, юристов, химиков, математиков он должен был взращивать. Уже первая диссертация, представленная к защите, свидетельствовала об этом. Молодой магистр Дмитрий Аничков написал работу на тему «Рассуждения из натуральной богословии о начале происшествия натурального богопочитания», в которой он доказывал отнюдь не божественное происхождение веры в бога. Излишне говорить, что защита производилась на латинском языке. Диссертация вызвала бурю. Иностранные профессора университета заявили протест против ее положений и объявили, что она предосудительна по сути своей и позорна для университета. Лишь один русский профессор А. А, Барсов присоединился к иностранцам, остальные же — медики С. Г. Зыбелин и П. Д. Веньяминов и юристы Десницкий и И. А. Третьяков полностью поддержали молодого магистра. После речи И. Г. Рейхеля, не оставившего от диссертации камня на камне, она была отклонена, дим все не кончилось. Против Аничкова возбудили особое 0 в Синоде — об этом позаботился известный в Москве кляузник — священник Петр Алексеев, незамедлительно доложивший члену Синода архиепископу Амвросию об этом богопротивном сочинении, и Аничков не один год потратил на свое оправдание.
2
На первых порах Московский университет страдал от недостатка студентов. Так, в 1765 году на юридическом факультете учился всего один студент. Его обучал один профессор. Точно такое же положение сложилось в 1765 году на медицинском факультете. Не хватало не только студентов, но и Преподавателей. Поэтому профессора попадались и случайные.
ц Первым, кто стал обучать физике в Московском университете и делал это в течение года — с 1757 по 1758, был аб-5ат Франкози, заезжий гастролер, мало что понимавший в %той науке. Его место занял У. X. Керштнес. Хотя Керштнес был по специальности физиком, продержался он в университете недолго — с 1758 по 1761 год. После него кафедру физики занял Данило Савич — «философии и свободных наук магистр и суббиблиотекарь Московского университета». Он вообще не имел никакого отношения к физике так же, как и его последователь Н. А. Рост, занимавший кафедру с 1762 по 1791 год, то есть почти 30 лет. Рост был лингвистом по специальности, а по совместительству — московским представителем крупной голландской торговой компании, платившей ему немалые деньги. Рост разбогател, приобрел в Москве дом и тысячу душ крепостных. Что касается физики, то заслуга его ограничивается приглашением для организации физического кабинета французского конструктора Демулена, известного в Москве мастера на всевозможные чудеса.
После Демулена физическим кабинетом заведовал итальянец Маджи. Должно сказать, что ни при том, ни при другом лаборантах, руководимых профессором Ростом, физический кабинет серьезного развития не получил, хотя помещение для него было предусмотрено, в том числе и в новом здании — в 1786 году на Мохавой заложили первые кирпичи нового большого университетского корпуса, по проекту знаменитого архитектора М. Ф. Казакова.
Н. А. Роста заменил П. И. Страхов — специалист по риторике. Уехав в 1785 — 1787 годах в заграничную командировку, Страхов потерял кафедру. Она оказалась занята, и ему предложили взамен кафедру физики. Это не было из ряда вон выходящим явлением. Ведь и многие крупнейшие ученые, сделавшие открытия в области физики, имели другие специальности. Галлей был медиком, Кеплер — теологом, Гюйгенс — юристом.
К чести Страхова, занимавшего кафедру с 1791 по 1812 год, надо сказать, что он сумел привлечь к физике внимание широких кругов московского общества. Страхов был необычайно энергичным и предприимчивым человеком. При нем физический кабинет превратился не только в учебный плацдарм, но и в важный народный театр, представления в котором рассматривались широкой публикой как развлечение и котировались наряду с самыми популярными театральными зрелищами. К Страхову на лекции захаживали Карамзин, Дмитриев, Василий Пушкин, Измайлов и другие образованные люди того времени, нашедшие в науке еще одно измерение радости бытия, названное ими «чувством природы». Карамзин не без основания сравнивал лекции Страхова со знаменитыми лекциями парижанина Бриссона.
Профессор Страхов ходил со студентами на Москву-реку, к Крымскому броду и ставил там, на удивление прохожим, поразительные эксперименты, измеряя электропроводность земли и воды. В 1810 году Страхов создал первый в России университетский учебник физики.
Страхов не чуждался и научной работы. Он исследовал испарение ртути при обыкновенной температуре, замерзание жидкостей, рост кристаллов, явления, вызванные атмосферным электричеством.
К сожалению, при пожаре Москвы в 1812 году все рукописи Страхова сгорели — так же, как и его ценнейшие коллекции, и нам не установить сейчас: были ли его открытия на уровне века? Может быть, сгоревшие бумаги смогли бы поведать еще об одном Робинзоне российской науки?
Заря XIX столетия... Будущий преемник П. И. Страхова, адъюнкт Московского университета И. А. Двигубский представляет к защите докторскую диссертацию. Она называется «Опыт московской фауны», и, как видно из названия, никакого отношения к физике не имеет.
Москва живет совсем в другом измерении.
В Москве читают книги отнюдь не физического содержания. Среди них «Бедная Лиза», «известное сочинение любимейшего русского писателя Карамзина, с картинкою, изображающей те места, где несчастная кончила дни свои», «Клавдий и Клавдина, или Любовь в деревне», переведенный с французского роман, «описывающий приятности деревенской жизни и первые впечатления невинной любви, возбуждающий и удовлетворяющий любопытство читателей нежными изображениями»; «Открытое таинство гадать картами, или раскладывать их, с целью узнать счастие, служащее к увеселению уединенной беседы, с присовокуплением разных игр в фанты, с таблицами». Читают и «Злодеяния Робеспьера и главных его сообщников: Марата, Кутона, Сен-Жюста» с их гравированными портретами — сочинение Дез-Эссара, и «О продлении человеческой жизни, или Средство как достигнуть можно здоровой, веселой и глубокой старости» — сочинение князя Парфеняя Енга-лычева, полное полезных рецептов жития. «Никогда не бери одежды тех, что умерли в дурных или прилипчивых болезнях». «Не кури и не нюхай табаку, хотя б советовал врач для здоровья»...
Это — случайный срез литературного древа Москвы в 1801 — 1804 годах, но это и штрих для оценки интересов читающей массы.
В своих незаконченных набросках к «Путешествию из Москвы в Петербург», написанных в 1833 — 1835 годах, А. С. Пушкин дал поразительно яркую картину из жизни «допожарной» столицы: «Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству; некогда Москва была сборным местом для всего русското дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму... Невинные странности москвичей были признаком их независимости. Они жили по-своему, забавлялись как хотели, мало заботясь о мнении ближнего. Надмен-
ный Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи старушки Москвы».
Москве явно не до физики, мало кто заметил, как биолог Двигубский заменил на кафедре физики Московского университета риторика Страхова.
Перемены зрели исподволь и особенно ярко проявились позднее.
4
Университет гордо встретил грозу 1812 года, Отечественную войну. Кое-кто пошел в ополчение, студенты-медики заполнили полковые госпитали, многие участвовали в сражениях. Пожар Москвы спалил все университетские постройки, коллекцию приборов физического кабинета, научные работы. Громадные повреждения получили здания университета. Выгорели перекрытия, уничтожен актовый зал, сгорели библиотеки и музей со всеми их ценностями.
После пожара никак не могли определить, где быть новому университету, и долго еще среди восстающих из пепла зданий Москвы стоял обгорелый его остов. Предполагали отдать университету дом Медико-хирургической академии. Подумывали о доме генерала Апраксина на Знаменке, о Екатерининских казармах, куда еще раньше предлагал перевести университет Аракчеев с целью разместить в покинутом здании гарнизонный полк. Через четыре года после пожара главнокомандующий Москвы писал министру просвещения: «Москва, недавно представлявшая груды развалин и повсеместное опустошение, уныние... с наилучшим успехом возобновляется во всех отношениях, облекаясь великолепием, превосходящим даже то, в коем была до своего несчастия, — одни учебные заведения, начиная с превосходного университетского здания... остаются в разрушенном состоянии как бы без внимания и попечения».
Лишь в начале 1817 года на восстановление здания университета были отпущены средства, и 13 марта Комитет министров назначил его архитектором Д. И. Жилярди. Попечитель университета сообщил правлению, что он «пригласил для смотрения за производством работ в университетском доме известного в Москве архитектора Жилярди, служащего с отличием и честью в московском Воспитательном доме, который по сему предмету к последнему торгу, назначенному на 23 февраля 1817 года, должен явиться в Правление Университета».
Жилярди решил произвести в главном фасаде, как он писал, «некоторую перемену, состоящую в том, чтобы находящиеся теперь в середине дома восемь колонн, которые были слишком тонки и обезображивают фасаду, не соответствуя огромности здания, сделать гораздо массивнее, почему они и пространство захватят приличное и будут настоящим украшением».
Вскоре из Владимира пришел лес для плотницких работ, сосновые барочные доски для «кумпола над залом». Из Пахры и Мячика доставили белый камень на поправку портала и цоколя, из деревни Хохловки — красно-желтый песок, используемый для окраски стен нежным палевым колером. Триста каменщиков и плотников приступили к восстановлению здания. Городской архитектор Матвеев следил за исполнением проекта. Архитектор Карлони обследовал прочность стен и сводов. Новый университет поднялся на шесть с лишним метров выше, купол его увеличился, здание стало массивнее и величественнее.
Университет приобретал героический победный облик. Он становится символом торжества и единства наук и искусств. Девять муз на барельефе фасада наводят на мысль об их содружестве. В фигурах фриза, развернутого над хорами, можно узнать Сократа, Диогена, Пифагора, Галилея, Гиппократа — и это должно подтвердить силу и мощь разума.
8 апреля 1819 года архитекторы, неустанно следившие за ходом и качеством работ «по свидетельствованию нашли, что здание Университета отстроено прочно и в надлежащей исправности». Полная переделка этого уникального здания заняла всего лишь два года.
5 июля 1819 года новый актовый зал стал свидетелем торжественного открытия университета. Профессор А. Ф. Мерзляков сочинил «Гимн возобновления Минервина храма», который был с успехом исполнен на музыку Д. Н, Кашина на латинском и русском.
Где я, питомец муз, воспитанных Москвой?
Где я, взлелеянный под их священным кровом?
И так свершилося желанное душой!
Тебя ли зрю во блеске новом.
...Как часто мрачны виды
Развалин горестных сбирали нас сюда!
Как часто не вдали родного пепелища,
Как птицы реющи вкруг древнего гнезда,
Красой минувшего жилища Питали мы свои здесь мысли и мечты,
...Как из тумана холм, Минервы храм возстал,
Богатый славой и дарами.
Звучали приветственные речи профессоров И. А. Двигуб-ского, X. Г. Бунге, М. Т. Каченовского.
И здание, и жизнь университета постоянно наполнялись новым содержанием. Академия наук подарила университету коллекцию ценных книг. Выпущен первый курс анатомии. Профессор И. А. Двигубский приступил к изданию «Нового магазина естественной истории, физики, химии и сведений экономических». В начале 1826 года «Московские ведомости» опубликовали «Подробное описание происшествия, случившегося в Петербурге 14 декабря 1825 года» и упомянули о том, что среди участников восстания оказались питомцы университета П.- М. Бестужев-Рюмин, П. Г. Каховский, И. Д. Якушкин, Н. М. Муравьев...
А. С. Пушкин, их певец и единоверец, зорко видел, как под кажущимися покоем и безмятежностью московской жизни, проглядывает новое, незнакомое, смелое: «...Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. С другой стороны, просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова.
Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смышленые литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы».
Мирная жизнь патриархальной Москвы взрывается вольными кружками университетских студентов В. Г. Белинского, М. Ю. Лермонтова, А. И. Герцена, Н. П. Огарева, Н. В. Станкевича...
Демократический дух Москвы зовет к творчеству. В университете рождаются смелые научные идеи. Профессор зоологии К. Ф. Рулье развивает безбожные идеи о единстве организма и тех условий, в которых он существует, указывает на связь эволюции живого с изменениями среды обитания.
На университетской сцене блистают И. Ф. Богданович, М. Д. Чулков, Я. И. Булгаков, Д. И. Фонвизин. «Москов-
ские ведомости» дали объявление: «Женщинам и девицам, имеющим способность и желание представлять театральные действия, також петь и обучать тому других, явиться в канцелярию Московского Императорского Университета».
В университетском театре ставились «Недоросль» и «Бригадир» Д. И. Фонвизина, «Ябеда» В. В. Капниста, «Модная лавка» И. А. Крылова. Профессор П. И. Страхов руководил студенческой труппой. Роль суфлера в театре темпераментно исполнял студент В. Г. Белинский. Как все связано! Именно заведующий кафедрой физики, ставший затем ректором, И. А. Двигубский исключил В. Г. Белинского из университета и тем снискал себе печальную славу, вызвал ненависть и презрение А. И. Герцена и И. А. Гончарова. Тем он и остался известен, хотя его учебник по физике представлял собой заметное явление и в университетской жизни, и в жизни физики.
5
По каким книгам учили в России физику в те далекие времена? По-видимому, самым первым российским учебником физики нужно признать «Арифметику, сиречь науку числительную» Л. Ф. Магницкого, по которой, как считают некоторые, учился М. В. Ломоносов. Это энциклопедия не только математического, но и физического знания.
Непосредственно физике или, точнее, механике была посвящена книга Г. В. Крафта «Краткое начертание открытого прохождения опытные физики, преподаваемые в Академии наук, в пользу ее любителей», изданная в Санкт-Петербурге в 1738 году.
Учебник Крафта — это небольшая по объему книга, в которой должным образом отражены взгляды Ньютона, вихревая гипотеза Декарта, рассмотрены физические свойства тел, атомистическая гипотеза, вопросы трения, называемого автором «препонами движению». В учебнике описаны сначала простейшие, а затем и более сложные машины, проанализированы свойства веревок и канатов. Есть глава, посвященная особым случаям движения: по наклонной плоскости, качению, удару.
В 1746 году Ломоносов опубликовал на русском языке со своим предисловием и комментариями «Вольфианскую экспериментальную физику», принадлежащую перу его учителя Христиана Вольфа. Учебником физики является, по существу, и ломоносовское «Краткое понятие о физике для потребления Его Императорского высочества благоверного Государя великого князя Павла Петровича», изданное в 1760 году.
Особенно примечательным представляется учебник физики Вольфа — Ломоносова. В своем большом и весьма емком по мысли предисловии Ломоносов развил ряд глубоких идей, связанных с определением научного метода, не мыслимого иначе, как сочетание теории и опыта. Ломоносов приветствовал научную гипотезу и в то же время гнал прочь «рождающиеся в одной голове вымыслы и пустые речи». Научные эксперименты должны сочетаться, по его мнению, с «мысленными рассуждениями, которые произведены бывают из надежных и много раз повторенных опытов».
Появляются несколько переводных учебников — аббата Нолле, Эберхарда, Мушенбрука. (Аббат Нолле занимался электричеством; он поставил в Версале, перед королем, множество электрических экспериментов, и в том числе такой: триста королевских мушкетеров, взявшись за руки, с ужасом ждали того момента, когда первый из них коснется заряженной лейденской банки. В учебнике Нолле записано: «Первый держал в свободной руке банку, а последний извлекал искру; удар почувствовался всеми в один момент. Было очень курьезно видеть разнообразие жестов и слышать мгновенный вскрик, исторгаемый неожиданностью у большей части получающих удар».)
На базе переводных составляются и российские учебники физики, .в том числе «Краткое начертание физики» М. Е. Головина. Начало XIX века отмечено в Москве появлением, учебника физики Г. Бриссона в переводе Страхова. Бриссон начинает с общих свойств тел, затрагивает вопросы общей механики, гидростатики, гидродинамики и заканчивает курс механикой простых машин.
Что считает Бриссон наиболее общими свойствами тел? Это — «протяжение, делимость, фигура, непроницаемость, сгустимость, упругость, расширительность, движимость, косность, или упорство». Во втором томе Бриссона есть главы об упругих, жидких, «воздухообразных» веществах, о воздухе, воде. Кратко изложено учение о звуке, об огне, о свете, о видении предметов. Природа света, на взгляд Бриссона, неясна. «Должно признаться, что сии оба мнения, Декартова и Неутонова, не доказаны», — пишет он.
Специальная глава рассказывает о магнитах и их изготовлении. На страницах, посвященных электричеству, изложены его теории, однако автор сетует на то, что они не могут объяснить всех электрических явлений. Одна теория лучше обобщает одни наблюдения, другая — другие. Взамен этих теорий автор вводит 36 предположений, из которых второе весьма примечательно: электрическая материя одинакова с теплотворной и с материей света.
Хотя математический аппарат этой книги еще достаточно примитивен, он свидетельствует о том, что студенты Московского университета могли изучать весьма современный материал по физике.
Страхов, ученик Бриссона, слушавший его лекции в Париже в 1785 — 1787 годах, увлекся его идеями и в 1810 году создал собственный курс «Краткое начертание физики». В курсе уже различаются «гальваническое» и «вольтаическое» электричество. Страхов высказывает и крайне интересную мысль: в то время как вольтаическое электричество низкого напряжения, статическое («гальваническое») — значительно более высокого.
Более самостоятельной работой является «Физика» И. А. Двигубского. Будучи человеком широко образованным и эрудированным, он пошел по новому пути и стал искать логику научных открытий в истории физики. Вполне современными даже сегодня смотрятся приложения к его труду, где анализируются различные системы физики и учебные книги, словари, журналы. Для читателей, желающих узнать побольше, автор представляет обширные литературные ссылки. Эта «Физика», созданная, как пишет он, «в пользу воспитанников благородного университетского пансиона», имеет весьма интересные разделы. В них — оправдание метода гипотез, доказательство атомистического строения материи, определение сил по Декарту и Ньютону, указание на существование явления теплового излучения. В учебнике много сказано о электромагнитных явлениях, о воззрениях Декарта, Юнга, Френеля, Ньютона на природу света.
После Двигубского кафедру физики занял выпускник Московского университета М. Г. Павлов, по специальности медик и математик. Он одновременно преподавал физику, лесоводство и сельское хозяйство. Его заслугой было то, что он культивировал в университете занятия философией, прививал к ней вкус.
Новую страницу в преподавании физики открыл профессор Д. М. Перевощиков, читавший лекции вместе с М. Г. Павловым. Он ввел в нее новейшие теории, он ввел в нее математику.
Чтобы оценить это, стоит порыться в библиотеках и извлечь из их таинственных недр старинную книгу в кожаном, с золотым тиснением переплете. Это физика времен Пушкина, это учебник, сочиненный Д. М. Велланским. Назывался он так: «Опытная наблюдательная и .умозрительная физика, излагающая природу в вещественных видах, деятельных силах и зиждущих началах неорганического мира, составляющая первую половину энциклопедии физических познаний». Книга отпечатана в 1831 году.
Необычайно интересен приведенный в начале книги список имен «господ лренумерантов», то есть подписчиков. В Санкт-Петербурге на учебник подписалось довольно много любителей естествознания — более пятидесяти, в том числе князь В. Ф. Одоевский, известный ученый П. Г. Соболевский, основатель порошковой металлургии, чиновники, преподаватели и студенты университета. Список киевлян — поменьше, но и он насчитывает десятки славных имен. В Харькове на учебник подписались восемь человек, в Костроме — двое, в Смоленске — трое. В Москве же всего два подписчика — купцы С. И. Селива-новский и Ф. М. Бранденбург. Это — поразительный факт, свидетельствующий о том, сколь большая работа предстояла еще в Москве по привитию вкуса к физическим наукам.
Для сравнения укажем, что, хотя Москва в начале XIX века, как известно, не была столицей, она являлась одним из двух крупнейших городов России. Если в Петербурге перед войной 1812 года жило 336 тысяч человек, то в Москве — немногим меньше 270 тысяч. Следующие по численности города были значительно меньше: в Вильно, Казани и Туле проживало по 50 тысяч, в Астрахани и Риге — по 35, в Саратове, Орле, Ярославле, Курске, Киеве, Калуге и Воронеже — примерно по 25 тысяч человек.
Кредо Велланского изложено в использованном им эпиграфе из Генриха Стефенса: «Цель всякого ученого исследования Природы состоит в познании беспредельной сущности веществ, из определительной формы оных — и каждое умственное понятие Натуры должно служить уничтожению обманчивого призрака чувственных ограниченных сведений, по которому всякая особая вещь кажется так смешанной в целом содержании природы, что эмпирик не может распознать ни частного бытия, ни общего происшествия веществ и существ в собственном их значении».
Велланский посвящает свой учебник «любителям Физических Наук, как полезнейших занятий ума человеческого, ведущих явственным путем к образованию и просвещению оного». Книга посвящается в то же время и «славяно-россиянину, дражайшим соотечественникам и соревнователям моим, подвизающимся на темном, зыбком и тесном поприще Ученого Света». А еще она посвящается «благомыслящим, правдолюбивым великодушным и просвещенным людям, кои ясное философическое знание и положительную истину умозрительной критики предпочитают мрачному неведению горделивого профанизма и пышному ничтожеству кичливого скептицизма». Красиво, ничего не скажешь!
Но приступим к нашему беглому анализу. Две науки существуют в мире, по мнению Велланского. Первая — это физика, «излагающая природу», вторая — история, «показывающая происшествие духа человеческого». Физические опыты, считает он, доставляют видимую пользу технологии, но физика не состоит в одних опытах, «кои без феоретического понятия суть тоже самое, что тело без души».
Трудно представить себе что-нибудь менее похожее на современный учебник физики. В нем нет формул, нет выводов, нет понятий и определений. Автор считает, что «Физика не столько нужна для Технологии, сколько для Антропологии и Психологии, которые без умозрительного знания натуры не могут быть приведены в систематический вид, свойственный их идеальной сущности».
Явное предпочтение отдано германской физике. Велланский пишет: «С половины семнадцатого столетия Физическое учение начали преподавать другим образом, свойственнейшим самому предмету; и Физику считают теперь в числе наук, достигших знатной степени совершенства. Отдавая истинную признательность заслугам прежних и новейших естествоиспытателей, обогативших своими открытиями Опытную физику, должно сказать с сожалением: что Феория 30-ти лет на горизонте Германского ученого Света для большаго числа занимающихся оною остается невидима! Одних ослепляет она своею яркостию, а другим кажется сверкающей только в превысп-ренной, чуждой для них сфере! Весьма немногие пользуются светом нынешней Натуральной Философии превосходнейших Германцев; и обыкновенный круг Физических Наук остается теперь в такой же темноте, в какой находился за триста лет до нашего времени!»
Ясны и философские основания физики Велланского. Он склонен превозносить идеалистические нелепости немецкой классической философии и не замечать реального вклада в физику, сделанного в других странах. Несмотря на основательность идеи Ф. В. Шеллинга о взаимодействии и взаимосвязи сил природы, русские последователи его, и в том числе Велланский, по существу, высмеивали и отрицали идею взаимопревращения реальных форм движения материи. Да и как можно было представить себе физику в 1831 году без прозрений И. Ньютона, без вихрей Р. Декарта, без электродинамики А. Ампера, без блестящих теоретических построений П. Лапласа, без открытий М. Фарадея? Велланский не извлек из философии Ф. Шеллинга тех великих уроков, которые сумели воспринять X. Эрстед, Ю. Майер и М. Фарадей, увидевшие единство в различном. Велланский по-прежнему особо говорит о «магнетизме», «гальванизме», «электризме», причем считает, что «гальванизм есть взаимное действие металла с водою, производящее землю и воздух». Столь же квалифицированно излагает он, не приведя ни одной формулы, «Феорию Анпера». На страницах учебника царит теплотвор-флогистон, огнем и мечом разит Велланский антифлогистические теории Лавуазье и его приспешников. Учебник Велланского — яркий пример некритического восхищения немецким академизмом, царившим в императорской академии.
А вот учебник уже упомянутого Д. М. Перевощикова, выпущенный практически в одно время с учебником Д. М. Велланского, может служить иллюстрацией к различию академического стиля преподавания физики в Петербурге и более демократического осмысления ее в Москве. Руководство по физике Перевощикова, изданное в 1833 году, отличается высоким уровнем математического обоснования, использованием дифференциальных уравнений и явным сочувствием к ломоносовской кинетической концепции физических процессов. Сила трактуется уже в ньютоновском смысле. В главе о теплоте автор не говорит об особой «тепловой жидкости» — теплотворе, или флогистоне. Но, опасаясь своей смелости, боязливо прячется еще за уравнения теплопередачи и лишь в заключение, сравни-
вая различные теории природы теплоты, склоняется к кинетической гипотезе, восходящей к Ломоносову. Перевощиков прямо называет его родоначальником этой теории.
Много любопытного можно найти и в «электрических» главах книги. Электричество и магнетизм Перевощиков трактует так же, как и теплоту, в кинетической традиции Ломоносова. Описывая эксперименты Фарадея, Перевощиков приходит к интереснейшей мысли: «Потоки (электрические токи) распространяются в виде волн, между которыми образуются узлы (интерференции), подобные допускаемым волнообразной гипотезой света». Он близок к истине, но хлопотливое биение мысли не может заменить еще мощной логики Дж. К. Максвелла и тонких экспериментов Г. Герца, которые придут через десятки лет.
В академическом Петербурге появляется и учебник М. Т. Щеглова, тоже хорошо математически оформленный. Однако, полностью пленившись теорией теплорода, автор совершенно не упоминает о кинетической теории, видимо, не считая ее достойной доброго слова. Забыл он и Фарадея, и его эксперименты. Создается впечатление, что все, о чем знает и пишет Щеглов, произошло в эру дофараде-евской электродинамики.
Крупное явление в преподавании физики — это учебник профессора Московского университета Н. А. Любимова. Можно смело говорить о том, что он знаменует собой перелом в учебной литературе по физике, наступивший в 60-х годах прошлого столетия. В книге отражены все крупнейшие открытия и теории физики. Механика опирается на труды Ньютона. Понятие теплоты развито в рамках кинетической теории, учение о свете — триумф волновой концепции. Электричество и магнетизм рассматриваются на основе законов сохранения энергии. Уже упоминаются первые электрические машины.
Учебник Н. А. Любимова — предшественник знаменитой «Физики» К. Г. Краевича, по которой училось целое поколение русских ученых.
...Развивался и физический кабинет. В 1821 году И. А. Двигубскйм было издано руководство к работам в кабинете, носившее название «Список физических инструментов Императорского Московского Университета».
Этот список поразителен. Оказывается, уже в 1822 году физический факультет Московского университета обладал большой коллекцией — свыше 265 — физических приборов и инструментов. Причем для изучения общих жизни того, кому суждено было стать воспитателем целого поколения российских физиков. Речь идет об Александре Григорьевиче Столетове.
В год рождении Столетова — 1839-й — выпускник Московского университета А. И, Берцещ отбывающий здесь ссылку, подарил физическому кабинету Владимирского Благородного пансиона «эвдиометр Вольты», употребляемый химиками дла определения влажности воздуха. Эвдиометр явился одним из многих приборов, скопившихся в весьма богатом по оснащению физическом кабинете мужской гимназии, где учился Столетов. Стараниями преподавателей в ее стенах был. собран порядочный физический кабинет — почта двести приборов.
Повезло Столетову и в том, что директором гимназии был Н. И. Соханский,. окончивший физико-математический факультет Московского университета Николай Иванович был необычайно некрасив — «настоящий Квазимодо», но обладал доброй душой и пониманием потребностей России.
Физику и математику преподавал Н. Н. Бодров, также питомец физико-математического факультета Московского университета. Одно из замечательных свойств его лекций заключалось в том, что он показывал на них всевозможные эксперименты, что в те времена было явлением необычайно редким.
Счастливое стечение обстоятельств позволило Александру Григорьевичу узнать и полюбить физику. Как заметил один из его биографов В. Н. Болховитинов,, мальчика поразило могущество физики, способной объяснить «трепетание маятника карманных часов и колыхание океанских волн, мерцание гнилушки и ослепительное пылание солнца, кружение колес машин и стремительный бег планет, пение скрипки и грохот взрывов, рождение бисера искр в электрической машине и возникновение гигантских молний, мягкое тепло дыхания и жар плавильных печей, упрямство стрелки компаса, смотрящей всегда на полюсы, и притяжение железного гвоздя к магниту».
Гимназия окончена в 1856 году, в тот самый год, когда Александр II в речи перед предводителями московского дворянства признал необходимость освободить крестьян от крепостной зависимости, ибо в противном случае «они освободятся сами».
В те годы отменили и ограничение приема студентов из низших сословий, вестибюли университетов заполнили пестрые толпы. Кое-кто смог даже получать государственную стипендию и «казеннокоштным образом» (то есть за казенный счет) жить в студенческих общежитиях. В университетах, как проявление необычайного либерализма, позволили читать западное государственное право и историю философии. Из-за границы опять стала поступать, причем без цензуры, научная литература. Вновь двинулись в Германию и Францию стайки молодых способных москвичей, жаждущих знаний.
В июле 1856 года Столетов появляется в Москве. У него на руках бумага с водяными знаками:
«От директора училищ Владимирской губернии дано сие свидетельство окончившему курс во Владимирской гимназии из купцов Александру Столетову, желающему поступить в число студентов Императорского Московского Уни-верситега, в том, что он журналом Совета гимназии 16 июня сего года признан окончившим Гимназический курс с предоставлением права на поступление в Университет без вторичного экзамена и с награждением за отличные успехи в науках и благонравие золотой медалью».
Столетовпоступает в университет и становится казеннокоштным студентом.
Особая ситуация, сложившаяся в российском обществе того времени, никак не могла миновать Московского университета — по выражению Н. И. Пирогова, «барометра общества».
Юбилей Московского университета — столетие со дня его основания, отмеченное в январе 1855 года, — ознаменовался выступлениями многих студентов и профессоров, которые, повторяя слова Чернышевского, называли этот день «днем блестящей победы науки над холодностью и неприязнью». Умами студентов властвовали В. Г. Белинский, П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев. Слова Чернышевского — «Содействовать славе не преходящей, а вечной своего Отечества и благу человечества, что может быть выше и вожделеннее этого!» — яркими буквами горят на знамени студенческого движения 60-х годов.
Поразительное время — 60-е годы, поразительные люди — шестидесятники. Известный революционер Шелгунов сравнивал подъем общественного движения той поры с состоянием человека, который только что восстал от летаргического сна. «Мы все тогда и горели, и любили, и хотели работать. Это было удивительное время, время, когда всякий хотел думать, читать и учиться и когда каждый, у кого хоть что-нибудь было за душой, хотел высказать это громко... Все умственное движение шестидесятых годов явилось так же неизбежно и органически, как является свежая молодая поросль в лесу на освещенной поляне. Как только Крымская война кончилась и все дохнуло новым, более свободным воздухом, все, что было в России интеллигентного, с крайних верхов и до крайних низов, начало думать, как оно еще никогда прежде не думало. Думать заставил Севастополь, и он же пробудил во всех критическую мысль, ставшую всеобщим достоянием. Тут никто ничего не мог ни поделать, ни изменить. Все стали думать, и думать в одном направлении, в направлении свободы, в направлении разработки лучших условий жизни для всех и для каждого».
Вряд ли примерный студент и отличник Столетов был очень активным участником бурного студенческого движения. Однако общая обстановка того времени не могла его не затронуть. Из лозунгов шестидесятников он выбрал себе один — служить науке для народа — и свято следовал ему. Он видел исполнение своего гражданского долга в том, чтобы быть впереди всех в изучении математики и физики.
Н. Д. Брашман, преподававший юному Столетову прикладную математику, считал, что научный работник не может трудиться просто для удовлетворения своего любопытства: наука — это могущественнейший арсенал, из которого исследователи природы и техники берут свои лучшие орудия.
Брашман был человеком практики. Шумный мир техники незримо присутствовал на его тихих математических лекциях. Он математически интерпретировал работу гидравлических колес, водосливов. И вместе с тем Н. Д. Брашман был тонким математиком, соратником Н. И. Лобачевского и другом М. В. Остроградского. Именно Брашман дал Столетову прекрасную школу современного математического анализа.
Астроном Ф. А. Бредихин, позже ставший одним из друзей Столетова, внушил ему ненависть к мертвящей схоластике в науке. Профессор Н. Е. Зернов, не бывший сам крупным ученым, на высоком методическом уровне читал чистую математику. Зернов старался сделать так, чтобы каждый прослушавший курс его лекций обладал необходимым запасом знаний.
На- главные для Столетова фигуры, е которыми он встретился в университете, — это М. Ф. Спасский, преподававший физику и физическую географию, и Н. А. Любимов, сменивший Спасского на кафедре физики.
М. Ф. Спасский окончил Орловскую духовнуюсеминарию, а затем и Главный педагогический институт в Петербурге, после чего несколько лет провел под началом академиков Э. X. Ленца и А. Я. Куифера, а затем и за границей, куда был послан для усовершенствования. Там он выполнил одну из очень интересных работ, посвященных свойствам недавно изобретенной призмы Николя. Его статья была опубликована в «Поггендорфен Аннален» и вызвала интерес в научных кругах. Это, однако, был первый и последний труд Спасского по физике. С тех пор он посвятил себя метеорологии. С 1839 года, то есть с года рождения Столетова, Спасский работает в Московском университете. С 1850 года он — ординарный профессор, а после смерти заведующего кафедрой физики М. Г. Павлова занимает этот важнейший пост, оставляя, однако, метеорологию в качестве главного своего увлечения. Его докторская диссертация называлась «Критическое исследование о климате Москвы».
, Спасский принадлежал к плеяде российских просветителей. Им написано множество научно-популярных статей. Он — активный борец против «столоверчения» и веры в сверхъестественные силы, которым противопоставляет строгие физические законы.
Иногда говорят о том, что Спасский решительным образом влиял на молодого Столетова. Однако значительно большую роль в судьбе Столетова сыграл Н. А. Любимов. Любимов — москвич, он родился в 1830 году и воспитывался в семье профессора Московского университета А. Л. Ловецкого. Окончил с серебряной медалью Третью Московскую гимназию, а в 1851 году со званием кандидата — физико-математический факультет Московского университета. С 1854 года он читал курс математической физики.
Любимов тоже принадлежит к плеяде просветителей. Он печатался в «Московских ведомостях», писал яркие научно-популярные публицистические статьи. Н. А. Умов утверждал, что последующая деятельность Н. А. Любимова показывает, «что в духовной атмосфере, среди которой работал его ум, стояло на очереди не столько движение науки вперед, сколько стремление к усвоению уже сделанных научных приобретений».
Магистерская диссертация Любимова посвящена, как свойств механики было предназначено 27 из них, для исследования физики жидкостей — 17, физики газов — 83, «теплотвора» — 27, магнетизма — 7, электричества — 67, гальванизма — 5 и оптики — 34 прибора. Эта статистика дает некоторое представление и о самом курсе физики. Коллекция все время расширялась и в 1854 году составила 405 экспонатов, в число которых вошли также и оптические инструменты.
Когда в 1854 году адъюнктом на кафедру физики был назначен Любимов, физический кабинет Московского университета буквально расцвел. В физических опытах его привлекали прежде всего красочность, внешний эффект. Иногда он добивался этого даже в ущерб научному смыслу эксперимента. Однако огромная популярность люби-мовских опытов, их широкая известность как в народной Среде, так и в Министерстве народного просвещения позволяли университету получать деньги и совершенствовать оборудование кабинета. До сих пор — до 80-х годов XX столетия — в физическом практикуме Московского университета существуют приборы и эксперименты, задуманные Любимовым, — «опыты Любимова», и именно с них начинают сегодня свой путь в науке будущие физики. Но мы забежали вперед, об этом — другие страницы, другой рассказ.
ГЛАВА VI
ИСТОКИ ШКОЛЫ
1
Пытаясь осмыслить движение того мощного потока, который впоследствии получил название московской школы физики, автор неизбежно должен был прийти к истокам его, совпадающим с истоками реки Клязьмы, омывающей берега старинного русского города Владимира. Там, в небольшом деревянном флигеле, где жил когда-то купец Григорий Михайлович Столетов, есть гостиная, на одной из стен которой В деревянной овальной раме висел портрет хозяина с окладистой бородой, а на других — фотографии и портреты членов его семьи. Фортепьяно, висящие на стене часы, старин-йая люстра, провинциальная мебель — свидетели начала
определил он сам, «основному вопросу электродинамики»; но существу же в ней проводится исторический и логический анализ открытий Ампера. После двухлетней стажировки в Париже и Геттингене Любимов возвращается в Московский университет и становится там экстраординарным профессором, а затем и главой новой кафедры экспериментальной физики.
Начиная с первой же своей вступительной лекции в университете «О направлениях и задачах современной физики» Любимов всеми силами способствует популяризации знаний, обращая особое внимание на показ ярких физических опытов. Они всегда производили чрезвычайно сильное впечатление:
деревянный шест, стоявший на полу, передавал пленительные звуки скрипки, звучащей в подвале, — так демонстрировалась способность твердых тел проводить звук;
откуда-то с потолка падала железная рама с укрепленным на пружинных весах грузом — так доказывалось отсутствие веса у падающего тела.
Лекции Любимова были пересыпаны историческими анекдотами и занимательными историями.
Может быть, все это и не оказало прямого воздействия на прогресс научного знания, может быть, докторская диссертация Любимова на тему «О Далътомовом законе и количестве пара в воздухе при низких температурах» и не сыграла решающей роли в развитии науки, однако опыты Любимова принесли и ему и самой физике широчайшую популярность в московских научных кругах.
Главный труд жизни Любимова — это его трехтомная (хотя и не оконченная:) «История физики», в которой впервые в мировой науке проведен логический анализ важнейших научных открытий. Это по-настоящему яркий и по-настоящему глубокий вклад в современную науку.
Полностью соответствовали духу преподавания физики и приборы, использовавшиеся для демонстрации физических эффектов. Как и сама физика, выглядевшая в представлениях профессора физикой почтенной, сложившейся, физикой Ньютона, физикой, в которой были описания пушинок, слетающихся к натертому янтарю, колец, висящих под магнитным камнем, но не было места новейшим открытиям, так и приборы в лаборатории Московского университета — это устоявшиеся памятники истории физики. Они украшены орнаментами, они имеют полированные деревянные ящички, они выполнены с ухищрениями, берущими свое начало
в средних веках. Магнит лаборатории, этот большой кусок магнитного железняка, окован богато украшенным ярмом, на котором вырезана надпись: «Сей магнитный камень поднимает два фунта тягости». И магнит этот помещен, естественно, в футляр, и футляр этот, разумеется, имеет красную обивку, поскольку еще в средние века считали, что красный цвет прибавляет магнитам силы!
Нет, не стала еще физика подлинным орудием в борьбе за прогресс общества, не стала она ведущей силой в промышленности. Столетов ярко ощущал потребность окунуться в будни современных европейских физических лабораторий, самому ощутить радость новых физических открытий. Однако понимал, что путешествие такое дорого и возможность его мало реальна.
2
Блестящая учеба Столетова в университете, отмеченная длинным рядом отличных оценок, заканчивается в 1860 году. Теперь казеннокоштный студент Столетов должен был бы провести положенные законом шесть лет на ниве народного просвещения. Но декан физико-математического факультета профессор Г. Е. Щуровский и заведующий кафедрой физики Н. А. Любимов ходатайствуют перед Советом университета об оставлении кандидата А. Г. Столетова при физическом кабинете в качестве его хранителя. Щуровский пишет в своем рапорте: «Работая в кабинете, он приобретет много пользы для себя и, в свою очередь, будет очень полезен как студентам, занимающимся в кабинете, так и профессорам в производстве и приготовлении опытов».
На прошение был получен отказ. Тем не менее деканат факультета вновь и вновь обращается с просьбой оставить Столетова в университете. В переписку вовлекли самого министра народного просвещения. И вот результат — через год Столетов уже на законных основаниях работает в физическом кабинете университета.
Крупные открытия были сделаны в эти годы. Математик П. Л. Чебышев предложил методы расчета сложнейших машин и механизмов, астроном Ф. А. Бредихин внес новый вклад в теорию комет и их хвостов, химик А. М. Бутлеров создал знаменитую структурную теорию.
Открытия определялись не только логикой науки, но и тем временем, в котором творили эти русские ученые.
Ждал своего часа и магистранд Столетов...
Первые послеуниверситетские годы его скрашены дружбой с братьями Рачинскими — Константином и Сергеем. Музыкальные вечера, беседы о предназначении человека и науки сблизили их.
Константин Александрович Рачинский окончил университет в тот же год, что и Столетов, и сразу же стал профессором, заявившим курс математической физики. Старший брат — Сергей Александрович — ботаник, также университетский профессор. Удивительна его.судьба. В 1868 году, в знак протеста против неправильных действий университетского Совета, он вместе с Б. Н. Чичериным, М. Н. Капустиным и С. М. Соловьевым покинул университет и поехал в родное село Татево, где на свои средства построил школу и стал преподавать в ней крестьянским детям. Его образ увековечен в замечательной картине передвижника Н. П. Бог-данова-Бельского «Трудный счет».
Именно братья Рачинские, передовые люди того времени, талантливые ученые, сознающие пользу наук и служащие их прогрессу, пожертвовали в 1862 году Московскому университету стипендию, предназначенную для научной заграничной командировки одного из наиболее талантливых молодых ученых университета. Эта поездка должна была продолжаться два года в тех научных центрах Европы, куда ученый счел бы нужным поехать; каждый год оплачивался тысячей рублей пансионных.
Долго решался вопрос о кандидатуре, и лишь профессор Н. А. Любимов ни в чем не сомневался. Он был уверен в том, что самым лучшим претендентом будет Столетов, наиболее способный студент университета и нынешний его магистранд. В пользу Столетова говорило и отличное знание им нескольких европейских языков.
В конце концов предложение кафедры физики было принято, и летом 1862 года Столетов отправился в Гейдельберг — в его физические лаборатории, лекционные залы. Кого хотел встретить Столетов там, чьи образы вызывал он в сознании, направляясь в далекий путь? Конечно, Гейдельберг был выбран не случайно. Здесь работали великие физики Г. Р. Кирхгоф, Р. В. Бунзен, Г. Л. Гельмгольц.
При недостаточном внимании к науке в самой России Гейдельберг стал одним из тех центров, где молодые русские ученые могли вкусить плоды и радость занятий настоящей наукой. Здесь училйсь и пробовали свои силы И. М. Сеченов, Д. И. Менделеев, А. П. Бородин, С. П. Боткин. Здесь сформировалась русская колония, которой руководил «дядька» — выдающийся медик Н. И. Пирогов, специально направленный, по предложению министра народного просвещения А. В. Головнина, для руководства молодыми начинающими учеными из России, работающими в этом своеобразном «филиале» Московского университета.
Прибыв в Гейдельберг летом 1862 года, Столетов сразу же активно включился в деятельность русского гейдельбергского кружка, приняв участие даже в «сборе средств на приобретение пушек для итальянского революционера Гарибальди». Всех покоряет Столетов своими выдающимися способностями. К. А. Тимирязев вспоминал: «Из многочисленных русских, поселившихся тогда в Гейдельберге, выделялся, между прочим, кружок молодых ученых, посещавших лекции Кирхгофа по математической физике. «Хотя большинство из нас, — рассказывал мне один из участников этого кружка, В. Ф. Лугинин, — было старше Столетова и многие обладали весьма основательным математическим образованием, но с первых же разов, как мы стали собираться для составления лекций, он резко выдвинулся вперед; то, чего мы добивались с трудом, ему давалось шутя, и вскоре он сделался уже не простым сотрудником, а руководителем наших занятий». Могу со своей стороны прибавить, что, когда через несколько уже лет я, в свою очередь, провел в Гейдельберге несколько семестров, посещая, между прочим, и практические занятия у Кирхгофа, мне доводилось слышать еще свежее предание об одном молодом русском, с виду почти мальчике, изумлявшем всех своими блестящими способностями».
Столетов часто пропадал в небольшом двухэтажном домике, величаемом в Гейдельберге «Натур палас» — Дворцом природы. Здесь он слушал лекции Кирхгофа и Гельмгольца, здесь ему в голову приходили идеи, требующие экспериментальной проверки, здесь тосковал он по собственной физической лаборатории, где мог бы поставить опыты и проверить свои предположения.
На счастье, в это время в Гейдельберге появляется его старый товарищ К. А. Рачинский. У Рачинского есть средства, и он предлагает Столетову идти к мастерам, чтобы купить физические приборы для новой лаборатории. Правда, денег не так много, надо экономить, проявлять изобретательность и переделывать приборы для новых и новых целей. В небольшой домашней лаборатории оттачивается экспериментальное мастерство Столетова. Он впервые видит удивительные действия электрического тока. Но это только школа. Лаборатория приносит и острое разочарование: она явно недостаточна для того, чтобы делать поис-тине крупные открытия.
Столетов устремляется в физическую лабораторию В. Э. Вебера, известного немецкого физика-экспериментатора. Для этого приходится переехать в Геттинген. Поразительное впечатление произвел Вебер, один из столпов немецкой электродинамики, на молодого Столетова: «Вебер преоригинальный старичок, одет довольно цинично, говорит престранно, не договаривая, растягивая слова и прочее. Взглянув на него и даже послушав его, не подумаешь, что столько дельного, нового, теоретически глубокого вышло из этой головы».
У Вебера Столетов впервые познал радость работы в настоящей физической лаборатории. Вместе с Рачинским он проводит эксперимент — изучает влияние диэлектрических свойств среды, в которую погружены магниты, на их взаимодействие.
Следующее пристанище Столетова — лаборатория Г. Г. Магнуса, изобретателя нового типа паруса — цилиндрического (сейчас, в конце XX века, эта идея переживает второе рождение). Лаборатория Магнуса потрясает и количеством приборов, и продуманной тщательностью экспериментальной работы. Однако культ эксперимента, проповедуемый Магнусом, не увлек Столетова. Он понимает, что здесь переступлена та черта разумного, которая отделяет полноценный и сочный опыт от бездумного экспериментирования. Магнус превратил метод исследования в его цель. Страх перед мыслью безотчетно владел кумиром немецкого физического эксперимента. «Магнус, — писал Столетов, — с недоверием, нередко преувеличенным, избегает всякого теоретизирования и неохотно терпит математические подмостки даже там, где они вполне уместны. Как можно скорее стать на почву опыта, как можно ближе его держаться — вот его девиз».
Постепенно Столетову становятся ясны причины такой позиции Магнуса. Магнус не знает математики! Но без нее современная физика, по убеждению Столетова, немыслима. И он спешит в Берлин к Ф. Э. Нейману, величайшему немецкому теоретику электродинамики.
«В глазах Неймана, — вспоминал Столетов, — математика — мощное оружие пЬ изучению природы, необходимое звено между простым элементарным законом и сложным
явлением действительности; она проникает туда, где бессилен опыт, дает суждение, отчетливость и общность».
Но Нейман абсолютно не верит в эксперимент! Он не торопится знакомить своих учеников с практикой лабораторий, он боится сложных приборов.
Магнус и Нейман — это две крайности, те Сцилла и Харибда, которых следут избегать в истинно физическом исследовании. С таким убеждением Столетов покидает Берлин. Но он едет не в Москву, а обратно, в Гейдельберг, где обожаемый им (это чувство — взаимно) Кирхгоф открыл, наконец, собственную физическую лабораторию. И хотя дЕа года, отведенные для стажировки, уже кончились, Столетов упрашивает университет отпустить ему еще полтора года для работы в этой лаборатории. Лишь два месяца из этого срока были проведены в Париже, откуда Столетов извлек ворох новых идей о перестройке физического образования в Москве.
Столетов возвращается в Россию в 1866 году — в год, когда выстрел Д. В. Каракозова в царя послужил началом наступления реакции.
3
...Руководство физико-математического факультета Московского университета было весьма обрадовано приездом Столетова" — любимого ученика Кирхгофа. Секретарь факультета Бредихин пишет в университетский Совет прошение о зачислении его в должность. «Сумму, отпускаемую для преподавателей, факультет находит в высшей степени полезным употребить для приобщения к своему составу ма-гистранда Столетова, посланного за границу Университетом и известного факультету замечательным даром изложения и ревностными занятиями по предмету физики».
С тех пор вся жизнь Столетова принадлежит Московскому университету. Изучая ее перипетии, автор обратился к университетской научной библиотеке имени Горького, где уже много лет собирают материалы о жизни и деятельности этого великого человека. Здесь — личный архив
А. Г. Столетова и его родственников, дневники, написанные еще не твердой юношеской рукой, конспекты лекций, черновики статей, публицистические заметки, письма Н. Е. Жуковского, Ф. А. Бредихина, С. В. Ковалевской, П. Н. Лебедева, Н. А. Умова, К. Э. Циолковского, Г. Л. Гельмгольца.
А вот — аудитория Московского университета, где профессор Столетов когда-то читал свои замечательные лекции. Полумрак помещений хранит воспоминания. Как будто оттаивают звуки когда-то произнесенных здесь и вмерзших в холодные стены аудитории столетовских слов:
«Следуя за успехами науки о спектре, мы видим, как малый ручей становится мощной рекой, река — морским течением, и оно несет нас по тому океану неизведанного, о котором мечтал умирающий мыслитель. А у истоков ручья навеки записано все то же незабвенное имя — имя Исаака Ньютона...»
«Гельмгольц — это могучий вихрь, неустанно работающий над новым и новым материалом; яркое пламя, озарившее людям много сокровенного в мире внешнем и в мире внутреннем; стройный звук, который раздается на всю землю: такие образы невольно преподносятся воображению как эмблемы той плодотворной жизни, которой были посвящены наши беседы...»
«Было время, когда физика только что складывалась... С тех пор наука росла быстро и стала творить чудеса: не ограничиваясь расширением умственного горизонта, она подарила человеку на первых же порах и паровоз, и телеграф, и гальванопластику, и фотографию... Познакомившись с количеством солнечной энергии, с ее оптической стоимостью, перейдем в область гипотез. Спросим себя: каким процессом производится этот свет и эта теплота? Есть ли это процесс проходящий, грозящий более или менее близким концом, или он обеспечен навсегда?..»
«Не так ли следует смотреть на электромагнитное поле? Свойственная ему полярность не есть ли результат полярности частичной? Нельзя ли заведомо процессу распространения электрического тока дать такую форму, которая представляла бы подобие луча света?..»
«Я уже намекнул, что в области научного мышления Винчи представляется более сильным, чем творец Фауста. Гете всюду остается художником, поэтом, пророком: в этом — но и только в этом — его сила даже в сфере науки. Гениальная интуиция, орлиный взор, с высоты схватывающий сложную группу явлений и в ее кажущемся хаосе улавливающий черты закономерности, — таков его прием... Гете пытается отстоять полноправность чувств против ударов науки... Леонардо да Винчи представляет нам блестящий пример противоположного и пример едва ли не единственный в таком масштабе. Первоклассный художник уживается здесь с исследователем, который восхваляет опыт как единственную основу знания, и признает математический анализ горнилом истинного исследования»...
Это — строки, выписанные из столетовских лекций... Как много говорят они о человеке, произнесшем эти слова!
...На кафедру физической большой аудитории Столетов впервые поднялся 17 сентября 1866 года, и с нее уже на первой же лекции студенты услышали об электромагнитной теории Максвелла — теории, которая не была еще известна и принята в европейских университетах и которую не понимал даже Л. Больцман. Недаром А. К. Тимирязев считал, что А. Г. Столетов своими лекциями поставил преподавание физики в университете на высоту, не уступавшую, а скорее, превосходившую уровень преподавания в крупнейших научных центрах тогдашней Западной Европы.
К Столетову устремлялись ученики, хотя многие считали, что на экзаменах он отличается «необычайной жестокостью». Учившийся у Столетова Андрей Белый вспоминает об экзаменах Столетова следующим образом: «Не знание предмета, а остроумие, умение смаковать каламбур решали вопрос «5» или «2». «Причина мифа о жестокости Столетова, — как писал Тимирязев, — лежит гораздо глубже, чем обыкновенно полагают, являясь результатом того архаического состояния, в котором находится преподавание естествознания... Студент-медик первого курса должен поглотить без малого все естествознание, плюс еще известное число своих собственных специальных предметов, и учащиеся давно сознавали невозможность этого положения, и вот с давних пор устанавливается какое-то немое соглашение, что это учение не настоящее, а так, для вида, для формы».
Получалось, что исход был роковым образом неизбежен, ибо «студенческая голова не могла вместить всего -требуемого программами, а Александр Григорьевич не мог понизить уровень своих требований ниже известного минимума и превращать экзамен в пародию».
Столетов умел разыскать молодые таланты в студенческом многолюдье, а их устремляли к Столетову мощь его ума, широкая культура и неукротимая воля, поставленная на то, чтобы наука московская достигла возможно более высокого уровня. Многие, слушая его, решили посвятить себя физике. Многих оставил он на кафедре физики для приготовления к профессорскому званию, следил за ними, облегчал их первые шаги в науке.
Стремление Столетова сделать науку служанкой прогресса требовало больших усилий и ломки устоявшихся представлений. Часто выступления Столетова на Совете университета носили резкий характер, авторитет его неоднократно подвергался серьезным испытаниям. За ним установилась репутация «беспокойного». Он резок, бескомпромиссен. Андрей Белый вспоминал, что от нападений Столетова на заседаниях расстраивались сердца, случа-1 лись истерики. Даже профессор Любимов, сделавший для него так много, не избежал принципиальной критики.
Тимирязев писал, что, натолкнувшись на несправедливость, Столетов шел напрямик: не выискивая борьбы, он никогда не уклонялся от нее ради эгоистического спокойствия, достижения житейских благ или сохранения так называемого «мира и согласия»». В нем было, как вспоминал Тимирязев, «полное отсутствие той податливости... пластичности, готовой ко всему приспособляться».
Не следует думать, что и сам Столетов не переживал из-за складывающейся вокруг обстановки.
В мае 1869 года состоялась защита его магистерской диссертации. Темой ее была задача в стиле немецких электродинамиков Вебера, Гельмгольца и Неймана — определение взаимодействия бесконечного числа проводников. Столетов теоретически решил весьма важный вопрос, который еще не раз возникнет на практике. Напряженная работа над диссертацией вызвала психический срыв. Сам Столетов так вспоминал об этих годах в письме к своему ученику В. Михельсону, утешая его (Михельсон тяжело болел туберкулезом): «Я расскажу в двух словах собственную историю. После командировки в 1862 — 1865 гг. я вернулся совсем больной с расстроенными нервами, головными болями, неисправным пищеварением и пр. Сразу затянулся в преподавание двух предметов, отвлекавшее от не готовой еще диссертации, и в то же время лечился. На таком положении, получая от университета 500 р. и субсидию от старшего брата, пробился три года — до утверждения доцентом. Вслед за тем вытерпел нервную горячку (накопилось!), которая вычеркнула целый год из моего академического существования. После бури воздух освежился, и теперь, перевалив за половину срока, обещаемо-» го мне моей фамилией, могу мечтать о полном ее оправ-» Дании».
Не один год жизни отняло и создание лаборатории...
Университетские архивы сохранили многочисленные докладные, записки, рапорты, протоколы заседаний кафедры, сметы расходов по организации лаборатории — доказательства того, что современная наука требует значительно больших средств на ее развитие. Этим доказательствам Столетова, однако, не верили. Испрашиваемые им сотни и тысячи рублей казались руководству университета немыслимыми, нереальными суммами.
Столетов понимает, что развитие физики в России невозможно и без создания определенного круга передовой физической общественности, научной среды. Для начала он вступает в Московское общество испытателей природы, входящее в состав Математического общества, и активно привлекает к научной деятельности в области физики своих учеников Н. А. Умова, Н. Е. Жуковского и друзей В. В. Преображенского и Н. Н. Шиллера. Все они — частые гости в доме Столетова. К нему приходит и молодой физик Г. Б. Фишер, и студент П. А. Зилов, и бывший студент Р. А. Колли. Захаживают и его товарищи по университету: Ф. А. Бредихин, Ф. А. Слудский. Постепенно эти встречи приобрели регулярный характер. Образовался кружок Столетова.
Н. Е. Жуковский писал через много лет об этих годах: «Я живо вспоминаю квартиру покойного на Тверской улице, в которую первый раз я пришел на заседание физического кружка, устроенного Столетовым. Докладчиками были Умов и я. Александр Григорьевич вместе с Преображенским и Фишером, составившими компанию, сидел около маленькой доски. Александр Григорьевич принимал живое участие в беседе, посмеивался, со свойственным ему живым юмором, над необычайно длинным маятником, о котором говорил я».
Заседания кружка нередко кончались импровизированными концертами, на которых Столетов играл на фортепьяно или аккомпанировал Бредихину, недурно владевшему скрипкой. Вот истинная семья старого холостяка Столетова, вот начало школы русских физиков...
С тех пор как в 1820 году Фарадей изобрел электродвигатель, а в 1831 году — электрогенератор, к этим необычайным устройствам было привлечено внимание физиков всего мира. Неизвестный по имени П. М. подсунул под дверь квартиры Фарадея описание первой практической
модели электрической машины. С того времени во всех странах не оставляют попыток создать наиболее эффективный электрический двигатель и генератор. В это вовлечены представители самых различных слоев общества — и ученые, и изобретатели, и квалифицированные рабочие. Электрические машины, обещающие миру не виданные дотоле преимущества, совершенствуются на глазах. Но совершенствуются они, с точки зрения сегодняшних инженеров, «вслепую», то есть без предварительного расчета. Одна из причин — физики не знают свойств железа, широко используемого в электрической машине. Не знать этого — все равно что не знать свойств пара в машине паровой. Это — громадное препятствие, сводящее на нет титанический труд.
Столетов, стремящийся к тому, чтобы его работы служили обществу, не случайно ставит темой следующего своего труда изучение магнитных свойств железа. Исследования, начавшиеся в 1871 году, должны стать основой его докторской диссертации.
Нельзя сказать, что раньше таких исследований не проводилось. Однако железо испытывали на образцах различной формы, по разному намагничивающихся под действием одного и того же тока именно из-за их различной формы, что не все осознавали. Изящнейшее нововведение Столетова — кольцевой образец, не имеющий «размагничивающего фактора». Железный тороид не дает тех искажений, которые вносят в исследование образцы другой формы. Еще одно важнейшее нововведение Столетова — использование баллистического гальванометра. Оно позволяло избавиться от механических перемещений витка с током, ранее резко снижавших точность измерений.
Полный план исследований готов. Беда заключается лишь в том, что их негде осуществить. В университете по-прежнему нет физической лаборатории. И взор Столетова вновь обращается к местам его юности — к Гейдельбергу.
Узнав о замыслах Столетова, очень оживился Кирхгоф. Он радушно приглашает его к себе, и приглашение принимается.
Со времен пребывания Столетова в Гейдельберге лаборатория Дворца природы заметно обогатилась — это с завистью отмечает Столетов. Кирхгоф предоставляет Столетову стол и приборы, лабораторию и лаборантов. Об этом можно было в Москве только мечтать. Итак, за работу!
Мастерские получают заказ: изготовить железное кольцо — сердцевину будущей установки. Лаборанты корпят над приборами. На столе Столетова царит беспорядок, приводящий в ужас благонамеренных и аккуратных служителей. Наконец, установка готова.
Столетов позже вспоминал: «В самом начале исследования я был поражен результатами. Оказалось, что при слабых намагничивающих силах функция намагничивания не только не остается постоянной, но возрастает весьма быстро и при некоторой величине намагничивающей силы достигает maximum’a; около него функция намагничивания достигает цифры, вчетверо-впятеро превышающей все найденные для нее до сих пор». Такой неожиданный итог не мог не приковать к себе внимания, и работа мало-помалу разрасталась.
Кривая, полученная Столетовым, сейчас известна каждому школьнику. Она говорит о том, что железо имеет ярко выраженное свойство насыщения, то есть намагниченность его не растет даже под влиянием очень мощных намагничивающих сил. Столетов первым обнаружил пик магнитной восприимчивости в малых полях. Результаты Столетова полностью противоречили принятым тогда в науке взглядам, в частности представлениям великого французского математика Пуассона.
Всего четыре месяца провел Столетов в Гейдельберге, а какой блестящий успех! Разгоряченный победой Столетов пытается сделать еще одно важнейшее исследование — проверить теорию Максвелла. В теорию входил коэффициент пропорциональности между электрическими и магнитными величинами в электромагнитной и электростатической системах измерения. Этот коэффициент пропорциональности, как считал Максвелл, должен был быть равен скорости света. Точное установление этой величины позволило бы определенно говорить о связи света и электричества, об их единстве. Этот опыт и задумал Столетов.
5
В ноябре семьдесят первого Столетов возвращается в Москву. В канун нового года он получил поздравительное письмо от друзей, вместе с которыми жил в Германии во время проведения последних опытов: «Желаем Вам, чтобы Вы, оглядываясь впоследствии на этот год, здоровый, круглый и румяный, были уже во обладании обширною, поместительною новой физической лабораторией, сверкающей
медью, деревом, стеклом и всевозможными шкалами, чтобы Вас титуловали уже доктором, чтобы Бы ве гнушались вспомнить иногда наши ужины у Его Высочества и шоколад е Навигаторшей! Желаем Вам весело провести день Татьяны1 и вспомнить, что далеко на юго-западе, за несколько тысяч верст от Москвы, будут в этот день две подъятые и вооруженные бокалами десницы заочно чокаться с Вами и желать всякого преуспевания Вашей alma mater!»
Прекрасные пожелания! И им суждено было сбыться именно в семьдесят втором.
1 В Татьянин день обычно праздновался юбилей Московского университета.
Этот год стал переломным для физиков Москвы, да и для физиков всей России. Еще совсем недавно петербургский физик Н. А. Гезехус писал,, что «в России тогда физика была в совершенном младенчестве и полном застое. Ни преданий, ни школы, ни студенческих, практических занятий, без которых трудно выработаться хорошему экспериментатору; ни средств и необходимой обстановки, которые образуются лишь постепенно, медленно; ни органа, ни собраний, которые дали бы возможность обмениваться мыслями и возбуждали бы к деятельности — всего этого не было тогда и в помине. Вполне успешно и плодотворно работали тогда чуть ли не одни академики Ленц и Якоби». Но ни Э. X. Ленцу, ни Б. С. Якоби, упоминаемым Н. А. Ге-зехусом, ни В. В. Петрову, великому русскому физику, работавшему в начале века в столице, не удалось создать вокруг себя научных школ, не удалось сплотить группы последователей. А ведь именно эту задачу ставил перед собой Столетов, когда приглашал к себе домой молодых способных физиков, когда образовал физическую секцию Московского Общества естествоиспытателей.
Вокруг чего объединить молодежь?
Лаборатории еще нет, и Столетов принимает мудрое решение: образовать при обществе Музей прикладных знаний. Авторитет Столетова в последнее время сильно укрепился. Он теперь — экстраординарный профессор, и, может быть, именно эта помогло ему преодолеть сопротивление новой затее. Много вечеров потрачено на обольщение московских фабрикантов и купцов. И выход был найден. Московские дельцы увидели в Политехнической выставке, предлагаемой физиками, хороший способ рекламы своих товаров! Выставку приурочили к двухсотлетию со дня рождения Петра Великого.
Но если заводчики ставили перед собой задачу рекламы, то физики выдвигали задачу другую. В одном из протоколов общества имеются слова о том, что выставка должна в самой популярной форме отразить «начало и научное основание мастерства или производства со всеми но вейшими усовершенствованиями, чтобы русский мастер рабочий, кустарь или предприниматель сами бы могли са мостоятельно идти вперед и проявить свои изобретатель ские способности даже и для нового усовершенствования в производстве по своей специальности, без зависимости от иностранных мастеров и инженеров».
Так, движимые разными мотивами, но одинаково активно приступили и физики, и представители деловых кругов Москвы к организации первой Политехнической выставки. Московские газеты сообщали о работах в Кремлевских садах, о вереницах подвод, подвозивших к Кремлю диковинные экспонаты. А в апреле в «Московских ведомостях» появляется такое сообщение:
«От Императорского общества любителей естествознания.
30 сего мая имеет быть открытие Политехнической выставки. В 10 часов утра после литургии в Успенском соборе начнется на площадке Троицкого моста между Первым и Вторым Кремлевским садами молебствие с водосвятием. На площадку Троицкого моста имеют вход кроме духовенства и особо приглашенных лиц члены Общества любителей естествознания и профессора Московского университета».
Открывал выставку великий князь Константин Николаевич. На открытии присутствовал А. Г. Столетов со своими ближайшими сотрудниками Ф. А. Бредихиным, Г. Е. Щуровским, А. Ю. Давидовым, профессора университета, писатели, московская интеллигенция.
...Выставка расположилась на большом пространстве: от Воскресенских ворот до городской думы, от Кремля до набережной. Она занимала и здание Манежа, и даже специальный павильон, построенный рядом с ним. Она простиралась вдоль Москвы-реки до храма Василия Блаженного. За вход брали недешево — рубль серебром, но ни высокая цена билетов, ни ненастные дни не могли удержать москвичей, стремящихся посетить невиданную выставку. Один из журналистов в своем репортаже писал: «На выставку тронулись и Таганка с Солянкой, и Самотека с Бо-жедомкой, и Плющиха, и Пресня».
Громадное обилие товаров, производимых и продаваемых в России, заполняло выставку. Всевозможные станки стояли в здании Манежа, они приводились во вращение громадными паровыми машинами, вынесенными на улицу. За Василием Блаженным выстроена была железнодорожная станция, на которой находились настоящие паровозы и вагоны. На Москве-реке — корабли, и среди них — ботик Петра Первого, доставленный из столицы. В одном из павильонов действовала настоящая типография, в другом — небольшой газовый завод. На выставке показывали телеграфный аппарат П. Л. Шиллинга, гальванопластические приборы Б. С. Якоби, работы русских фотографов, элек« трическую швейную машинку В. Н. Чиколева. Вечерами в физическом отделе выставки собирались ученые Москвы «с целью совместного обсуждения выставленных предметов и ближайшего друг с другом ознакомления...» Беседы продолжались далеко за полночь. Столетов, естественно, был активнейшим их участником.
...Кончалось лето, зачастили дожди. Экспонаты Политехнической выставки потихоньку стали перекочевывать на Пречистенку, в бывший яхт-клуб, в дом Степанова, который удалось нанять под Музей прикладных знаний. Музей начал работать 30 ноября, и уже с первых дней оказалось, что бывший яхт-клуб — прибежище для него временное. Дело в том, что, видя успех выставки, Московская городская управа разрешила использовать пустырь, недалеко от Лубянской площади, под строительство здания Политехнического музея. Пятьдесят тысяч на его возведение пожертвовало правительство. В десять раз большую сумму собрали по подписке.
Через несколько лет Общество любителей естествознания открыло новый Политехнический музей, сразу ставший центром культурной жизни Москвы. В Большой аудитории его читали лекции К. А. Тимирязев, В. В. Марковников, Ф. А. Бредихин, Н. Е. Жуковский. Множество раз выступал здесь и Столетов, причем каждая его лекция собирала полный зал, после лекций к нему обычно подходили молодые люди, стремящиеся приобщиться к физике.
Популярные публичные лекции Столетова знала вся Москва. Юн стал кумиром молодежи, кумиром образованных москвичей.
Ни одна из новинок техники не была упущена Столетовым. Как только Москвы достигли слухи об изобретении фонографа Эдисона и как только в Москве действительно появился такой фонограф, Столетов три вечера подряд читал лекции в Политехническом музее, демонстрируя его в действии.
Из письма А. Г. Столетова В. А. Михельсону: «...теперь о наших новостях — и прежде всего об эдисономании трех последних дней.
Здесь у Блока есть самый последний тип фонографа — один из двух экземпляров в Европе (другой преподнесен государю). Я пригласил его демонстрировать студентам в течение трех вечеров, пуская каждый день по 400 — 500 студентов (преимущественно слушателей физики). Успех вышел колоссальный — нечто небывалое. Представьте себе битком набитую аудиторию. Начинаю я кратким объяснением (около получаса), с рисунками в приложении. Затем перед нами поочередно раздаются — соло на кларнете, декламация Южина, пение Nikita, английская сцена со свистом и хохотом и пр. и пр. Затем начинаем творить новые фонограммы: певица поет романс, граф Толстой Fils (студент) играет на балалайке, студенты поют «Вниз по матушке» и «Gaudeamus», все это по очереди записываем и воспроизводим. В заключение я прокричал по-английски фонограмму к Эдисону (она будет ему переслана) и отправил от имени профессоров и студентов телеграмму ему же.
Удивительное зрелище представляла аудитория в эти три вечера (8 — 11 ч.): энтузиазм беспредельный; досталось и Блоку и мне! Теперь мы нашумели на всю Москву: последние вечера к нам ломились уже и посторонние лица...»
Громадная работа по объединению физической общественности была развернута Столетовым в Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. Мало того, что ученый руководил физическим отделением общества, он создал при обществе комиссию прикладной физики, которая вскоре стала центром московской электротехнической мысли. Недаром Н. Е. Жуковский писал: «Александр Григорьевич не был в прямом смысле основателем физического отделения Общества любителей естествознания. Это отделение открылось до председательства Столетова. Но тот животворящий дух, которым жило и будет жить физическое отделение, вложен в него Александром Григорьевичем...»
Важным событием 1872 года, имевшим самые поразительные последствия, было и то, что Столетову удается в этом году создать, наконец, в университете настоящую физическую лабораторию!
Давно хлопотал он о лаборатории, но всегда упирался в отсутствие подходящей площади и средств. Во время же подготовки Политехнической выставки Столетов случайно узнал о том, что ректору университета предоставляют новую квартиру, причем старая ректорская квартира при этом освобождается. Тут же он начал хлопоты, чтобы покинутую квартиру отдали ему, и Столетов в конце концов получает весь дом позади здания университета — знаменитый ректорский дом! Тот самый, где когда-то жили известный артист С. Н. Сандунов, редактор журнала «Телескоп» Н. И. Надеждин, где снимал квартиру В. Г. Белинский. Дом был знаменит и тем, что чудом уцелел во время московского пожара.
Теперь старому ректорскому дому предстояло вобрать в себя физическую лабораторию Московского университета и стать питомником русских физиков. Столетов разворачивает здесь новые лаборатории, организует практические занятия студентов. Не хватает оборудования, не хватает средств. Шестисот рублей, отпускаемых в год на приобретение приборов и их ремонт, совершенно недостаточно. Столетов тратит личные деньги. Ему помогает и старый друг К. А. Рачинский, теперь не такой богатый, как раньше, но тем не менее жертвующий лаборатории несколько своих приборов.
Уже через год первый лаборант физической лаборатории Р. А. Колли заканчивает впервые выполненный здесь, в Москве, научный эксперимент — определение работы, производимой гальваническим током. Колли проводит оригинальный опыт электролиза, располагая электроды не рядом друг с другом, а один над другим. Частицам придется в одних случаях подниматься вверх, противодействуя силе тяжести, а в других — падать вниз, когда сила тяжести станет содействовать их движению. Будет ли это иметь значение для химического действия тока?
С нетерпением ожидает Столетов, когда закончится изготовление его установки по определению отношения статической и электромагнитной единиц заряда.
- Лаборатория становится известной в Моекве. Здесь производит интересные опыты по исследованию электрических колебаний Н. Н. Шиллер. Здесь определяет величи«
ну «ома» новым способом П. А. Зилов. Сюда приезжают ученые из Киева, Одессы, Варшавы. Лаборатория обзаводится своими «духами-хранителями», и среди них — Е. И. Брюсов, проживший при лаборатории почти тридцать лет и знакомый многим университетским поколениям. Приходит в лабораторию и А. П. Соколов, вскоре ставший ближайшим соратником и другом Александра Григорьевич ча и создавший знаменитый «Физический практикум Соко-лова», лишь относительно недавно замененный более современными руководствами.
Лаборатория стала и центром сборов столетовского кружка. Места появилось больше, интерес к кружку все ширился. На его заседания приходили и маститые ученые, и начинающие студенты.
Всевозрастающая известность экстраординарного профессора Столетова сослужила ему и особую службу. Узнавшие об его успехах столичные медики из Медико-хирургической академии пригласили его к себе на должность ординарного профессора — на ту самую, которую занимал некогда великий российский физик В. В. Петров. Не следует забывать, что усилиями Петрова при Академии был создан прекрасный Физический кабинет.
Предложение вызвало бурю в университетских кругах. Декан факультета Ф. А. Бредихин созвал в сентябре 1873 года специальное совещание с единственным вопросом: «Об удержании экстраординарного профессора А. Г. Столетова». На совещании постановили: ходатайствовать о присуждении Столетову звания ординарного профессора. Уже через месяц ученый прошел открытую баллотировку на эту должность.
...Москва уверенно становится центром физической науки в России. Возникла первая школа русских физиков, готовая начать исследования буквально на любом участке физического фронта. В школе Столетова воспитаны и термодинамики, и акустики, и специалисты в области электромагнетизма, и оптики. Многие члены школы разъехались в разные концы страны — в Казань, в Киев, в Варшаву. На их место приходят новые. Это — Д. А. Гольдгам-мер, В. А. Михельсон, Б. В. Станкевич. Научная школа А. Г. Столетова включила в себя и славные имена Н. Е. Жуковского, Н. А. Умова, П. Н. Лебедева.
Михельсон разрабатывал физические основы теории горения и стал одним из предтечей новой физики благодаря своим трудам по распределению энергии в спектре. Электромагнитной теории света посвящены работы Д. А. Гольд-t гаммера. Крупное техническое изобретение — трансформатор — осуществил И. Ф. Усагин, блестящие открытия в электродинамике сделал Н. Н. Шиллер, в кинетической теории газов — Б. В. Станкевич. Теории акустических фильтров посвящена деятельность будущего академика Н. П. Кастерина.
Ни один российский ученый до Столетова не мог похвастаться таким блестящим созвездием. Со Столетова начинает свое победное шествие московская школа физики...
ГЛАВА VII
«ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ
НЕ ЗНАЮТ СТРАХА
ПЕРЕД МЫСЛЬЮ...»
1
Спустя почти полвека после смерти А. Г. Столетова, в самый разгар Великой Отечественной войны в Физическом институте Московского университета, где он проработал 30 лет, понадобилось сдвинуть с места тяжелый книжный шкаф. Когда книги вынули и с трудом отодвинули его от стены, обнаружилась ниша, в которой лежал деревянный ящик, наполненный бумагами. Разобравшись в них, поняли, что это переписка Столетова.
Трудно сказать теперь, кому пришло в голову запрятать здесь этот ценнейший архив. Важно то, что он сохранился и до сего времени открывает нам поразительные, порой драматические страницы жизни и творчества великого русского физика.
Вот письмо из Берлина, написанное ему в мае 1888 года его учеником В. А. Михельсоном. Как мы уже упоминали, Михельсон, талантливый молодой физик, страдал туберкулезом и был вынужден часто подолгу жить за границей и там лечиться. Нередко случалось, что деньги для этих поездок давал свсэему ученику А. Г. Столетов.
Письма Столетова полны описаний внутриуниверситет-ской жизни, планов и подробностей научных работ. Так, весной 1888 года он писал своему ученику за границу:
«Дальнейшие опыты у меня затягиваются, да и экзамены мучат; надеюсь в конце мая и в июне поработать... У нас последние дни почти летняя погода, и все обличает наступление того каторжного месяца мая, в течение которого у меня бывало последние годы до 25 — 27 экзаменных дней (да и теперь будет немногим меньше)».
Михельсон отвечает: «Желаю Вам поскорее развязаться с экзаменами и погрузиться в ультрафиолетовый эфир». В другом его письме, датированном 13 июля 1882 года, имеется такая фраза: «Удивительно, какая обширная область исследований открывается этими новыми явлениями! Мне все кажется, что вместе с электродинамическими исследованиями Герца они должны пролить некоторый свет на самую механику электрических и магнитных явлений».
О чем пишет Михельсон? Какие связи электричества и света имеет он в виду?
Впервые намек на эти связи прозвучал в трудах великого шотландца Джеймса Клерка Максвелла. В статье «О физических силовых линиях», в ее третьей части, вышедшей в 1861 году, Максвелл писал о том, что «магнитоэлектрическая среда», то есть среда, где происходят электрические и магнитные явления, должна обеспечивать возможность поперечных колебаний.
Но этого мало: из своей теории он выводит соотношение между статической и динамической единицами электричества, а это величина известная — ее измерили Кольрауш и Вебер: «Посредством сравнения электромагнитных экспериментов Кольрауша и Вебера со скоростью света, как ее измерил М. Физо... видно, что упругость магнитной среды в воздухе такая же, как и у светоносной среды, если только эти две сосуществующие и взаимопроникающие в одном и том же пространстве равно упругие среды — не одна и та же среда».
Согласие между цифрами Кольрауша и Вебера и Физо было настолько хорошим1, что Максвелл записал: «Мы едва ли можем избежать заключения о том, что свет состоит из тех же поперечных колебаний той же самой среды, которая является причиной электрических и магнитных явлений».
1 Велика все-таки роль случайности в научных открытиях! Позднее выяснилось, что и скорость света по Физо, и отношение единиц согласно Кольраушу и Веберу, обе эти величины были ими измерены весьма грубо, если не сказать — неверно. Но совершенно случайно они были почти равны.
Это еще не было доказательством. Но это было первым шагом, заявочным столбом на пути к величайшему открытию — к электромагнитной теории света...
Идеи Максвелла приняли сдержанно и в Англии, и на континенте.
Директор Римской обсерватории Анжело Секки, прочтя статью Максвелла при подготовке своего трактата «О единстве физических сил», не счел мысли автора слишком ценными. Они удостоились в капитальном труде синьора Секки лишь сноски следующего содержания:
«Кроме хорошо известных трудов Ламе, Коши и Верде по оптике, можно указать еще на исследования Максу-элля, рассматривающего магнетизм с точки зрения частичных вихрей. Нам кажется только, что этот автор бесполезно усложняет дело...»
Даже такой ученый, как Г. Гельмгольц, никак не мог понять — что же по новой теории представляет собой электрический заряд?
— Мне кажется, — говорил он, — что вся электродинамика сейчас — это непроходимая пустыня... Разрозненные факты, основанные на неточных наблюдениях... Следствия каких-то сомнительных теорий... Сейчас в этом еще невозможно разобраться...
А Максвелл все смелел и издал, наконец, статью «Динамическая теория электромагнитного поля».
Именно — поля, а не пустыни.
Термин «электромагнитное поле» Максвелл использовал впервые.
«Теория, которую я предлагаю, может быть названа теорией электромагнитного поля, потому что она имеет дело с пространством, окружающим электрические или магнитные тела, и она может быть названа также динамической теорией, поскольку она допускает, что в этом пространстве имеется материя, находящаяся в движении, посредством которой и производятся наблюдаемые электромагнитные явления».
Тридцатилетний пророк предсказывает электромагнитные волны. Эти волны еще не знакомы миру. Максвелл заронил мысль о глубочайшей связи оптических и электромагнитных явлений.
Доказательством было равенство скоростей света и электромагнитной волны. Доказательством были одинаковые свойства сред, в которых распространяются свето-
вые и электромагнитные волны. Нужно было бы доказать теперь полную идентичность световых и электромагнитных волн.
2
Связь света и электричества впервые была экспериментально доказана в опытах Герца, который в 1886 — 1889 годах показал, что электромагнитные волны ведут себя точно так же, как и световые. Скорость их равна световой. Для них, как и для света, свойственны прямолинейное распространение, «тени», явления дифракции и интерференции. Герцу удалось даже сделать гигантскую призму массой в две тонны из асфальта, которая преломляла электромагнитные волны.
Но еще при жизни Максвелла, в 1877 году Герц неожиданно для себя и вне прямой зависимости от цели своих исследований открыл еще одно явление, свидетельствующее о несомненной связи света и электричества. Оказалось, что разряд между двумя электродами проходил гораздо легче в том случае, если эти электроды освещались ультрафиолетовым светом. Этот результат, значительный сам по себе, впоследствии померк по сравнению с величием дальнейших выводов из этой же серии экспериментов Герца, доказывающей идентичность световых и электромагнитных волн, и самое наличие электромагнитных волн в природе.
Однако на Столетова именно те ранние опыты Герца произвели очень сильное впечатление, в первую очередь, потому, что сам Столетов, будучи большим приверженцем Максвелла, никогда не сомневался в единстве световых и электрических явлений. Пока Герц производит свои сенсационные опыты, Столетов собирает в маленькой комнатке при физической лаборатории собственную, давно желанную экспериментальную установку.
Серия опытов началась в конце февраля 1888 года. Параллельно со Столетовым многие физики принялись под влиянием экспериментов Герца за подобные же исследования. Итальянцы, французы, немцы сооружали в своих лабораториях приборы, сущность которых в принципе была одной и той же. Особенно близки столетовским были опыты итальянца Аугусто Риги.
«Только что вернулся в Москву из Владимира, — пишет Столетов Михельсону, — благодарю за письмо — в нем
почти все, что желалось, уже есть. Статейка моя напечатана в Comptes Rendus, хотя еще не видал ее. Опыты Righi — опять предвосхищение моих, хотя опять не вполне; очень уж модную тему мне приходится разрабатывать — каждую неделю кто-нибудь об этом пишет...»
Столетов рассказывает о своих исследованиях того времени: «Повторяя в начале 1888 г. интересные опыты гг. Герца, Э. Видемана и Эберта — Гальвакса относительно действия лучей на электрические разряды высокого напряжения, я вздумал испытать, получится ли подобное действие при электричестве слабых потенциалов... Моя попытка имела успех выше ожидания... Первые мои опыты начаты около 20 февраля 1888 г. и продолжались непрерывно, насколько позволяли другие занятия, по 21 июня 1888 г. В течение этого времени мне удалось, полагаю, осветить некоторые любопытные вопросы относительно «актино-электрических действий».
Основной эксперимент, доказывающий наличие фотоэффекта, был проведен 26 февраля. Столетов описывает его так:
«Два металлических диска («арматуры», «электроды») в 22 см диаметром были установлены вертикально и друг другу параллельно перед электрическим фонарем Дюбос-ка, из которого вынуты все стекла. В фонаре имелась лампа с вольтовой дугой А (регулятор Фуко — Дюбоска), питаемая динамо-машиной (обыкновенно около 70 вольт и 12 ампер). Один из дисков, ближайший к фонарю, сделан из тонкой металлической сетки (встречаемой в продаже), латунной или железной, иногда гальванопластически покрытой другим материалом, которая была натянута в круглом кольце; другой диск — сплошной (металлическая пластинка)...
Диски соединены между собой проволокой, в которую введены гальваническая батарея В и чувствительный астатический гальванометр Томсона с большим сопротивлением (5212 ом)...
Таким образом, мои два диска представляли род воздушного конденсатора, заряжаемого сравнительно невысокой электродвижущей силой. Благодаря свойству передней сетчатой арматуры, задняя арматура могла быть освещаема лучами вольтовой дуги с внутренней стороны, т. е. с той, где преимущественно накопляется электрический заряд. Другая арматура (сетка) освещалась с невыгодной (слабо заряженной) стороны прямыми лучами, с внутренней же стороны — лишь отраженными от сплошного диска. Такая комбинация казалась мне наиболее удобной, чтобы обнаружить разряжающее действие лучей, что и оправдалось вполне.
Этот «сетчатый конденсатор» составляет главную и существенную принадлежность почти всех моих опытов».
О тонкости обнаруженного Столетовым эффекта и о сложности эксперимента свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что опыты удавались только в такое время, когда университетские дворники не сбрасывали с крыш снег — колебания почвы приводили к «убеганию» зайчика гальванометра.
А. В. Цингер, работавший в столетовской лаборатории, вспоминал, как А. Г. Столетов, забившись в укромном уголке, производил свои наблюдения. Вот как это было: «...Вдруг гальванометр начинает отклоняться совсем не так, как должно быть. Столетов строго приказывает следить за дугой. Иван Филиппович (Усагин) из всех сил старается держать дугу в строго определенном режиме и как будто достигает этого, а зеркальце гальванометра все же двигается противно всем законам. Столетов сердится и уходит... В какой-то день было известно, что Столетов не придет в лабораторию, и Иван Филиппович случайно, как раз в тот час, когда Столетов обычно садился к трубе у гальванометра, проходил внизу, под помещением кабинета. Здесь находилась топка большой печи. И что же он видит: приходит истопник с огромной железной кочергой и начинает шуровать печь. Иван Филиппович сразу догадался, что именно в этой кочерге содержится разгадка колебаний гальванометра».
Остроумная схема эксперимента с использованием сетчатого электрода, предложенная Столетовым, применяется до сих пор и позволяет проводить исследования чрезвычайно слабых токов, вызванных светом.
Массу новых физических явлений подметил Столетов. Он увидел, как фотокатод со временем теряет чувствительность к излучению. Такое свойство, названное «фотоэлектрической утомляемостью», открыто Столетовым и названо его именем. Столетов выявил многие законы, управляющие фотоэффектом. Его исследования пролили свет на чрезвычайно мало освоенную пока область физики — молодую, не исхоженную еще толпами беспокойных исследователей.
Тогда, в те далекие времена, была заложена Столетовым новая электронная физика. Законы Столетова, константа Столетова, эффект Столетова с тех пор навсегда вошли в сокровищницу мировой физической науки.
Важны не только экспериментальные достижения Столетова. Его присловье «Физические науки не знают страха перед мыслью...» ярко характеризует осознание им силы теории, которой он смог так широко и успешно пользоваться.
Приоритет Столетова неоднократно пытались оспаривать. Началось это с Аугусто Риги, напечатавшего ряд статей, в которых он пытался представить, что труды Столетова лишь подтверждают его, Аугусто Риги, мысль и результаты экспериментов. Завязавшаяся активная полемика быстро поставила все на свои места. В конце концов Риги опубликовал в журнале Nuovo Cimento статью, в которой есть следующая знаменательная фраза: «Что касается вопроса о приоритете, то я не считаю необходимым на нем настаивать...»
3
Ценность и величие работ Столетова осознаются особенно ярко теперь, потому что понимаешь, что все сделанное им было выполнено тогда, когда не то что широкие круги населения, но и сами физики ничего не знали о строении атома, о существовании электронов, о квантовой механике. Самым важным представляется здесь уверенность в существовании электронов. Такое знание могло бы быстро поставить все на свои места и объяснить физическую природу фотоэффекта. Однако электрон в те годы еще не открыли, вследствие чего теоретическая интерпретация опытов Столетова была чрезвычайно затруднена. К чести Столетова надо сказать, что он уже тогда смотрел на фототоки как на конвекционный процесс, связанный с переносом зарядов, что, бесспорно, свидетельствует о яркой материалистической направленности его мышления.
В корне изменившееся при Столетове преподавание физики в Московском университете — с широким использованием самостоятельной работы студентов, преобразованная им система подготовки на физическом практикуме в конце концов принесли свои плоды. В физической лаборатории университета он выпестовал таких замечательных российских ученых, как Н. Н. Шиллер, А. П. Соколов,
В. А. Михельсон, В. С. Шегляев, Д. А. Гольдгаммер,
Р. А. Колли, П. А. Зилов, Б. В. Станкевич, П. Н. Лебедев, В. А. Ульянин, Б. Б. Голицын, Н. П. Кастерин и многих других, ставших впоследствии широко известными в Европе физиками.
Талантливых молодых людей Столетов зорко высматривал среди своих многочисленных студентов в громадных аудиториях, порой по 500 — 600 человек. Тех же, кто хоть однажды, проявив свои способности, обратил на себя его внимание, он старался оставить в университете при кафедре физики для подготовки к профессорскому званию. Столетов наблюдал за их работой, выспрашивал об академических успехах, всячески способствовал тому, чтобы они возможно скорее занялись наукой. Как лев, он боролся с университетскими властями за каждую заграничную командировку для способных молодых физиков, которых посылал в прекрасные физические лаборатории Германии или Франции. Как правило, Столетов добивался своего и затем, снабдив рекомендательными письмами к Гельмгольцу, Кирхгофу или Кундту, чуть не в слезах провожал их. Потом шли долгие месяцы и годы переписки, полной не только физических терминов, но и вполне житейских советов — где дешевле и вкуснее пообедать, где не так накладно остановиться в гостинице. Когда денег не хватало, Столетов, бывало, выплачивал их своим питомцам из профессорского жалования. Особенно трогательно его отношение к В. А. Михельсону, подготовившему магистерскую работу «О нормальной скорости воспламенения горючих газовых смесей». Столетов сделал все, чтобы Совет присвоил ему не магистерскую, а сразу докторскую степень.
Весьма характерно письмо, посланное Столетовым Михельсону непосредственно перед защитой:
«8 сент. 1894
Дорогой Владимир Александрович,
Из некоторых слов Н. А. Умова вижу, что он сомневается в достаточности Вашей «теории Бунзенова пламени», находя, что Вы не обратили внимание на состояние струй по переходе через поверхность сгорания (?). Сообщаю о сем, чтобы Вы имели в виду.
Вы, конечно, знаете, что в начале диспута Вам придется сказать небольшую речь о предмете Вашего исследования, а затем обыкновенно диспутант прочитывает вслух тезисы. Речь можете сделать не длинную,, чтобы не утомить себя и не исчерпать сил ранее надобности.
Прежде всего — не волнуйтесь и помните, что Вы в знакомой и сочувственной среде. Для большего спокойствия нервов, может быть, сочтете нужным принять перед диспутом какой-нибудь caiman.
Не мешает побывать у попечителя и ректора до диспута и пригласить их присутствовать на оном (в сем случае лучше употребить фрак). Попечитель обыкновенно не бывает, но иногда и он присутствует. Ващ д Столетов
P. S1 Е. И. Брюсов жалуется, что у него нет экземпляра диссертации. Не имеете ли свободного экз.?
P. S2 Если затрудняетесь насчет типографии и печатания, то можете поручить все дело мне — я отошлю в университетскую и даже сам прокорректирую».
Это письмо — ни в коем случае не свидетельство покровительства фавориту. Это восхищение талантом, желание получить от него как можно больше.
Тяжело болевший Михельсон действительно был накануне крупнейших открытий. Исследуя распределение энергии в спектре абсолютно черного тела, он вплотную подошел к закону Вина и соотношениям Планка. Известный физик О. Д. Хвольсон пишет в своем знаменитом курсе физики: «Первый пытавшийся теоретически определить вид функции Е был В. А. Михельсон в Москве, и в этом заключается его бессмертная заслуга. Он дал первый толчок разработке одного из важнейших вопросов современной физики». Впоследствии Михельсон — профессор Сельскохозяйственной академии.
Другой ученик Столетова, первый штатный сотрудник Физической лаборатории Московского университета Р. А. Колли защитил магистерскую диссертацию и поехал профессорствовать в Казань.
А. П. Соколов стал профессором Московского университета. Н. Н. Шиллер читал теоретическую физику в Киевском университете святого Владимира, а затем был назначен директором харьковского Технологического института. П. А. Зилов преподавал в Московском техническом училище, после этого — в Варшавском университете.
В. С. Щеглов стал профессором Московского технического училища, а Д. А. Гольдгаммер — профессором Казанского университета, Б. В. Станкевич — профессор Варшавского, потом Одесского и Московского университетов. Н. П. Кастерин был профессором физики в Одессе, а затем занимался научной работой в Москве..
Мощное влияние Столетова испытали Н. А. Умов, Н. Е. Жуковский, В. В. Преображенский, П. Н. Лебедев и другие российские физики.
Но только ли научные успехи, четкая программа исследований, хорошо организованная лаборатория и высокое лекторское мастерство обеспечили Столетову почетное звание патриарха российской физики и главы ее первой физической школы? Прекрасная образованность, энцик-лопедичность, глубокое знание литературы, искусства, музыки, преданность высшим духовным идеалам, подлинная интеллигентность — вот что привлекало к нему его ночитателей и друзей. В последние годы жизни он особенно сдружился с А. П. Соколовым, В. В. Марковниковым, В. А. Михельсоном, В. И. Танеевым. Очень колоритной фигурой был Владимир Иванович Танеев, брат известного композитора Сергея Ивановича Танеева. Поговаривали, что В. И. Танеев был знаком и дружен с Марксом, имел его портрет с автографом. Маркс неоднократно упоминал Танеева в своей переписке, причем всегда с необычайным почтением писал о нем, как о старом друге. Танеев, кроме того, собрал вокруг себя большое число представителей русской трудовой интеллигенции. Раз в месяц он устраивал для своих друзей так называемый «академический обед» в ресторане «Эрмитаж», присутствовать на котором считалось высокой честью. В танеевский кружок входили, кроме А. Г. Столетова, К. А. Тимирязев, В. В. Марковни-ков, В. Ф. Лугинин, П. HL Лебедев, И. А. Каблуков.
4
Политические воззрения Столетова можно охарактеризовать как умеренно-либеральные. Однако его природная честность и порядочность, кристально строгое отношение к науке и ее этическим нормам, нетерпимость к любым проявлениям фальши, лицемерия, бесчестности и лжи в конце концов поставили его вне официальной науки, вернее сказать, вне официального крута университетских столпов. Исключительно требовательный к себе, Столетов и другим не прощал прегрешений, особенно в науке. Он яростно обрушивался на малейшие ошибки в статьях и никогда не шел на компромисс, никогда не предпочитал спокойствию борьбу за научную истину.
К. А. Тимирязев вспоминал, что этот потомок старых новгородцев, «непреклонный в своих нравственных принципах, и в других людях прежде всего ценил нравственную устойчивость. Ни уважение к его заслугам, ни годы дружбы, никакие другие соображения не могли его вынудить отнестись уступчиво к человеку, уклонившемуся от выполнения нравственного долга...»
В его отношениях е людьми, в том числе даже с близкими ему друзьями, всегда ощущалась какая-то сдержанность, передающаяся другим. Сам его образ — образ джентльмена, застегнутого на все пуговицы, на многих действовал охлаждающе.
Особенно нетерпим бывал Столетов к тем, кого любил раньше, к своим друзьям, учителям, ученикам. Так случилось и с Любимовым, исключительно много сделавшим и для физической лаборатории, и для самого Столетова. Однако как только Столетов увидел, что Любимов начинает заблуждаться, он тут же со всей честностью и прямотой указал ему на это.
Нужно сказать, что Любимов давал большие основания для критики. Его взгляды, и так весьма консервативные, претерпели существенную эволюцию к их «поправению». В своей брошюре «Университетский вопрос», изданной в 1875 году, он набросился на демократическое студенчество и профессоров университета, утверждая, чтб уровень их образования, их «учености» не соответствует требованиям, предъявляемым к современной науке.
В ответ на это Столетов в числе тридцати пяти профессоров университета направил Любимову письмо, в котором говорилось: «Такой образ действий вынуждает нас из чувства нравственной брезгливости просить вас прекратить с нами всякие отношения, кроме служебных, разорвать которые не в нашей власти». Более того, увидев в нападках Любимова попытку поставить себя верховным судьей над всеми учеными России, Столетов написал ответную статью, в которой камня на камне не оставил от его учебника физики.
Да, тяжела роль ревнителя истинной науки! Служение ей невозможно без критики, без обсуждения и разбора, без отторжения старых, отмерших взглядов и представлений, а это неизбежно влечет обострение отношений с теми, кто их придерживался. Научные споры нередко превращаются в споры личные, в ссоры, обиды, отчуждение.
Немало боев Столетову пришлось выдержать я с теми, кто считал, что университеская наука должна немедленно давать практические плоды, а иначе она не стоит ноддержки. Столетова занимает вопрос о роли и месте науки в обществе. Он часто возвращается к нему в своих письмах» беседует на эту тему с близкими друзьями.
Должна ли наука ставить перед собой утилитарные цели? Должен ли ученый творить, имея в виду немедленное применение своего открытия? Не затормозит ли стремление к узко утилитарным целям научного движения?
К. А. Тимирязев, отражая взгляды Столетова, говорил:
— Наука XIX века привела к тем небывалым результатам в материальном, в утилитарном смысле именно благодаря тому, что приняла и принимает все более и более отвлеченный, идеальный характер. Здесь, как и в области этической, оправдалось правило: ищите истины/ «а сия вся приложится». Практически приложения посыпались, как из рога изобилия, с той именно поры, когда они перестали служить ближайшей целью науки. Только с той поры, когда наука стала... удовлетворением высших стремлений человеческого духа, явились как бы сами собой и наиболее поразительные приложения ее к жизни: это — самый общий, самый широкий вывод из истории ее создания...
Нечего и говорить о том, что мировоззрение Столетова было материалистическим. Он яростно боролся с «энер-гетистом» Оствальдом и целиком принимал атомистическую теорию.
5
Великое и малое сливаются в едином потоке жизни, законы логики и воля случая влияют на судьбы гениев. В 1892 году в России поднялись цены на хлеб — это было вызвано предыдущим неурожайным годом. Наступил голод, и многие университетские служащие не знали, как свести концы с концами. Жены их подрабатывали стиркой. Усматривая в этом некое нарушение высоких принципов жизни университета, ректор его Н. П. Боголепов категорически запретил женам служителей университета стирать белье, что нанесло тяжелый материальный урон семьям небогатых работников университета. Один из них, глава многочисленного семейства, умер от голода.
Разумеется, Столетов тут же встал во главе мощного движения университетских профессоров в защиту низко оплачиваемых служащих, Было созвано экстренное заседание физико-математического факультета и вынесено постановление создать специальную комиссию. Председателем ее был избран, конечно, А. Г. Столетов. Завязалась нелегкая борьба его с ректором университета. Столетов перестал подавать Боголепову руку. Авторитет ректора в университете пошатнулся, и он подал прошение об отставке. Для разбирательства дела в Москву прибыл министр народного просвещения И. Д. Делянов. Столетов быстро приобрел положение человека, к которому и университетское, и министерское начальство открыто выражало враждебное и неприязненное отношение. Началась подлинная травля его.
Эта травля достигла апогея в 1892 — 1893 годах, когда на кафедру Столетова была подана для обсуждения и защиты магистерская диссертация князя Б. Б. Голицына.
Судьба этого человека довольно необычна. Отпрыск одной из наиболее аристократических семей Петербурга, он получил прекрасное домашнее воспитание и, окончив первым номером Морское училище, был назначен офицером на фрегат «Герцог Эдинбургский», отплывающий за границу. Даже во время морского похода Голицын отдавал много времени научным занятиям, перечел массу русской и иностранной литературы, и сдружился на этой почве с вахтенным офицером того же корабля мичманом К. К, Романовым, великим князем и будущим президентом Академии наук.
Позже Голицын много путешествовал по Европе, где посещал лекции лучших профессоров, затем первым окончил Морскуюакадемию, где слушал физику у К. И. Краевича, и, навсегда плененный наукой, отказался от морской службы. Он поехал в Страсбург для стажировки под руководством Августа Кундта. Здесь ему встретилась большая компания молодых людей из России, в том числе С. П. Боткин, будущий великий врач, а также физики Д. А. Гольдгаммер, П. Н. Лебедев, В. А. Ульянин,
С. Я. Терешин. Лебедев стал его близким другом. С ним они сняли комнату, вместе занимались, вместе прогуливались и, в целях экономии времени, порознь читая научные работы, пересказывали их друг другу во время обеда.
Свое пребывание у Кундта Голицын заканчивает блестящей защитой диссертации о Дальтоновом законе. Ему присуждается степень «Magita cum laude», то есть с наивысшим отличием. Возвратившись в Россию, он поступает в Московский университет для чтения курса теоретической физика. В то же время он продолжает научную деятельность и подготавливает для защиты магистерскую диссертацию на тему «Исследования но математической физике». Эта диссертация, как стало ясно сейчас, содержала необычайно смелые идеи, многие из которых не могли быть еще строго доказаны и являлись, по существу, научными прозрениями. Голицын вплотную подошел к формулировке закона смещения Вина и соотношению Рэлея — Джинса. Эта работа была настолько блестящей и настолько опережающей свое время, что грядущая ее печальная судьба становилась совершенно очевидной.
К сожалению, и Столетову не удалось распознать в его труде ростки нового. Он видел лишь множество мелких ошибок, конгломерат недоказанных положений, но не заметил главного: того, что эта работа выводит российскую физику сразу на несколько шагов вперед.
К несчастью, физико-математический факультет университета поручил написать отзыв на диссертацию именно Столетову. Изучив ее, Столетов пригласил Голицына для конфиденциальной беседы и предложил ему взять ее обратно для переработки и устранения ряда ошибок. Однако тут столкнулись две эпохи в физике и два цельных характера. Голицын категорически отказался забрать работу и настаивал поставить ее для защиты в Совете. Тогда Столетов официально сообщил Голицыну, что его отзыв будет отрицательным.
Он заканчивался так: «...сочинение кн. Голицына не выдерживает критики. Не освещая темных пунктов прежней обработки предмета, он прибавляет к ним еще новые, без нужды усложняет формальную сторону дела, а в заключение высказывает несостоятельные притязания на открытие каких-то важных и общих истин. Дело нисколько не двинулось вперед с появлением «исследования», о котором, к сожалению, приходится сказать, что в нем все верное не ново, и все новое не верно».
В своем ответе на отзыв Б. Б. Голицын писал: «Допуская вполне, что в моем труде могут встретиться и существенные детальные промахи, что в большой работе почти и неизбежно, считаю, однако, что подобное односто ронне-от-рицательное отношение ко всей диссертации совсем не заслужено, а потому, обращая внимание факультета на вышеуказанные факты и соображения, имею честь покорнейше просить физико-математический факультет, ввиду того, что работа моя носит на себе математический характер и
доступна большому кругу читателей, не отказать мне в рассмотрении этого дела по существу».
Положение Столетова было ужасным. Сомневаясь в своей правоте, он запросил мнение об основных выводах диссертации Голицына у Гельмгольца, Кельвина и Больцмана, наиболее крупных физиков того времени.
Гельмгольц ответил, так: «На вопрос, который вы поставили в вашем письме от 16 октября этого года, насколько я вижу, нельзя еще дать достоверно решающего ответа при современном состоянии физики, так как мы теперь почти ничего не знаем о взаимных отношениях электромагнитного эфира или самой материи».
Кельвин постарался сделать вид, что он ничего не понял: «Мне представляется, что содержание статьи князя Голицына имеет весьма отдаленное отношение ко второму закону термодинамики, если оно вообще имеет к нему какое-либо отношение. Содержание статьи не дает никаких указаний на возможное доказательство этого закона».
А вот ответ мудреца Больцмана: «Эта работа и на самом деле содержит неточности и даже ошибки, хотя я бы и не вынес по их поводу столь строгого приговора. Однако тот, кто знает, как трудно выносить однозначные суждения по поводу научных работ, о которых только наши потомки смогут как следует судить, хорошо поймет, что маленькие различия в подобных взглядах возможны...»
Итак, ни Столетов, ни другие крупнейшие из живущих физиков мира не смогли однозначно оценить блестящих идей Голицына, как не смогли сделать это, разумеется, и те люди, которые поддерживали князя по самым разным соображениям. Диссертация Голицына была отклонена, но победа стала для Столетова поистине пирровой. Это тут же сказалось, в частности, на его выборах в Академию наук.
Дело в том, что после смерти А. В. Гадолина в Академии стало вакантным место академика по специальности физика и на него, естественно, должны были выдвинуть крупнейшего физика России — Столетова. Комиссия Академии наук, назначенная для составления списка кандидатов, единодушно предложила в качестве этого кандидата именно А. Г. Столето®». Вопрос казался настолько решенным, что ученый был приглашен в Петербург осмотреть Физический кабинет Академии наук с целью разработать предложения по его расширению. Ждали баллотировки.
Однако баллотировка не состоялась...
Президент Академии наук великий князь К. К. Романов своей властью отменил ее и без указания каких-либо причин отложил на неопределенный срок. Через некоторое время баллотировка все-таки состоялась, но в качестве кандидата фигурировал совершенно другой человек, а именно князь Б. Б. Голицын. Он и был избран.
Для Столетова это оказалось страшным ударом, от которого он так никогда и не оправился. К тому же, удар был не последним. Осенью 1883 года истекал тридцатилетний срок пребывания Столетова в университете, что по тогдашним законам вынуждало его выйти в отставку, за штат. Втайне ученый надеялся на то, что для него будет сделано исключение. Однако на следующий день после роковой даты он получил официальное письмо, в котором уведомлялось, что он уволен по истечении тридцатилетнего срока службы и на его место приглашен одесский профессор Н. А. Умов. (В порядке большого одолжения сообщалось, что его просят по-прежнему заведовать физическим кабинетом и физической лабораторией университета.) Более того, Столетову назначили пенсию значительно ниже той, что обычно полагалась в подобных случаях. Так же поступили с его другом — В. В. Марковниковым, которому предложили сдать казенную квартиру и передать кафедру одесскому же химику Н. Д. Зелинскому.
Именно с этого времени наступает значительное охлаждение Столетова с большинством из его университетских коллег. Он замыкается в себе. Круг его общения ограничивается несколькими самыми ближайшими друзьями. Он перестает появляться в гостях, на званых обедах и университетских собраниях, на заседаниях ученых обществ. Изменяет своей привычке регулярно посещать театры и концерты.
Целые дни проводит дома за работой над книгой «Введение в акустику и оптику» да еще не забывает своей любимой физической лаборатории, где продолжает засиживаться допоздна. Его начинает изнурять кашель, боль в верхней челюсти. Он погружается в самое мрачное настроение духа. Превозмогая себя, едет лечиться в Европу, однако лечение не задается.
Столетов спешит из Италии в крупнейшие физические лаборатории. Летом 1895 года он пишет в письме В. А. Михельсону:
«Дорогой Владимир Александрович,
Очень обрадован сегодня вашим письмом из Klosters’a,
Я застрял в Париже (с 1 июля н. ст.); Соколов вчера уехал... до сего времени были вместе.
Будучи в Берлине, посетили Reichsanstalt (третий с нами — Егоров), Potsdam и — Уранию, где превосходно поставлены опыты Tesla. Затем смотрели институты в Halle, Leipzig, Jena (также Glastechnische Fabrik и заведение Zeiss’a), перемахнули в Голландию и там посетили Groningen, Amsterdam и Leiden. В Лейдене угощены были жидким кислородом, а в Amsterdam’e сподобились видеть V.d. Waals’a.
Здесь в Париже смотрели новые лаборатории в Сорбонне, претерпели обед со спичами, данный нам от Bureau de la Societe de Physique, а затем болтались и прохлаждались... Пора двинуться — хоть погода необременительная, и после долгого отсутствия вкусить Парижа было приятно. Попробую море — а на закуску заеду, вероятно, в Швейцарию...
По пути имели в разных местах поклон Вам — от W. Wien’a в Charlottenburg’e, от Guillaume’a в Севре и др. В Лейпциге весьма сладко были приняты Wiedeman-п’ом (Senior) и познакомились с Ostwald’oM и Drude. Гро-нингемский институт необыкновенно мил и уютен, а в Лейдене милейший Kammerlingh-Onnes и его холодная лаборатория были очаровательны».
Это был, видимо, его последний «пир общения»...
Вот как характеризовал этот период жизни Столетова его друг К. А. Тимирязев: «Какая-то печать гнетущего, глубоко затаенного нравственного страдания легла на все последние годы его жизни, как будто перед ним вечно стоял вопрос: почему же это везде, на чужбине и в среде посторонних русских ученых встречал он уважение и горячее признание своих заслуг и только там, где, казалось, имел право на признательность, там, где плоды его деятельности были у всех на виду, ему приходилось сталкиваться с неблагодарностью, мелкими уколами самолюбию, оскорблениями. Но он еще крепился, пытаясь стать выше «позора мелочных обид», и это ему удавалось, пока не изменили физические силы; но когда, едва оправившись от тяжелой болезни ((рожистого воспаления), он снова столкнулся с теми же житейскими дрязгами, прежней выносливости уже не оказалось...»
Одним из последних видел живого Столетова его единомышленник и преемник П. Н. Лебедев.
— Судьба судила мне часто видеть его в последние дни болезни, — вспоминал он. — Несмотря на все увеличивали щуюся слабость, мысль его продолжала работать с особенной свойственной ему ясностью, речь отличалась обычной тонкостью и изяществом, и он, как бы предчувствуя близкую кончину, точно торопился высказать все то, что ему было дорого, и с особенной охотой делал как бы обзоры современного состояния наших знаний и указывал возможность их дальнейшего развития или беседовал о нуждах нашей лаборатории.
Последний раз я его видел за день перед кончиной; он был настолько слаб, что попытался, но уже не мог протянуть мне руки — воспаление распространилось на левое легкое, и силы изменили ему; тем не менее, он заставил меня рассказать о моих занятиях за последний день и навел разговор на свою любимую тему о газовых разрядах. Он сам говорил мало, но потом оживился и слабым, чуть слышным голосом с большими перерывами стал говорить о значении подобных исследований. Прощаясь со мной, он слабо пожал мне руку и чуть слышно добавил: «Советую заняться этими вопросами — они очень интересны и очень важны». Это были последние слова, которые я от него слышал.
Профессор А. П. Соколов, друг Столетова, написавший первую его биографию, заканчивает ее следующим печальным воспоминанием: «...К половине апреля он оправился и чувствовал себя настолько бодрым, что строил уже планы в мае ехать в Крым на купанье, затем за границу и закончить вакацию опять теплыми купаниями в Биарритце. Накануне моего отъезда за границу, 16 апреля, мы с ним простились с надеждой свидеться в Биарритце, но не думал я, что это наше прощание было последним. Приготовляясь 7 мая к отъезду в Крым, назначенному на 8 мая, Александр Григорьевич вдруг почувствовал сильные боли в спине, которые к вечеру настолько обострились, что заставили его слечь в постель. Предчувствуя что-то недоброе, Александр Григорьевич потребовал бумаги и перо и написал свою «последнюю волю», в которой он, между прочим, всю свою богатую библиотеку завещал в пользу физической лаборатории университета. Вскоре обнаружилась ин-флуэнца, сопровождаемая воспалением легких и ослаблением сердечной деятельности. Впрочем, 14 мая воспаление легких уступило лечению, все боли прекратились, и Александр Григорьевич мог даже написать письмо профессору Зилову в Варшаву. Но организм был уже настолько исто-
щен, что жизнь угасала сама собой и угасла окончательно в ночь с 14 на 15 мая в 2 часа. Смерть подкралась столь незаметно, что присутствовавшие при нем родственники приняли ее сначала за легкий сон, и только призванный в поспешности проф. Д. Н. Зернов констатировал ее несомненным образом».
Столетов завещал похоронить его в местах его детства, рядом с родными.
ГЛАВА VIII
ВЗВЕШЕННЫЙ ЛУЧ
1
В самом центре Москвы, в Армянском переулке, на Маросейке, в доме Торопова жил в 60-х годах прошлого столетия Николай Всеволодович Лебедев — особо доверенное лицо торговой фирмы Боткина. Он был предприимчивым и деловым человеком, самостоятельно совершавшим хитроумные и выгодные сделки, за что ему полагался от Боткина солидный процент. Его капиталы росли, и с годами он стал нетерпеливо ждать появления наследника, который смог бы их преумножить.
8 марта 1866 года родился у Лебедевых сын, нареченный Петром. С самых ранних лет готовит его отец к будущей карьере — он окружает сына детьми крупных московских торговцев; памятуя о важности в их нервном деле отменного здоровья, с детства приобщает к спорту.
Неслучайным образом было выбрано и учебное заведение для сына — «Петер-Пауль шуле» — немецкая Петропавловская школа, где обучались дети богатой московской буржуазии. Немецкий язык, по мысли Н. В. Лебедева, должен был серьезно помочь его сыну в будущих торговых делах.
Петр учится, осваивает азы наук, приобретает друзей. Среди них Саша Эйхенвальд, впоследствии выдающийся физик. (Его отец профессиональный фотограф, мать играет на арфе в Большом театре, сестры готовят себя в артйст-ки). Это и дети хозяина — Боткины; один из них стал известным публицистом, другой — художником, а третий — знаменитым врачом. Лишь одного знакомого не слишком
расчетливо ввел отец в круг общения молодого Петра — офицера-электротехника А. Н. Бекнева, под влиянием которого у младшего Лебедева возникла неукротимая тяга к технике. Юношеский дневник его заполняется десятками изобретений, ценность которых тут же комментируется им самим: «ерунда», «абсолютно непрактично», «изобретено ранее».
Сохранившиеся до сего времени дневники и письма П. Н. Лебедева дают поразительную возможность заглянуть не только в его творческую лабораторию, но и в его мятущуюся душу; они — удивительный человеческий документ, облеченный, помимо прочего, в прекрасную литературную форму. В силу этого мы будем стараться в нашем повествовании смолкать там, где о событиях сможет рассказать само их главное действующее лицо.
П. Н. Лебедев. Записи в альбоме «Познай самого себя» (1880 — 1882 годы).
— Твои любимые писатели.
— Гоголь, Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Шиллер.
— Твои любимые композиторы.
— Бетховен, Моцарт, Гайдн, Ромберг.
— Твои любимые художники.
— Эрнст Хюгер, Маковский.
— Любимый цвет.
— Красный и розовый.
— Твое призвание.
— Быть исследователем или открывателем.
Л. Н. Лебедев (январь 1882 года). «Могильным холодом обдает меня при одной мысли о карьере, к которой готовят меня, — неизвестное число лет сидеть в душной конторе на высоком табурете, над раскрытыми фолиантами, механически переписывать буквы и цифры с одной бумаги на Другую. И так всю жизнь... Меня хотят силой отправить туда, куда я совсем не гожусь. Опасно. Вправляя, можно связки разорвать».
Видимо, понимая опасность «разрыва связок», отец решил уступить сыну и отдать его в реальное училище Хайновского, где интерес Петра к технике еще более окреп. Он стал выписывать популярные научно-технические книги и журналы, штудировать журнал «Электричество» и пропадал в физическом кабинете, где учитель физики А. П. Лопатин не только использовал его в качестве лаборанта, но и позволил ставить самостоятельные эксперименты.
На углу Кузнецкого моста и Большой Лубянки помещался тогда магазин лабораторного оборудования Швабе, витрины которого вызвали у молодого Лебедева не меньший восторг, чем любительские и нелюбительские спектакли.
А. Н. Бекнев когда-то показал ему электрические искры, полученные от сооруженной тут же, в гостиной, из стеклянной подставки и офицерских перчаток электрической машины, и поразил его близостью, осязаемостью таинственных явлений, описываемых в учебниках. Магазин Швабе и лаборатории, куда шли приборы от Швабе, стали для Лебедева местами воскресения научных мощей, засушенных в учебниках, превращения их в живые, яркие краски самой природы.
Лебедева влечет именно к науке экспериментальной, осязаемой, «приборной». Его влечет к изобретениям, связанным с самой современной областью физики — электромагнетизмом. И страсть его разгорается все сильнее.
Апофеозом технических исканий юности была для Лебедева постройка им совершенно нового типа униполярной динамо-машины.
П. Н. Лебедев (из неотправленного письма А. Н. Бекне-ву (20 ноября 1896 года. Москва). «Я не знаю, знали ли Вы о моих униполярных динамо-машинах, которые я изобретал, будучи учеником реального училища, но не могу не упомянуть одного «дорогого» курьеза: я измыслил на основании существовавших тогда теорий такую — и сейчас скажу — остроумную машину, что директор завода Густава Листа предложил мне без промедления выстроить машину на 40 лошадиных сил; я сделал все чертежи, машину отлили, сделали (штука вышла в 40 пудов) — и ток не пошел. С этого капитального фиаско началась моя экспериментаторская деятельность, но этот злополучный опыт, который почти стер меня в порошок, не давал мне покоя, покуда я не нашел физической причины, его обусловливавшей, — это коренным образом перевернуло мои представления о магнетизме и дало им ту форму, которую я впоследствии за границей узнал у английских авторов».
Неудача вызвала в душе Лебедева страшное смятение и разочарование; изобретательская деятельность как бы повернулась к нему оборотной стороной, показала необходимость обратиться к науке — и все же, может быть, по инерции он поступает в Московское Техническое училище, готовящее инженеров.
Эти, казалось бы, невинные занятия тем не менее серьезно тревожат отца, и он, как человек практичный и умный, решает дать молодому Петру попробовать сладость той роскоши, которую приносят деньги, — преимущество торговой профессии.
К услугам сына была предоставлена верховая лошадь. Отец купил ему спортивную лодку, дал в его распоряжение большие средства. Петр стал желанным участником балов, праздников и любительских спектаклей. Он посещал их, но каждый раз с нетерпением ждал часа, когда сможет вновь вернуться к своим электрическим опытам и изобретениям.
Я. Я. Лебедев. «Мое постоянство по отношению к моему изобретению очень удивляет папу. Очевидно, ему хотелось бы, чтобы я кидался от одного к другому, и тогда, может быть, я изменю свое желание сделаться инженером».
Видя бесплодность своих попыток, отец пускает в ход еще более страшное и коварное оружие, надеясь, что любовь, именно любовь, ее необузданная и неодолимая стихия, сможет отвлечь Петра от техники.
Как-то раз Петр был приглашен на бал к детям Боткина, где его познакомили с красивой француженкой мадемуазель Будьер. Удар оказался точным. Лебедев без памяти влюбился в нее. В мыслях о ней проводил дни и ночи. Но однажды, в трезвом прозрении, понял, что мадемуазель Будьер отвлекает его от изобретений. Его охватил страх. Он решил изжить в себе неуместное чувство. Молодому Лебедеву пришлось разработать и записать в дневнике свою собственную теорию любви, в иерархии которой первое место занимает любовь к науке, за ней следует любовь к родине и к искусству.
Я. Я. Лебедев (9 марта 1883 года. На следующий день после семнадцатилетия). «Я не буду влюбляться, иначе все пойдет прахом и мне придется идти в контору. Я буду служителем науки и жрецом электротехники, и буду я трудиться на пользу общественности, не забывая и себя. Да здравствует электричество! И да прославит оно нас во веки веков!»
Отнюдь не простой оказалась борьба юноши с самим собой, В тот же год летом, на балу, он знакомится с другой красавицей и вновь несколько дней и ночей пребывает в думах о ней, Разрешение острой душевной борьбы отражено в дневнике Лебедева знаменательной- фразой: «21 июня 1883 года. Рассудок и воля победили. Ура!»
; Нелегко далась Лебедеву очередная победа. В этом ли причина или в чрезмерных занятиях спортом, чтобы отвлечься и укрепить свое здоровье для науки, но он впервые почувствовал перебои сердца. Это было грозным признаком наследственной сердечной болезни, которой страдал его отец.
П. Я. Лебедев. «Под конец начинает сгущаться слабость мышц, появляется легкое головокружение, глаза застилает туман...»
Изобретательство неутомимо продолжается. Он создал новый тип телефонного магнита, придумал усовершенствование для чиколевских ламп, новый велосипед, питающийся от аккумуляторов, новый тип гальванометра, охладитель газовых машин, указатель телеграмм, снегоочистители, электрические часы, электрическую мухоловку, электроловушку для мышей, сигнализацию против воров. И ученики и преподаватели училища диву давались такой неуемной активности при весьма умеренных, кстати сказать, успехах в учебе.
Я. Я. Лебедев — А. Я. Бекневу (20 ноября 1896 года). «Я перешел в Техническое училище, для которого пребывание в Реальном было подготовкою, и двигался по заранее намеченной дороге, но уже без изобретательского задора. Учеником в Техническом я был плохим, неряшливым и странным; когда я еще в немецком училище собирался в Техническое (об университете не могло быть и речи), я пред*» ставлял себе деятельность инженера как деятельность изобретателя, мысли которого исполняют слесаря, но пребывание на заводе у Листа показало мне практику жизни, и это заставило меня несколько сжаться и отшатнуться. Попав в Техническое училище с головою, набитою всевозможными вопросами, с техническими знаниями, превосходящими знания всех товарищей, и с врожденным интересом к делу, я столкнулся с самой нелепой, чудовищной системой: уже зная, что требует практика, я должен был исполнять, например, по черчению такую ерунду, которая никогда не может и трех дней просуществовать на практике и даже в виде мысли не придет в голову среднему человеку — это с одной стороны. С другой стороны, я не встретил ни в одном товарище интереса к делу по существу, попросту инженерного таланта: все это были только ученики, которые учат то, что им предлагают, с одной мыслью о зачетном балле...»
В Московском Техническом училище мысли молодого изобретателя Лебедева приобрели совсем другое направле-
ние. Лекции Н. Е. Жуковского, лабораторные эксперименты по физике у профессора В. С. Щегляева пробудили в нем неукротимый интерес к физике.
Занятия в физической лаборатории Московского технического училища уже во многом предопределили разгадку той страшной неудачи, которая постигла Лебедева с униполярной машиной. Он и не предполагал, что тайна этой неудачи окажется впоследствии связанной с самыми основами теории относительности и причины ее — гораздо сложнее тех, которые он мог тогда себе вообразить. Поиск их неизбежно вел к анализу новейших теорий электричества, к эфирным теориям. Он решил заняться проблемами природы электрического тока.
Вращение намагниченного цилиндра (ротор униполярной машины), которое, по мысли Лебедева, должно было дать ток, вызывало к жизни труднейшую теоретическую задачу, связанную с увлечением силовых линий движущимися телами. Простейший прибор, созданный Фарадеем еще в 1820 году, — диск Фарадея таил в себе множество загадок мироздания.
Опыт, кажущийся столь простым, для своего объяснения нуждался «всего лишь» в разгадке природы электричества. Лебедев бесстрашно кинулся в пучину современных электрических теорий. Недостаток экспериментальных фактов, слабое знание того, что делается в современных физических лабораториях, иной раз компенсировались силой воображения, и он приходит к поразительным, странным выводам.
Из дневника Я. Я. Лебедева (22 января 1887 года). «Каждый атом всякого нашего первичного элемента (Н, О, Ва) представляет собой полную солнечную систему, то есть состоит из различных атомопланет, вращающихся с разными скоростями вокруг центральной планеты или каким-либо другим образом двигающихся характерно периодически. Периоды движения весьма кратковременны (по нашим понятиям)...»
Одна загадка — вращающегося магнитного цилиндра — влекла за собой другую. Что, если цилиндр изначально не будет намагничен? Не намагнитится ли он сам под влиянием собственного вращения? Не в этом ли причина магнетизма земли и планет?
Вот на какие глубокие мысли навела его первая жизненная неудача, они вполне искупали то печальное обстоятельство, что Лебедев вынужден был возместить фирме
Густава Листа все причиненные убытки, для чего некоторое время проработал на заводе техником без жалованья.
Поворот от техники к физике был уже неизбежен. Лебедев ищет, где осуществить свои намерения в новой области. Он идет в Политехнический музей и там впервые встречается с профессором А. Г. Столетовым. Встреча была неудачной. По-видимому, прекрасно одетый, спортивный Лебедев не произвел на Столетова того впечатления, на которое рассчитывал. Мучеником науки он ему явно не показался.
П. Н. Лебедев (запись в дневнике 7 января 1885 года). «20 декабря мне профессор А. Г. Столетов обещался доставить возможность начать мои опытные работы в лаборатории Политехнического музея с 3 января. Я пришел к нему 3 января, но он отвечал, что подобные работы не соответствуют целям музея (sic!). Я, конечно, плюнул».
Неудачная попытка связаться с передовой в России физической лабораторией и ее замечательным лидером вынуждала Лебедева искать источник своего физического образования за границей. Он решает поехать в Страсбург. Отъезд намечен на август 1887 года. Однако на время он был отложен. От сердечной болезни и переживаний из-за сына умирает отец Лебедева. Два месяца занимают хлопоты в связи с получением наследства, измеряющегося уже в сотнях тысяч рублей, и дома на углу Маросейки и Петро-веригского переулка. Отцу Лебедева не удалось только передать сыну свою мечту — стать во главе крупнейшей чаеторговой фирмы России.
2
Поездка Лебедева все-таки состоялась. Германия его поразила. Пока он ехал из Франкфурта на юг вдоль границы с Францией, в самых современных поездах, вагонах и экипажах, по лучшим в Европе железным и шоссейным дорогам, он видел совсем иную жизнь, не похожую на российское прозябание. Добротные, на века дома, ухоженная земля, на которой не терялось ни одного клочка, многочисленные курорты благословенного германского юга, семьи, возвращающиеся из Шварцвальда, — вот что встречалось ему на пути и навевало мысли о родине и ее проблемах. Наконец, он на самом юге — в Страсбурге, недавно отвоеванном немцами у французов, в старинном, красивом городе, постепенно смешивающем французскую живость с немецким педантизмом.
Здесь, в Страсбурге, профессору Августу Кундту уда-лось построить на государственные средства образцовый физический институт. Физическая аудитория была с концентрически поднимающимися к небу ярусами и всевозможными приспособлениями для лекционных демонстраций. Демонстрационные кабинеты и лаборатории для начинающих снабжались электричеством, газом, водой и всеми теми мелкими, казалось, удобствами, которые делают жизнь и работу в физической лаборатории необычайно приятной. В институте построили и «Магнитную башню» высотой в 30 метров, где проводили магнитные и оптические исследования. Соорудили подземные бункеры для особо точных экспериментов; там всегда стояла постоянная температура. Создали химические лаборатории, механи-ческие. мастерские, весовую и ртутную комнаты, фотолаборатории, кладовые.
Поистнне физический рай.
Недаром сюда приезжали лучшие физики Европы и России.
Страсбург был полон французов, еще не потерявших гордого взгляда и презрения к захватчикам. Страсбург был полон и немецких военных подразделений, а квартира, которую снял Лебедев, помещалась рядом с домом прусского генерала.
Совсем не следует предполагать, что институт Кундта был учреждением благотворительным. За все надо было платить. Вот почему только после внесения некоторой суммы в кассу Лебедев смог предстать перед Августом Кундтом для аудиенции, продолжительность которой была ограничена лишь величиной уплаченной суммы.
Я. Н. Лебедев. «С трепетом душевным я отправился в Физический институт к Кундту. Сторож очень вежливо пригласил меня присесть в «кабинете профессора» — чисто фаустовской лаборатории. Кундт работал в другой лаборатории, и поэтому я должен был подождать минут пять, покуда, наконец, появился и сам. Он некрасив: каштановые всклокоченные волосы, высокий, «умный» лоб, глубоко сидящие голубые глаза, орлиный нос, энергичный рот и светло-рыжая борода, лицо все изрыто оспой — все это должно было действовать неприятно, но у него, наоборот, проницательный, страшно умный взгляд и вместе с тем выражение полнейшего равнодушия производит сильное противоподожное действие; он невысок ростом и довольно широкоплеч. Принял он меня замечательно любезно; я любезности в такой степени никогда не ожидал...»
Август Кундт посоветовал новому ученику послушать лекции по математической физике и спецкурсы по оптике и магнетизму.
В преподавании был избран «критический» метод. Все обсуждаемые произведения «испытывались на прочность», с точки зрения новейших теорий и их соответствия экспериментальным фактам. Эта система требовала не только изучения учебника, но и вскрытия глубокого научного пласта. Проще сказать, нужна была большая любовь к физике и полная погруженность в нее.
Необходимых для изучения тем оказывалось так много, что Лебедев стал всерьез подумывать об уплотнении своего рабочего дня. Вместе со своим новым знакомым князехМ Б. Б. Голицыным, также прибывшим для учебы, он снял комнату, вместе они ходили на лекции, занимались спортом, а во время обеда пересказывали друг другу прочтенные ими научные труды.
Я. Я. Лебедев. «Для меня каждая страница прочитанного заключает больше удовольствия, чем труда, потраченного на усвоение: таким образом, я с утра до вечера занят тем, чем хотел заниматься с 12 лет, и у меня только одно горе — день мал».
Лишь в Страсбурге Лебедев понял причины своих неудач со многими изобретениями, в том числе униполярной машиной Он глубоко познавал законы Ампера, Фарадея, уравнения Максвелла. Все более и более его завораживал и Кундт, и пестуемая им физика.
Я. Я. Лебедев. «С каждым днем я влюбляюсь в физику все более и более, так что кончится тем, что облачусь во власяницу и буду ходить по городам и весям с книжкой под мышкой и проповедовать законы Ампера и Фарадея... Скоро, мне кажется, я утрачу человеческий образ, я уже теперь перестал понимать, как можно существовать без физики...»
Физика занимает все время Лебедева. Ей посвящено все его существование, все его чувства.
Я. Я. Лебедев — сестре Саше. «Я позволю дать совет не только тебе, но и всем родственникам, даже всему человечеству, занимайтесь физикой, лучшего совета дать ей-ей не могу».
Лебедев активно посещает коллоквиумы Кундта, на которых тоже царит острый, критический настрой. В яростных спорах молодые физики познают ошибки других и главное — учатся видеть свои. Лебедев по-прежнему одержим множеством идей, и Кундт, искренне полюбивший его, посвятил ему свое стихотворение, начинающееся словами: «Идей имеет Лебедев на дню по двадцать штук...».
Дальше говорилось о том, что, к счастью для его шефа, половина этих идей не доживает до того момента, когда их можно проверить экспериментально.
Главная идея, которая продолжает владеть Лебедевым, — это неизбежность всеобщей связи природных явлений. Эта идея была близка Лебедеву с самых юных лег, когда он еще читал книгу «Единство физических сил», написанную директором Римской астрономической обсерватории и членом-корреспондентом Французской академии наук Анжело Секки. Секки писал так: «Употребление пара в движущихся машинах, электричества в телеграфии и металлургии, приложение химии к промышленности и практическим искусствам дали целые ряды наблюдений, проливающих совершенно новый свет на теорию строения тел. Многочисленные мнения, принимающиеся до сих пор всеми, оставлены, как скоро открылась неожиданная связь между различными агентами природы, которые прежде считались совершенно независимыми друг от друга. Вместе с тем эта связь указала новый путь, который должен был привести к решению великой задачи естествознания — по-знанию природы и происхождения сил в управляющих ма териях».
Спрашивается, однако, в чем состоит их механизм? Какая связь существует между всеми этими, по-видимому, столь различными действиями? И где тот путь, который мог бы нас вывести из лабиринта бесплодных вопросов?
Через год после приезда Лебедева, в 1888 году Кундта пригласили в Берлин для заведования кафедрой, ранее занимаемой Гельмгольцем. Лебедев едет вместе с ним. Однако Кундт, тревожась за судьбу своего ученика, все-таки советует ему вернуться в Страсбург: в Берлине Лебедев не смог бы защитить докторскую диссертацию и сдать экзамены ввиду незнания латинского языка.
Лебедев возвращается в Страсбург и поступает под начало известного физика Фридриха Кольрауша, с которым и уславливается о теме своей будущей работы — «Исследования диэлектрической постоянной газов». Два года тонких экспериментов понадобилось Лебедеву, чтобы доказать
правильность точки зрения Фарадея: молекулы являются телами, электрически проводящими.
Лебедеву удалось показать, что молекулы могут рассматриваться как резонаторы определенных размеров, что согласовывалось с его теорией резонансной природы меж-молекулярных сил. Но в случае, если молекула является электрическим резонатором, на нее должно механически воздействовать электромагнитное поле световой волны. Развивая эту идею, Лебедев пишет работу «Об отталкивающей силе лучеиспускательных тел», где именно световое давление признает виновным в своеобразной форме хвостов комет.
Наступила пора сдачи докторских экзаменов.
Л. Н. Лебедев — А. П. Лебедевой (23 июля 1891 года. Страсбург). «О самом экзамене я цельного и любопытного сказать ничего не могу: я всегда ненавидел экзамены, потому что во время возбуждения у меня прекращается работа мозга, и я буквально чувствую себя как во время кошмара. Когда я вышел из экзамена и мои приятели меня поздравляли, что я так хорошо сдал экзамен — у меня было только чувство огорчения, что я не мог высказать экзаменаторам сотой доли того, что я знал, и я бы с удовольствием возвратился в экзаменационный зал и вместо двух часов еще просидел бы пять и выложил им то, что я знал. Во время экзамена был момент, когда я решил, что я по--стыднейшим образом провалился; чтобы я мог получить Magna cum laude — это мне и в голову прийти не могло.
Экзамен продолжался с 6 час. до 8 вечера, и меня обрабатывали трое экзаменаторов. Как только я вышел, меня поздравили мои приятели (Jost, Heer Wagen, Marburg), и я в цилиндре и во фраке прямо отправился к Шульцу; меня приняли еще с большей сердечностью, чем обыкновенно; пили шампанское — и я невольно с грустью прощался с тем домом, где протекли самые светлые, самые счастливые дни моей жизни...»
Через неделю — сообщение на последнем летнем коллоквиуме. Лебедев говорит о сущности молекулярных сил. В этом — истоки последующих его работ о пондеромо-торных (электродвижущих за счет механического движения) силах, действующих на резонаторы, о давлении света.
П. Н. Лебедев — А. П. Лебедевой (30 июля 1891 года. Страсбург). «Милая мамочка! Посылаю тебе мои новые визитные карточки «D-г Peter Lebedew».
Сегодняшний день — день очень важный в моей жизни:
сегодня я в последний раз говорил в Colloquium’e о вопросе, который вот уже три года занимает меня беспрерывно: «О сущности молекулярных сил». Говорил я с эстетизмом (и говорил хорошо — я это знаю) — я держал как бы покаянную исповедь; «тут было все: амуры, страхи и цветы!» — и кометные хвосты, и гармония в природе. Два часа битых я говорил и при этом показывал опыты, которые произвели фурор и удались мне так, как редко удаются...»
На прощальном коллоквиуме Лебедев изложил, как он пишет, те мысли, которые давно уже им владели. Еще 12 августа 1890 года он записал в дневнике такую фразу: «Если на зеркало падают лучи и мы будем двигать зеркало против направления луча, то по принципу Допплера отраженные лучи будут выдвинуты к фиолетовому концу. Это соответствует высокой температуре. Таким образом, мы можем теплоту с более холодного тела переносить на более горячее, следовательно, по принципу Клаузиуса, мы должны производить работу давления на передвижение. Значит, давление существует, и его величина пропорциональна скорости света в среде и количеству падающей энергии».
...Пора возвращаться на родину, пора предпринимать шаги для устройства в Москве. Впрочем, кое-какие из этих шагов были сделаны ранее. Его друг Б. Б. Голицын, находящийся в Москве и работающий в лаборатории А. Г. Столетова, уже провел предварительные переговоры.
5. 5. Голицын — Я. Я. Лебедеву (23 мая 1891 года. Москва). «...С Соколовым (он директор лаборатории) я говорил об Вас. Сверхштатным лаборантом (без содержания) можно Вас сделать, и работать у него в лаборатории он даст Вам возможность. Даже не будучи лаборантом, Вы можете у него работать. Соколов говорит, что очень желательно, чтобы Вы вернулись в Россию, п. ч. физиков у нас мало и предвидится движение вперед (конечно, гораздо больше, чем за границей)... Приезжайте-ка скорее сюда. Снова поведем наши физические беседы. Если нужно что-нибудь, еще пишите».
В согласии с заявлением А. Г. Столетова и А. П. Соколова, на заседании совета физико-математического факультета Московского университета было решено назначить «третьего лаборанта в лице доктора Страсбургского университета Петра Николаевича Лебедева, человека весьма энергичного и хорошо знакомого с практикой дела».
Полный радужных надежд, Лебедев готовится к отьезду в Москву. Однако его одолевают и сомнения: «Самое счастливое время — было пребывание в Страсбурге, в такой идеальной физической обстановке. Какова будет моя дальнейшая судьба? Я только вижу туманное пятно с большим знаком вопроса. Одно знаю — я буду работать и, пока глаза видят и голова свежа, постараюсь приносить посильную помощь».
...С надеждой и смущением смотрел П. Н. Лебедев на новое свое пристанище в Москве — небольшой двухэтажной домик во дворе старого здания университета. Запущенный и облупленный ректорский дом, грязный, со стершимися каменными ступенями и выщербленными перилами, с пятнами отвалившейся штукатурки на фасаде, Но здесь — Физический институт Столетова. Здесь — физический практикум для студентов Московского университета.
Соколов, сопровождавший его, пытался найти для Лебедева место, но не нашел. Наконец, завешивают черной простыней тупик в коридоре, затаскивают туда столы, проводят электричество, и кабинет готов. Кто-то сказал, что наука любит ютиться на чердаках. Имелся в виду, видимо, и лебедевский «чердак», где были выполнены прекрасные работы о пондеромоторном действии волн резонатора, о двойном лучепреломлении электромагнитных волн и, наконец, о давлении света на твердые тела.
К счастью, Столетов не узнал в Лебедеве, приехавшем цз Германии самоуверенного юнца, который просился несколько лет назад в его лабораторию при Политехническом музее. Между ними установились особые отношения двух уважающих друг друга ученых. В одном из писем А. Г. утолетова В. А. Михельсону П. Н. Лебедев назван «весьма деятельным юношей». Несмотря на кажущуюся сдержанность этой оценки, в устах Столетова это был восторженный комплимент
Д. Г. Столетов — В. А. Михельсону (16 октября 1892 года. Москва)
«Лебедев все лето работал в Москве и хвалится, что Достиг хороших вещей по части гертцовщины, но пока еще не делал сообщений».
Столетов постепенно привязывается к молодому способному физику.
Из записок А. Г. Столетова Я. Я. Лебедеву. «Приехал Н. Н. Шиллер, и мы сегодня у А. П. Соколова (с 8 ч. вечера). Желательно Ваше присутствие».
«Будьте так любезны, покажите (вместе с Е. И. Брюсовым) нашу лабораторию моему товарищу В. П. Гроздову, а также — нечто из Ваших Hertziana».
«Петр Николаевич, зайдите на минуточку (в любое время). Я опять чувствую себя дурно и хочу посидеть дома, а между тем имею нечто Вам сказать. Не задержу».
«Что это Вы исчезли? Не опять ли сокрушены инфлуэн-цой или «световым давлением»? Сегодня опять был Вульф в чаянии Вас видеть; а я собирался Вам опровергать Bril-louin’a, взяв на себя роль «advocatus diaboli»(!).
Столетов помогает Лебедеву в оснащении его уголка экспериментальным оборудованием, а лаборатории — новыми станками и инструментами. Через много лет Лебедев, посмеиваясь, вспоминал о том, как они вместе со Столетовым добывали для физической лаборатории токарный станок, необходимый при изготовлении сложных инструментов. Станок стоил триста рублей, и университетское начальство, ни секунды не колеблясь, вычеркнуло его из списка требуемого оборудования. Тогда Столетов и Лебедев пошли на хитрость. Они решили выписать не токарный станок, a «Drehbank», то есть тот же станок, только с немецким названием. Чтобы полностью покончить с прозаической действительностью, они назвали то, за что нужно платить триста рублей, «прецизионной дребанкой». Потребность в таком серьезном оборудовании, также стоящем триста рублей, была с сочувствием воспринята университетскими властями, и средства выделили.
Трогательным свидетельством любви и уважения Столетова к Лебедеву и науке служит следующая история. Как-то Лебедев упомянул в разговоре со Столетовым о том, что ему нужен для производства экспериментов алюминий, материал по тем временам страшно дорогой и редкий. Через несколько дней Столетов прислал ему различный алюминиевый лом, в котором оказались медаль и жетон, полученные Столетовым на Всемирной Парижской выставке в 1881 году.
А. Г. Столетов — Я. Я. Лебедеву. «Посылаю целый воз алюминия, но едва ли в пользу. В особых коробочках — медаль из алюминия и жетон 1881, тонкий, ручку можно отпаять, если есть надежда пробрать лучами».
О каких лучах говорит здесь Столетов? Не о таинственных ли Х-лучах, недавно открытых В.-К. Рентгеном?
Да, о них. Вскоре после того, как Рентген обнаружил Х-лучи, он разослал сообщение об этом самым крупным
физикам мира. В числе прочих его получили А. Г. Столетов и П. Н. Лебедев.
Лебедев тут же построил рентгеновскую трубку и стал проводить множество экспериментов. Он сделал рентгенограмму своей руки, кошелька, рыбы-леща. Он объявил о возможности использовать новые лучи на медицинском факультете в целях рентгенодиагностики и, как говорится, не сходя с места, произвел первое в России медицинское рентгенологическое обследование в клинике Л. Л. Левшина, позволившее своевременно сделать необходимую операцию. Все происходит быстро, на одном дыхании. Оттиски статьи Рентгена «О новом роде лучей» разосланы всего лишь в начале января 1896 года. Рентгеновский снимок руки Лебедева сделан в физической лаборатории Московского университета 19 января 1896 года. 29 января и 8 февраля Лебедев прочел в Московском университете лекции «Об открытых Рентгеном Х-лучах», сопровождая их демонстрацией сделанных им рентгенограмм. В докладе Ле-» бедева есть следующие примечательные строки: «Дальнейшего прогресса надо ожидать не от бесчисленного повторения снимков имеющимися под руками приборами, а от систематического исследования самого явления».
Я. Я. Лебедев. «При первом же появлении известия об открытии Рентгена были высказаны самые разнообразные и противоречивые догадки о физической природе нового явления. Из всех этих догадок предположение, что Х-лучи суть не что иное, как колебания, сходные со световыми и разнящиеся от них лишь быстротою, видимо, начинает находить все более и более подтверждений в новейших исследованиях. Такое предположение является, по существу, легко допустимым: так, мы знаем, что все цвета, различаемые нашими глазами в спектре белого света, ничем друг от друга не отличаются, как только периодом колебаний...»
Рентгеновские лучи были одним из сравнительно недолгих увлечений П. Н. Лебедева. Они, в сущности, лежали на обочине его прямых научных задач, связанных с исследованием пондеромоторных свойств света. Прекращению занятий Лебедева рентгеновскими лучами способствовало одно событие.
Я. Я. Лебедев (20 февраля 1898 года). «Готовясь к «рентгеновской лекции», я для снимания грудной клетки позировал 30 января в клинике Левшина 20 мин., не защищая лица, а 2 февраля в физическом кабинете 60 мин., защищая лицо цинковым листом, за исключением подбородка. В ночь со вчера на сегодня у меня на подбородке вылезла вся борода — так что приходится бриться. Я с ужасом жду, что будет дальше. Пробовал — оказывается, что брови заметно выпадают. Поскорее бы прошли 2 недели».
Д. Д. Галанин (профессор Московского университета). «...вся московская «физическая» общественность была потрясена следующим событием. П. Н. Лебедев пробовал снять с помощью рентгеновских лучей свою грудную клетку. Предполагая, что лучи могут вредно действовать на мозг, он прикрыл голову пластиной, но по случайности одна щека осталась незащищенной. И вот через две недели из этой щеки вылезли все волосы и красивый Петр Николаевич остался с половиной бороды. Это был едва ли не первый опыт, продемонстрировавший биологическое действие рентгеновских лучей.
Доза облучения была не слишком сильной, и некоторое время спустя волосы у Петра Николаевича благополучно отросли».
Недолгим было увлечение Лебедева и проблемой радиоактивности. В 1896 году в Москве появился первый препарат радия, владельцем которого оказался врач, хозяин во-доэлектролечебницы, а также физик-любитель А. X. Реп-ман, ведающий физическим отделом Политехнического музея. Репман демонстрировал здесь удивительное свойство радия светиться в темноте.
Лебедев также использовал полученный несколько позднее радий для лекционных демонстраций: он показывал радиевый свет и способность радия вызывать разряжение электроскопа.
Но и эта новая «радиевая» приманка не заставила Лебедева свернуть с избранного им пути. Он упорно занимается «гертцовщиной», то есть повторением и усовершенствованием опытов Г.-Р. Герца, подтверждающих реальное существование электромагнитных волн. Самым мощным аргументом было бы. конечно, доказательство давления света, но на пути к нему лежали еще другие эксперименты. В 1895 году в статье «О двойном преломлении лучей электрической силы» Лебедев описывает проведенные им опыты, в процессе которых удалось создать волны длиной всего шесть миллиметров, то есть в сто раз более короткие, чем у Герца. С этими волнами Лебедеву удалось продемонстрировать значительно более тонкие оптические эффекты на электромагнитных волнах, чем Герцу. В частности, он осу-
ществил двойное преломление лучей при прохождении их через кристаллы ромбической серы. Эксперименты свидетельствовали о том, что Лебедев поставил своеобразный рекорд сближения электромагнитных и оптических волн по частоте их колебаний и длине. Работа Лебедева вызвала бурю восторгов. Аугусто Риги, постоянный оппонент Столетова, демонстрировал прибор Лебедева на Международном съезде физиков в Болонье. Получение Лебедевым сверхкоротких электромагнитных волн стало как классические опыты помещаться во всех учебниках физики.
Следует сейчас упомянуть о том, что со времени своего возвращения из Страсбурга Лебедев работал, не получая стабильного жалованья, поскольку был сверхштатным сотрудником. В делах физико-математического факультета скопилось много ходатайств о выплате ему единовременных сумм.
Из протокола заседания совета физико-математического факультета (23 марта 1894 года). «На физмате решено ходатайствовать перед правлением об утверждении сметы на осеннее полугодие 1894 года и в том числе оплата ассистенту Лебедеву — 300 р. и об уплате за весеннее полугодие 1894 года — 300 р.».
Из протокола заседания совета физико-математического факультета (9 ноября 1894 года). «Решено ходатайствовать перед правлением об утверждении сметы на весеннее полугодие 1895 года и в том числе оплату ассистенту Лебедеву — 300 р.».
Из протокола заседания совета физико-математического факультета (21 февраля 1896 года). «На физмате заслушано представление Столетова о том, что лаборант Лебедев заслуживает быть допущенным в число приват-доцентов. Умов предложил, чтобы Лебедев прочел перед факультетом одну пробную лекцию, которая дала бы возможность факультету судить и об эрудиции лектора. Млодзеевский указал, что достаточно одного чтения, а не цикла лекций. Соколов предложил прочитать Лебедеву лекцию теоретического характера... Физмат решил просить профессоров физики пригласить Лебедева избрать для его пробного чтения тему теоретического характера, каковую и представить на следующем заседании факультета».
И наконец. Из протокола заседания совета физико-математического факультета (6 марта 1896 года). «В физмате доложено заявление Столетова и Соколова, представивших Лебедева и сообщивших, что Лебедевым избрана для пробного чтения тема: «О явлении электрического резонанса», чтение которой назначено на 11 марта 1896 года в 2 часа».
Лишь после бесспорного успеха этой лекции решено было ходатайствовать перед попечителем о допущении Лебедева в число приват-доцентов по кафедре физики. Только теперь хлопоты Столетова, уже к тому времени умершего, увенчались успехом.
3
До последних дней жизни Столетова Лебедев находился рядом с ним. Лишь теперь, когда смерть настигла учителя, он стал с необычайной остротой осознавать влияние на себя лично и на всю российскую физику этого скромного человека. Стал особо понимать ту общность судеб и ту преемственность, которая связывала их. Оба они были холосты, для обоих развитие физики представляло цель жизни. Оба рано потеряли отцов, главную роль в их жизни сыграли матери и сестры. Оба они отличались честностью и прямолинейностью, были людьми широко образованными, прекрасно знали языки, разбирались в искусстве, любили театр, музыку, живопись. Лебедев обладал художественными способностями, а Столетов великолепно играл на фортепьяно. Лебедев имел еще и блестящий литературный дар. Оба были бессребреники и находили себе высшую награду в занятиях наукой, готовые повторить за Анжело Секки его замечательные слова: «Кто сколько-нибудь знаком с процессом умственных занятий и хоть раз в жизни бескорыстно отдавался отвлеченным интересам науки, тот, конечно, поймет, что слова мои о нематериальном вознаграждении не фраза и что этот процесс часто может вполне удовлетворить ученого за все невзгоды, вынесенные им во время труда».
Именно Лебедев повез тело Столетова во Владимир, где тот был похоронен на старом кладбище в полутора километрах от дома, в котором когда-то родился.
П. Н. Лебедев. «Родственники, исполняя его волю, попросили меня разобраться в его книгах, и я все полезное уже отобрал. В нашей библиотеке пополнен тот крупный пробел в области собраний сочинений и новейших курсов, который многократно заставлял себя чувствовать».
П. Н. Лебедев — Н. А. Умову. «Я предполагаю прочесть «Обзор экспериментальных работ Столетова» (с демонстрацией) и буду просить Вашего согласия воспользоваться всеми приборами, которые А. Г. построил специально для своих опытов и которые находятся в коллекциях кабинета и лаборатории, и собрать и сохранить эти приборы на одной из полок в шкафах кабинета с надписью: «Приборы А. Г. Столетова».
Лебедев очень остро ощутил ту глубочайшую степень влияния, которую имел на него этот крупнейший ученый России, ставший его учителем, несмотря на то что Лебедев пробыл с ним всего четыре с половиной года. Он осознал важность духовных и интеллектуальных связей, заключен» ных в диаде: «учитель — ученик», возможно, пророчествуя о том, что и ему самому предстоит стать когда-то учителем. Не раз возвращается он к этой теме в своих письмах. Во многом он стал преемником Столетова. Умов предложил ему читать студентам-математикам тот курс экспериментальной физики, который ранее читал Столетов. Ему же было суждено осуществить и давнюю мечту учителя — по» строить в Москве Физический институт.
Летом 1896 года Лебедев, как обычно, едет на отдых в Германию.
П. Н. Лебедев — А. П. Лебедевой (18 июля 1896 года. Лейпциг).
«...Вчера не мог увидеть Видемана, он был занят, зато сегодня насладился до предела: он был мил до елейности. Теперь он пишет книгу об электрических колебаниях, в которой говорит о моих работах с малыми волнами, и потому не преминул наговорить мне с три короба всяких любезностей и договорился, наконец, до того, что удивится, если Московский университет не назначит меня на место Столетова, так как ему неизвестно, кто бы теперь в России мог... и т. д. и т. д. В таком диалоге петуха с кукушкой у нас прошел добрый час времени... [Здесь я] просмаковал сеть электрических конок: почти все вагоны ходят без лошадей и при том лупят со скоростью хорошего поезда. Другое удобство сообщения — автоматически считающие извозчики, которые введены теперь также в Берлине и в Дрезденез садишься, не торгуясь, на извозчика и говоришь ему адрес, причем сам не знаешь, поедет он направо или налево по незнакомому городу. Каждый оборот колеса передается счетчику, который в виде часов прикреплен к козлам; когда извозчик останавливается у цели путешествия, стрелка показывает, сколько ему надо уплатить; ни запрашивания, ни торговли, никаких препирательств. Воистину немцы обезьяну выдумали...»
Прочитав про эти милые мелочи, можно представить, что Лебедев забылся, забросил те задачи, которые перед собой поставил. Но нет, он непрестанно думает об этом, его волнует установка по измерению давления света, его мысли посвящены ей. И когда он встречается в Берлине с американцем Никольсом из Уайлдеровской лаборатории Дартмутского колледжа, то простодушно сообщает ему и свои цели и детали своей экспериментальной установки.
4
Еще в 1891 году Лебедеву удалось с помощью световых лучей разогнать космическую пыль между звездами и отклонить кометные хвосты прочь от Солнца — по крайней мере, теоретически. Тогда он писал матери: «Я, кажется, сделал очень важное открытие в теории движения светил, специально комет. Работа теоретическая, я набрасываю конспект, чтобы на днях падать профессору математики... Теперь, когда закон доказан и остается только облечь его в красивую форму, я ничуть не волнуюсь, частью, может быть, от того, этого я не скрою, что озадачен, даже ошеломлен его общностью, которую я сначала не почувствовал».
За этой работой, считал Лебедев, неизбежно должна была идти другая, связанная с экспериментальным анализом давления света на твердые тела. Появление после теоретических трудов экспериментальных очень характерно. Дело в том, что Лебедев, последователь Кундта, недолюбливал математику. Это давняя традиция, ведущая свое начало еще с Магнуса, одного из учителей и Столетова и Кундта, — стараться избегать громоздких математических расчетов. Лебедев, человек необычайно острого ума, сумел все же не впасть в «лабораторный мистицизм», всегда пользуясь своим уменьем находить остроумные методы упрощения задач, сводя их до уровня элементарных. Знаменитая «лебедевская арифметика» помогала решать сложнейшие проблемы, иногда неподвластные даже дифференциальным уравнениям математической физики. Лебедев не раз подшучивал над своим другом блестящим математиком А. А. Эйхенвальдом, который, видя математические трудности задачи, вовсе не брался за нее, хотя она могла быть решена просто — чисто экспериментальным путем.
Отвлечение Лебедева на опыты с радиоактивностью и с лучами Рентгена не поколебало его уверенности в важности исследований по давлению света. Именно в вопрос о световом давлении упиралось дальнейшее развитие фйзики. Доказательство реального существования этого эффекта могло прояснить природу света.
Что такое свет? Если луч света — это поток частиц, тогда давление пучка понятно и естественно. Если же луч света — это всего лишь направление распространения колебании, то давления быть не должно, поскольку в этом случае оно пульсирует вокруг нулевой точки и в целом, интегрально, должно равняться нулю. Лишь одна из теорий -г- теория Максвелла — объясняла существование светового давления, но в нее мало кто тогда верил. Единственным доказательством ее были пока опыты Герца и убедительное их развитие Лебедевым. Только прямое обнаружение следующего из максвелловской теории светового давления могло бы стать последним, решающим доказательством. Интерес к этому решающему доказательству вновь возбудила неожиданная находка В. Крукса.
В 1873 году английский химик Крукс решил определить атомный вес вновь открытого им элемента таллия и взвесить его очень точно. Чтобы случайные воздушные потоки не исказили картины, Крукс решил подвесить коромысла в вакууме. Подвесил — и поразился. Его тончайшие весы были чувствительны к теплу. Если источник тепла находился под предметом, он уменьшал его вес, если над — увеличивал.
Усовершенствуя этот свой нечаянный опыт, Крукс придумал забавную игрушку, которую называли то радиометром, то световой мельничкой. И уже в названии сквозило, казалось, объяснение принципа работы этого нехитрого устройства, состоящего из невесомых лопастей, или крылышек, сделанных из фольги и подвешенных на тонкой нити в вакууме, или, точнее сказать, в очень разреженном газе, Одна сторона лопастей была отполирована, другая — зачернена. Если теперь к устройству поднести какой-нибудь теплый предмет или осветить его солнечным светом, мель-ничка, составленная из лопастей, начинала крутиться вокруг оси. Отсюда и название — радиометр, так сказать, измеритель излучения, или еще конкретней — «световая мельничка», мельничка, движущаяся под действием света.
Прямое подтверждение теории светового давления Максвелла? Триумф?
Радиометр вызвал в научных кругах сенсацию, и прежде всего потому, что, казалось, непосредственно и убедительно доказывал существование предсказанного Максвеллом давления света. И когда в 1873 году радиометр впервые был продемонстрирован на заседании Королевского общества, вряд ли кто-нибудь был иного мнения. Движущей силой радиометра, несомненно, являлось механическое давление света.
Но были и скептики, которые забавлялись доверчивостью членов Королевского общества, еще раз поверивших «этому Круксу», только что оскандалившемуся со своими спиритуалистическими занятиями. Как писал Ф. Энгельс впоследствии: «Г-н Крукс начал исследовать спиритические явления приблизительно с 1871 г. и применял при этом целый ряд физических и механических аппаратов: пружинные весы, электрические батареи и т. д. Мы сейчас увидим, взял ли он с собой главный аппарат, скептиче-ски-критическую голову, и сохранил ли его до конца в пригодном для работы состоянии...
Духи доказывают существование четвертого измерения, как и четвертое измерение свидетельствует о существовании духов. А раз это установлено, то перед наукой открывается совершенно новое, необозримое поле деятельности. Вся математика и все естествознание прошлого оказываются только преддверием к математике четвертого и дальнейших измерений и к механике, физике, химии, физиологии духов, пребывающих в этих высших измерениях. Ведь установил же научным образом г-н Крукс, как велика потеря веса столов и другой мебели при переходе ее, — мы можем теперь сказать так, — в четвертое измерение...»
Аналогия между падением веса предметов при переходе их в «четвертое измерение» и падением веса предметов в вакууме под воздействием излучения была настолько прозрачна, что Круксу и другим членам Королевского общества, по крайней мере в то время, следовало ее иметь в виду.
Максвелл, присутствовавший на демонстрации радиометра в Королевском обществе, был очень взволнован. Он описывает это событие в письме Вильяму Томсону следующим образом: «...трехдюймовая света действует на внутренний диск так же быстро, как магнит действует на стрелку компаса. Нет времени для воздушных потоков, а сила гораздо больше веса всего воздуха, оставшегося в сосуде. Очень живое, сильное притяжение куском льда. Все это — в лучшем доступном вакууме...»
Как все это прекрасно согласуется со строками только что вышедшего его «Трактата»! Там было прямо сказано, что сконцентрированный свет электрической лампы, «пада-ющий на тонкий металлический диск, деликатно подвешенный в вакууме, возможно, сможет произвести ощутимый механический эффект, доступный для наблюдения». Он высчитал даже, что давление солнечных лучей на перпендикулярно расположенную пластину будет в десять раз слабее горизонтальной составляющей магнитной силы в Англии, Разумеется, Максвелл был весьма подготовлен к положительному восприятию «радиационного» объяснения работы радиометра.
И поэтому, когда редакция «Философских трудов» прислала ему на рецензирование статью Крукса с таким объяснением действия радиометра, юн написал на нее 24 февраля 1874 года положительную рецензию. Он, конечно, вполне согласен с тем, что «отталкивание от теплоизлучающего тела... обязано своим происхождением излучению».
Но что-то все-таки мучит Максвелла, омрачает его радость, не дает полностью почувствовать вкус победы. И это — то, что эффект слишком уж велик, слишком уж показателен, он непохож на то слабенькое давление, которого ожидал Максвелл. Поэтому он пишет в рецензии на статью Крукса, что, хотя он и предсказал в своем «Трактате» «возможное отталкивающее действие излучения», «эффект, обнаруженный м-ром Круксом, как будто бы обнаруживает силы значительно большей величины». Максвелл рекомендовал статью к опубликованию.
В то лето над Европой видна была большая комета, и ее явное присутствие на небе, характерный вид с отогнутым от Солнца хвостом вызвал в английских научных салонах новый прилив разговоров о возможной причине отклонения хвоста кометы от Солнца: не объясняется ли это отклонение предсказанным Максвеллом давлением солнечных лучей?
Большие споры происходили и в Кембридже на Скруп-Террас, 11, где жил Максвелл. И гости, и хозяин часто и подчас горячо поминали хвост кометы. Тут-то один из гостей заметил, что любимый терьер Максвелла Тоби вертится на одном месте, пытаясь ухватить себя за одноименный орган. Под всеобщий смех выяснилось, что Максвелл, не подозревая еще о грядущем появлении небесного тела, натаскал терьера по команде «хвост» гоняться за собственным хвостом. Во время бурных споров об отклонении кометного хвоста бедняге Тоби приходилось вертеться, как белке в колесе. Да, бурные были споры, и Максвеллу пришлось в них выступать против гипотезы об отклонении пометного хвоста за счет солнечного света, уже почти общепризнанной. Ему постепенно становилось ясно, что радиометр Крукса никак не подтверждал этой гипотезы. Эффект был слишком велик!
Вместе с Максвеллом, но совсем по другой причине, еще один человек противодействовал теории отклонения пометных хвостов за счет солнечных лучей. Это был О. Рейнольдс — резкий тридцатидвухлетний манчестерский профессор со странными манерами и пренеприятной привычкой видеть за всеми действиями других исключительно корыстные мотивы. Он был силен в прикладных, инженерных науках, но его познания в высокой физике были столь же невинны, сколь изощренны были познания Максвелла. Иногда знать меньше полезно, так как именно Рейнольдс предложил правильный ключ к решению проблемы радиометра.
Причина, по которой Максвелл противодействовал собственной теории, происходила от безбрежной широты и отдаленности горизонтов, где витала его мысль, от того, что не было для него в науке и природе «святых Земель», которые не подлежали исследованию. Не было для него «плохих» фактов. Факты хороши уже потому, что они таковыми являлись.
Рейнольдс, стоящий на более практической, приземленной точке зрения, работавший над проблемой осаждения пара из паровоздушных смесей на холодных поверхностях паровых машин, не верил в существование еще неизвестных сил и фактов. Он предположил, что действие радиометра вызывается все тем же: испарением с лопаток вертушки под действием тепла сконденсировавшейся на них смеси газов.
Как раз в это время вернулся из Сиама, где он наблюдал солнечное затмение, молодой сотрудник Рейнольдса А. Шустер. Он свежим взглядом окинул проблему радиометра. Предложил поставить простой, но решающий эксперимент. Вызывается ли вращение вертушки радиометра внешними или внутренними причинами?
Установить это просто. Нужно проверить, не вращается ли одновременно с вращением вертушки и сам сосуд? Если да, и причем в другую сторону, то причина вращения — внутри, если нет — снаружи. Прозрачное стекло сосуда не должно было испытывать никакого механического действия излучения. Если причина в излучении, сосуд должен оста-» ваться в покое. Поскольку Рейнольдс не захотел ставить такой эксперимент, Шустер провел его сам, подвесив сосуд на тонкой нити.
Как тольку к баллону подносили теплый предмет, вер-» тушка начинала вращаться. Но и сосуд тоже начинал вращаться — только в другую сторону. Это можно было легко наблюдать по движению зайчика от зеркальца, прикрепленного к сосуду.
Эксперимент Шустера был, конечно, сокрушительным: причина, как и предполагал О. Рейнольдс, находилась «внутри», а не «вне».
К тому времени выяснилось и еще одно обстоятельство, тоже немалой значимости. Никто раньше не заметил этого. Все вертушки вертелись совсем не так, как они должны были бы вертеться под действием излучения — известного или таинственного! Любое излучение должно было бы больше давить на отполированную, светлую сторону крылышек вертушки, чем на зачерненную. А все вертушки крутились в обратном направлении!
Стало ясно, что тепло и свет вносили в сосуд радиометра не столько механический момент, сколько тепловую энергию. Ключ к разгадке, очевидно, заключался во взаимодействии разреженного газа с поверхностью крылышек, проистекающем из разности температур зачерненной и светлой сторон лопаточек.
Если почитать научные журналы 1873 — 1879 годов, может создаться впечатление, что в лаборатории Крукса, где исследовались радиометры, шла подготовка к экспедиции, по меньшей мере, на иные планеты — настолько подробно преподносились малейшие новости из лаборатории.
Как потом оказалось, не напрасно — уже в год смерти Максвелла (1879) Крукс применил свой радиометр к исследованию катодных лучей, показав, что под их действием крылышки радиометра вращаются. В лаборатории Крукса действительно готовилось оборудование для покорения иных, неизвестных тогда миров — оборудование грядущей атомной физики.
Но прямого доказательства светового давления Крукс получить не смог, как не сделал этого и опытнейший О.-Ж. Френель. Они не добились какого-либо определенного результата. В этом виновато взаимодействие в радиометре целого клбка сил, возникающих за счет разности температур, тепловых потоков газа и радиометрического эффекта, появляющегося из-за отскакивания остаточных молекул газа от нагретой зеркальной поверхности.
Все эти помехи резко снижались при повышении вакуума. Крукс достиг одной сотой миллиметра ртутного столба. Лебедев понимал, что главное в эксперименте — добиться гораздо более высокого вакуума, возможно, с помощью ртутного вакуум-насоса.
Я. Н. Лебедев — М. К. Голицыной. «...Чем ближе я к решительному моменту, тем более я начинаю походить на Гамлета: хожу грустным по лаборатории и все чаще и чаще посматриваю на ртутный насос с затаенным сомнением: «быть или не быть?» Но у меня есть то преимущество перед Гамлетом, что я знаю выход из этого, по-видимому, безвыходного положения: надо закрыть глаза, размахнуть руками — и, вытянув указательные пальцы, поступить по известному правилу. Или, может быть, лучше разложить пасьянс?»
К весне 1899 года Лебедеву удалось обеспечить в сто раз более высокий вакуум, чем Круксу, и с помощью изящных приемов устранить действие сил, в тысячи раз превышающих искомые.
Я. Я. Лебедев. «Желая обнаружить на опыте... силы светового давления, я воспользовался расположением Риги в таком виде: между двумя кружками, вырезанными из тонкого листового никеля, была зажата согнутая в виде цилиндра слюдяная пластинка. Цилиндр служил телом радиометра; внутри его находилось неподвижно скрепленное с ним крылышко. Этот радиометр был подвешен на стеклянной нити внутри эвакуированного стеклянного баллона. Когда я направил на крылышко свет лампы, я постоянно наблюдал отклонения, которые были одного порядка с теми, которые вычисляются по Максвеллу...»
В том же 1899 году Лебедев написал диссертацию на степень магистра — «Экспериментальные исследования пондеромоторного действия волн на резонаторы», где содержалось как математическое, так и экспериментальное доказательство электромагнитной природы взаимодействия молекул и атомов. Уже сдав диссертацию на просмотр оппонентов, Лебедев осуществил эксперимент, в котором доказал существование «максвелло-бартолиевых» сил светового давления, и впоследствии включил описание его в свою диссертацию вместе с сообщением, в котором рассматривалась роль лучеиспускания во взаимодействии молекул.
Поехав на летний отдых за границу, Лебедев доложил о своих экспериментах в Швейцарском научном обществе в Лозанне.
Из протокола правления научного общества в Лозанне. «Г-н Лебедев, профессор Московского университета, сообщил Обществу о результатах своих первых исследований, относящихся к давлению света. Существование давления, оказываемого пучком световых лучей на поглощающую и отражающую поверхности, является следствием электромагнитной теории света; на него было указано Максвеллом, Значение этого давления, согласно теории, должно быть весьма малым: около 0,3 мг на метр квадратный черной поверхности. Г-ну Лебедеву удалось осуществить прибор, при помощи которого можно его измерить, и результат первых опытов согласуется с предсказанием теории».
Между тем магистерская диссертация Лебедева обсуждалась на факультете. Н. А. Умов, сам большой почитатель Д. К. Максвелла, первым увидел громадное значение диссертации П. Н. Лебедева. Вместе с профессорами А. П. Соколовым и К. А. Тимирязевым он рекомендовал ректору университета присвоить П. Н. Лебедеву ученую степень не магистра, а сразу доктора наук, минуя магистерскую степень. Так и было сделано.
28 февраля 1900 года Лебедев стал экстраординарным профессором Московского университета. Он не оставляет своих экспериментов, меняет характер измерений. Вместо метода Шустера и Риги, использовавшегося им ранее, он применяет метод Максвелла, который является более тонким, но и значительно более сложным по исполнению. Уже летом Лебедеву удалось преодолеть все экспериментальные трудности и доказать не только caivi факт наличия давления света, но и то, что оно вполне согласуется численно с предсказанными Максвеллом значениями.
Окрыленный, едет Лебедев на Международный конгресс физиков в Париже. Многие видные ученые мира, собравшиеся в августе 1900 года во французской столице, с восторгом приветствовали сообщение Лебедева.
Великий У. Томсон, лорд Кельвин, без которого нельзя было представить физику XIX века, как пьесу о принце датском без Гамлета, подошел к К. А. Тимирязеву, также участвовавшему в работе конгресса, и сказал ему: «Вы, может быть, знаете, что я всю жизнь воевал с Максвеллом, не признавая его светового давления! И вот ваш Лебедев заставил меня сдаться перед его опытами!»
Один из крупнейших физиков того времени Ф. Пашен также очень тепло отозвался об опытах Лебедева.
Ф. Пашен — П. И. Лебедеву (10 декабря 1900 года. Ганновер). «Я считаю Ваш результат одним из важнейших достижений физики за последние годы и не знаю, чем восхи-щаться больше — вашим экспериментальным искусством и у мастерством или выводами Максвелла и Бартоли. Я оцениваю трудности ваших опытов, тем более что я сам несколько времени назад задался целью доказать световое давление и проделал подобные же опыты, которые, однако, не дали положительного результата, потому что я не сумел исключить радиометрических действий. Ваш искусный прием, заключающийся в том, чтобы бросать свет на металлические диски, является ключом к разрешению вопроса».
Руководство Московского университета, однако, зовсе не считалось с заслугами Лебедева. Так, еще при выдвижении Лебедева на должность экстраординарного профессора в университете разгорелась горячая дискуссия: имеет ли право Лебедев, не обучавшийся в классической гимназии и не знающий латинского языка, занимать столь высокий пост? В результате голосования избирательных шаров оказалось в урне лишь незначительно больше, чем неизбирательных.
Только после громадного резонанса, который позже получила работа Лебедева за границей, она была премирована, но не в университете, а в Академии наук и стала поводом для его избрания членом-корреспондентом Акаде-мин.
Радость признания была для Лебедева несколько омрачена неожиданно поступившим к нему письмом американца Никольса.
П. Н. Лебедев — Н. П. Кастерину (24 декабря 190J года. Гейдельберг). «...Сегодня получил длинное письмо of Nichols’a, где он утверждает, что ничего не знал о моих работах раньше: это у них в Америке бывает! Тем существеннее то обстоятельство, что независимо получены тождественные результаты.
Вот еще маленький вопрос: менял ли Альтберг смазочное масло в своем трехфазном двигателе? Грязное масло дает большее нагревание и снашивание подшипников...»
Как видно из письма, Лебедев не очень-то беспокоится о своем приоритете. Однако американский ученый настаивал на своем, и некоторые американские историки, в том числе Р. Вуд, в своей «Истории физики» приписали именно
ему честь открытия светового давления. Тем не менее проверка опытов Никольса, проведенная американскими историками науки в 20-х годах нашего столетия, показала, что, несмотря на беседу с Лебедевым в Берлине и знание его намерений и идей, американскому исследователю не удалось достичь сколько-нибудь положительного вывода, и прежде всего из-за отсутствия того экспериментального мастерства, которым обладал Лебедев. Полученные Николь-сом результаты, как выяснилось, ничего не доказывали.
5
Волнения, связанные с получением докторской степени и с производством экспериментов по выявлению светового давления на твердые тела,, сказались в конце концов сил нещпим сердечным приступом, который Лебедев воспринял как первый звонок. Трагические нотки появляются в его личной переписке.
Я. Н. Лебедев — М. Д. Голицыной (10 апреля 1902 года. Гейдельберг). «...Как видите, я далеко, в Heidelberg’e, проездом на Юг я предполагал остановиться здесь на несколько дней, но болезнь привязала меня на всю зиму. На личном опыте пришлось убедиться, как бессильна медицина в сколько-нибудь сложных случаях: великий ЕгЬ утешает меня тем, что страдание «нервное» (что значит «нервное» — никому неизвестно) и что может со временем (с каким временем? 1000 лет?) совершенно пройти. Теперь мне лучше, тупое отчаяние сменилось слабой надеждой, что дело поправится настолько, что я опять буду в состоянии работать. В течение зимы мне пришлось вынести очень тяжелые муки — это была не жизнь, а какое-то длительное, нетерпимое умирание; боль притупила все интересы (н§ говоря уже о невозможности работать); прибавьте к этому нравственное тягостное сознание, что я совершенно наЬр&сно мучаю мою сестру тем, что не могу ни вылечиться, ни умереть — и Вы увидите, что не весело прожил я этот год.
Как Вы знаете, княгиня, в моей личной жизни было та мало радостей, что расстаться с этой жизнью мне не жалко (я говорю это потому, что знаю, что значит умирать; я прошлой весной совершенно «случайно» пережил тяжелый сердечный припадок) — мне жалко только, что со мной погибает полезная людям очень хорошая машина для изучения природы: свои планы я должен унести с со-
бой, так как я никому не могу завещать ни моей большой опытности, ни моего экспериментаторского таланта. Я знаю, что через двадцать лет эти планы будут осуществлены другими, но что стоит науке двадцать лет опоздания? И это сознание, что решение некоторых важных вопросов близко, что я знаю секрет, как их надо решить, но бессилен передать их другим — это сознание более мучительно, чем Вы думаете...»
С осени 1901 года Лебедев находится на лечении. Отчаянная борьба с врачами, которым он доказывал необхо-димость и «полезность для него» «тихо сидеть в лаборатории» и доделать, наконец, «световое давление», оканчивается его полным поражением. Лебедев с тоской покидает и свою лабораторию, и своих «физико-подростков». Он оставляет им трогательнейшие подробнейшие, на многих страницах, инструкции в виде, как он сам шутит, «замогильного гласа». Конечно, он понимает, что давать подобные инструкции еще более нелепо, чем описывать план предстоящего сражения. Он шутит, что только в Венском штабе могли руководить операциями Суворова в Альпах. И тем не менее, в приложении к письму Н. П. Кастерину содержатся подробнейшие инструкции В. Я. Альтбергу,
В. Д. Зернову, Н. Н. Златовратскому и В. И. Романову.
Находясь на лечении в Наугейме, Лебедев испытывает мучительное желание возвратиться в лабораторию и работать там, исследуя световое давление на газы. Он разрабатывает детали экспериментальной установки. В письмах в Москву Лебедев хочет всячески продемонстрировать, что он «не такая развалина, которая рассыпется», если с ним «начать говорить о физике».
В конце 1901 — начале 1902 года в Петербурге состоялся XI съезд естествоиспытателей и врачей. Там было много докладов по физике, в том числе Умова (о работе Лебедева), Михельсона, Кастерина (о давлении звука), Колли и Златовратского — учеников Лебедева, демонстрация Эйхенвальдом «поющей» вольтовой дуги.
А. Р. Колли — Я. Я. Лебедеву (28 января 1902 года, Москва). «...Был я на праздниках на съезде и познакомился чуть ли не со всеми русскими физиками. И могу прямо заявить, что все, что только было интересного, все было из Москвы. Самый интересный ссзор был обзор Михельсона по термодинамике лучистой энергии. Из научных работ докладывались Ваша работа? теоретич. работа Ник, Петр. Кастерина по звуковому давлению, работа по коротким волнам Златовратского, работа по звуковому давлению Альтберга и моя работа по дисперсии в электрическом спектре; все остальное было совершенно бесцветно. Всех интереснее на съезде был Ник. Ник. Шиллер, который спорил со всеми и обо всем. Вообще он произвел на меня впечатление человека очень умного и удивительно разностороннего. Читал он, между прочим, тоже обзор по термодинамике, или, вернее, термодинамику, как он ее понимает. Тут была такая бездна премудрости, до того излагалось все обще, что только вначале мне удалось еще кое-как следить за всеми общими свойствами всяких термодинамических функций, где не было ни температуры, ни энергии, ни энтропии, а потом я совсем отстал и чувствовал себя так же, как я себя раз чувствовал в 1 час ночи в Большом театре после того, как прослушал всего «Зигфрида» Вагнера...»
Я. Я. Лебедев — Н. П. Кастерину (30 (17) января 1902 года. Гейдельберг). «...Говоря о съезде, Вы заканчиваете словами, что «среди русских физиков москвичи не так уж плохи, как нам твердят это в Москве». Вы не писали обычного в таких случаях avis au lectur, но я уже начинаю огрызаться, что comparaison n’est pas raison — ведь другие-то вообще ничего не делают, за исключением Шиллера и Гольдгаммера — да и то более чем мало, а в Петербурге, так это все микроцефалы, физические ацтеки. Признаю за собою слабость «выпукло» выражаться, но я всегда делаю сравнения вверх, а не вниз. Не скрою от Вас, что торжество Москвы меня действительно порадовало... и — знаете — мне иногда кажется, что, конечно, немного, но все-таки чуть-чуть в этом сказался полезным мой «темперамент»...»
Лебедев все время возвращается к мысли о доказательстве существования светового давления на молекулы газа. На эту тему он сделал сообщение на съезде Немецкого астрономического общества в Геттингене в августе 1902 года. Доклад его вызвал яростные возражения К. Шварцшильда, который ссылался на проведенные им «точные расчеты». Лебедев, возражая ему, указывал на кое-какие неточности, все-таки вкравшиеся в расчет. И вновь и вновь убеждается он в необходимости прямого экспериментального доказательства существования светового давления на газы.
В Москве его отвлекает болезнь, его отвлекают дела со строительством нового Физического института, или, как
он его называет, «Левиафана». Идея создания этого института принадлежала Столетову и вызвана была его горячей белой завистью к физическому институту, построенному и функционирующему уже в Англии — Кавендишской лаборатории Кембриджского университета.
Лебедев, выполняя завет Столетова, вложил массу труда и ума в организацию Физического института. Он обследовал множество физических лабораторий за границей, выписывал оттуда самое необходимое, самое современное оборудование, размещал заказы на оборудование в России. Завел даже специальную папку, которую назвал «Потребности физического института», в которую складывал все бумаги, относящиеся к таковым. Лебедев задумал сделать институт одним из лучших физических институтов в мире.
В конце концов многочисленные просьбы, доводы и хлопоты принесли успех. На строительство института были отпущены большие деньги. Оно обошлось почти в полмиллиона рублей; 75 тысяч рублей было ассигновано на оборудование.
Наследство Столетова было поделено натрое. В Физическом институте организовали три отделения, которыми заведовали Н. А. Умов, А. П. Соколов и П. Н. Лебедев.
Лебедев был несказанно счастлив и появившейся у него во дворе университета лаборатории в новом институте, и всеми правдами и неправдами дополнительно «выбитому» подвалу, где также можно было разместить несколько экспериментальных установок. Вскоре, однако, выяснилось, что из отпущенных денег для оборудований отделения Лебедева было выделено всего 533 рубля. Протесты Лебедева вызвали следующий открыто не высказывающийся ответ: «Зачем вы набираете учеников и тратите на руководство их работами столько времени! Университет — не Академия наук!.. Вы защитили диссертацию; мы вас приняли в свою среду. То, что вы сейчас делаете, совершенно излишне: нам этого не нужно. Зачем вы TpaTHte попусту свои силы?» Основная масса университетского окружения не понимала, что новая физика требовала нового подхода, дорогостоящих приборов, исследователей-профессионалов, работающих в научных коллективах.
Лебедев обращается за помощью к попечителю народного образования Московского округа.
Обращение ординарного профессора П. Н. Лебедева к попечителю народного образования Московского округа
(1 мая 1904 года. Москва). «...В феврале с. г. обращался в физико-математический факультет с просьбой разрешить мне приобрести на сумму в 8400 р. физические инструменты, необходимые мне при моих исследованиях и при работах моих учеников. Факультет направил мое прошение в правление университета; правление отказало мне.
В том же заседании факультета я просил ассигновать 40 р. в месяц на наем мастера, безусловно необходимого для разных слесарных работ, постоянно требующихся при производстве специальных исследований по физике; правление отказалось ассигновать эти средства.
8 апреля с. г. состоялось собрание заведующих учебновспомогательными учреждениями университета для распределения сумм, ассигнованных на оборудование новых зданий университета (75000 р.). Я обратился в собрание с ходатайством уделить мне сумму в 1500 р. для покупки лабораторных приборов. Со стороны собрания заведующих я встретил отказ...
...В новом Физическом институте, одно здание которого стоит более 450 тыс. руб., я, штатный профессор, не имею возможности ни читать обязательный курс опытной физики, ни учить в лаборатории, ни самому научно работать... Я считаю, что четыре года бесправного положения, в течение которых я не мог, не по своей вине, добиться возможности учить и работать при сколько-нибудь сносных условиях, а также опубликованные мною за это время научные исследования (по световому давлению) дают мне право рассчитывать на такое положение, которым пользуются и должны пользоваться штатные профессора университета».
Помощь не поступает.
К. А. Тимирязев выступил в защиту Г1. Н. Лебедева на заседании университетского Совета.
— Закон на стороне профессора Лебедева, — говорил он, — только вследствие открытого нарушения его законных прав он лишается возможности работать и давать работать своим ученикам; ему фактически препятствуют читать курс, который он должен читать и по призванию, и по обязанности, его даже не включают в число преподавателей на следующий год... Лебедеву осталось примириться с унизительной ролью какого-то фиктивного профессора или покинуть университет, в котором он не находил защиты своих законных прав и элементарной справедливости. Некоторые члены Совета, возможно, сочувствуют Лебедеву, но все остается так, как было раньше. П. Н. Лебедев глубоко переживает происходящее.
«Роль насадителя наук в дорогом отечестве, — говорил он, — представляется мне какой-то безвкусной канителью, я чувствую, что я как ученый погибаю безвозвратно: окружающая действительность — какой-то беспрерывный одуряющий кошмар, беспросветное отчаяние. Если в Академии зайдет речь о преуспевании наук в России, то скажите от имени несчастного профессора Московского университета, что ничего нет: нет ни процветания, нет ни наук — ничего нет...»
Свое моральное состояние П. Н. Лебедев описывал следующим образом: «Если бы нашелся достаточно талантливый художник-символист, который бы брался описывать портрет не человека, а его настроение, то на моей натуре он составил бы себе всемирное имя; рисунок был бы прост: ровно загрунтованное полотно, без каких-либо передних и задних планов или проблесков, но колер... всякий недальтоник, проходя мимо, наверное бы, плюнул: «экая пакость», — а клуб пессимистов в Америке избрал бы этот колер обязательным для форменных брюк своих сочленов...»
Слабой компенсацией за мытарства, претерпеваемые Лебедевым в Академии, явилось присуждение ему академической премии имени профессора С. А. Иванова. Раз в два года ею награждали за труды, «которые существенно обогащают науку, внося в нее новые факты, наблюдения и воззрения». Положение о премии было обнародовано, на нее объявили конкурс. Однако конкурсантов не оказалось. В таком случае, согласно Положению, премиальная комиссия могла предложить кандидата сама, и ею был выдвинут Лебедев.
Физико-математическое отделение Академии единогласно утвердило это предложение.
Большую роль в присуждении премии сыграл академик Б. Б. Голицын.
П. Н. Лебедев — Б. Б. Голицыну (13 января 1905 года„ Москва). «...Рассчитывая, что Вы уже вернулись из-за границы, пишу Вам несколько слов, во-первых, чтобы поблагодарить Вас за то, что Академия возымела мысль присудить мне премию, хотя я в принципе могу спорить, что не мне, по моему взгляду, надо было бы ее присудить: есть две работы, на которые позволил бы себе обратить’ «на всякий случай» Ваше внимание: это работа Н. П, Кастерина «Аномальная дисперсия звука», о которой я Вам говорил, и работы А. А. Эйхенвальда (моего друга детства) по конвекционным токам и токам сдвижения в изоляторах; если у Вас когда-нибудь найдется спокойное гремя, чтобы проштудировать эту работу, Вы убедитесь (напечат. в Annalen der Physik. 1903, Bd. XI, S. 1 und 421), что выполнена она блестяще и касается очень важного вопроса неподвижности эфира в двигающихся телах...»
И все же премия сделала свое дело. Лебедев воспрял духом.
П. Н. Лебедев — А. Н. Лебедевой (8 июля 1905 года. Москва). «...Так как ты все равно не скоро попадешь в Pontresina, то я не телеграфирую, а пишу — пишу потому, что обретаюсь в духоподъеме — точно помолодел на 10 лет! Одну очень сложную работу, которая должна дать результаты исключительного значения, оказывается, возможно сделать, хотя и при затрате огромного, усидчивого труда и... большой порции счастья...»
Обычно весной Лебедев ездил на отдых и лечение в Швейцарию, которую ему настоятельно рекомендовали врачи. Вот и весной 1907 года он туда отправился. По дороге на курорт Лебедев остановился в Гейдельберге, где жил крупный европейский специалист по сердечным болезням профессор В. Эрб. Он признал состояние больного удовлетворительным, но настоятельно рекомендовал ему тут же ехать отдыхать. Лебедев решил воспользоваться случаем и посетить жившего в Гейдельберге и работавшего в астрономической обсерватории на горе Кёнигстул астрофизика М. Вольфа, которому он и рассказал о своих экспериментах по световому давлению на газы.
Вольф высказал крайний интерес и пояснил, что среди астрофизиков по этому вопросу не было единства. Вольф, не зная о болезни Лебедева, убедил его в том, что только эксперименты его, Лебедева, смогут прояснить эту неопределенную ситуацию и помочь астрофизикам всего мира выбраться из затруднительного критического положения, связанного с невозможностью построить теорию комет и разобраться в строении звезд. Он смог убедить Лебедева в том, что на тот день не существует более важной научной работы. И — более срочной...
Под влиянием беседы у Лебедева возник ряд новых идей о том, как преодолеть препятствия к проведению эксперимента. В частности, можно было использовать более теплопроводные газы, в которых не существует большой разницы температур и, следовательно, перепадов давлений.
С этими мыслями Лебедев и покинул Гейдельберг, но поехал отнюдь не в Швейцарию на лечение, а обратно в Москву. Там он испытал более двадцати моделей экспериментальных аппаратов и, наконец, нашел такой, который давал наиболее надежный результат.
Лишь к концу 1907 года оканчивается титаническая серия опытов Лебедева с доказательством существования сил светового давления на газы и, более того, измерением этих сил. Преодолены чудовищные экспериментальные трудности. Ученый докладывает о своей работе Первому Менделеевскому съезду, созванному 27 декабря 1907 года. Собравшиеся единодушно отметили важность этой работы для физики, астрофизики и даже — для физики микромира.
Устройство, использованное Лебедевым, было необычайно остроумным. Идея прибора заключалась в том, что газ в камере, содержащей освещаемое и темное отделения, давлением света приводился в круговое вращение, а движение газа определялось при помощи легкого поршенька, расположенного в темной части. К газу, заполнявшему прибор, добавляли водород — чтобы увеличить теплопроводность и избежать пагубных для измерений перепадов температуры и давления. Изящество и убедительность эксперимента нашли широкий отклик в научных кругах Европы. Лондонский Королевский институт избрал Лебедева своим почетным членом. Его единодушно стали считать лучшим физиком-экспериментатором в мире.
Статья Лебедева «Опытные исследования давления света на газы», опубликованная в 1910 году, содержит всего десять страниц, включая чертежи прибора. Каждая из них стоила года работы. Ведь с 1901 года Лебедев не опубликовал ни одной статьи.
Но задолго до ее публикации, в момент наивысшего творческого счастья, когда невозможное становилось возможным, когда с легкостью получалось то, на что в другое время ушли бы годы, — именно тогда посетила Лебедева новая научная идея.
П. Н. Лебедев — М. К. Голицыной (8 мая 1909 года. Москва). «У Вас, княгиня, есть такое шестое чувство... Право, я опять влюблен в свою науку, влюблен как мальчик, ну совсем как прежде: я сейчас так увлекаюсь, работаю целыми днями, точно я и больным не был — опять я такой же, каким был прежде: я чувствую свою психическую силу и свежесть, я играю трудностями, я чувствую, что я Cyrano de Bergerac в физике, а поэтому я и могу, и хочу, и буду Вам писать: теперь я имею на это нравственное (т. е. мужское) право. И я знаю, что Вы не только простили меня — больше: я чувствую, что Вы рады так, как может и умеет быть рада только женщина — и далеко не всякая Но позвольте мне быть еще большим эгоистом и ,яачать Вам писать о том, что я выдумал, что я теперь щелаю. Конечно, мысль очень проста: по некоторым соображениям, на которых я останавливаться не буду, я пришел к выводу, что все вращающиеся тела должны быть магнитны — та особенность, что наша Земля магнитна и притягивает синий конец магнитной стрелки компаса к северному полюсу, обусловлена именно ее вращением вокруг оси. Но это только идея — нужен опыт, и теперь я его подготовляю: я возьму ось, которая делает более тысячи оборотов в одну секунду — как раз конструкцией этого прибора я сейчас занят, — на эту ось я буду насаживать шарики в три сантиметра диаметра из разных веществ: меди, алюминия, пробки, стекла и т. д. — и буду приводить во вращение; они должны сделаться магнитными так же, как Земля; чтобы в этом убедиться, я возьму крохотную магнитную стрелку — всего в два миллиметра длины, — подвешу ее к тончайшей кварцевой ниточке — тогда ее конец должен притягиваться к полюсу вращающегося шарика.
И вот я теперь как Фауст в первом действии перед очаровательным видением: как прялка Маргариты, жужжит моя ось, я вижу тончайшие кварцевые нити... для полноты картины недостает только Маргариты...
Но главное тут не оси и не нити, а чувство радости жизни, жажда ловить каждый момент, ощущение своей цели, своей ценности для кого-то и для чего-то, яркий теплый луч, пронизывающий всю душу».
Счастливое время отмечено и важными семейными событиями. Лебедев находит свою избранницу. Это — сестра его старинного друга Саши Эйхенвальда Валентина Александровна. Настроение и работоспособность Лебедева резко повышаются. Как видно из приведенного выше письма, Лебедев в душе уже распрощался с силами светового давления на газы и принимается за новую серию исследований, связанных с природой магнетизма планет.
Да, извечный вопрос о магнитности Земли, о магнит-ности планет, о магнетизме Солнца занимает теперь Лебедева. Он проводит серию экспериментов, предполагая, что быстрое вращение любого тела должно привести к поляризации вещества и возникновению магнетизма. Лебедев пытается найти во вращающихся телах признаки магнетизма, но ничего не обнаруживает.
Полагая, что все дело в скорости, он увеличивает частоту вращения до 35 тысяч оборотов в минуту. Справедливо считая, что столь высокая скорость может разрушить прибор и повредить все вокруг, он удаляет из лаборатории всех и остается один.
Он изготавливает «мини-земной шар» для исследования природы геомагнетизма. Хочет проверить гипотезу Сузер-ленда о том, что причиной магнетизма могут служить гравитационные сдвиги. Эксперимент представляет, по словам самого Лебедева, «чудовищную трудность».
Наконец, трудности преодолены, но эффекта нет. Лебедев ищет причины неудач. Он полон решимости довести дело до конца.
И тут, в этот самый ответственный момент работа Лебедева неожиданным образом прерывается, и прерывается навсегда. По причинам, в которые никто бы не мог поверить, зная подчеркнутую аполитичность Лебедева. Действительно, чтобы заставить его прекратить научную работу, нужно было что-то экстраординарное.
Здесь необходимы пояснения. После революции 1905 года студенты завоевали ряд «свобод». Закон об автономности университетов гласил, что высшей властью в них является ректорат. Однако начавшееся в 1911 году в стране широкое политическое движение и возникшие в связи с ним студенческие волнения принудили реакционного министра просвещения Л. А. Кассо позволить полиции вмешиваться в жизнь университета, принимать «быстрые и ре- шительные» меры.
Члены ректората Московского университета, в том числе ректор А. А. Мануйлов и проректор М. А. Мензбир, не согласились-с этим распоряжением и подали заявления об отставке. Вызов был принят.
Кассо увольняет членов ректората не только с их административных, но и с профессорских постов.
Наглое решение министерства вызвало бурю. Десятки профессоров и преподавателей подали в отставку, и среди них — Н. А. Умов, К. А. Тимирязев, Н. Д. Зелинский, А. А. Эйхенвальд, С. А. Чаплыгин и другие. Встал этот вопрос чести и перед П. Н. Лебедевым.
П. Н. .Лебедев жаловался друзьям: историки, юристы и даже медики — те могут сразу уйти, а у меня ведь лаборатория, и главное — более двадцати учеников:все они пойдут за мной... Развалить их работу нетрудно, но устроить их где-то очень затруднительно, почти невозможно. Это для меня — вопрос жизни...
А. Н. Лебедева впоследствии рассказывала известному физику и историку науки Т. П. Кравцу о том, что Петр Николаевич мучился несколько дней, прежде чем принять решение уйти. В душе его бушевала страшная буря. Ученый, видел, что погибает дело его жизни, дело, созданное им и его учителями с таким трудом. Он очень изменился, за несколько дней поседел, похудел и все-таки решил поступить так, как поступил бы настоящий гражданин.
Заявление П. Н. Лебедева попечителю Московского учебного округа (3 февраля 1911 года. Москва). «Его превосходительству, попечителю Московского учебного округа от ординарного профессора Московского императорского университета Петра Николаевича Лебедева.
Считая себя целиком солидарным с избранным всеми профессорами императорского университета, а следовательно и мною, ректоратом, не могу согласиться с приказом управляющего министерством народного просвещения об увольнении гг. Мануйлова, Мензбира и Минакова от должностей профессоров университета, чьи обязанности они выполняли с честью. В этих условиях не считаю возможным продолжать службу в университете и покорнейше прошу отчислить меня из состава профессуры университета...»
Прошло совсем немного времени, и судьба Лебедева начала уже решаться в правительственных кабинетах и даже во дворце. Вот официальная выписка, присланная П. Н. Лебедеву по почте: «Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 28 февраля 1911 года, напечатанном в № 47 «Правительственного вестника» за текущий год, уволен от службы согласно прошению ординарный профессор императорского Московского университета, доктор физики, статский советник Лебедев».
...Вот он и без работы и практически без средств к существованию. Состояние, оставленное отцом, растаяло. Он лишился и тех двух тысяч четырехсот рублей, которые ему раньше ежегодно выплачивал университет. Он потерял свою лабораторию, своих учеников, даже возможность вернуться в университет, возможность, которой воспользовались многие из шестисот человек, покинувших его в то тревожное время, поскольку он был неблагонадежным. Вновь в университет его бы никогда не взяли, как взяли Н. Е. Жуковского, В. М. Бехтерева, А. Н. Северцева, занявшего даже место проректора Мензбира.
П. Н. Лебедев — М. С. Голицыной (конец февраля — начало марта 1911 года. Москва). «Пишу Вам, княгиня, — только Вам — несколько строчек. Мне так тяжело, кругом ночь, тишина, и так хочется стиснуть покрепче зубы и застонать. Что случилось? — спросите Вы. Да ничего необычного: здание личной жизни, личного счастья — нет, не счастья, а радости жизни — было построено на песке, теперь дало трещины и, вероятно, скоро рухнет, а силы строить новое, даже силы, чтобы разровнять новое место, — нет, нет веры, нет надежды.
Голова набита научными планами, остроумные работы в $рду; не сказал я еще своего последнего слова — я это понимаю умом, понимаю умом слова «долг», «забота», «свыкнется» — все понимаю, но ужас, ужас постылой, ненавистной жизни меня бьет лихорадкой, старый, больной, одинокий. Я знаю ощущение близости смерти, я пережил егр секунду за секундой в абсолютно ясном сознании во время одного сердечного припадка (врач тоже не думал, что я переживу) — знаю это жуткое чувство, знаю, что значит готовиться к этому шагу, знаю, что этим не шутят, — и вот, если бы сейчас, как тогда, вот тут, когда я Вам пишу, ко мне опять подошла бы смерть, я теперь не препятствовал бы, а сам пошел ей навстречу — так ясно мне, что жизнь моя кончена...»
Разумеется, о Лебедеве не забыли... На него тут же посыпался град приглашений. Приглашал Варшавский университет, приглашал Харьков, приглашал Киев, приглашал Стокгольм. С. Аррениус писал ему: «Естественно, что для Нобелевского института было бы большой честью, если Вы пожелали бы там устроиться и работать, и мы, без сомнения, предоставили бы Вам все необходимые средства, чтобы Вы могли дальше работать... Вы, разумеется, получили бы совершенно свободное положение, как это соответствует Вашему рангу в науке». Приглашал Лебедева на работу и директор Главной Палаты мер и весов в Петербурге Н. Г. Егоров.
Но Лебедев никуда не хотел уезжать! Он не хотел покидать Москву, где так много сделано и где жили его ученики. Он принимает приглашение Московского городского народного университета имени А. Л. Шанявского. Это учебное заведение было построено на средства очень богатого генерала Шанявского, оставившего несколько миллионов на то, чтобы создать в Москве истинно народный университет, в котором люди без гимназической подготовки, различного вероисповедания, национальности, сословия, пола, не обладающие средствами, могли бы получать образование.
К 1911 году в народном университете училось уже около двух с половиной тысяч студентов. Более половины из них были девушки.
Два отделения университета Шанявского — академическое и научно-популярное — различались по своему назначению. Если первое готовило слушателей к поступлению в настоящий университет и вообще к получению высшего образования, то второе служило ниве просвещения. Громадное большинство преподавателей, лекторов, профессоров университета работало без оплаты. Бесплатно преподавали многие профессора и приват-доценты из Московского университета. Жалование получали лишь некоторые преподаватели, занимавшиеся со слушателями на академическом отделении.
Вот куда пришел Лебедев, радостный от сознания выполненного долга и печальный по иным очевидным причинам: здесь, в корпусах народного университета, на Волхонке, не было его лаборатории, не было его учеников. Здесь был только старинный друг и теперь родственник — Саша Эйхенвальд, являвшийся заместителем председателя Попечительского совета.
На что надеялся Лебедев? На чудо благотворительности. И он не ошибся. За сохранение жизни созданной им научной школы, за постройку новой физической лаборатории при народном университете принялось «Научное обще ство имени X. С. Леденцова», богатого купца, поставившего своей целью процветание наук и жертвовавшего на это свои деньги.
Общество Леденцова выделило Лебедеву для производства первоочередных работ по строительству новой физической лаборатории 15 тысяч рублей. Эти средства пошли на аренду подвала в арбатском Мертвом переулке и квартиры для руководителя этой лаборатории — П. Н. Лебедева.
— Что ж, будем делать живое дело в Мертвом переулке, — говаривал Лебедев своим друзьям и ученикам.
Он не принимает повюрного приглашения из Нобелевского института, не поддерживает разговоров о возможном присуждении ему Нобелевской премии.
В сентябре 1911 года Лебедев возвращается в Москву после длительного лечения. Он занимается со своими учениками, предлагает им темы исследований и одновременно пропагандирует новую идею — создать Московский научный институт, типа того клинического городка Медицинского института, который недавно был построен в Москве на средства частных лиц. Лебедев публикует в газетах обращения к русской общественности, статьи «Русское общество и русские национальные лаборатории» и «Памяти первого русского ученого». Он ратует за создание таких научных учреждений, которые были бы свободны «от неожиданных потрясений научных институтов, созданных усилиями частных пожертвователей».
Идея получает отклик. В адрес Лебедева поступают значительные суммы для строительства Московского научного института. Архитектор А. Н. Соколов консультируется с ним по поводу архитектуры здания, которое намечено к строительству на Миусской площади. Активно поддерживают Лебедева его ученики. В одной из московских газет они опубликовали «Письмо в редакцию»: «В числе лабораторий, прекративших свою научную деятельность в связи с совершившимся уходом профессоров из Московского университета, находится и лаборатория научных исследований при Физическом институте, состоявшая под руководством профессора П. Н. Лебедева.
Мы, нижеподписавшиеся ученики профессора Лебедева, имеем в виду в недалеком будущем подробно ознакомить русское общество с трудами как самого профессора Лебедева, так и руководимой им лаборатории. В настоящий момент мы считаем долгом выяснить хотя бы приблизительно размеры переживаемой нами потери...
Профессор П. Н. Лебедев не удовлетворился одними собственными научными трудами. За короткое время... он успел создать вокруг себя обширную научную школу. Его лаборатория превосходит едва ли не все существующие в мире по количеству ведущихся в ней научных работ, что находится далеко не в соответствии с ее небольшими размерами и отпускаемыми на нее скромными средствами. В последнее время в ней велось до тридцати научных работ, объединенных общей программой. Некоторые вопросы физики именно в московской школе, совместными трудами ее представителей, получили свое полное и исчерпывающее разрешение...
Физика стоит ныне в центре всех точных наук, всех научных разработок, техническо-прикладных дисциплин. Неужели суждено погибнуть ее молодому пристанищу?
Инициатива создания нового специального научно-исследовательского института, заведование которым нужно просить взять на себя профессора Петра Николаевича Лебедева, должна принадлежать обществу.
Институт этот должен стоять отдельно от учебного заведения... чтобы быть вне сферы тех потрясений, которые периодически испытывают наши университеты. Он должен служить одной науке, не отвлекаемой от нее ни делом школьного преподавания, ни какими-либо иными посторонними задачами. Он должен быть поручен профессору Лебедеву, чтобы в нем могла продолжаться интересная работа лаборатории... чтобы получили вновь приют начатые исследования, которые теперь стоят перед грозной опасностью никогда не увидеть своего конца, чтобы сохранилось для нашей родины крупное сосредоточение науки, которая одна, ценою упорного труда, выведет Россию на торную дорогу прогресса.
М. В. Вильборг, Е. А. Гопиус, А. Г. Иоллас, П. П. Кандидов, Т. П. Кравец, П. П. Лазарев, Н. Н. Лебеденко, Л» И. Лисицын, А. Б. Млодзеевский, Г. Б. Порт, В. И. Романов, К. А. Тимирязев, В. С. Титов, Н. Е. Успенский, Н. К. Шадро, В. И. Зомарх, К. П. Яковлев».
Мысли о создании «вольной» академии быстро дошли до Петербурга и взволновали определенные круги.
Попечителю Московского учебного округа действительному статскому советнику Тихомирову от товарища министра народного просвещения Шевлякова. Секретно.
«Ваше превосходительство, милостивый государь Александр Андреевич! Министерством народного просвещения, а также другими авторитетными и компетентными органами получены сведения о том, что в Москве некоторыми неблагонамеренными частными лицами проектируется организация так называемой «Вольной академии». Ячейками вышеуказанной т. н. «Вольной академии» должны стать лаборатории, основанные профессорами императорского Московского университета, демонстративно ушедшими в отставку: физической — П. Н. Лебедева, биологической — М. А. Мензбира, химической — Н. Д. Зелинского.
Деньги на организацию этих частных лабораторий, создаваемых для подрыва и дискредитации правительственных научных учреждений, предполагается получить от правления университета им. Шанявского и Леденцовского общества содействия опытным наукам. Из осведомленных источников сообщается, что московские капиталисты, известные своим радикализмом, обещали дать на организацию т. н. «Вольной академии» 300 000 рублей.
По содержанию изложенного покорнейше прошу Ваше превосходительство принять соответствующие меры к недопущению каких бы то ни было учреждений, имеющих противоправительственный характер...»
Но и этого было мало. В газете «Кремль», издававшейся профессором Московского университета историком Д. Иловайским, под псевдонимом «Русский», была опубликована статья о лаборатории в Мертвом переулке. В ее названии содержался открытый вызов: «На еврейские деньги». Говорилось в ней о том, что на деньги «иудо-ма-сонов» некий Лебедев создал в подвале дома, принадлежащего подозрительному поляку, весьма странную лабораторию, куда могут быть приняты или не русские, или же русские, отказывающиеся от своей родной национальности и дающие в том подписку. Чем занимаются в подвале — неизвестно, однако днем и ночью стоит у дверей того подвала вооруженная охрана. Полиция же бездействует...
Слабое сердце Лебедева не выдержало всех этих испытаний. 14 марта 1912 года оно остановилось навсегда.
Похоронили Лебедева на Елисеевском кладбище в Лефортове. В «Русских ведомостях» за 8 апреля 1912 года появился гневный некролог Тимирязева: «Успокоили Лебедева. Успокоили Московский университет. Успокоили русскую науку. А кто измерит глубину нравственного растления молодых сил страны, мобилизуемых на борьбу с этой ее главной умственной силой? И это в то время, когда цивилизованные народы уже знают, что залог успеха в мировом состязании лежит не в золоте и железе, даже не в одном труде пахаря в поле, рабочего в мастерской, но и в делающей этот труд плодотворным творческой мысли ученого в лаборатории. Или страна, видевшая одно возрождение, доживет до второго, когда перевес нравственных сил окажется на стороне «невольников чести», каким был Лебедев? Тогда, и только тогда, людям «с умом и сердцем» откроется, наконец, возможность жить в России, а не только родиться в ней, чтобы с разбитым сердцем умирать»,
Смерть, Лебедева была с глубокой печалью встречена и в России и во всем мире. Более сотни телеграмм было получено в Москве. Их подписали И. П. Павлов, В. И. Вернадский, В. А. Михельсон, Д. А. Гольдгаммер, В. Д. Зер нов, Б. Б. Голицын, В. К. Лебединский, А. Р. Колли, О. Д. Хвольсон, Лондонский Королевский институт,
В. Рентген, Н. Винер, В. Нернст, Э. Варбург, У. Томсон, Д. Пойнтинг, В. Крукс, М. Абрагам, Ф. Ленард, А. Риги,
В. Гальвакс, П. Кюри, М. Планк. Горем наполнились слова Павлова: «Всей душой разделяю скорбь утраты незаменимого Петра Николаевича Лебедева. Когда же Россия научится беречь своих выдающихся сынов — истинную опору Отечества?»
Лебедев погиб. Но не погибла его лаборатория, его школа. В подвале обшарпанного дома в Мертвом переулке вертелись динамо-машины, стучали вакуум-насосы, деловито бегали зайчики гальванометров...
А на самом краю Москвы, в Миусах, каменщики заканчивали уже работу. Трехэтажное здание с классическими колоннами портика возникало здесь из небытия. Здание для нового Физического института. «Левиафана», о котором мечтал Лебедев...
ГЛАВА IX
СВЕТ —
МОЕ ПРИЗВАНИЕ...
1
К концу прошлого века на левом берегу реки Москвы, на живописных холмах, называвшихся у москвичей Трехгорьем, сам собой образовался обширный рабочий район Пресня. Здесь царила не сословная знать, но цепкие деловые люди Прохоровы, создавшие колоссальную империю, простиравшуюся от Варшавы до Самарканда, от Петербурга до Тегерана, от Харькова до Константинополя. «Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры» выставляло свои ситцы, ратины, бумазею, фланели, диагонали и малескины на парижских и лондонских всемирных выставках и получало там и золотые, и серебряные медали. Слава торговцев «красным товаром» гремела по России, и многих она смущала, манила.
Мечтавший быстро разбогатеть на мануфактурном и торговом поприще, «сманился» с насиженного места и житель одной из волоколамских деревень Иван Ильин, позже сменивший свою фамилию на более солидную и благозвучную — Вавилов. Иван Ильин поступил на службу в одну из пресненских текстильных лавок, выбился там в приказчики, а потом, годы спустя, где-то, наверное, в начале 90-х годов, и сам, совместно с Николаем Ипатьевым и Николаем Удаловым, завел небольшое дело. Новая торговая фирма называлась «Удалов, Ипатьев, Вавилов» и имела главное отделение в Москве, а также отделение в Ростове. Хоть фирма была и небольшой, но у нее были все-таки торговые ряды в Пассаже, коими ведал сам Иван Вавилов. Его избрали в Московскую городскую управу.
Жена его — Александра Михайловна Постникова, с которой он обвенчался в небольшой церкви Николая-Ваганькова на Трех горах, хотя и окончила лишь начальную школу, была человеком необычайно тонким. Она много читала, знала литературу, разбиралась в музыке и живописи и главное — смогла стать настоящим другом для своих детей.
...В самом сердце текстильной империи, на улице Большая Пресня, в доме Нюниных, в семье делового человека Ивана Вавилова, 12 марта 1891 года родился Сергей Иванович Вавилов. Семья, в которой он появился на свет, была велика. В деревянном небольшом доме жили бабушка, тети, дядья, братья, сестры. Затем дом сменили, ненадолго переехав в Никоновский переулок, напротив церкви Ни-колы-Ваганькова, где когда-то венчались родители, а уже потом отец, разбогатев, смог купить на старой Пресне большой каменный особняк с мезонином и двумя флигелями.
Перед домом была булыжная мостовая, улица сбегала к реке. Рядом стояла церковь Иоанна Предтечи. При доме росли сады: один — ухоженный, фруктовый, другой — заброшенный, полный акаций, диких яблонь, лиственниц. Вдоль улицы весной цвели неохватные старые липы. Дом не был приспособлен для проживания большой патриархальной семьи, и пришлось танцевальный зал с роялем и колоннами разгородить на комнаты, выбросить массивную старинную мебель и заменить ее на более современную.
С. И. Вавилов. «Огромный бальный зал поделили на три комнаты: спальню отца с мамой, мою и Николаеву
комнаты. Моя узкая, маленькая комната была окрашена в серую краску, на стене висели портреты Чернышевского, Каляева и Маруси Спиридоновой. В этой комнате как-то Боря Васильев застал меня за изготовлением «бомбы». Мне было 14 лет, шел 15-й. Получали по подписке сочинения Чернышевского (впрочем, никто его не читал), «Русское богатство» и «Мир божий».
Быт в семье был устоявшийся, старомосковский. Поднимались рано, где-то в пять часов. Мать хозяйничала, убирала, распоряжалась прислугой. К Рождеству из деревни выписывали целый воз провизии: мороженую дичь, гусей, индеек, поросят. На святки бегали смотреть ряженых. На масленицу пекли блины в громадной русской печи: и простые, и псковские, и со снетками. В день Ивер-ской божьей матери вносили в дом икону из церкви. В пост постились. Несколько дней перед пасхой делали куличи.
Столь же домашним и традиционным было и воспитание Сергея. Читать его научила матушка по «Азбуке» Толстого, и после этого он читал все, что находил в доме: Некрасова, журнал «Новь», какие-то литературные приложения, «Три мушкетера». Его волновали ужасы гоголевского Вия, смешила чертовщина польских народных сказок, пугали жутковатые мистерии Гофмана и немецких романтиков, пленяли светлые и простые тайны русской народной сказки.
Недолго ходил Сергей на Малую Грузинскую улицу в обедневшее дворянское семейство Войлошниковых (отец их был медицинский генерал и участник Севастопольской кампании), где усилиями дочерей содержалась частная начальная школа. Здесь он научился чистописанию, грамматике, закону божьему, немецкому и французскому языкам.
Тяжелее всего давалась арифметика — приходилось ломать какой-то психологический барьер, связанный с понятием сложения и необходимостью механически заучивать то, что можно было бы понять. Гимназия открыла молодому Вавилову чудесный мир русской классики. С гимназических пор он, не пропуская ни дня, читал своих любимцев Пушкина и Лермонтова, всячески избегал арифметику и довольно долго свято верил в то, что над облаками живет бог с большой седой бородой.
Запущенный сад давал много возможностей для общения с природой, и природа с ранних лет наполняла мир его чувств. Он собирал коллекции жуков, бабочек, неисчислимые гербарии — цветы и листья засушивал между страницами семейных книг. Вместе со своим старшим братом Николаем Сергей построил во дворе целую химическую лабораторию, где ставил «страшные» опыты, многие из которых кончались взрывами. Брат Николай на всю жизнь остался с поврежденным глазом после проведения эффектного опыта получения озона при воздействии на марганцово-кислый калий серной кислоты. Лаборатория размещалась в сарае, и домашние боялись к ней подходить.
Богатая культурная жизнь Москвы, предрасположенность обитателей особняка к восприятию прекрасного приводили к тому, что в семье мощные корни пустило искусство. Для сестры был куплен дорогой рояль «Рёниш», на стенах развешены репродукции картин Леонардо и Рафаэля.
В десять лет Сережу отдали в московское Коммерческое училище, где уже несколько лет учился Николай. Помещалось оно на Остоженке, в затейливом Еропкинском особняке. Это учебное заведение, принадлежавшее Министерству торговли и промышленности, отличалось весьма высоким уровнем преподавания, первоклассным подбором учителей. Достаточно сказать, что здесь считали за честь читать лекции лучшие профессора и доценты московских высших учебных заведений. В училище изучали несколько иностранных языков. В нем были прекрасные кабинеты по естественным наукам, химическая и технологическая лаборатории, чертежный и рисовальный классы, гимнастический зал и старая, с традициями, библиотека.
Сергей чуть не с первых дней снискал себе печальную известность ученика, всегда и во всем противоречащего учителям и везде, где это возможно, плывущего против течения. Он пытался поставить под сомнение общепринятые истины, спорить с тем, что другим казалось столь очевидным. Но замечены были и его положительные черты — уже с первого класса он стал выделяться своими литературными способностями. Они сохранились у него на всю жизнь: когда писал, он зорким, художническим взглядом выхватывал из действительности яркие, сочные детали, точно характеризующие события и настроения.
С. Я. Вавилов. «В начале 1905 г. видел, как маршировали возвращенные из японского плена моряки на Остоженке с оркестром. Грустная война, без просветов. Черная пелена над Россией. Падение Порт-Артура. Цусима,
Было жалко и стыдно до слез. Как сейчас помню свежее «Русское слово», купленное на ж.-д. станции 20-я верста, с известием о Цусиме. Словно удар по лицу. Японская война и всколыхнула Россию. Убийство в. кн. Сергея в Кремле в феврале 1905 г.; разметало на куски. Начались и дома, и в школе политические разговоры. Начали ученики (и я в том числе) собираться по квартирам для политических разговоров, у Минца, у Староносова на Арбате, около Смоленского рынка. Портсмутский мир, Булыгин-ская конституция. Все ходило тучами, но глубоко еще не втянуло.
17 октября 1905 г. царский манифест. Демонстрации. В школе, по-видимому (если память не изменяет), занятия прекратились, хожу по улице с троюродными братьями Ваней и Фоткой Латыповыми, дошли до Театральной площади. На улицах совсем новое, радостное любопытство и волнение. На Театральной площади, огороженной тумбами, с цепями на фонтане, кто-то в одежде рабочего что-то кричит и потрясает кинжалом. Университетские ворота забаррикадированы. За Манежем ездят казаки с нагайками. У губернаторского дома на Тверской демонстрации, какие-то девицы на извозчиках с красными бантами. Мне 14 лет, вместо понимания какое-то расплывчатое пятно. В школе игра в революционеров. Я пишу устав какого-то кружка и «стряпаю», ничего не понимая, статью о социализме. Ясно одно: по родной земле- побежали какие-то волны. Брошюры Маркса, Энгельса, Бебеля, Либкнехта. Прокламации на белых и красных бумажках. Сходка в Инженерном училище. Слушаю, но почти ничего не понимаю. Полиция. Маленькая паника. Дома тоже ничего не понимают ни отец, ни мама. Пускают нас, куда хотим, на все демонстрации и митинги. Похороны Баумана. Растянулись на всю Москву. Бархатные красные знамена, помесь старого и нового. «Вы жертвою пали» и «Со святыми упокой». Взбудораженная Москва. Волнующееся море, требующее вождей. На похоронах был с утра до полной темноты, на Театральной площади, у Консерватории, на Пресне. Дома сестры играли на рояле «Вы жертвою пали»...
У Николая печатают на гектографе школьный журнал и какие-то прокламации. Родители заняли позицию невмешательства...»
В седьмом классе сделано первое научное открытие. Потерев о суконные форменные штаны коммерческого училища свою каучуковую гребенку, Сергей поместил ее над стеклом керосиновой лампы и увидел, что заряд в этих ус-» ловиях чрезвычайно быстро теряется. Учитель физики
А. А. Мазинг объяснил этот эффект действием «острия пламени». Однако Сергей не был этим удовлетворен и лишь спустя некоторое время нашел ответ самостоятельно, штудируя корпускулярную теорию Дж. Дж. Томсона. Причиной, видимо, была ионизация нагретого газа.
В восьмом классе Сергей делает перед своими одноклассниками сообщение о строении атома и радиоактивности. Проявляет большой интерес к новейшим теориям и, более того, к их философскому осмыслению.
С. И. Вавилов. «Мы в это время читали или делали вид, что читали, брошюрки Маркса и Энгельса, Бебеля, Дидгена, эмпириокритические сочинения Карстаньена, Луначарского. Я в 1909 г. купил «Материализм и эмпириокритицизм» В. Ильина, на книжке даже сохранились мои пометки того времени. Никакого понятия о том, кто такой Ильин, я не имел, но об идеологической потасовке между материалистами и эмпириокритиками имел полное представление, гораздо большее, чем теперь его обычно имеют...»
В Сергее постепенно созревал жгучий интерес к естествознанию. С Остоженки он спешил на Лубянку, где размещался Политехнический музей. Там с громадным интересом слушал публичные лекции. Увлекся химическими фантазиями только что освобожденного из Шлиссельбург-ского заключения Н. А. Морозова, участвовал в заседаниях Общества любителей естествознания, придумывал химические теории. Среди его ранних химических убеждений — то, что ключ к пониманию строения атомов лежит в изучении спектров. Он мечтал получить живое из неживого и проводил опыты с железосилеродистой солью. Позднее он называл те годы своим «алхимическим периодом».
Многие умные книги стали в то время его друзьями. Это — «Жизнь растений» К. А. Тимирязева, его же «Чарлз Дарвин и его учение», «Речи и статьи». Залпом прочел И. И. Мечникова, покупал определители растений. Однажды Сергея страшно заинтересовала такая вещь: почему многие весенние цветы, например одуванчики, примулы, лютики, имеют желтый цвет? Тут же он придумал и собственную теорию, связанную с минимумом энергетических затрат, с мудрой экономией природы, с особым спектральным составом весеннего солнечного света.
В заболоченных низинах речки Пресни, впадающей в Москву-реку, он вместе с приятелями искал зимой лягушек, пытаясь выяснить, остаются ли они живыми во время зимней спячки? С удовольствием принимал участие в опытах Николая по микробиологии: тот важно выращивал на агар-агаре в склянках Петри различные культуры.
Как и многие школьники, он состоял в «кружке» и, более того, был его признанным лидером. Входившие в него писали рефераты (в основном Сергей) о Толстом, Гоголе, Тютчеве, Махе, о декадентах и даже о самоубийствах как общественном явлении. «Кружок», однако, быстро распался.
Коммерческое училище окончено в июне 1909 года. Вавилову — 18 лет. Необычайно интересна оценка, которую дал сам себе Вавилов через год после окончания школы: «До 10 лет, до поступления в школу, был я ребенком трусливым, одиноким, мистиком, мечтателем. ’ До 15 лет был учеником и опять мистиком, мечтавшим об алхимии, чудесах, колдунах, любившим играть в магию, много и без толку читавшим и глубоко верующим. С 1905 г. я стал себя понимать, сначала грубо и странно; пытался сделаться поэтом, философом, миросозерцателем и стал выделяться среди других. Я узнал, точнее — перечувствовал и пессимизм, и оптимизм, и радость, и отчаяние, и «научную религию». Моим первым учителем была книга Мечникова, но я никогда глубоко не интересовался чужой современной жизнью, хотя кругом все и кипело».
Позже, уже незадолго до. смерти, он как бы вновь проанализировал себя — ребенка и юношу: «Как себя помню (с 5-ти лет, с «Ходынки»), всегда чувствовал себя «левым», «демократом», «за народ». Это было вполне естественно в нашей семье. Мать из рабочей семьи, всю жизнь до смерти своей в 1938 г. никогда не была «барыней», стирала, мыла полы, стряпала сама (это даже в моменты максимального «благополучия»). Трудно было быть проще, добрее, трудолюбивее и демократичнее моей мамы. Отец пришел из деревни, из мужиков, стал купцом, но свое деревенское происхождение всегда помнил и им гордился. Любимая его песенка была, которую он пел и играл на пианино: «Богачу, дураку, и с казной не спится, а я гол, как сокол, пою, веселюся». Но моя левизна и демократизм не переходили в политику, в ее жесткость и даже жестокость (объективную необходимость этого я всегда сознавал, но от мыслей к делу перейти не мог). Теперь это называют «мягкотелостью». Из нее и проистекает моя органическая беспартийность. Революция 1905 г. меня испугала. Я бросился в науку, в философию, в искусство. В таком виде и подошел к 1917 г.».
Его убежище — химическая лаборатория: в ней около сотни препаратов. Его настольная книга — «Основы химии» Д. И. Менделеева, а также книга Л. Бюхнера «Сила и материя». Важнейшее, что принесли школьные годы, — любовь к книге. Не стесненный в средствах, С. И. Вавилов мог покупать любые, даже редкие издания. Он был частым гостем букинистов у Китайской стены, известным любителем ворошить книжные завалы. Знали его букинисты и на Моховой, и на Сухаревке. Несколько раз ему сильно везло. Среди своих замечательных находок он числил выпущенную в 1672 году книгу Отто фон Герике «Новые эксперименты с пустотой, так называемые «магдебургские», где описывались’ опыты с магдебургскими полушариями. Гордился Сергей собранием сочинений X. Вольфа — учителя Ломоносова, и особенно — небольшой книжкой М. Фарадея с автографом автора.
Поскольку к концу обучения в коммерческом училище Сергей был, как он сам говорил, «уже готовым естественником», для него не было никаких колебаний в том, где ему следует учиться дальше. Конечно же, в Московском университете, на физико-математическом факультете. Конкурса не существовало. Для поступления пришлось сдать только латинский язык.
Студентам-естественникам в университете читали лекции лучшие ученые Москвы: математику — Б. К. Млодзеевский, Д. Ф. Егоров и Н. Н. Лузин, основатель впоследствии столь знаменитой «Лузитании», механику — Н. Е. Жуковский и С. А. Чаплыгин, астрономию — В. К. Це-расский и Г1. К. Штернберг, который под видом изучения аномалии силы тяжести вдоль улиц Москвы на самом деле производил геодезические изыскания для грядущего восстания против царизма. Ботанику вел К. А. Тимирязев, химию — Н. Д. Зелинский и И. А. Каблуков, минералогию — В. И. Вернадский. Особенно же яркие таланты сияли на физическом небосклоне.
Ученик П. Н. Лебедева, впоследствии член-корреспондент Академий наук СССР Т. П. Кравец вспоминал о тек временах: «Физика была представлена особо блестящим созвездием: Н. А. Умов — глубокий теоретический ум, склонный к самым широким обобщениям и философским выводам; А. А. Эйхенвальд — активный и вдохновенный пропагандист новых воззрений, недавно перед тем опубликовавший свои классические исследования о магнитном действии движущихся зарядов, человек всесторонне одаренный, и наконец, — о нем нужно было бы говорить в первую очередь — П. Н. Лебедев, создатель в Московском университете первой крупной школы физиков-экспериментаторов»...
Неизгладимое впечатление произвела на молодого Вавилова первая же лекция П. Н. Лебедева.
С. И. Вавилов. «Она была совсем не похожа на прочие университетские первые лекции, которые мы, первокурсники, жадно слушали, бегая по разным факультетам. Это были слова только ученого, а не профессора, и содержание лекции было необыкновенным. Лебедев обращался к аудитории как к возможным будущим ученым и рассказывал о том, что нужно для того, чтобы сделаться физи-ком-исследователем. Это оказывалось совсем нелегким делом, но в заключение следовали обнадеживающие слова: «Плох тот казак, который не хочет быть атаманом». Образ физика-ученого и уроки первой лекции запечатлелись на всю жизнь».
2
Сергей решает посвятить себя физике, провести свою жизнь в том, физическом, обществе, к которому он уже себя мысленно причисляет. Студент-первокурсник участвует в XII Всероссийском съезде естествоиспытателей и врачей. Он упивается докладами П. С. Эренфеста,
А. Н. Крылова, А. Ф. Иоффе, Д. А. Рожанского, А. Р. Колли. Без конца хлопочет, помогает устроителям съезда. Но главное — он слышит из собственных уст П. Н. Лебедева его знаменитый небольшой доклад «О световом давлении на газы», тот самый, для подготовки которого ученому потребовалось десять лет. Этот доклад как бы подчеркивал мировой уровень российской физики, достигнутый за последние годы. В Москве было проведено физическое исследование самого высокого класса.
Т. П. Кравец. «Впечатление огромного подъема овладевало всеми членами съезда по мере того, как из докладов, прений, демонстраций, наплыва участников выяснялось, какой большой шаг вперед сделала русская наука за первые годы нашего века. Этот огромный подъем особенно ярко ощущался молодыми участниками съезда...»
На съезде были и Николай Вавилов, и младшая сестра Лидия — студентка медицинского факультета Московских женских курсов.
Главная задача, поставленная теперь Вавиловым перед собой, — войти в лебедевский кружок. Для этого, впрочем, не нужно было, как говорится, далеко ходить. Раз в неделю профессор П. Н. Лебедев читал в малой аудитории Физического института лекции, в которых рассказывал о самых последних физических новинках, о том, что волнует его самого. Естественно, ни одна из этих лекций лебедев-цами не пропускалась, и вскоре энтузиазм Вавилова, упо-енно записывающего за лектором каждое его слово, был ими оценен.
Готовя себя к будущей работе, Вавилов целые дни проводит в физическом практикуме университета и, лишь проработав все полностью, делает заявление о желательности работать в лебедевской лаборатории. К счастью, обстановка благоприятствует: есть свободное место.
Вавилов тут же попадает под опеку ближайшего сотрудника П. Н. Лебедева — П. П. Лазарева, получает рабочее место, ключи от входной двери, своей рабочей комнаты, библиотеки и, наконец, от мастерской. Он приобретает право приходить в лабораторию в любое время дня и ночи. Условия: пройти стеклодувную и. механическую практику, научиться работать на станках, особенно на токарном, хорошо паять. А главное — не пропускать ежедневных бесед студентов с руководителем лаборатории.
Регулярные встречи и собеседования П. Н. Лебедева с его питомцами были, возможно, первыми в России физическими семинарами.
П. П. Лазарев как раз в это время закончил свою докторскую диссертацию, связанную с исследованием выцветания красителей под действием света. Это выцветание он оценивал с помощью спектрометра Кенига — Мартенса. П. П. Лазарев предложил С. И. Вавилову заняться смежной темой: «Тепловое выцветание красителей». Тема была и практически важной и теоретически неразработанной. Вавилов разрабатывает, а затем собственными руками строит экспериментальную установку, начинает проводить измерения... Но наступает 1911 год и все связанные с ним печальные события, описанные в предыдущей главе...
Вместе с Лебедевым, покинувшим университет и приступившим к работе в Народном университете имени Шанявского на Волхонке, переменили также место своей научной работы С. И. Вавилов и многие другие начинающие физики, в том числе С. Н. Ржевкин, А. Г. Калашников, Э. В. Шпольский, Т. К. Молодый, К. А. Леонтьев, С. Я. Турлыгин, Н. Т. Федоров. В большом зале физического кабинета Народного университета студенты построили себе фанерные кабинки, установили в них столы, полки, как могли, оснастили эти «соты» приборами и приступили к работе. В университете Шанявского регулярно проводились коллоквиумы, они обычно происходили в большом, превращенном в аудиторию, зале особняка; посещали их не только научные сотрудники лебедевской лаборатории, но и студенты.
И все же это было временным пристанищем. Как только осенью 1911 года вступила в строй оплаченная обществом имени Леденцова лебедевская лаборатория в Мертвом переулке, Вавилов перешел туда.
В полуподвальном этаже доходного дома две расположенные одна против другой квартиры были приспособлены под лабораторию. В верхних этажах дома сняли квартиры П. Н. Лебедев и П. П. Лазарев. В левом крыле подвала находился кабинет П. Н. Лебедева, два лабораторных помещения для старших сотрудников (А. К. Тимирязева и В. И. Романова) и мастерская. В коридоре правого крыла располагалась богатая личная библиотека Лебедева, отданная отныне в общее распоряжение. Там же, справа, размещалась и большая лабораторная комната, где работали С. И. Вавилов, Н. Т. Федоров и Д. Д. Галанин.
Именно здесь, в этом подвале, Сергей Иванович приступил к своей первой серьезной научной работе.
Формально оставаясь студентом университета, Вавилов фактически перенес всю свою научную работу и основную деятельность в Мертвый переулок, где он проводил научные исследования. Он завел там свой собственный семинар, или коллоквиум. По воспоминаниям его будущих друзей, в те годы он еще совершенно не умел владеть своей речью, неразборчиво произносил слова и не мог построить выступления; смысл его речей с трудом доходил до слушателей. Однако Вавилов, зная этот свой недостаток и неустанно работая над собой, сумел его преодолеть. Впрочем, несмотря ни на что, его коллоквиумы с удовольствием посещали, поскольку Вавилов часто подсказывал молодым товарищам и пути исследования, и литературу по теме.
Смерть П. Н. Лебедева в марте 1912 года произвела на братьев Вавиловых ужасное впечатление. Иногда казалось, вся научная работа по физике пойдет теперь в Москве прахом. Но Сергей Иванович продолжает упорно работать. П. П. Лазарев до него исследовал выцветание на свету коллодионных пленок, прокрашенных цианиновыми красителями. Вавилову предстояло теперь выяснить степень обесцвечивания этих коллодионных пленок под действием тепла и сравнить ее с кинетикой фотохимического выцветания. В процессе работы молодой ученый убеждается в том, что выцветание красителей и пигментов при тепловом и оптическом воздействии совершенно различны. Статья о тепловом выцветании красителей была опубликована в 1914 году в немецком физико-химическом журнале. Называлась она «К кинетике термического выцветания красок». Появление статьи имело для Вавилова большое значение, поскольку свидетельствовало о том, что он уже вошел в центральное ядро группы физиков-лебедевцев. Тем более было приятно, что исследование удостоили золотой медали Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете.
Весной 1914 года Вавилов сдавал выпускные университетские экзамены. Практически ни один из них не представлял для него сколько-нибудь значительной трудности... кроме, впрочем, экзамена по теории чисел, который он готовил у себя дома, на Пресне, вместе со своим приятелем С. Н. Ржевкиным. Вавилов не любил и не учил этого предмета, сильно сомневаясь в его ценности для своей будущей работы (что, кстати, и подтвердилось). Это, однако, не помешало Вавилову и Ржевкину сдать и этот экзамен на пятерки. Теперь можно начинать самостоятельную жизнь и целиком посвятить себя физике... Как? Разве это не определено ранее? Оказывается, не совсем... Видимо, мы поторопились, полагая, что решение посвятить себя физике принято Вавиловым бесповоротно... Он должен еще пройти искушение Италией и ее искусством...
3
Путешествию в Италию посвящены были последние университетские каникулы. Это — удивительное по силе искушение искусством, красотой, вызов науке и научной карьере, к которой Вавилов уже себя подготавливал. Под знойным итальянским небом, рядом с картинами гениев Возрождения и вечной красотой искусства, у Вавилова снова возникли сомнения в правильности избранного им пути.
Интересно проследить эволюцию его взглядов во время путешествия. Воспоминания Вавилова об этом периоде своей жиани содержатся в небольшой черной записной книжке. В ней примерно двести страниц, заполненных бисерным почерком — то карандашом, то чернилами. Записи касаются промежутка времени примерно в два месяца и оканчиваются точно на последней строке последней страницы словом «FINIS».
На титульном листе книжки — шутливая надпись: «Дневник моих последних эстетических странствований, или Трагикомическая мемория физика, запряженного волею рока в эстетический хомут».
Начинается книжка с описания путешествия в пушкинские места, в Святогорье. Трогательно преклонение юноши перед великаном русской культуры, перед российской природой, закатным солнцем, выглядывающим из-за туч, перед вечным покоем у пушкинской могилы... «Ехали сегодня на дребезжащей, безрессорной таратайке, подвергаясь истинным мукам, чтобы поклониться великому праху. Поклонился, как хорошо. Чудный, необыкновенный для России пейзаж Святых Гор, старая могучая церковь новгородской архитектуры, и рядом под прекрасным большим памятником почиют останки поэта...
Для меня Пушкин — вечная надежда.
«Когда я буду погибать», я, быть может, одной рукой схвачусь за евангелие, другой, несомненно, за творение Пушкина... Какая сила в этих кристально твердых и прозрачных стихах. Сила магическая, беспрекословная и несомненная. Пушкину я верю... Пушкин стал мне родным, это не Гёте и Шекспир, это дорогой Александр Сергеевич. Знаю, что все преувеличено, но Пушкина люблю, его фразы стали законом». Поездка в Святогорье — это как бы защита от грядущих сильных впечатлений, это глоток из священного родника русской культуры...
14 июня Вавилов уже в поезде, 16-го — в Берлине, 24-го — где-то в прирейнских горах...
«В природе все, что сравнимо, соизмеримо с человеком, — беспорядочно (теория вероятностей, закон больших чисел). Только очень малое — атомы и электроны, и очень большое — порядок. Сколько солнце натворило здесь в этих горах: лощины, реки, ели, луга — все от солнца, И какой же здесь хаос! Но где же, природа, твой закон?
Закон природы, кажется, только сохранение энёргии. Впрочем, это еще пока. Посмотрим и подумаем дальше».
Еще несколько дней — и он в Италии. А вот первые впечатления от многочисленных итальянских музеев: «Чем меньше музей, тем меньше в нем предметов, тем продуктивнее его посещение. Да, впрочем, пора бы мне, может, и плюнуть совсем на картины и заняться физикой. Там единственно несомненное, важное, серьезное и святое и интересное».
Памятники искусства Италии, их вечная, неизменная красота приводят к мысли о вечной молодости науки: «Готизм, классицизм, барокко — вот оно, искусство, и как далеко оно от величавой простоты и силы науки; в ней нет ни стиля, ни времени. Классическая наука, безусловно, ниже науки современной. О чем другом можно это сказать, кроме науки? Формы жизни, то есть искусства, не прогрессируют, только наука вечно несется».
Строки, выдающие восхищение красотами Италии, перемежаются с безжалостным самоанализом: «Я пока ничего не сделал... — не ходячая ли я драма? Мое горе, что и самого себя я не знаю. Я — человек науки, и, право же, для настоящей жизни не способный. Всякие гадости на меня, как на Макара, валятся. Скорее всего, несмотря на всю мою антипатию к философии, я философ. Вообще-тоя уравнение неопределенное. ...В сущности говоря, я рад, что наслаждение искусством отравляется для меня тоской по науке, это начало преодоления «эстетизма». Думаю я, думаю и прихожу к убеждению, что настоящее мое путешествие должно быть последним эстетическим путешествием...»
Продолжаются поиски вечных, незыблемых ценностей, не связанных с ходячими мнениями, модой: «Сегодня зашел в фотомагазин купить фотографии с картин Пуссена, и меня так и передернуло. Боже мой, ведь все они хлам, й теперь увлекаюсь Джорджоне, Тинторетто, Гварди. Всякие Бенуа, а за ним курсистки и студенты говорят о них. Мое, в сущности, не мое, а чей-то неведомый гипноз. Ведь все, все загипнотизированы... «И так на свете все ведется». Милая физика, в тебе только так не ведется...»
Искусство все-таки берет свое, и в качестве первой уступки в категорию «вечного» молодой Вавилов вынужден включить, кроме науки, еще и музыку... «Из искусств серьезна только музыка, самое чистое, самое светлое и самое живое... Да, вот рядом с наукой и жизнью, вижу, приходится поставить и музыку, как серьезное на свете. Музыка может сделать что угодно, укротить гнев, образовать и опечалить, сделать счастливым. Как прекрасно, что в этом искусстве нет музейности. Как жизнь — музыка для всех. И право, я теперь начинаю понимать, почему математики и физики так любили музыку...»
Прощание с Италией звучит гиппократовой клятвой: «Попал я сюда, чтобы поклониться праху Галилея. Почивайте с миром и Дант и Россини, вы сделали много хорошего, но, кроме Галилея, никто не сделал серьезного. Пусть этот мой, почти последний поклон Италии будет поклоном не искусству, а науке. Здесь, около могилы Галилея, почти клянусь делать только дело, и серьезное, то есть науку. Пусть ничего не выйдет, но будет удовлетворение».
23 июля, в поезде, несущем его в Москву, он пишет в записной книжке последние строчки: «Ну, через 2 часа дома. Дай бог пойти по новой дороге».
4
Искушение Италией побеждено, государственные экзамены за физико-математический факультет сданы блестяще. Вавилов получает диплом 1-й степени, ему предлагают остаться в университете для подготовки к профессорскому званию. Однако не был ли этот путь предательством по отношению к его учителям? К Лебедеву? Он не может заплатить за свою научную карьеру столь высокой цены. Вавилов демонстративно отказывается от лестного предложения.
И это влечет за собой расплату, поскольку теперь он должен идти на военную службу. В июне 1914 года его призывают в армию. Единственная льгота, которую давал ему университетский диплом, — это право выбора места будущей воинской службы. Он избрал 25-й саперный батальон в городе Старице и вскоре выехал в Любуцкий лагерь, разбитый на берегу реки Оки, неподалеку от города Алексина. Там он встретился со своим приятелем Сережей Ржевкиным, который также отказался от университетской карьеры и попал на военную службу, и с учеником П. Н. Лебедева, Т. П. Кравцом, снимавшим в районе Алексина дачу. Через два дня после прибытия в лагерь узнали о начавшейся войне. В ту же ночь батальон был поднят в ружье и совершил 35-километровый марш с полной вы-
кладкой до Калуги. Вавилов был направлен на фронт, в район города Люблина в Польше, и сразу же стал непосредственным участником боевых действий. Его жизнь в постоянной опасности, но в опасности и те, кто остался дома. Его любимая младшая сестра Лидия умирает от черной оспы, которой она заразилась во время борьбы с эпидемией.
Сергей воевал. Он сидел в окопах и на западном, и на северо-западном фронтах, сапогами измерил дороги Галиции, Литвы и Польши, не раз видел смерть, вкусил все лишения солдатской жизни. К концу войны он дослужился до прапорщика. Где-то в пятнадцатом году его перевели из саперного батальона в радиочасть. Здесь он смог полностью использовать свое мастерство физика-экспериментатора и свои знания. Невежественный начальник радиостанции, сдававший ему с рук на руки казенное имущество, передал ему, в числе прочего, предмет, означенный в описи как «непонятное в баночке». Это был когерер.
На войне Вавилов умудряется выполнять и научную работу. В 1915 году в журнале «Вестник опытной физики» появляется его краткая статья об одном возможном выводе из опытов Майкельсона. Он подготовил также теоретическую статью «Частота колебаний нагруженной антенны», впоследствии опубликованную в журнале «Известия физического института», издававшемся в Московском научном институте. Вавилов испытывает мощное увлечение радиотехникой. Ему с легкостью удается разработать метод пеленгации радиостанций, основывающийся на измерении мощности их сигнала, производимого в двух точках. Метод был проверен во фронтовых условиях.
Академик Б. А. Введенский так рассказывал со слов самого С. И. Вавилова об этом случае: «В первую мировую войну под командой Сергея Ивановича была «искровая станция» (то есть по-современному — радиостанция), где он имел возможность исследовать новый тогда метод радиопеленгации (этого названия тоже тогда не было). В этот метод Сергей Иванович по требованиям тактической обстановки внес свежие черты, дополнив определение направления на пеленгируемую станцию противника определением силы приема, что с известными оговорками было эквивалентно определению расстояния до пеленгируемой станции. Сергей Иванович представил своему начальству рапорт, в котором принцип пеленгации пояснялся простым чертежом, ясно показывающим суть иредлагаемого метода
и позволившим обойтись без лишних формул. Но начальству такая простота не понравилась, и от Сергея Ивановича потребовали «более солидного» подхода. «Ну что ж! Я выписал формулы аналитической геометрии для соответствующих окружностей и прямых, определил из них точки пересечения и т. д. Начальство осталось довольно».
Много позже, в 1919 году, когда появились первые сообщения об электронных или — как их тогда называли — катЬдных лампах, у Вавилова даже возникла идея работать в военной радиолаборатории. Осознавал ли он связь своих радиотехнических занятий и оптических? Неизвестно. Тогда близость радио- и оптических явлений была еще не столь ясной: многие спорили о том, возможно ли вообще сомкнуть радиотехнический и оптический диапазоны частот. Последующие события, однако, показали, что, хотя Вавилов и не изменил оптике — генеральной линии развития российской физики — его интерес к радиотехнике помог ему многое понять впоследствии, когда связь оптики и радиотехники стала уже гораздо более очевидной.
Вместе с войсками, в которых он служил, Сергей Иванович восторженно приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию, без колебаний воспринял ее. Фронт, где служил Вавилов, развалился. Солдаты неорганизованными группами двинулись в тыл, за ними брели офицеры. Отправился в Москву пешком и Вавилов, но по дороге попал в немецкий плен. К счастью, офицер, взявший его в плен, также оказался физиком. Они вместе с Вавиловым до зари проговорили о новейших физических теориях; под утро Вавилов был отпущен.
Прибыв в Москву, он узнал последние новости. Отец его и мать по-разному отнеслись к происходившим событиям: отец не смог преодолеть в себе собственника и предпринимателя, решил бежать из России, уехал на юг и затем перебрался в Варну, в Болгарию, где через некоторое время полностью разорился. Из Варны писал в Москву письма, которые весьма конспиративно подписывал «Фа-тер». Через несколько лет, в 1921 году, сын Николай нашел его, встретился с ним в Берлине и уговорил вернуться. Это случилось в 1928 году. Но отец не смог доехать до родного дома. В пути он заболел и скончался в московской больнице.
Совсем по-другому отнеслась к новой власти мать. Она с облегчением рассказывала близким: «Слава богу, все отобрали». У Вавиловых экспроприировали дом и разместили в нем детский сад. Для семьи оставили второй этаж флигеля. Там Вавилов практически не жил.
Как-то один из его приятелей сообщил ему, что известный архитектор В. А. Веснин хотел бы самоуплотниться и спрашивал, не знает ли он одинокого молодого человека, которому можно было бы предложить комнату. Вавилов с радостью переехал в новое помещение на Арбате, где быстро подружился с хозяевами, и, более того, спустя непродолжительное время женился на сестре жены хозяина — Ольге Михайловне Багриновской, необычайно обаятельной и образованной женщине.
Обвенчали их в поселке Растяпино, под Нижним Новгородом. Там В. А. Веснин наблюдал за строительством по его проекту здания химического комбината. В Москве они поселились в небольшой коммунальной квартире в Еропкинском переулке, которую уступила Ольге Михайловне ее сестра Татьяна.
5
В Москву С. И. Вавилов вернулся в феврале 1918 года. Город жил напряженной, как бы фронтовой жизнью. Диверсии, поджоги, ночная, а порой и дневная стрельба, неубранный снег, очереди за продуктами, санки, на которых москвичи развозили продукты и нехитрый скарб, военные патрули. Он тут же встретился со своим бывшим научным руководителем П. П. Лазаревым, который всего год назад, в самые горячие февральские дни, был избран российским академиком.
Лазарев руководил теперь построенным на общественные средства в 1916 году лебедевским институтом на Миусской площади. Там должны были работать физики из университета Шанявского. туда должна была переехать лаборатория из Мертвого переулка.
С начала 1917 года в новом здании развернулась деятельность первого в России научно-исследовательского физического института — Физического института Московского научного института. Уже после революции в составе Физического института особенно активно работала лаборатория, подчиненная рентгеновской, электромедицинской и фотобио-логической секции Наркомздрава. Лабораторией руководил сам академик Лазарев, категорически отказавшийся в связи с избранием в Академию принять в свое ведение физический кабинет и переехать в академический Петроград,
Здесь, в этой лаборатории, Лазарев мечтал бережно взрастить все те идеи, которые когда-либо были посеяны его учителем П. Н. Лебедевым. Он искал эти идеи в старых лебедевских письмах, в его статьях. Он был твердо уверен, что наследие ученого хранит необычайные откровения.
Научная работа Вавилова у П. П. Лазарева, разумеется, тут же была восстановлена. Сергей Иванович много читает и, используя свою от природы прекрасную память, скоро становится самым эрудированным научным сотрудником лаборатории, в которой работали многие будущие известные физики, и в том числе В. Л. Лёвшин, Б. В. Дерягин, Д. М. Толстой, В. В. Шулейкин, М. А. Леонтович, Н. Т. Федоров, Г. С. Ландсберг, А. С. Предводителев, Б. В. Ильин, Э. В. Шпольский. Он царил на лабораторных коллоквиумах, печатал многочисленные рефераты в журнале «Успехи физических наук». Не ограничиваясь тем, что был активнейшим участником и докладчиком всех коллоквиумов академика П. П. Лазарева, он создал еще один коллоквиум, которым руководил сам — специально для оптиков.
Генеральная лебедевская идея — разгадка природы света, его взаимодействия с веществом. Лебедев давно хотел добраться до выявления истинного соотношения волновых и квантовых свойств света. Существуют ли кванты вообще? Не являются ли они лишь удобным математическим приемом? Недаром в лазаревской лаборатории было принято ставить слово «квант» в кавычки.
В самом начале 20-го года физическая лаборатория П. П. Лазарева была преобразована в Институт биологической физики Наркомздрава. В новом учреждении Сергей Иванович Вавилов заведует отделом физической оптики. Громкое название, разумеется, не могло скрыть того факта, что ни самой физической оптики, ни людей, способных заниматься ею, в Москве тогда еще, по существу, не было.
В качестве объекта для проверки гипотезы квантов Вавилов избрал прозрачную желатиновую пленку. Согласно общепринятому представлению, пучок света, проходящего через пленку, ослабляется независимо от его яркости; на коэффициент поглощения не влияет яркость пучка. Этот закон, установленный еще в 1729 году П. Бугером, был неоднократно подтвержден и, по существу, стал основой фотометрии. Вавилов считал Бугера Ньютоном фотометрии.
Многочисленные проверки закона Бугера свидетельствовали о том, что даже при изменении яркости света в тысячи раз степень ослабления луча, проходящего через пленку, не меняется.
Но если природа света квантовая, рассуждал Вавилов, то, в конце концов, при снижении интенсивности света квантовый его характер должен казаться на поглощении, поскольку при очень слабых освещенностях количество фотонов, проходящих через пленку в единицу времени, будет различным. В этом случае закон Бугера нарушится.
Вавилов разработал хитроумную установку для получения света с очень малыми интенсивностями. Чтобы как-то оценивать такой свет, он вынужден был проводить эксперименты в полнейшей темноте, и, более того, предварительно адаптироваться к ней в течение довольно длительного времени, буквально часами. (Впоследствии он использовал время, необходимое для адаптации глаза, — «часы темноты» — для бесед со своими аспирантами.)
Вавилов решил изменять интенсивность света не в тысячи раз, как это делалось раньше при подтверждении закона Бугера, а в миллиарды миллиардов раз. Самые слабые интенсивности можно было оценить единственным и тончайшим инструментом — человеческим глазом. О методе измерения малых интенсивностей с помощью глаза — так называемом «методе тушения» — эрудит Вавилов вычитал в одном из старых учебников физики. Он никогда не сомневался в том, что в истории науки найдется много полезного для науки современной, и не раз это доказал. Старинный фотометрический метод оказался очень эффективным. Исследования приводили к удивительному результату. Закон Бугера не нарушался никогда, даже при изменении интенсивности в миллиарды миллиардов раз. Вавилов пишет в своем отчете: «Справедливость закона Бугера в этом интервале противоречит гипотезе «световых квантов», и от попыток более или менее систематического ее проведения приходится отказаться». Этот тщательно выверенный эксперимент дает Вавилову основания для твердого убеждения: «Квантовая теория не подтверждается экспериментально!»
Вывод Вавилова был, конечно, слишком категоричен. Хотя опыты были поставлены безукоризненно, они вовсе не противоречили теории квантов. Впоследствии Вавилов отказался от этих своих взглядов и самым прямым образом экспериментально доказал квантовый характер света.
Однако многие из физиков, менее склонные к рассуждениям и философствованию, приняли первые выводы как руководство к действию и пытались всюду, где это возможно, запрещать «кванты», квантовую теорию и воззрения тех физических школ на Западе, которые ее придерживались.
Это были годы становления советской науки, годы непростые. Гремел ультрареволюционной фразой Пролеткульт. Призывал отринуть прошлое науки. Старая наука служила свергнутому классу орудием подавления, господства и насилия — долой ее! Долой «белую науку» буржуазии! Даешь «красную науку» пролетариата!
Интеллигенция, — бубнил Пролеткульт, — это поповское паразитическое босячество, это каста трутней. Научный труд — труд антидемократический, привилегированный. Интеллигенцию нужно всячески «давить».
Перед молодым рабоче-крестьянским государством стояла нелегкая задача привлечь к творческой работе российскую научно-техническую интеллигенцию, напуганную, озлобленную, во многом несправедливо обиженную.
Удивительны, трогательны примеры заботы молодого правительства о науке в эти тяжелые годы. В. И. Ленин лично занимается устройством быта ученых, издается указ об организации Комиссии по улучшению быта ученых — ЦЕКУБУ. Создаются условия для творческой работы ученых, им выдаются пайки, их охраняют от самоуправства домовых комитетов, покушающихся на «недобитых буржуев».
Резким отпором, суровой отповедью левацким взглядам прозвучали слова А. В. Луначарского на праздновании 200-летия Академии наук в 1925 году. Луначарский анализировал связи пролетариата и науки.
«Как класс городской, — говорил он, — легко организующийся, как класс, труд которого нераздельно связан с машиной, то есть прикладной наукой, который улучшение своего положения связывает с развитием техники, пролетариат является беззаветным другом науки...
Мы берем чистое золото науки — это ее естественнонаучную, опытную, проникнутую строжайшей критикой работу, которая составляет ее душу и от которой отпадают все поддельные полунаучные продукты, которые к ней стремятся пристроиться. Вот с этой наукой, которая всегда являлась победоносной светлой силой... с этой наукой у нас есть и будет крепкий прочный союз.
В области коммунистического строительства, в области дальнейшего продвижения к рациональному гармоничному строю — сотрудничеству всего человечества — наука полностью и целиком окажется благодетельницей человеческого рода в целом. Мы всегда рисуем коммунизм не только опирающимся на возможности точных наук в их нынешнем состоянии, но и на быстрее дальнейшее их развитие.
Нам необходимо подняться на несравнимую с прошлым высоту общего технического и политического образования, необходимо вооружить народные массы так, чтобы они могли отстоять свое существование в свободном социалистическом союзе народов перед тем миром врагов, которыми мы еще окружены. Наша оборона и успех нашего хозяйства могут иметь место только при постоянном сотрудничестве с наукой...»
Задумывается о сущности новой советской науки и С. И. Вавилов. Он видит ее общность с мировой наукой и в то же время не может не видеть различий науки нового государства и классической, понимает разницу между «наукой доктринеров» и «наукой революционеров», о которых говорил Маркс. Советская наука — это не просто часть мировой, считает Вавилов, территориально развиваемая в СССР, а наука существенно особого строя и характера. По его мнению, новой науке присущ дух коллективизма, работа с энтузиазмом на народное благо. Опора новой науки на широкие народные массы требует популяризации науки, которой Вавилов отдается со всей присущей ему страстью и энергией.
Восстановление народного хозяйства, подъем промышленности и сельского хозяйства на базе электрификации, всенародный подъем, вызванный планом ГОЭЛРО, не могли не сказаться на направлении деятельности вавиловской лаборатории. Не случайно поэтому новые работы С. И. Вавилова — по люминесценции — приобретают практический характер. Первая статья по теме «Зависимость интенсивности флюоресценции красителей от длины волны возбуждающего света» появляется уже в 1922 году. С самого начала его исследования были рассчитаны на создание люминесцентных источников света, люминесцентных ламп. Анализ энергетики этих новых источников света показывал, что они обладают несравненно более высоким коэффициентом полезного действия, чем электротепловые лампы — лампы накаливания, обычно применяемые при освещении. И в этом Вавилов видел будушее люминесцентных ламп.
Успех сопутствовал ему. Уже в начале исследований он набрел на несколько удачных люминесцирующих составов, пригодных для их использования в новых лампах или, как их стали позже называть, «лампах дневного света».
Его жизнь наполнена наукой, он не замечает мелких неудобств: того, что живет в коммунальной квартире, что порядком пообносился — носит разные запонки, что у него постоянно болит горло. К своему здоровью он относился принципиально невнимательно. В 1921 году у Сергея Ивановича и Ольги Михайловны родился сын Виктор. Ему была куплена коляска за 15 миллиардов рублей и посвящены все помыслы молодых супругов. Давно забыты далеко идущие планы Ольги Михайловны стать камерной певицей, а ведь у нее было прекрасное меццо-сопрано, и когда-то она училась в консерватории у Умберто Мазетти вместе с А. В. Неждановой и В. В. Барсовой-Владимировой. (Уроки прекратились еще в войну, когда она, вместо того чтобы продолжать занятия, ушла на фронт служить в отряде детской помощи: подбирала детей, потерявших родителей, обогревала их, искала их родню или пристраивала в детские дома.)
С трудом прожили Вавиловы голодные годы и всегда с благодарностью вспоминали помощь старшего брата — Николая Ивановича, который в то время был знаменитым профессором Сельскохозяйственного института в Петрограде, где заведовал бюро по прикладной ботанике и селекции и мог присылать с международных конгрессов небольшие посылки с самым необходимым: мукой, салом, маслом.
6
Институт биофизики, где работал Вавилов, мало походил на современные научные заведения. В нем не было ни лаборантов, ни младших сотрудников, ни, тем более, уборщиц. Подготовкой опытов, расчетов, графических работ, изготовленим экспериментальных установок, а также уборкой помещений занимались сами научные сотрудники. Старые московские физики еще помнят, что в 1925 году на празднование 200-летия основания Академии наук в Москву съехались крупные ученые. Часть из них захотела посетить Институт биофизики — крупнейший физический центр Москвы. Это вызвало большой переполох, и С. И. Вавилов вместе со своими самыми близкими (еще с 1919 года) сотрудниками принялись за мытье окон и приведение лаборатории в более или менее пристойный вид.
М. Планк со свитой из нескольких крупных немецких физиков посетил лаборатории института, которые ему очень понравились, но больше всего времени провел около фосфороскопической установки, то есть в той комнате, где Вавилов безуспешно пытался получить экспериментальные доказательства справедливости квантовой теории Планка...
Он был — это ясно — поражен масштабом и убедительностью экспериментов С. И. Вавилова, доказывающих несостоятельность планковской «гибридной» теории, в соответствии с которой свет излучается непрерывным потоком, а поглощается порциями, квантами...
И все же Планк был уверен в своих квантах, в построенной на их признании модели атома.
Вавилов решил провести новую серию экспериментов, теперь уже не с ультраслабыми, а с сильными излучениями. Мощный пучок сконцентрированного электрического света направлялся на ураниловое стекло. Сравнивалось снижение яркости в этом случае и при самых низких яркостях пучка. При этом выявилось, что закон Бугера нарушался! Это нарушение было небольшим, не более полутора процентов, но принципиальным, наводящим на мысль о том, что такое же может иметь место и в области слабых интенсивностей.
Вавилов задался великой целью — дойти до кванта света, «увидеть» его... Многолетние труды С. И. Вавилова, его помощников Е. М. Брумберга, Т. В. Тимофеевой и 3. М. Свердлова в конце концов завершились успехом.
Вавилов разработал новый прибор, состоящий из небольшой лампочки накаливания, свет от которой пропус кался через зеленый светофильтр, а затем через оптический клин, который позволял в нужное число раз уменьшать интенсивность света. Между наблюдателем и источником света медленно вращался диск с отверстием, делавший один оборот в секунду и пропускавший свет за одну десятую долю секунды. Таким образом, глаз ощущал вспышку света каждый раз, когда между глазом и источником света оказывалось отверстие диска. При снижении интенсивности света вспышка будет видна наблюдателю лишь в тех случаях, когда ее энергия станет равной или больше той, что соответствует порогу зрительного ощущения. Если уменьшить энергию, наблюдатель просто не увидит вспышку. Обороты диска регистрируются хронографом, наблюдатель, когда появляется вспышка, нажимает на ключ электрической цепи и регистрирует ее. Затем число вспышек сравнивается с числом оборотов диска и оцениваются флуктуации потока, Таких экспериментов было многие сотни, их проводили разные наблюдатели. Результаты подвергли статистическому анализу с помощью методов теории вероятности. Был установлен статистический характер флуктуаций, что согласовывалось с представлениями о квантовой природе света. Серия экспериментов заняла почти десять лет.
Исследователи, снижая яркость пучка «до тушения», то есть до тех пор, пока глаз не переставал ощущать какой-либо свет, выявили случайные колебания числа фотонов вокруг порогового значения, определяемого чувствительностью глаза. Статистическая обработка материала показала, что единственной причиной таких флуктуаций мог быть прерывистый, «зернистый» характер света, его квантовая природа. Планк оказался прав. И как всегда бывает, этот важный результат был не единственным. Сложные эксперименты принесли с собой много неожиданного.
Вот что писал П. П. Феофилов, ученик Вавилова, крупнейший советский специалист по физической оптике: «Значение опытов по визуальному наблюдению квантовых флуктуаций не ограничивается наглядностью, с которой они демонстрируют квантовую структуру светового потока. С. И. Вавилов показал, что визуальные наблюдения флуктуаций позволяют решать тонкие вопросы физиологии зрения. Так, например, флуктуационный метод определения чувствительности сетчатки позволил обнаружить второй максимум чувствительности в ультрафиолетовой части спектра, существование которого было подтверждено впоследствии независимыми наблюдениями спектральной чувствительности глаза, лишенного хрусталика». И еще: методика, связанная с использованием чувствительности человеческого глаза к необычайно малым световым вспышкам и свечениям, помогла С. И. Вавилову и его ученику П. А. Черенкову открыть совершенно новое физическое явление «нобелевского калибра», о котором нам еще предстоит рассказать.
...Незадолго до смерти С. И. Вавилов написал книгу «Микроструктура света», как бы подводящую итоги его обширных трудов в области оптики. Эта книга раскрывает его как стратега науки, как человека, не только в качестве официального лица несущего персональную ответственность за состояние науки в Советском Союзе, но и избравшего оптику полем своей научной деятельности.
Всю жизнь посвятил он изучению элементарного взаимодействия света и вещества — микрооптике. «Микрооптика, — утверждал он, — так относится к макрооптике, как относится молекулярная теория вещества к термодинамике». Микрооптика — та область, где изучаются элементарные процессы поглощения и излучения света. Она смыкается со спектроскопией, изучает предельно малые мощности светового потока, наконец, улавливает неощутимые для макрооптики связи источника со средой, в которой он излучает. Многие осуждали Вавилова за то, что им и его сотрудниками столько лет и столько энергии потрачено на доказательство неверности закона Бугера, на подтверждение, казалось бы, очевидного — квантовой природы света. Однако эти опыты, проведенные в рекордно широкой полосе интенсивности света (самая слабая интенсивность была в 1020 раз ниже, чем самая сильная), продемонстрировали тогда несправедливость «гибридной» гипотезы М. Планка, о которой мы уже упоминали. Вавиловым было показано, что и поглощение, и испускание носят квантовый характер.
Обнаруженное нарушение линейности оптических законов имело далеко идущие последствия. В конце концов оно привело к развитию совершенно нового научного направления — так называемой «нелинейной оптики», в которой совсем иначе рассматриваются ранее ясные характеристики вещества, такие, как поглощение, дисперсия, двойное лучепреломление. Вавилов уже тогда предчувствовал необходимость применения для анализа сложных проблем оптики нового математического аппарата, способного описывать нелинейные явления.
Нелинейная оптика, у рождения которой стоял Вавилов, оказалась необычайно перспективной областью исследования. В ее развитие внесли большой вклад университетские ученые Р. В. Хохлов и С. А. Ахманов. Было обнаружено множество новых эффектов, важных и в прикладном, и в теоретическом отношениях. Без применения методов нелинейной оптики невозможно, например, анализировать работу твердотельных лазеров.
Вавилов, не обладавший в то время достаточным экспериментальным материалом, смог силой своей научной интуиции заглянуть в будущее и как бы со стороны увидеть грядущее развитие оптики.
Но вернемся пока к люминесценции, той области оптики, которой Вавилов решил посвятить всю свою жизнь. Люминесценция действительно была интереснейшим и одним из наиболее таинственных, необъяснимых явлений окружающей нас природы, хотя известна она испокон веков. Еще Аристотель описывал свечение гниющих рыб. Люди давно заметили ночное свечение насекомых — светлячков. В полях и лесах часто обнаруживали зелено-голубое холодное свечение различных организмов. В черных глубинах моря, куда не проникает солнечный свет, есть светящиеся рыбы и рыбы, обладающие фонарями для освещения. Многие живые существа таким образом заявляют о себе. Свечение помогает им добывать пищу, находить друг друга, ориентироваться. Такое явление свойственно даже некоторым мельчайшим организмам. Светятся целые моря, наполненные бактериями. Свечение сопутствует многим химическим процессам, поблескивают гнилушки, мерцают таинственные ночные огни на болотах...
Светятся некоторые минералы. Почти четыреста лет назад, в 1602 году, башмачник из Болоньи по фамилии Ка-чаролли, втайне от других занимавшийся алхимией и, как многие в то время, надеявшийся с помощью философского камня очень быстро разбогатеть, нашел в окрестностях родного города необычный камень. Он отличался особой тяжестью и блеском. Было очень похоже, что из него можно сделать золото. На самом деле, это был тяжелый шпат — одно из соединений бария, никакого отношения к золоту не имеющее. Качаролли прокалил камень на древесных углях, и, хотя золота не получил, упал перед ним на колени в изумлении и восторге — камень оказался светящимся! После того как его освещали, он долгое время излучал свет сам. Ничего не подозревая, Качаролли открыл явление фосфоресценции и одно из первых веществ, обладающих свойством послесвечения.
Свечение болонского камня навело некоторых ученых на мысль о том, что такова и природа свечения луны. Этим взглядам противостоял великий Галилео Галилей, представивший простые, но убедительные доказательства их ошибочности.
Многие пытались разгадать загадку люминесценции, Среди тех, кому это не удалось, — Р. Бойль и Р. Гук, И. Ньютон и Л. Эйлер, Г. Дэви и М. В. Ломоносов.
Эпохе Ломоносова принадлежат яркие страницы истории исследования люминесценции. У Ломоносова встречаем: «Надо подумать о безвредном свете гниющих деревьев и светящихся червей. Затем надо написать, что свет и теплота не всегда взаимно связаны и потому различествуют». У Ломоносова была даже идея заставить светиться маленькие гусли, звучащие в вакууме.
С. Я. Вавилов. «Нам ясно, конечно, что Ломоносов ошибался. Механические колебания струн или ртути слишком медленны, чтобы можно было в них искать возможную непосредственную причину светового излучения. Ртуть светится в вакуухме при встряхивании вследствие электризации, возникающей при трении металлической ртути о стеклянные стенки трубки и последующих разрядных явлениях в парах ртути, сопровождающихся свечением. Однако весьма замечательна последовательность мысли Ломоносова, переходящей в эксперименте от звуковых колебаний в воздухе к световым колебаниям в эфире».
В книге российского академика В. В. Петрова «О фосфорах прозябаемого царства и об истинной причине свечения гнилых дерев» высказывались весьма интересные взгляды на природу люминесценции, хотя и не подкрепленные достаточным экспериментальным материалом. Нужно сказать, что образцы для изучения явления люминесценции доставать в то время было совсем не просто. Когда
В. В. Петрову для экспериментов понадобились, например, гниющие мясо и рыба, «из многих мясников и рыбаков, мною о том прошенных, ни один, не знаю по каким нравственным или политическим причинам, не выполнил данного мне обещания, хотя я принужден был сулить им за сию услугу сперва синенькие, после красненькие и, наконец, беленькие бумажки (т. е. денежные купюры достоинством в пять, десять и двадцать пять рублей. — В. К.)» — жаловался Петров.
Многие исследовали люминесценцию, но не доходили до конца — до полного разъяснения. Часто, изучая ее «по пути», находили что-то другое, столь же интересное... Так, исследуя явление люминесценции, А. Беккерель случайно засветил фотопластинку и обнаружил радиоактивность, которую поначалу принял за люминесценцию каких-то солей.
Несмотря на то что люминесценция изучалась уже так долго и в изучение ее были включены столь величественные фигуры, прогресса в этой области знания долго не наблюдалось. Не хватало идей, которые смогли бы связать разрозненные факты в стройную систему. Может быть, это помогло бы, наконец, объяснить люминесценцию и даже, возможно, поставить ее на службу человеку.
Таково было положение дел, когда этой проблеядой увлекся С. И. Вавилов. Он же подобрал удачный ключ, начав анализировать явление с энергетических позиций. Предыдущие исследователи люминесценции полагали, что коэффициент полезного действия ее чрезвычайно низок. Так, Г. Гельмгольц считал, что энергия холодного свечения, отнесенная к той энергии ультрафиолетового излучения, которая его вызывала в водном растворе хинина, составляла всего 1/1200 часть. Известный немецкий физик Г. Видеман для одной из светящихся красок рассчитал коэффициент полезного действия, равный 1/22.
Вавилов предложил сопоставить тепловые балансы светящихся и несветящихся растворов. Конечно, такие эксперименты были необычайно сложны, поскольку падающая энергия была сравнима, а то и меньше той энергии, какую раствор отдавал в пространство. Учитывая это, Вавилов разработал метод, при котором вместо абсолютных измерений проводились сравнительные. Результаты этих работ суммированы в статье «Выход флуоресценции растворов красителей», вышедшей в 1924 году. Статья содержала ошеломляющие выводы. Сравнивая между собой свечение белой, матовой, рассеивающей практически весь падающий свет поверхности и поверхности в прозрачной плоской кювете, куда наливалась флуоресцирующая жидкость, Вавилов обнаружил, что обычные флуоресцирующие вещества давали выход от 2/3 до 4/5, то есть в десятки и сотни раз выше того, что предполагалось ранее. Столь высокие цифры, неоднократно проверенные Вавиловым и его коллегами, позволяли совершенно по-новому взглянуть на возможности использования люминесценции в народном хозяйстве. Оказалось, что КПД люминесцирующих веществ не ниже, а несоизмеримо выше, чем КПД ламп накаливания. Таким образом, вполне реальной перспективой ста-» новилось использование люминесцентных покрытий в новых источниках света. Это позволило бы стране сэкономить миллионы киловатт-часов электроэнергии. Вавилов как бы заново открыл явление люминесценции, превратил его из лабораторного курьеза в мощное техническое средство, способное преобразовать жизнь страны.
Академик Д. С. Рождественский (1924 г.). «Открытие Вавилова коренным образом меняет наши представления о роли явления люминесценции. Мы должны изменить прежнее пренебрежительное отношение к ее практическим возможностям».
С. И. Вавилов провел цикл исследований по изучению природы люминесценции. Ближайшим его помощником стал В. Л. Лёвшин.
В. Л. Левшин. «Вавилов впервые в Советском Союзе начал систематические исследования люминесценции, считавшейся загадочным явлением. Одни считали ее результатом химического процесса, другие относили к числу резонансных явлений.
В 1920 году Сергей Иванович предложил мне провести некоторые совместные исследования.
В первой работе мы подтвердили только что открытое явление поляризации люминесценции и установили основные закономерности этого явления. Гипотеза химической природы люминесценции отпала.
Вторая работа касалась природы длительного свечения органических веществ. В то время считалось, что длительность свечения возрастает вместе с увеличением вязкости среды. Мы показали, что повышение такой вязкости не имеет никакого значения...»
Было бы, конечно, неточным утверждение о том, что Вавилов построил первую люминесцентную лампу. Такие лампы уже создавались раньше. В крупных городах многих стран мира, особенно капиталистических, уже давно взрывалось по ночам многоцветье неоновой рекламы, представляющей собой, по существу, тот же «холодный свет». Однако он был совершенно не пригоден для регулярного, нормального освещения, требовал подвода слишком высокого напряжения и, по существу, являлся высоковольтным разрядом неона или ртутных паров. Обычно светящиеся трубки рекламы светили красным, зеленым или синим цветом.
Вавилов смог глубоко разобраться в спектральных характеристиках люминесцентных составов и в результате разработал рациональный спектр свечения будущих ламп.
Он создал совершенно новую конструкцию их, в которой светились не только пары, но и специальная оболочка, изготовленная из фосфоресцирующих кристаллов.
К разработке и внедрению новых ламп Вавилов привлек своих учеников. Работы велись и во Всесоюзном электротехническом институте и на электроламповых заводах. Вместе с Вавиловым этой проблемой занимались В. Л. Лев-шин, В. А. Фабрикант, М. А. Константинова, Ф. А. Бутаева, В. И. Долгополов. За разработку люминесцентных ламп все они после окончания Великой Отечественной войны были удостоены Государственной премии.
Первые образцы ламп изготовили еще до войны московские заводы — электроламповый и «Светотехника». К маю 1941 года составили документацию к их промышленному производству. Однако выпуск новых «ламп дневного света» начался лишь после войны, когда они, яркие, экономичные, эффективные, были установлены в московском метро, в ленинградском Государственном Эрмитаже, в ряде официальных зданий, а затем начали победное шествие по всей стране.
Разработка и внедрение люминесцентных ламп стали важным доказательством высочайшего уровня московской физики — даже наиболее развитые страны Запада отстали в этом отношении от СССР на много лет. А увлеченный Вавилов находит для своих люминесцентных составов все новые и новые применения, иной раз — довольно курьез-ные: «Большое значение люминесценция получила в театральной технике... Так называемые «чудеса» в оперных, балетных и детских спектаклях осуществляются с помощью «холодного света» в большинстве случаев крайне просто. Легко, например, показать танцора, исполняющего сложный и трудный танец на одной ноге, для этого достаточно, чтобы вторая нога танцора была покрыта нелюминес-цирующим материалом. Тогда в ультрафиолетовом пучке света все части тела люмияесцирующего танцора будут светиться, за исключением одной ноги. Люминесценция позволяет необычайно красиво и фантастично осуществить такие трудные постановки, как «Подводное царство» в опере «Садко» или «Вальпургиеву ночь» в «Фаусте»...».
Вавилов оказался страстным энтузиастом применения люминесценции как метода научного исследования. С его участием были разработаны специальные приборы для изучения ядеркых процессов, так называемые сцинтилля-ционные счетчики. По его предложению разработали и люминофорные экраны — детекторы всевозможных электромагнитных радиаций, в их числе и телевизионные экраны. Люминесцентный анализ стал мощным средством борьбы со всевозможными фальсификациями, в частности произведений искусства, и мощным стимулом повышения качества производств. Размышляя о грядущих судьбах люминесценции, Вавилов писал: «Холодный свет» — это
единственное рациональное решение светотехнической проблемы, это освобождение от проторенной дороги тепловых источников света, на которую толкает нас лрирода, это овладение природой, ее переделка. «Холодный свет» — это неотъемлемая часть культурной жизни будущего коммунистического общества. Наша обязанность — приблизить осуществление и повсеместное распространение «холодного света».
Постепенно перед Вавиловым и его сотрудниками раскрывались и основные законы, управляющие люминесценцией. Оказалось, что «холодный свет» — это явление редкое, избирательное. Легче найти не люминесцирующее тело, чем с «холодным светом». В этом состоит важнейшая его особенность. Вавилов обнаружил, что в люминесцирую-щих веществах поглощение и испускание света — это два особых акта, разделенных во времени. Он писал: «Бесспорно, что «холодный свет» может появляться только за счет поглощенной первичной энергии, иначе нарушался бы основной закон природы — сохранение энергии. Неверно, однако, обратное: не всякое поглощающее свет вещество дает люминесценцию. Например, обычные чернцла, черные или красные, очень сильно поглощают свет, но не дают вторичного свечения, в то время как растворы красителей флуоресцина, родамина и других прекрасно светятся».
Вавилов открыл законы спектрального преобразования в люминесценции, зависимость ее цвета от длины волны падающего света. Он ввел понятие выхода люминесценции, до сих пор обозначающееся буквой В (Вавилов). Вместе с В. Л. Левшиным он обнаружил не известное ранее явление поляризации люминесценции, открывшее широкие возможности изучения структуры вещества. Выяснилось, что степень поляризации связана с длиной волны возбуждающего света, с природой самой испускающей свет молекулы.
Занятия люминесценцией позволили Вавилову проникнуть в самую сущность интимнейшего механизма поглощени я и испускания света. Он привлек к изучению это# проблемы множество новых исследователей. Если до Великой Октябрьской социалистической революции физиков, химиков и инженеров, которые работали в этой области в России, можно было пересчитать, как говорил Вавилов, «по пальцам одной руки, то в послевоенные годы таких специалистов насчитывалось уже тысячи. Люминесценция мощно ворвалась в быт, стала широко применяться в освещении. Каждый житель нашей страны знаком1 с люминесцентными покрытиями! хотя бы по экрану своего телевизора.
Люминесцентные явления оказалась теснейшим образом связанными g крупнейшим научным событием нашего времени — изобретением лазера и мазера. Спектроскопические исследования подготовили не только принципиальную почву для появления лазеров, но и заранее установили энергетические схемы для соответствующих систем, определили вероятность перехода их из одного возбужденного состояния в другое.
Вавилов лишь немного не дожил до появления лазеров, но свидетельством того, насколько он был близок к пониманию возможности получения когерентного излучения от микрочастиц, может служить следующая фраза из его труда «Микроструктура света»: «Исключена ли возможность получения когерентного света в течение достаточно длительного времени от двух разных частиц вещества, находящихся на расстоянии, измеряемом несколькими диаметрами частиц? По-видимому, нет. Если две (или больше) такие частицы находятся одновременно в возбужденном состоянии, длящемся очень значительное время по сравнению с периодом световых колебаний, то между ними неизбежно возникнет взаимодействие или (в квантовой интерпретации) обменные силы... Вследствие этого излучение обеих частиц должно стать когерентным, связанным по фазе. Экспериментально для этого требуется очень сильное возбуждение... и люминесцирукэщая среда, дающая молекулярное «спонтанное» свечение большой длительности...»
Критерий длительности, введенный Вавиловым в определение люминесценции, позволил ему зорко усмотреть в обнаруженном его аспирантом П. А. Черенковым свечении новые черты, не сводящиеся к люминесценции, и не повторить тем самым ошибку тех, кто раньше наблюдал это явление, но приписывал его. свойствам люминесценции;
Институт биологической физики в Миуссах стал колыбелью новых интереснейших научных представлений...
В 1929 году праздновалось его десятилетие. Директор института академик П. И. Лазарев в своей юбилейной речи, произнесенной 27 апреля, назвал его лучших представителей: С. И. Вавилова, В. Л. Левшина, Т. К. Молодого, А. С. Предводителева, П. А. Ребиндера, А. К. Трапезникова, Э. В. Шпольского, В. В. Шулейкина.
Это был уже первоклассный в мировом масштабе Физический институт, давно выросший из своего старого названия — Институт биологической физики. В 1929 году институт получил новое название — Институт физики и биофизики. В нем велись работы по широкому спектру направлений — по оптике, акустике, молекулярной физике, биохимии... И всем этим занималось всего 36 научных сотрудников.
8
Погром Московского университета, произведенный в 1911 году, уход из него Лебедева и его последующая смерть, а затем наступившая мировая война резко подорвали физические исследования в университете. Работы, которые все еще велись в Физическом институте Московского университета, стали постепенно вырождаться, отставать от мирового уровня.
Естественно, это не могло не заботить С. И. Вавилова, понимавшего, что с угасанием университетской физики ослабнет российская кузница физических кадров. Он был убежден в том, что грядущее социалистическое строительство потребует целые армии исследователей-физиков.
В те годы в управлении университетом значительно большую роль, чем раньше и позже, играли студенты. Они входили в состав предметных комиссий — органа, представляющего собой нечто среднее между кафедрой и факультетским советом. Вавилов состоял в предметной комиссии физической специальности МГУ и с самого начала, заняв по отношению к студентам конструктивную позицию (она разделялась далеко не всеми профессорами), пытался вместе с ними решить наиболее насущные вопросы будущего развития физической науки и физического образования.
Он, в частности, был одним из самых горячих сторонников выделения отдельного физического факультета из физико-математического и приглашения для преподавания
на новом факультете прекрасного физика Л. И. Мандельштама, который в те годы работал в Петрограде. Кандидатуру Мандельштама, как явного «варяга», встретили с большим подозрением, но Вавилов сумел донести и до предметной комиссии и до университетского руководства свои важные соображения, касающиеся необходимости пригласить на факультет этого выдающегося ученого.
Мандельштам принадлежал к научному поколению, как бы промежуточному между поколением Лебедева и поколением Вавилова. Он, как и Лебедев, учился в Страсбурге и прошел блестящую практику кундтовского физического института. Правда, в то время им заведовал уже Ф. Браун, крупный термодинамик, автор знаменитого принципа Брауна — ле Шателье, изобретатель электрометра и известной катодной трубки. В Страсбурге, как и раньше, существовала российская колония. Из физиков в нее входили П. П. Лазарев, И. С. Щегляев, Н. Д. Папалекси. Мандельштам быстро подружился с молодыми учеными и обратил на себя внимание своими исключительными способностями. Ему была предоставлена уникальная возможность свободно выбрать тему и лабораторное оборудование.
Нужно сказать, что Брауна тогда сильно увлекали вопросы радиотелеграфии (за работы в этой области он впоследствии получил вместе с Г. Маркони Нобелевскую премию 1909 года по физике). Естественно, что и интересы Мандельштама сконцентрировались именно на этом направлении. В те времена не было никакой ясности в понимании существа физических процессов, происходящих в радиопередатчиках и радиоприемниках, не вполне осознавалась роль антенн (например, А. С. Попов, изобретатель радио, как и большинство физиков, считал, что антенна служит для облегчения «соскальзывания» с нее электрического заряда). Не существовало общепринятой и эффективной методики измерения радиочастот, и поэтому первая же работа Мандельштама, посвященная определению периода колебательного разряда конденсатора, представленная им в качестве диссертации, была принята с воодушевлением. В 1902 году Мандельштам получил степень доктора натуральной философии Страсбургского университета Magna cum laude, то есть с наивысшим отличием.
Мандельштам участвовал в разработке первых мощных радиопередатчиков и радиоприемников, например, для рекордной по тем годам «линии радиопередач» между городками Сасницем и Кольбергом — на 150 километров.
Мандельштам предложил и теорию так называемой «слабой связи», которая сразу же сделала его имя известным всем радиотехникам, высказал ценные соображения относительно связи между антенной и промежуточным контуром приемного устройства, реализация которых позволила резко увеличить дальность приема и его селективность. Он не боялся спорить с самим Флемингом — знаменитым тогда радиоспециалистом — о рациональной форме антенны, и ядовито указывал на имеющиеся в формулах и вычислениях Флеминга многочисленные ошибки. Это были годы шумного торжества практической электродинамики, родившейся из негромких статей Максвелла, из академических экспериментов Герца, Столетова и Лебедева. Глубокая теоретическая подготовка позволяла Мандельштаму с очень продуманных и четких позиций решать любые практические вопросы. И наоборот, его практическая деятельность в области радио все дальше и дальше подталкивала его к тому, чтобы он избрал вечной темой своей научной работы теорию колебаний, в том числе электромагнитных.
Страсбургская идиллия — занятия радиотехникой и теорией колебаний, чтение Пушкина, посещение картинных галерей, концертов серьезной музыки, изучение истории искусств, умственные и спортивные игры — окончилась с началом первой мировой войны.
В день объявления войны Мандельштам прибыл на родину, в Одессу. В 1915 году он — консультант радиотелеграфного завода «Сименс-Гальске» в Петрограде. Понимая, что это место его не стоит, начинает метания по стране и поиски себя. Он трудится в Тифлисском политехническом, заведует кафедрой физики в Одессе, где вербует в свои ученики талантливейшего И. Е. Тамма. Затем он консультирует Электротехнический трест заводов слабого тока в Москве, работает в радиолабаратории треста. После окончания войны — командировка в Германию, встреча с А. Эйнштейном, переезд в Ленинград, работа со старым другом Н. Д. Папалекси в Центральной радиолаборатории. Он открывает новые способы радиотелефонной и радиотелеграфной модуляции, конструирует высокочувствительные приемники. Казалось бы, все идет благополучно, но мятущаяся душа Мандельштама неспокойна. Вкус к чистой физике, растравленный в нем Брауном и Эйнштейном, не притупился.
Вот почему он с восторгом принимает предложение С. И. Вавилова перейти с 1925 года в Московский государственный университет для заведования там кафедрой тео-ретической физики и одновременно научной деятельности в университетском инсютуте физики.
С приходом Мандельштама положение физики в университете меняется, как по мановению волшебной палочки. Вокруг него сразу же начинает разрастаться группа молодых, подающих надежды учеников. Он легко дарит молодежи свои научные идеи, вдохновляет их. В тесном коллективе студентов и аспирантов, сплачивающихся вокруг него, — И. Е, Тамм, Г. С. Ландсберг, А. А. Андронов, М. А. Леонтович, С. Э. Хайкин, Г. С. Горелик, С. М. Рытов, А. А. Витт, С. П. Шубин, М. А. Дивильковский, В. А, Фабрикант.
Он поселился в глубине старого университетского двора, в профессорской квартире при Физическом институте. Рядом с его дверью была дверь в рентгеновскую лабораторию. Вскоре он стал такой неизбежной принадлежностью университета, что, казалось, он был здесь вечно и никогда ниоткуда не приезжал.
Академик АПН В. А. Фабрикант так рассказывал о тех временах: «Впервые о Леониде Исааковиче Мандельштаме я узнал осенью 1925 г., присутствуя в качестве представителя студентов первого курса на заседании предметной комиссии по физике, происходившем в помещении так называемой столетовской библиотеки Физического института МГУ. Председатель предметной комиссии А. К. Тимирязев произнес теплую речь, очень высоко оценив в то время приход на физический факультет такого крупного ученого, как Л. И. Мандельштам...
Студенты сразу поняли, что Л. И. является центром притяжения для активно работающей в науке группы физиков. Члены этой группы были весьма различны по степени самостоятельности, по возрасту и даже по стилю работы, но у них было много общего и для всех них Л. И. был авторитетом.
Нас, студентов, воспитывали не нравоучениями, а личным примером, своим отношением к науке, друг к другу. Мы ощущали чистоту атмосферы, нас окружавшей, что далеко не всегда бывает. Недаром Ф. Шиллер писал о науке: «Этот в ней видит богиню, небесную радость, а этому просто корова она: было бы масло ему».
Мы видели, как Л. И. радуется чужим достижениям. Мы видели, как Л. И, сочетает большую терпимость к людям с твердостью в научных убеждениях. Он никогда не отвергал «с порога» неверные утверждения, но терпеливо и четко разъяснял их ошибочность...»
Приглашение в МГУ Мандельштама ознаменовало собой радикальный подъем уровня преподавания физики. Оно улучшилось и с содержательной стороны — студенты сразу стали вровень с современным развитием мировой физики, с новейшими теориями, и с методической — Мандель-штам был педагог необыкновенный.
Член-корреспондент АН СССР Е. Л, Фейнберг, рассказывая о том впечатлении, которое производил Мандельштам на кафедре, вспоминал следующее: «В монументальной стене Большой физической аудитории старого здания физического факультета на Моховой раскрылась правая дверь под запыленным бюстом Ньютона, и в зал вошел окруженный людьми довольно высокий, слегка сутулящийся, еще темноволосый, но уже стареющий человек в черном костюме... Сопровождающие спешат к своим местам в первом ряду. Это ряд стульев, приставленных специально сегодня перед крутым амфитеатром, который весь — мест, вероятно, пятьсот — заполнен до отказа и весь гудит, но быстро смолкает — обычное звуковое оформление начала лекции всеми уважаемого лектора. И Мандельштам сразу начинает.
Он говорит хотя и вполне четкими фразами, но вначале несколько скованно. Что-то извиняющееся в его тоне и даже в позе будет прорываться и позже. Однако постепенно он «раскручивается» и переходит в то состояние, когда единственным, что существенно для него в мире, становятся произносимые слова, высказываемая мысль. Голос чуть-чуть в нос, негромкий и только прекрасная акустика аудитории (ныне перестроенной и не существующей), ясность структуры и содержания каждой фразы делают его воспринимаемым для слушателей даже в последних рядах. Мандельштам не оговаривается, не поправляется, он произносит только то, в чем уверен и что продумал. Но так до конца лекции и не покинет спасительный пятачок между концом стола и доской за ним. На столе лежат записки, к которым он иногда плавно наклоняется или поднимает их к близоруким глазагл, сняв пенсне и держа его в слегка отведенной в сторону руке. И это соединение четкости и твердости в существенном с мягкостью поведения характерно для него...»
Мандельштама полюбили, Мандельштаму подражали, многие повторяли за ним: «А что Вас шокирует в этом рассуждении?»
Он привнес в университет прекрасную школу научного исследования, суровую требовательность к результатам и строгости исходных посылок. Ученый ненавидел рассуждения с вялыми и ненадежными исходными данными и приводил как юмористический пример выдержку из сочинений арабского алхимика Гебера, жившего в X веке, который в своем труде «О равновесии», задавая вопрос себе и своим коллегам, исходил из следующей посылки: «Почему, как всем известно, облако не дает дождя, когда женщина выходит из дома голой и обращается лицом к облаку?»
Мандельштам был необычайно строг и взыскателен к системе доказательств и точности измерений. Тщательность, с которой он подходил к своим публикациям, не раз играла с ним злые шутки. В первый раз это случилось в 1912 году, когда совместно с Н. Д. Папалекси он выполнил блестящую работу об электронном характере электропроводности металлов. Полагая, что она все же еще недостаточно доказательна, Мандельштам всячески противился продвижению ее в печать и постоянно совершенствовал; тем временем Толмен и Стюарт в 1916 году опубликовали свое ставшее широко известным исследование, которое ровно ничем от работы Мандельштама и Папалекси не отличалось.
Особенно драматическая история произошла, когда Л. И. Мандельштам вместе с Г. С. Ландсбергом занялись в 1928 году рассеянием света в связи с флуктуационными явлениями. Эта серия экспериментов, проведенная в научно-исследовательском институте физики в Московском университете, стала достойным продолжением блестящих лебедевских опытов. Облучая некоторые кристаллы, Мандельштам и Ландсберг заметили, что в спектрах молекул содержатся «непредусмотренные» линии. Частота их, как показал Мандельштам, определяется комбинациями частоты падающего света с колебательными и вращательными частотами молекул. Было обнаружено совершенно новое физическое явление, сделано открытие крупнейшего ранга. Н. Д. Папалекси вспоминал: «Это открытие, которое одновременно с русскими физиками было сделано индийским ученым Раманом, является одним из крупнейших открытий в оптике... а его значение и для практики уже сейчас так велико, что его можно поставить в ряд с замечательным открытием Кирхгофом и Бунзеном спектрального анализа.
Это открытие, несомненно, поставило имя JT. И. в один ряд с именами крупнейших физиков современности. Только присущая Л. И. исключительная требовательность к себе, можно сказать, скрупулезность, из-за которой Л. И. не публиковал новых вещей, не подвергнув их предварительно мно-юкратной проверке в течение длительного времени, была причиной того, что сообщение об открытии, фактически сделанном им первым, появилось в печати позже Рамана, который в 1930 г. получил за это открытие Нобелевскую премию по физике». Сам Мандельштам из-за несправедливости Нобелевского комитета не стал Нобелевским лауреатом. Однако он в сильнейшей мере содействовал тому, что среди физиков, воспитанных нм или испытавших его влияние, оказалось немало тек, кто получил и Ленинские, и Государственные, и Нобелевские премии.
Он воспитал целую армию исследователей самого высшего ранга. В полученных с боем комнатах первого этажа Физического института, ранее фактически пустовавших, развернули экспериментальные исследования будущие академики М. А. Леонтович, А. А. Андронов, В. Л. Гинзбург и В. А. Фабрикант. Менее известен рано умерший А. А. Витт, крупнейший специалист в области нелинейных колебаний. Он с легкой руки Мандельштама носил кличку «импрессионист». Как вспоминал впоследствии А. А. Андронов, А. А. Витт мало интересовался деталями вычислений, обычно сразу же видел окончательный результат, умел до него необыкновенно быстро добираться. Его оптимистический девиз «Все плохое сократится, все хорошее останется» помог преодолеть многие трудные выкладки, которые в конце концов приводили к простым и физически прозрачным окончательным формулам.
Многим желающим помещений не хватало. Вскоре под лаборатории были задействованы и несоразмерно большие холлы лабораторных туалетов. Здесь разместился физический практикум, посетители которого, зная историю помещения, не уставали упражняться в остроумии. В общем физическом практикуме работали Э. В. Шпольский, Т. К. Молодый, А. С. Предводителев.
Мандельштам сумел создать в университета подлинно научную школу. Он был преподавателем по призванию, любил учить молодых, растолковывать им сложные проблемы, решать с ними каверзные задачи, распутывать парадоксы. Он никогда не скрывал от своих учеников и сотрудников своих будущих планов и идей и с удовольствием делился всем тем, что приходило ему в голову. Многие эти идеи стали темами исследований учеников его школы. Его кристальная честность в вопросах приоритета, авторства, научной этики, его научная добросовестность создавали вокруг него ореол непогрешимого вождя. Семинар по теории колебаний, который Мандельштам начал вести с 1926 — 1927 годов, стал необычайно популярен среди физиков, механиков и математиков Москвы, Когда Мандельштам, бывало, не приходил на семинар, это называлось «чай без сахара». На семинарских занятиях закалялась и крепла впоследствии столь известная школа колебаний Московско--го университета. Отсюда вышла и Лаборатория колебаний будущего ФИАНа.
Вот что писал академик М. А. Марков: «Кажется, не так уже давно это было. В памяти еще возникает Леонид Исаакович Мандельштам, он медленно поднимается по лестнице, ведущей в небольшую аудиторию Физического института старого здания Московского университета. Здесь через несколько минут начнется семинар, руководимый Леонидом Исааковичем, За Леонидом Исааковичем, сдерживая свой вечно спешащий шаг, с непривычной степенностью следует молодой, хочется сказать, юный, Игорь Евгеньевич Тамм, как говорили студенты: «Игорь». За ним неизменно корректный какой-то своеобразной, только ему свойственной корректностью Григорий Самойлович Ланд-сберг. Ему как-то не шло привившееся в институте сокращенное «Григе». И юношески стройный, казалось, смуглый до черноты Сергей Иванович Вавилов. Кажется, не так давно это было. А ведь все это было более пятидесяти лет тому назад!
...Было большой удачей для Московского университета, что здесь во главе физиков оказался Л. И. Мандельштам, ученый мирового класса и обаятельный человек. Особо выделяло Леонида Исааковича то, что ему была близка классическая физика волновых явлений во всех их проявлениях: оптических, радиоволновых, звуковых, гидродинамических. Непревзойденный знаток волновых процессов в средах, он обладал уникальными в мире возможностями истолкования волновых аспектов в квантовой теории, которая долгое время называлась просто волновой механикой.
, Небольшая аудитория наполнялась до отказа. Чаще всего где-то у окна можно было видеть стоящего во весь рост высокого Михаила Александровича Леонтовича, чем-то напоминающего Пьеро, в длинной узкой спецовке. Часто
бывал жизнерадостный Андронов; к его цветущему лицу и крепкой фшуре очень шел расстегнутый ворот рубахи без пояса. Там были многие другие, которых давно уже нет...
Семинар был праздником не только для московских физиков, гостями, правда нечастыми, были ленинградцы: Гамов, Иваненко, запомнился ярко-красный галстук Ландау. Были и зарубежные гости. Трудно отказаться от упоминания семинара, на котором присутствовал Эренфест. Небольшого роста, подвижный, коренастый, очень оживленный; ему, казалось, невозможно долго усидеть на одном и том же месте, в одной и той же позе...»
9
В 1928 году заведующим кафедрой общей физики Московского университета избирают С. И. Вавилова; он становится действительным членом научно-исследовательского физического факультета при МГУ. Для него это означает прощание со столь дорогим Институтом биологической физики, где сделано так много.
Как и все, чем занимался Вавилов, новая университетская жизнь строится им на научной основе, тщательно продумывается и обсуждается с немногими друзьями. Обновлен состав преподавателей, разработаны новые учебные планы и программы. Стали обязательными регулярные заседания кафедры, расцвел физический кабинет, вновь обогатившийся приборами, в том числе спроектированными самим Вавиловым. Свежие веяния наполнили физический практикум, внесли разнообразие в решение его, возможно, скучноватых, но необычайно полезных задач.
Вавилов экспериментирует и в учебном процессе: одно время он является поборником так называемых бригадных методов обучения. Университетская многотиражка писала: «Сергей Иванович Вавилов — первый ударник-профессор на физическом отделении. В 1930 году физики II курса заключили с С. И. Вавиловым договор соцсоревнования по выполнению учебно-производственных планов. Тогда еще искали новые методы работы, и Сергей Иванович явился первым застрельщиком в этом деле, дал лучший метод занятий — лабораторно-бригадной проработки.
Метод Сергея Ивановича вошел в историю физического отделения, и теперь об этом методе разговаривают как о вавиловском методе...
В летнее время Сергей Иванович провел большую работу по постановке специального и общего физпрактику-
мов. К началу занятий им написана лучшая программа по оощеи физике. А теперь пишет он 4 учебника и дал обязательство выпстить их к началу 1932 года.
Премирован тов. Вавилов на вузслете грамотой ударника, премией в 200 руб. и заграничной командировкой».
...В 1928 году в Москве состоялся съезд советских физиков, в Московский университет съехались многие известные отечественные и зарубежные ученые.
С интересОхМ осматривали новую Москву приехавшие на съезд физиков заграничные гости. На окраинах поднимались новые стройки. На замусоренных пустырях возводились новые знания. Рядом с седым Донским монастырем строился современный станкостроительный завод «Крас-ный пролетарий». На востоке Москвы росли ЗИЛ, подшипниковый завод, мясокомбинат. Первые московские автобусы вступили в соревнование с ломовыми извозчиками и пролетками.
Еще работает биржа труда в Рахмановском переулке, но на заводе «Красный пролетарий» строятся замечательные станки ДИП, лаконично передающие в своем названии формулу времени: «догнать и перегнать». Несколько страниц справочника «Вся Москва» заняты списком рабфаков.
Съезд физиков проходит в большой аудитории Физического института, где когда-то читал лекции П. Н. Лебедев. Сейчас здесь на студенческих скамьях рядом с М. Борном и П. Дираком сидят совсем молодые люди — ученики Мандельштама и Вавилова. Они не просто присутствуют, а спорят с Борном и Дираком по вопросам квантовой теории!
В конце января 1931 года С. И. Вавилова избирают членом-корреспондентом Академии наук СССР, а через год — академиком. Нахлынувшая волна новых обязанностей заставила его забыть о регулярной педагогической работе в университете и ограничиться лишь редкими лекциями. Однако то недолгое время, которое он посвятил университету, оставило след в славных именах его учеников, ставших крупными советскими физиками. Это — И. М. Франк, Б. Я. Свешников, Е. М. Брумберг, В. В. Антонов-Романовский, В. С. Фурсов, А. А. Шишловский.
Вспоминая о своем руководителе, ученики всегда отмечают его удивительную черту — мягкую требовательность. Каждая встреча начиналась с вопроса: «Что у вас нового?», имевшего буквальный смысл — Вавилов требовал отчета о том, что нового сделано в минувшие сутки, какие достижения получены. Отчитаться прежними успехами было невозможно. Он никогда не пенял за неудачу в работе и, наоборот, всячески старался приободрить «неудачника», рассказывая случаи из собственной жизни: он любил, например, поведать о том, как сжег у Принсгейма в Берлине замечательный электромагнит и вынужден был долго перематывать его.
Сергей Иванович читал на вновь организованном физическом факультете МГУ курс оптики. Некоторые считают, что, хогя он читал не так блестяще, как, например, Г. С. Ландсберг (которому был свойствен «качаловский» стиль изложения — природа одарила его прекрасно поставленным бархатистым баритоном), его лекции оставляли большое впечатление благодаря глубине идей и хорошему оснащению всевозможными экспериментами. Вавилов, нужно сказать, сам не особенно любил читать лекции, поскольку очень много курил и страдал эмфиземой легких. Чтение даже двухчасовой лекции представляло для него значительные затруднения, и лекциями он тяготился, предпочитая научное руководство своими молодыми учениками.
На факультете Сергею Ивановичу достался кабинет, который одновременно служил лабораторией, где занимались его студенты, в том числе будущий академик И. М. Франк. Работал он за конторкой, письменного стола у него не было. Обычно просматривал громадную массу книг, которую приносил с собой. В эти годы он готовил к изданию книгу «Экспериментальные основания теории относительности».
И. М. Франк вспоминает: «Мы чувствовали, насколько наши наставники увлечены наукой, н эта не могло не оказать сильного влияния на формирование нашего мировоззрения. Сергей Иванович сразу же завоевал сердца студентов. Он с первых лет обучения держал себя с нами как с коллегами по общей работе. Причем это делалось без всякого нажима, совершенно естественно. Нас поразила широта его интересов и познаний. У него удивительно сочеталась сдержанность с общительностью. Он охотно делился своими мыслями и заботами.
Постепенно мы стали понимать своеобразие Сергея Ивановича как ученого и оценили характерное для него неторопливое глубокое раздумье над основными проблемами науки и ее истории. К его облику подходил несколько старомодный термин «естествоиспытатель», хотя он был всегда в курсе последних событий в физике».
Вавилов покидал Московский университет с ясным осознанием того, что дело физического образования в надежных руках. Он не ооялся даже за судьбы оптических исследований, которые могли бы заглохнуть, как многим тогда казалось, у радиотехника Мандельштама.
Но Мандельштам был не столь прост. В одной из публичных речей он как-то сказал, что нецелесообразно оцеплять колючей проволокой жестких определений отдельные области наук. Он, наоборот, ратовал за выработку таких руководящих точек зрения, которые позволяли бы объединить разрозненные классы проблем. Теория колебания позволяла ему соединить воедино и оптику, и радиотехнику. Теория колебаний, в том числе нелинейных, оказалась аппаратом, объединяющим самые далекие области науки. С точки зрения этой теории, говорил Мандельштам, проволочная телефония и комбинационное рассеяние света — это одно и то же. Мандельштаму удалось осуществить плодотворнейшую идею переноса в оптику представлений о молуляции колебаний, свойственных радиотехнике. Исключительно плодотворным оказалось введенное Мандельштамом и, очевидно, имевшее радиотехнические корни «нелинейное физическое мышление», отказ от простых линейных зависимостей между всем и вся. Здесь он полностью солидаризировался с Вавиловым, с его поисками нелинейности в законе Бугера. Новые представления существенно обогатили математический аппарат, позволили открыть и предсказать ряд необычайно интересных явлений.
В кузнице физических кадров жарко пылали горны...
ГЛАВА X
РОЖДЕНИЕ ФИАНа
1
В далеком восемнадцатом, когда Украина была под гетманом Скоропадским, когда немцы хозяйничали на российских просторах, когда Москва потеряла связи с окраина-» ми, была отрезана от сырья, топлива, когда реальность Советской власти ощущали лишь немногие жители центра России — уже тогда В. И. Ленин задумывался о том, как «собирать камень за камушком» прочный фундамент социалистического общества, о будущем хозяйстве нашего государства. Он хотел предложить Российской Академии наук составить план экономического подъема России. В «Наброске плана научно-технических работ» В. И. Ленин предлагал обратить особое внимание на электрификацию промышленности и транспорта, применение электричества к земледелию, на использование непервокласспых сортоз топлива — торфа, угля низкого качества — для получения электрической энергии с наименьшими затратами, на добычу и перевоз горючего, на использование энергии воды и ветра. Не под силу были пока еще эти задачи старой Академии, не могла она перестроиться так быстро.
Г. М. Кржижановский писал о «Наброске плана научно-технических работ» так: «В то время еще никакой группировки научных работников вроде организованной гораздо позднее Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) и в помине не было. А между тем стоит только перечитать строки этого наказа, чтобы видеть, что, по существу, здесь уже поставлены основные вехи грядущих фундаментальных работ и как много приходилось учиться работникам науки и техники у Ленина в области революционного преобразования всей нашей экономики и техники на основе общего гениального научного, продуманного плана».
Хотя В. И. Ленин работой Академии был удовлетворен не в полной мере, он всячески противился ее реформации.
Однажды, услышав, что у одного молодого, весьма уважаемого коммуниста-астронома есть план реорганизации Академии, он очень встревожился, потребовал к себе Луначарского (Академия была в ведении Наркомпроса) и, лишь когда тот сказал, что никакого серьезного значения планам такого рода не придается, несколько успокоился.
— Жаль, некогда сейчас вплотную заняться академией, — говорил он тогда Г. М. Кржижановскому. — Нужны осторожность, такт, знания. А сейчас у нас куда более проклятые вопросы. Боюсь, найдется какой-нибудь смельчак, наскочит на академию/ Можно представить, сколько посуды перебьет!
Прошло несколько лет, и стало ясно, что в самой Академии назревают перемены. О характере растущих в ней противоречий, о бурной реакции некоторых членов на ее чопорный академизм, о противопоставлении в ней «чистой» и «подлой» науки, оставшемся еще с прошлого века, о ее традициях, приходящих в столкновение с самой жизнью, свидетельствует весьма колоритная переписка двух видных
академиков — С. Ф. Ольденбурга, непременного секретаря Академии, и А. Н. Крылова, работавшего в то время в Англии по заданию Советского правительства. Переписка относится к 1926 году — к тому периоду, когда время грядущих академических преобразований было уже не за горами...
С. Ф. Ольденбург — А. Н. Крылову. 23/V1 1926 г.
«Дорогой Алексей Николаевич,
По полномочию большого числа Ваших и моих сочленов по Конференции Академии наук обращаюсь к Вам со следующей товарищескою просьбою. Со смертью Владимира Андреевича (Стеклова. — В. К.) настала необходимость думать о Вице-президенте и выбор наш, как мне кажется, естественно, остановился на Вас.
Мы знаем хорошо Вашу работу за границей, но глубокое убеждение в том исключительном положении, какое Академия заняла с ее многочисленными учеными учреждениями в Союзе, побуждает нас считать, что ответственная работа в таком ученом учреждении является не только почетной, но и действительно ответственной для русского ученого, как Вы... Не отказывайте в Вашей помощи. Академия не может не быть Вам дорога. Без Вас нам не обойтись. С глубокой уверенностью мы все, и особенно я, ждем Вашего согласия.
Физико-математический институт тоже, конечно, должен перейти в Ваше ведение.
Жду Вашего ответа.
Глубоко и искренно Вас уважающий и преданный
Сергей Ольденбург».
А. Н. Крылов — С. Ф. Ольденбургу. 23/VI 1926 г.
«Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Спасибо Вам за Ваше письмо и память, но должен Вам с места сказать, что с содержанием Вашего письма я в корне не согласен. Буду вполне откровенен и, чтобы быть ясным, буду по морской привычке всякую вещь называть своим именем, не прибегая к обинякам...
Вы пишете: мы знаем хорошо Вашу работу за границей и т. д На самом деле моей работы за границей ни Вы, ни мои сочлены не знаете и, конечно, не цените ее ни в грош, а считаете, что я занимаюсь выгодным ремеслом вместо науки, т. е. делаю дело, академика недостойное. В значительной мере такое мнение происходит от разности взглядов на то, что составляет науку и что — технику или ремесло. Мне, например, кажется, что у многих «чистых» ученых на этот предмет сохранились еще те схоластические воззрения, которые проявлялись в учении о «высоком», «среднем» и «подлом» стиле.
Если я произвожу расчет Пулковского объектива, стоящего 13000 ф. ст. — то это по Вашему «высокая» наука, а если я, произведя расчеты дйух нефтеналивных судов, стоящих каждое по 180.000 ф. ст., показал, как простым изменением предложенного французами проекта повысить грузоподъемность судов на 600 тонн для каждого без повышения стоимости их постройки, т. е. принес выгоды на 20.000 ф. ст. (пароход расценивается по грузоподъемности для этого класса судов до 16 ф. ст. за тонну), — то это «подлая» техника.
Когда вопреки мнению германских экспертов, давших заключение, что по Гета-эльф может проходить пароход, поднимавший только 3 или 4 паровоза без тендеров, а я нашел, купил и приспособил прх. «Нибинг», так что он перевозил 11 паровозов и И тендеров сразу, причем до допускаемого правилами прохода по Готскому каналу предела у него оставалось всего 2 дюйма запасу, то Вы в Берлине считали, что это техника, как бы ломовой извоз, академика недостойный. Первые рейсы я должен был сам делать на этом пароходе, ибо «Деругра» слагала с себя «всякую за них ответственность». На перевозке 450. паровозов я этим сберег 200.000 ф. ст. для нашей казны — и только покойный Влад. Андреевич в своем отзыве признал и показал, что это тоже «наука» и что «приложение научных познаний» к практике входит в обязанности академика. Короче говоря, изучать паразита в заднем проходе таракана — это наука, а изучать имевшие место неправильности конструкции дейдвудных труб корабля — это техника. Но от паразита только чешется у таракана, а я не пожелал бы ни Вам, ни сочленам быть даже пассажирами на пароходе, у которого в океане от недостатков в дейдвудной трубе произойдет поломка гребного вала и машина разлетится вдребезги...
Мое мнение о «том исключительном положении, какое Академия заняла с ее многочисленными учреждениями в Союзе», вероятно, глубоко разнится от Вашего и от мне-ния многих наших сочленов. Это мое мнение делает меня особенно непригодным для должности вице-президента...
Чтобы кому-нибудь не повредить, я этого своего мнения не высказывал, хотя и мог это делать, но скажите, смогу ли я отстаивать как вице-президент сметы таких учреждений, самое существование которых при Академии я считаю вредным для нее?
Таких же множество: значит, по первой же смете я должен был бы пройти Мамаем и Вы сами стали бы меня уговаривать уйти подобру-поздорову от вице-президентства к кораблям и технике и не уподобляться битюгу в посудной лавке...
К числу вредных на теле Академии наростов я отношу и возложенное на Физ.-Мат. Инст. заведование сейсмической сетью. Когда Борис Борисович (Голицын. — В. /С.) создавал научную сейсмометрию, оно имело смысл, но после того как сеть создана, то валовой текущей работе в Академии не место.
Здесь опять конфликт между моими воззрениями и Вашими на науку и технику: по Вашему обработка Пулковской сейсмограммы землетрясения, происшедшего в пустынях Патагонии, — наука, а обработка аналогичной записи вибрации корабля, полученной при том подобным же прибором, — ремесло, техника.
По моему, предвычисление вибраций данного корабля, разработка конструкции его так, чтобы низвести их до наименьшей величины, и осуществление всего этого на деле есть гораздо более интересное и полезное приложение науки, нежели установление элементов бывшего 37-го Мартоб-ря землетрясения в Патагонии.
Думаю, глубокоуважаемый Сергей Федорович, что сказанного довольно, чтобы убедить Вас и наших коллег, что для должности вице-президента я абсолютно непригоден...
Простите мою грубую откровенность и верьте моему глубочайшему к Вам уважению и искренней преданности».
С. Ф. Ольденбург — А. Н. Крылову. 2. VII. 1926 г.
«Глубокоуважаемый Алексей Николаевич!
Получил Ваше письмо от 23. VI и огорчен им вдвойне. Прежде всего отказом, т. к. думал, что Вы найдете возможным помочь нам в очень трудном положении, в котором мы находимся, а затем и объяснениями отказа.
Думаю, что только Вашим долгим отсутствием из нашей среды объясняется Ваше представление о нас, как о людях, не могущих поняты и оценить Вашей работы за границей. Особенно тяжело ощутил это я, который много раз на вопросы о характере Вашей работы говорил с горячей убежденностью, что Вы являете собою пример редчайшего соединения в одном человеке высоких качеств и теоретика и практика, умеющего найти пути от отвлеченнейшего вычисления к наипрактичнейшему применению и наоборот...
Повторяю, уверен, что если бы Вы нас не забыли и знали нас такими, какие мы есть, то Вы не сделали бы второй крупной ошибки: мы не столь невежественны и устарели в области научной, как вы это, ошибочно, полагаете. Если бы Вы следили за нашей работой, то Вы бы знали, что той техникой, которую мы, по Вашему мнению, согласно старинному выражению, считаем «подлого штиля», занимаемся мы сами, м. б. не с таким большим успехом, как Вы, но все же занимаемся, даже в науках гуманитарных уже теперь теория от самой злободневной практики неотделима. И тут мне Ваш биологический пример не представляется убедительным. Ведь этот самый заднепроходный тараканий паразит может получить отношение и к человеку. Ведь Вы, конечно, знаете о борьбе с разными вредителями при помощи их паразитов, а это жизненная борьба с бичами человечества, распространителями зараз, от которых гибнет во много раз больше людей, чем при пароходных катастрофах...
Вы удивили меня заявлением о «раздутости», в басенном даже масштабе, академических учреждений, тем более что Вы ничего конкретно не указали. Единственная Ваша ссылка на сейсмическую сеть проистекает лишь из Вашего незнакомства с положением дела у нас. Влад. Андр., человек глубоко жизненный, не отделил станций от Академии, п. ч. хорошо знал, что подобное отделение приведет скоро к их закрытию. Чересчур смело м. б. мне возражать Вам насчет сейсмограмм землетрясений в Патагонии, но думаю, что и здесь Вы говорите о них лишь в противовес несуще-авующим, по крайней мере в наших умах, возражениям против значения предвычислений вибрации корабля. При правильной постановке и то и другое имеет самое настоящее значение, причем одного больше влечет к кораблю, другого к Патагонии.
С Вашим взглядом на работу Академии мы согласиться не можем, уже хотя бы потому, что речь идет о том, чего Вы не видели ряд лет и что Вы знаете только понаслыш*» ке, для нас же, как и для Влад. Андр., Академия тот корабль, на котором мы живем, плывем и работаем в меру сил и понимания.
Надеюсь, что удастся свидеться в Париже или Лондоне и там обменяться взглядами на научную работу, к обоюдному удовлетворению.
Глубоко Вас уважающий и почитающий Сергей Ольденбург».
А. Н. Крылов — С. Ф. Ольденбургу. 5.VII. 1926 г.
«Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Спасибо Вам за письмо от 2.VII, которое я получил сегодня утром.
Вы нравы, что в моем письме 23-VI есть значительная доля раздражения, я припоминаю, я его написал, вернувшись из Правления завода, где я целое утро ругался с французами из-за укрепления кормы пароходов, зол был как бешеный бульдог и невольно яд сей злобы внес и в письмо к Вам, но по Вашему ответу вижу, чго Вы меня уже вперед простили, за что Вам еще раз спасибо...
Мой принципиальный взгляд на то, какие учреждения должны входить в состав Академии, таков: те и только ге учреждения, в коих совершается исключительно творческая работа. Всем же учреждениям, где идет валовая текущая работа, в составе Академии не место. Из этого не следует, что этих учреждений не должно быть, нет — они должны быть, должны развиваться, но как учреждения самостоятельные...
О том, что грани между наукою и техническими ее приложениями провести или совсем нельзя или весьма трудно, мы, кажется, с Вами согласны, хотя и выразились по-разному, поэтому об этом дальше писать не буду.
Всего хорошего, буду ждать Вашего приезда и рад буду о многом с Вами побеседовать.
С глубочайшим уважением искренно Вам преданный
А. Крылов».
А. Н. Крылов вернулся в Советский Союз в 1927 году. Он так и не принял предложение стать вице-президентом Академии наук, но дал себя уговорить, несмотря на свою неприязнь к любой административной работе, стать с 3 марта 1928 года преемником В. А. Стеклова на посту директора Физико-математического института Академии наук — научного учреждения, возникшего на базе академического физического кабинета.
Не первый раз уже, говоря о физике московской, обращаемся мы к Петербургу — Петрограду — Ленинграду. Это естественно — научная жизнь двух столиц неразделим ма. Вот и теперь, начиная разговор о рождении Физического института Академии наук СССР, крупнейшего научного центра столицы, мы вновь обращаем взгляд на северо-запад, к северной столице, ко временам основания Академии, и в рамках ее — Физического кабинета Академии наук.
Сначала он располагался в здании, непосредственно прилегающем к Кунсткамере, в бывшем дворце царицы Прасковьи Федоровны. Академик Г. Б. Бильфингерпервый, кто читал в Академии курс физики, был и первым заведующим академическим Физическим кабинетом, хранителем коллекции инструментов.
Кабинет непрерывно пополнялся. В него включил свои приборы знаменитый Д. Бернулли. Коллега Бильфингера И. Г. Лейтман организовал мастерские, взял в них русских учеников и поднял дело практической оптики и механики в России на большую высоту. Он воспитал русских «зеркальных и першпективных трубок мастеров» Ивана Елисеевича и Ивана Ивановича Беляевых. Некоторое время кафедру физики в Академии занимал Л. Эйлер, его заменил академик Г. В. Крафт. Свои заслуги по Физическому кабинету он формулировал так: «Прежде моего в Академию определения, в великом непорядке и в конфузии находящиеся инструменты физические привел я в полный порядок, что уже от многих персон, как здешних, так и чужестранных, которые в Академии для любопытства гуляли, похвалено и аппробовано».
Во времена Крафта в Физическом кабинете насчитывалось уже около 400 приборов, в том числе изготовленных лично петербургскими академиками и академическими мастерами. С кабинетом связана была и физическая лаборатория, для которой были выделены три комнаты в бывшем дворце царицы Прасковьи и одна — в Кунсткамере, длиною 46 футов, кругом обитая черным сукном и снабженная плотными открывающимися ставнями, где можно было проводить оптические эксперименты. Кроме Крафта, Физическим кабинетом занимались один адъюнкт и один студент, состоявший при кабинете.
С Физическим кабинетом были связаны страницы жизни и М. В. Ломоносова, нередко проводившего опыты в физической аудитории. После пожара в Кунсткамере, происшедшего в 1747 году, во время которого пострадал и Физический кабинет, физическая аудитория была переведена в дом Строганова. «Физическая камера», как она стала называться с тех пор, вскоре перешла в ведение крупнейшего физика Ф. У. Т. Эпинуса, проводившего здесь блестящие исследования, завершившиеся открытием пироэлектрических свойств турмалина и постройкой первого в мире ахроматического микроскопа. Яркие страницы история Физического кабинета принадлежат деятельности в нем профессора В. В. Петрова, впоследствии академика.
В 18117 году, избранный пять лет назад членом-корреспондентом Академии, он получил первую академическую должность — «смотрение за Физическим кабинетом и поддержание оного в надлежащем порядке совместно с академиком Крафтом». Петров обогатил кабинет блестящими новыми приобретениями, в том числе уникальными, сделанными по его проекту электрическими машинами.
После смерти Крафта в 1815 году непременный секретарь Академии Фукс и вновь избранный академик Паррот (пользовавшийся особым покровительством Александра I), возглавлявшие «немецкую группу», не переставали атаковать Петрова, выставляя его нерадивым хранителем Физического кабинета и обвиняя, например, в том, что в кабинете за время руководства им Петровым ослабли искусственные магниты!
Многочисленные «сообщения» Петрова, сохранившиеся в архивах Академии, полны оправданий в связи с абсурдными обвинениями:
«1. Г. новый академик написал в своем донесении, что будто бы в физическом кабинете нет барометра, но я утверждаю, что сей академик видел три барометра...
2. Г. новый академик показал, ч-то будто бы в физическом кабинете нет термометра, но я утверждаю, что он видел три термометра...»
И так — без конца. Мелкая травля, продолжавшаяся много лет, закончилась тем, что заведующим Физическим кабинетом был назначен Паррот, а Петрову предложили сдать ключи от кабинета непременному секретарю Академии Фуксу.
Петров попробовал воспротивиться, но президент академии приказал, поскольку Петров ключей от кабинета не отдавал, открыть Физический кабинет «посредством слесар-
ного мастера». Так печально закончилась академическая деятельность крупнейшего русского ученого.
Обычно считают, что главное открытие В. В. Петрова — электрическая дуга, электрическое освещение — было сразу же забыто. Однако- С. И. Вавилов, исследуя историю Физического кабинета Академии наук, обнаружил, что открытие Петровым электрической дуги имело довольно широкий резонанс и даже было учтено при объявлении конкурса Академии 1804 года по вопросу о природе света. На этот конкурс прислали свои мемуары многие европейские физики, из чего можно сделать вывод о том, что открытие электрической дуги и электрического освещения в России вовсе не прошло незамеченным. (Открытие В. В. Петрова опять-таки связано со светом. Нет ли в этом глубинного смысла, подтверждаемого всей дальнейшей историей российской — и особенно московской — физики?)
Славные страницы в историю Физического кабинета вписали знаменитые отечественные ученые Б. С. Якоби и Э. X. Ленц. Затем этим кабинетом долго ведал Л. Д. Хвольсон и после знаменательных выборов в Академию 1893 года Б. Б. Голицын, который преобразовал его на современный «страсбургский» лад. С 1912 года кабинет переименовывается в Физическую лабораторию Академии, а в некоторых своих печатных работах Голицын называет его даже Физическим институтом. Действительно, оборудование лаборатории к тому времени было существенно обновлено. Появился первоклассный эшелон Майкельсона, спектральная установка с решеткой Роуланда, производились исследования лучей Рентгена, спектроскопические анализы по физиологической оптике. В лаборатории было проведено и экспериментальное доказательство наличия эффекта Допплера. Однако главное внимание, начиная с 1902 года, здесь уделяется вопросам сейсмологии, которой увлекся Б. Б. Голицын. Он создал тогда новую конструкцию высокочувствительного сейсмографа, принятую во всем мире. Смертью Голицына, последовавшей в 1916 году, как бы поставлена черта под всем предреволюционным развитием академической физики в России.
Нужно, однако, вновь подчернуть, что в первые послереволюционные годы академическая физика все еще дремотна, она словно не замечает того, что вся мировая физика с каждым годом убыстряет свое движение...
Еще в начале века рядом с Академией возникли динамичные центры, рядом с ней и вне ее работали такие блестящие физики, как Столетов и Лебедев. Позже вне Академии образуются крупнейшие физические институты: Физико-технический и Радиевый в Петрограде, Биофизики — в Москве. Уже начало XX века выявляет стойкий антагонизм физики академической и университетской, причем сравнение академической Физической лаборатории с неакадемическими физическими центрами становилось для нее все более и более невыгодным. После смерти Б. Б. Голицына кабинет фактически не имел руководителя. Одно время им ведал геофизик И. А. Рыкачев, потом химик Н. С« Курнаков. Накануне Великой Октябрьской социалистической революции директором был назначен вновь избранный академик по классу физики П. П. Лазарев, но переезжать в Петроград он не собирался, и вся его основная работа проходила по-прежнему в Москве, в Институте биофизики Народного комиссариата здравоохранения.
Грандиозная эпопея, связанная с находкой залежей магнитной руды под Курском, лишь слегка, кончиком крыла опахнула Физический кабинет Академии. Энтузиаст Курской магнитной аномалии академик П. П. Лазарев организовал гравитационное изучение ее с помощью тонких приборов. Это, конечно, не могло идти ни в какое сравнение с планами и размахом работ в трех внеакадемических гигантах, разворачивающих свою деятельность в Петрограде и в Москве. Физический кабинет Академии потихоньку разваливался. Вместе с ним разваливалась и академическая физика.
Это не могло не заботить, и не случайно в 1921 году академики В. А. Стеклов, А. Н. Крылов и А. Ф. Иоффе выступили с инициативой создания на базе Физической лаборатории Академии Физико-математического института. Он должен был бы включить и Математический кабинет Академии. Директором был избран математик В. А. Стеклов. Институт имел три отдела (математический, физический и сейсмический), снабженных вычислительным бюро и сетью из одиннадцати сейсмических станций. Вскоре, однако, стало ясно, что если математический отдел работал под руководством В. А. Стеклова вполне исправно, а сейсмический катился скорее по инерции со времен Б. Б. Голицына, то физический отдел продолжал влачить жалкое существование. Экспериментальная работа практически прекратилась. Новое оборудование не поступало», старое не ремонтировалось. Государство ассигновало на развитие физического отдела 200 тысяч золотых рублей, но у руко-
водства института не хватило фантазии придумать: куда истратить такие деньги?
В. А. Стеклов умер в 1926 году, и обращение С. Ф. Ольденбурга к А. Н. Крылову, цитировавшееся раньше, отражает реальное беспокойство за дальнейшую судьбу академической физики. После отказа А. Н. Крылова некоторое время, до 1928 года, Физико-математическим институтом управлял академик А. Ф. Иоффе, директор Физико-технического института. Однако Физико-технический институт требовал много забот н внимания, в ущерб, естественно, Физико-математическому институту. В 1928 году
A. Ф. Иоффе уступает свой пост академику А. Н. Крылову, который тут же провел в жизнь свои взгляды и выделил из состава Физико-математического института сейсмический отдел, превратив в отдельный Сейсмологический институт. В Физико-математическом институте после этого осталось совсем немного народу: директор, два заведующих отделами — физическим и математическим — и четыре научных сотрудника. Во время дискуссий о будущем Физико-математического института раздавались голоса, призыва»-ющие превратить его в чисто теоретический центр, опирающийся в основном иа математический отдел. Да, это был поистине тяжелый период академической физики, топтание на месте, неопределенность в целях, ближайших задачах и дальнейших путях развития. Кроме исследований Т. П. Кравцом природы скрытого фотографического изображения, в Физико-математическом институте никаких работ по физике не проводилось.
Положение резко изменилось с 1932 года, когда в академики был избран С. И. Вавилов. Летом этого года проводилась сессия Академии наук в Сибири и именно там, далеко от Москвы, вице-президент Академии академик B. Л. Комаров сделал С. И. Вавилову почетное предложение: взять под свою опеку физический отдел Физико-математического института, руководимого академиком А. Н. Крыловым, что, в общем, соответствовало традиции, согласно которой академик-физик всегда ведал академическим Физическим кабинетом.
Вавилов согласился и с осени 1932 года начал коренную реорганизацию физического отделения. По существу, это было превращение физического отделения в академический Физический институт, начавший свое существование наряду с математическим отделом, фактически же Математическим институтом в рамках Физико-математического
института Академии. Руководитель математического отдела академик И. М. Виноградов и руководитель физического отдела С. И. Вавилов стали, по выражению Вавилова, «дуумвирами».
Тонкость предложения Комарова заключалась в том, что для руководства физическим отделом и одновременно Оптическим институтом Вавилову приходилось переезжать в Ленинград. Там ему предложили прекрасную отдельную квартиру на Биржевой линии, но Вавилов не захотел порывать с Москвой и поровну делил время между двумя городами, став еженедельным пассажиром «Красной стрелы».
Он разрывался между двумя городами, между двумя квартирами, между Физическим институтом и Институтом физики и биофизики. Иначе он не мог поступить, чувствуя, что именно на него легла колоссальная ответственность за состояние советской — и академической, и неакадемичес-кой — физики. В Ленинграде Вавилов подбирает сотруд-ников, организует семинар, приобретает новое оборудование.
Он намечает спектр новых тем для немедленной разработки. Многие удивлялись, потому что эти темы не были связаны с узкой научной специализацией Вавилова — люминесценцией и физикой света. Да, Вавилов мог смотреть более широко. И именно благодаря этой широте наша физика оказалась в состоянии эффективно работать на всех наиболее важных ее направлениях.
Вот какие задачи ставил Вавилов перед своими новыми коллегами. Необходимо было исследовать нейтрон, только что открытый Д. Чадвиком, свечение жидкостей под действием радиоактивных излучений, свойства окрашенных кристаллов, изучить микроструктуру жидкостей самыми различными методами, включая броуновское движение, явления Керра, поляризацию флюоресценции, дисперсию ультразвука. Представлялся чрезвычайно интересным электрический пробой в газах, здесь оставалось много неясного, была нерешенной загадка катализаторов — Вавилов предлагал провести их электронографическое и рентгеновское исследование.
Обширная программа! Особенно если учесть, что ее выполнение должны были обеспечить всего лишь несколько человек — научные сотрудники Л. В. Мысовский, И. М. Франк, М. В. Савостьянова, Л. В. Грошев, М. С. Эйгинсон, С. А. Арцыбашев, А. Д. Гольдгаммер, В. А. Иоффе,
Б. Г. Шпаковский, Б. М. Вул, И. М. Гольдман, П. Д. Дон-ков, А. А. Кочетков и три аспиранта Н. А. Добротин. П. А. Черенков, А. Н. Севченко.
В старом здании Академии на берегу Невы, недалеко от стрелки Васильевского острова и Дворцового моста, в его правом крыле устроена была темная комната, где проводились исследования по методике Вавилова.
3
Аспирант П. А. Черенков получил такое задание: изучить люминесценцию растворов солей урана под действием жесткого гамма-излучения. Эта серия экспериментов продолжала исследования, которые проводил С. И. Вавилов в Москве совместно с В. Л. Левшиным, когда они изучали люминесценцию урановых солей под действием света, а затем и рентгеновского излучения. Теперь, естественно, наступала очередь и гамма-лучей. Меняя частоту воздействующего излучения, физик получает в свои руки мощный аппарат для сравнения, для изучения поведения молекул в возбужденном состоянии, для выявления механизма этого возбуждения. Такой подход был вполне в духе лебедевских традиций.
Вавилов предложил и тему исследования, и его метод, который уже использовал неоднократно. Это был известный уже «метод гашения». Видно, недаром Вавилов утверждал, что в пыльных трудах по истории науки можно найти множество идей, которые применимы и сегодня. Идею «метода гашения» Вавилов вычитал в старинном мемуаре Ф. Мари «Новые открытия, касающиеся света».
Метод требовал тщательной тренировки, длительного пребывания в полной темноте. Каждый рабочий день Че-ренкова начинался с того, что он прятался в темной комнате и сидел там в кромешной тьме, привыкая к этой обстановке. Лишь после длительной адаптации, продолжавшейся иной раз несколько часов, Черенков подходил к приборам и начинал измерения. Начав облучать гамма-источником соли урана, он довольно быстро обнаружил странное явление: таинственный свет.
Нужно сказать, что он вовсе не был первым, кто заметил это свечение. Его уже наблюдали в лаборатории Жолио-Кюри и огнесли за счет люминесценции примесей, имеющихся в каждом, даже весьма чистом растворе.
Черенков призвал руководителя. Привыкнув к темноте; Вавилов увидел, как ему показалось, конус слабого синего света. Но это свечение совсем не было похоже на то, кото-» рое можно было наблюдать в растворах под действием, например, ультрафиолетовых лучей. Это не было и тем свечением, которое обычно бывает за счет, как выражался Сергей Иванович, «дохлых бактерий», то есть следов лю-минесцирующих веществ. П. А. Черенков вспоминал: «Не останавливаясь на деталях этого открытия, я хотел бы сказать, что оно могло осуществиться только в такой научной школе, как школа С. И. Вавилова, где были изучены и определены основные признаки люминесценции и где были разработаны строгие критерии различения люминесценции от других видов излучения. Не случайно поэтому, что даже в такой крупнейшей школе физиков, как парижская, прошли мимо этого явления, приняв его за обычную люминесценцию.
Я специально подчеркиваю это обстоятельство потому, что оно полнее и, как мне кажется, правильнее определяет ту выдающуюся роль, которую сыграл С. И. Вавилов в открытии нового эффекта».
Вавилов отверг люминесцентную природу свечения. Во-первых, выяснилось, что оно направлено конусом вдоль оси гамма-излучения. Во-вторых, никак не укладывалось в те определения люминесценции, которые к тому времени были сформулированы Вавиловым. Ампулы с радием вызывали в растворе урановой соли свечение нового, неизвестного, типа. Интересней всего было то, что оно продолжалось и тогда, когда концентрация раствора соли уменьшалась до совершенно гомеопатических доз. Более того, светилась чистая дистиллированная вода. Оказалось, что свечение присутствует и в парафине, и в бензоле, и в толуоле. Здесь уж ни о какой люминесценции не могло быть и речи.
На интенсивность нового необычного свечения не оказывали влияния вещества, которые обычно сильно гасили нормальную люминесценцию, такие, как йодистый калий и анилин. Спектральный состав свечения никак не зависел от состава жидкости.
Слухи о вновь обнаруженном свечении поползли по Москве и Ленинграду. И. М. Франк писал, что он очень хорошо помнит язвительные замечания по поводу того, что в ФИАНе занимаются изучением никому не нужного свечения неизвестно чего неизвестно где. «Не пробовали ли изучать в шляпе?» — ехидно спрашивали Черенкова незнакомые и знакомые физики.
Сообщение о новом открытии напечатали в «Докладах Академии наук СССР» в 1934 году. Сообщений было, собственно, два. Первое — об обнаружении явления — подписано П. А. Черенковым; Вавилов отказался от подписи, чтобы не осложнять Черенкову защиту его кандидатской диссертации. Второе подписано Вавиловым — там дается описание эффекта и определенно указывается, что он нйь как не связан с люминесценцией, а вызывается свободными быстрыми электронами, образующимися при воздействии гамма-лучей на среду. Интересно, что Вавилов тг-шет о «синем» свечении. Это доказательство его богатой физической интуиции; цвет излучения в тех условиях об-наружить было невозможно.
Полностью эффект был объяснен лишь в 1937 году, когда два советских физика И. М. Франк и И. Е. Тамм разработали его теорию. Объяснение было совершенно необычным: действительно, как и утверждал Вавилов, это свечение вызывается электронами. Но не простыми, а теми, что движутся со скоростью, превышающей скорость света. Как, спросит читатель, разве может существовать такая скорость? Речь идет о скорости распространения света в данной среде. Двигаясь быстрее этой скорости, электроны излучают электромагнитные волны. Возникает свечение Вавилова — Черенкова. Впоследствии, уже после войны, и открыватели, и объяснители этого явления были удостоены Нобелевской премии. Нобелевскую премию получили П. А. Черенков, И. Е. Тамм и И. М. Франк. Вавилов к тому времени скончался, а Нобелевская премия, как известно, вручается только живым.
Новое явление было темой и докторской диссертации П. А. Черенкова. Одним из оппонентов выступал Л. И; Мандельштам. Профессор С. М. Райский вспоминает: «Я сидел в столовой Мандельштамов, когда Леонид Исаакович закончил писать свой отзыв и вышел из кабинета. Он дал мне прочесть свой отзыв. Прочитав, я задал вопрос, почему в отзыве о диссертации П. А. Черенкова такое большое место занимает С. И. Вавилов.
Леонид Исаакович ответил: «Роль Сергея Ивановича в открытии эффекта такова, что ее следует указывать всегда; когда идет речь об этом открытии».
Черепковское свечение недолго было лабораторным курьезом. Уже в 1947 году молодой талантливый физик,
впоследствии академик В. Л. Гинзбург теоретически показал, что с помощью явления Вавилова — Черенкова можно генерировать ультракороткие, миллиметровые и даже суб-миллиметровые волны. Необычайно широкое применение приобрели счетчики Черенкова, принцип действия которых основан на регистрации атомных частиц за счет возника-ющего свечения. Этот тонкий метод исследования привел к блестящим открытиям нашего времени, в частности к открытию антипротона и антинейтрона — первых частиц антивещества, созданных на Земле.
4
Из тех, кто получил Нобелевскую премию за обнаружение эффекта Вавилова — Черенкова, с нами нет сегодня и академика И. Е. Тамма, что дает нам печальную привилегию рассказать о нем больше, чем о других — живых.
Жизнь И. Е. Тамма, выдающегося советского физика-теоретика, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных и Нобелевской премий, была столь богатой событиями, встречами, крупнейшими научными достижениями и интересами, что ни один из писателей еще не осмелел настолько, чтобы взяться за это удивительное, если бы оно получилось, жизнеописание. Жизнь эта, сложная и насыщенная, сродни эпохе, в которую он творил, ждет для своего отражения конгениальной души. Кто напишет его ч биографию? Кто возьмет на себя труд и ответственность понять самому и донести до других главное дело его жизни? Это под силу физику. Кому удастся исследовать его характер, понять мотивы его порой импульсивных действий? Это под силу психологу. Кто сможет описать подвиг его смерти? Эта задача для крупного писателя.
Вопрос о написании биографии ученого для широкого читателя встал, между прочим, еще .при .жизни Тамма, в 1968 году. Сама мысль об этом оказалась для него страшно неприятной. Он был смущен, огорчен, растерян и отверг идею в принципе. Когда же она возникла вновь, и при атом была проявлена значительная настойчивость крупного издательства, он, не веря в возможности чужих людей описать его жизнь, отверг кандидатуру известной писательницы и поручил это своему внуку, ставшему на долгое время, этой работы хранителем его бумаг и его личным секретарем. Лично мне кажется, что эта биография, хотя и написанная ,родной рукой, не вполне получилась.
Но жизнь Тамма не могла не быть описана — и появляются воспоминания его учеников, друзей, коллег и знакомых. Авторы воспоминаний (Д. Данин, В. Френкель, Э. Андроникашвили, В. Л. Гинзбург, Е. Я. Фейнберг, М. А. Марков, Р. Э. Пайерлс и многие другие) хотят, чтобы читатели почувствовали прежде всего, что Тамм был великим ученым, олицетворявшим связи с эпохой Эйнштейна и Бора. Что он был эталоном порядочности в науке и общественной жизни, человеком физически и духовно смелым, ученым мощным и тонким. Что он был любимым учителем и верным другом, веселым и серьезным, обаятельным и упорным, тактичным и искренним человеком, неутомимым, деятельным и непреклонным.
Авторам этих воспоминаний удалось создать уникальную «синтетическую» биографию Тамма. Да, это настоящая биография; ее сюжет — полная событий, богатая мыслью и увлечениями жизнь.
Очерки, написанные о разном и разной рукой, покрывают хронологически всю жизнь Тамма, его главные научные работы, его интересы, внешность, характер, манеры.
Маленький живой человек, не способный к покою, сгусток энергии. «То, что мы увидели, совсем не походило на все виденное раньше и на то, что строило воображение. В аудиторию вбежал или, точнее, влетел человек небольшого роста. За ним из двери влетели искры от брошенной за г дверью папиросы. Он пробежал до противоположной стены, быстро вернулся, снова дошел до середины аудитории и повернулся лицом к студентам. Мы увидели доброе, подвижное, улыбающееся лицо...»
«Во время своих выступлений он быстро передвигался по аудитории и говорил о физике с таким зажигательным энтузиазмом и подъемом, что никто не мог оставаться безразличным. Когда доска оказывалась исписанной и оставался только ее верх, до которого он не доставал, Тамм подпрыгивал, чтобы на лету написать букву или снабдить ее штрихом»...
Автор красивейших работ по теоретической физике — теории излучения Вавилова — Черенкова, по электродинамике сплошных сред с удивительным равнодушием относился к проблеме личного приоритета: «В начале тридцатых годов ему пришла в голову идея, которую он осуществил, сделав прекрасную работу, сказавшую большое влияние на последующее развитие теории вопроса. Он выполнил исследование — сложнейшие и обширные вычисления — во время одной конференции, работая, как почти всегда, по ночам. Когда все было сделано... Тамм приготовил краткое сообщение в журнал. В этот момент один молодой теоретик, который каждое утро приходил к нему в гостиницу узнать, как продвинулась работа за ночь, обратился к нему с вопросом — не будет ли возражений, если он тоже пошлет письмо в журнал: «мы ведь много раз обсуждали вопрос вместе». Тамм удивился, но не смог ответить отказом. Так и вышло, что одновременно были опубликованы заметка Игоря Евгеньевича, содержащая, кроме четкой физической постановки вопроса, окончательную формулу... и рядом письмо в редакцию этого молодого теоретика, содержащее только общие соображения, «идею», но давшее ему тем не менее впоследствии сомнительное основание требовать, чтобы его имя, как соавтора всей теории, всегда упоминалось рядом с именем Тамма».
В то же время Тамм чрезвычайно активно протестовал против несправедливого решения Нобелевского комитета, присудившего премию за открытие комбинационного рассеяния света Раману, а не советским физикам Л. И. Мандельштаму и Г. С. Ландсбергу, в работах которых это явление описано несравненно более полно и правильно физически истолковано. Тамм с глубоким пониманием воспринял уход из Нобелевского комитета М. Борна, совершенный в знак протеста против этого несправедливого решения.
Человек увлекающийся, он спорил с друзьями о том, что «уже к осени» найдут снежного человека, развил бешеную энергию, чтобы получить разрешение раскопать несколько курганов, расположенных в пяти километрах от его дачи в ЛСуковке, организовал (практически за свой счет) экспедицию для исследования труднодоступной пещеры, где, как он полагал, могли оказаться неисчислимые сокро-чща (там действительно обнаружили большие археоло-1ческие ценности). Человек, считавший, «как же без альпинизма», был большим любителем розыгрышей, ребусов, шахмат, головоломок, шарад, произведений Хайяма, Пастернака.
Тамма отличала бескорыстная доброта — получив Госу-арственную премию, он вызвал одного из ближайших сотрудников и сказал: «Эти деньги мне совершенно не нужны. Не знаете ли Вы каких-нибудь молодых людей, которым необходимо помочь, чтобы они могли заниматься наукой?»
Среди тех, кому досталась анонимная «стипендия» Там- ма, оказалась дочка дворничихи, ухаживавшая за слепой сестрой. Благодаря помощи Тамма ей удалось окончить ин-ститут, но она так никогда и не узнала, кто ей помогал.
Тамм — человек кристально чистый в помыслах и поступках. Юношеские мечты его — революционная дея-тельность, стремление с помощью марксизма построить справедливое и достойное общество. Он был борцом против весьма влиятельных в 30-е годы философов и физиков, провозгласивших свою монополию на понимание диалектического материализма, и явился объектом нападок в погромных статьях этого периода. Он был яростным борцом за науку, за мир, против войны и лженауки, защитником гене-» тики, готовым поссориться со своим другом С. И. Вавиловым — тогда Президентом Академии наук из-за недостаточно четкой позиции последнего в вопросе о дальнейшем развитии биологии. Примеры можно умножить.
И наконец, это человек громадного научного и личного мужества. «Всю жизнь он был на редкость здоровым, никогда не болел серьезно. И вот этот подвижный человек, у которого и походка была такая, как будто он стремился себя обогнать, из-за перерождения нерва, управляющего диафрагмой, был срочно оперирован и переведен на дыхательную машину: в трахею, перпендикулярно шее, снаружи была вставлена металлическая трубка, присоединившаяся к респираторной машине, которая равномерно, в ритме естественного дыхания, вдувала воздух в легкие. Я ждал этого мгновения с ужасом, почти уверенный, что именно мужество Игоря Евгеньевича побудит его вырвать трубку и покончить с такой полужизнью. Но я слишком упрощенно представлял себе, что значит его мужество. Через несколько дней меня допустили к нему в клинику — в день, когда он впервые в течение часа сидел в кресле и еще не научился говорить в новых условиях — требовалось произносить слова Только на выдохе. Не успел я побывать с ним двух минут, как заведующая респираторным отделением... увела меня в свой кабинет и с тревогой спросила: «Вы видели, что Игорь Евгеньевич сегодня писал?.. Это адекватно?» На медицинском языке это означало: «Он не рехнулся?» По-видимому, мне так и не удалось убедить ее до конца, что он просто продолжил вычисления по увлекавшей его работе, прерванной в больнице перед операцией. Очевидно, лежа неподвижно все дни после операции, он что-то придумал и хотел скорее проверить, прав ли он».
Друзья, посещавшие его те последние три года, когда он был прикован к дыхательным машинам — стационарной и ручной, которую носил за ним медбрат, — находились под страшным впечатлением ритмического хриплого звука этой машины, слышного еще с лестницы, от неизбежного теперь симбиоза человека и машины. Но Тамм не был сломлен — он продолжал жить, играть в шахматы, читать стихи и детективы на иностранных языках. А главное — трудиться. Он работал на самом сложном направлении современной физики — разрабатывал идею из области теории частиц, которая могла бы, по его мнению, преодолеть ее фундаментальные трудности. Он помечал страницы своих быст- рык записей четырехзначными номерами. Смерти не удалось сломить его. Но он был обречен.
«Роль Игоря Евгеньевича в развитии науки, в воспитании новых поколений людей науки, в общественной жизни страны и в международном сотрудничестве ученых, — пишет один из авторов воспоминаний, — придает истории его жизни значение, которое далеко выходит за пределы того конкретного, что он сделал в теоретической физике и что Цолучило широкое международное признание... Игорь Евгеньевич был прежде всего уникальной личностью, и многообразные проявления этой личности, как нам кажется, заслуживают внимания тех, кто не знал его в жизни. Это относится в особенности к новой молодежи, которая пусть в совсем иных условиях, и быть может совсем по-иному, чем это делал Игорь Евгеньевич, решает для себя вопросы жизненного поведения».
5
В декабре 1927 года XV съезд Коммунистической партии обсудил директивы по составлению пятилетнего плана развития народного хозяйства — плана первой пятилетки. Выступил Г. М. Кржижановский. Он сказал, что «обходные маневры» Госплана окончены. Плановым руководством охвачен весь государственный сектор, опробовано регулирование мелкотоварного хозяйства, имеются значительные успехи в изучении экономики страны. Съезд одобрил план.
Новый пятилетний план был четко продуман. Индустрия, транспорт, сельское хозяйство в соответствии с зако-нами плановой науки, только еще открываемыми, развивались в заранее определенных целесообразных пропорциях, неведомых стихиям рынка, Идеи социалистического строительства, заложенные В. И. Лениным, получали в этом плане материальное воплощение.
В пятилетием плане впервые подчеркивалась государственная необходимость в науке. Наука сближалась с самой жизнью...
Этому способствовали так называемые «большие академические выборы» 1929 года, когда в семью академиков вошел ряд ученых-большевиков, тесно связанных с наукой и практикой социалистического строительства.
В 1929 году в состав Академии избрали сорок два новых члена. Среди них — Г. М. Кржижановского, И. М. Губкина, М. И. Покровского.
Кржижановский сразу же стал вице-президентом Академии. Президенту — геологу А. П. Карпинскому — было уже под восемьдесят. Новичку вице-президенту порой приходилось брать на себя всю полноту академической власти.
Когда Глеб Максимилианович ближе познакомился с делами Академии, оказалось, что и сама наука тоже нуждается в перспективном планировании. Говорить о широком фронте работ не приходилось. Попытка Кржижановского воздействовать на академиков через Госплан, конечно, способствовала консолидации ученых вокруг актуальных народнохозяйственных проблем, но это было далеко не достаточно. Стало необходимо, не полагаясь на уже имеющиеся, создать в Академии новые научные направления, привлечь ученых технического профиля, соприкасающихся с насущ- ч ными проблемами страны.
С подозрением слушали академики — члены старинного и замкнутого клана — речь нового вице-президента, содержащую необычные слова, непривычно взрывающиеся в академической тишине: «захват командных высот», «индустриализация», «энергетика, электроэнергетика, теплофикация», «комбинированное производство», «планово-социалистическое хозяйство», «массы на нашей стороне», «диалектический метод».
Некоторые громко вздыхали в ответ на эти «кощунственные» слова в храме чистой науки. Но Кржижановский умел завоевывать сердца и, несмотря на инерцию академиков, увлекал истиной, конкретностью, мечтой, понимая, конечно, что будут противодействовать введению планирования научно-исследовательских работ, ссылаться на высокую миссию науки, защищать свободный поиск, непредсказуемость и непланируемость открытий.
Действительно, открытия запланировать невозможно, но определить наиболее целесообразные направления поиска можно и должно! Кржижановский хотел бы постепенно ввести Академию в пятилетний ритм страны.
Теперь, когда на науку возлагались столь большие надежды, отрыв ее от центральных планирующих органов, от Советского правительства ощущался очень болезненно. Возникла необходимость перевода Академии в Москву, укрепления московской науки. Решение о переводе Академии в Москву было принято в 1934 году.
Летом этого же года сюда переехал и Физический институт. Ему тут же предоставили помещение в здании бывшего Института физики и биофизики Наркомздрава на Миусской площади. В Физический институт вливались и лаборатории Института физики и биофизики, и их научные сотрудники. Произошел знаменательный акт — две крупные научные школы, одна — лебедевская, расцветшая в Москве, другая — голицынская, захиревшая было на петроградской почве, а затем вновь воспрянувшая духом под влиянием С. И. Вавилова, воссоединились в здании института на Миуссах, когда-то построенном на общественные деньги.
Сбывалась старая лебедевская мечта о крупнейшем физическом научном центре. Все понимали это, и, когда Вавилов предложил присвоить новому институту имя Петра Николаевича Лебедева, сотрудники восторженно рукоплескали. Именем П. Н. Лебедева, как считал С. И. Вавилов, как бы связывалась старая академическая физика с московской. С 1934 года в Москве работает Физический институт имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР, крупнейший мировой научный центр в области физики.
Началась новая эра. Вавилов существенно изменил структуру института, перелопатил его состав. Он приступил к созданию многопланового комплексного научного института, сотрудники которого работали бы в самых разнообразных направлениях физики.
В институт влилось много московских физиков. Со временем к работе в ФИАНе приступили Д. И. Блохинцев-
В. И. Векслер, Г. С. Ландсберг, М. А. Леонтович, Л. И. Мандельштам, П. А. Ребиндер, С. Н. Ржевкин, И. Е. Тамм и другие. Из Ленинграда в Москву перебрались Н. Д. Папалекси, С. Н. Вернов, Б. М. Вул, Л. В. Грошев, Н. А. Добротин, И. М. Франк, П. А. Черенков,,, Что ни фамилия, то физическое открытие, что ни фамилия, то эпоха в физике! Это — будущие академики, лауреаты Ленинских, Государственных и Нобелевских премий.
В том, что это произошло, что так случилось, громадная заслуга Вавилова, великого труженика науки.
Чем он привлек их, многих совсем молодых — двадцатипятилетиях, впоследствии ставших красой и гордостью советской науки? Во-первых, правильным выбором тем для исследований. Во-вторых, неистощимым энтузиазмом, неподдельной любовью к физике, заражавшей всех. Один из его молодых сотрудников В. И. Векслер вспоминал: «Я видел Сергея Ивановича очень часто. Он всегда приходил по утрам в лабораторию и обсуждал со своими ближайшими сотрудниками И. М. Франком, П. А. Черенковым те опыты, в которых было открыто знаменитое теперь явление черенковского излучения... В этих утренних беседах мы, по существу, отчитывались перед Сергеем Ивановичем о проделанной работе; они происходили с каждым из сотрудников лаборатории. В этих беседах, помимо прекрасной памяти и эрудиции Сергея Ивановича в самых различных областях науки, очень отчетливо проявлялась еще одна характерная его особенность — исключительная заинтересованность любым, хотя бы самым малым успехом в работе каждого из нас. Это свойство Сергея Ивановича быть искренне заинтересованным и радоваться успеху в работе, даже очень далекой от его собственных научных интересов, делало личность Сергея Ивановича необычайно притягательной для всех людей, работающих с ним. Например, с равной и искренней заинтересованностью он обсуждал «чисто ядерные» работы нашей лаборатории и в то же время живо интересовался работами, проводимыми в акустической лаборатории молодым сотрудником Сухаревским».
Он привлекал и восхищал окружающих масштабностью мысли, широтой организационных начинаний. Он поставил сотрудников в исключительно благоприятные условия для творческой работы, предоставил им полную свободу в исследовании. И еще одно: он не боялся конкуренции, смело привлекал к себе в институт самых крупных ученых, самые яркие таланты. Под его руководством с удовольствием трудились такие гиганты физики, как Л. И. Мандельштам, Г. С. Ландсберг, Н. Д. Папалекси, И. Е. Тамм и Д. В. Скобельцын.
Первое, с чего начал Вавилов преобразование маломощного Физического отдела в гигантский Физический институт, был выбор научного направления. Приходится признать, что до этой поры отдел не имел четко выраженного профиля. И в Институте физики и биофизики, и в Физическом отделе Физико-математического института проводились разрозненные работы, темы которых определялись вкусами и способностями отдельных участников.
Специалист в области люминесценции, Вавилов категорически отверг идею сделать именно люминесценцию стержнем научной работы нового института. Институт должен с самого начала быть широкопрофильным. В нем должны развиваться все наиболее важные направления в физике. Необходимо было выделить и такие, которые лишь со временем приобретут определяющее значение.
Глубокое предвидение заложено в создании Вавиловым в институте Лаборатории атомного ядра и космических лучей. Чтобы это сделать, пришлось преодолеть немало препятствий. Среди соображений «контра» обычно выдвигалось наличие мощного института в Ленинграде, отсутствие в Москве крупных физиков-ядерщиков и полное незнакомство москвичей с работой в этой области, недостаток опыта, экспериментального оборудования и радиоактивных материалов. Да и сам Вавилов до сих пор ядерной физикой не занимался и не предполагал делать это и в дальнейшем. Более того, для развития ядерной физики совершенно не было и внешних стимулов. Этого не требовала ни энергетика, ни промышленность. И наконец, такие исследования обещали быть довольно дорогостоящими.
На одном из заседаний Ученого совета ФИАНа, году в 1938-м, руководители лабораторий докладывали о своих планах и важнейших направлениях исследований на будущее. Все они были так или иначе связаны с практикой: и спектральный анализ металлов, и радиогеодезия, и лампы дневного света. Когда дошла очередь до лаборатории атомного ядра, ее представитель стал, подделываясь под общий тон, что-то лепетать относительно ценности атоКной физики и ее возможного использования для измерения толщины стенок труб и резервуаров по рассеиванию гамма-лучей от имевшегося в институте радиоактивного источника. Тогда-то один из членов совета не выдержал и сказал: «Использование физики для нужд народного хозяйства — серьезное дело, и мы делаем много действительно существенного, но не следует превращать его в игру. Физика атомного ядра — очень важная область фундаментальных научных исследований, и ее нужно развивать, но она не имеет и неизвестно когда еще будет иметь хоть какое-либо прикладное значе-
ние. Это нужно открыто сказать и не требовать от лаборатории прикладных работ».
Действительно, такова была тогда обстановка, и это происходило всего лишь за четыре года до того, как в Чикаго на теннисных кортах затеплился первый атомный котел и была открыта эра атомной энергии.
Как мог предусмотреть Вавилов такой поворот событий? Как смог увидеть грядущую важность атомных исследований? Почему еще до Великой Отечественной войны настоял на том, чтобы в ФИАНе была организована циклотронная бригада и молодые люди начали размышлять о невероятном — о циклотроне с диаметром полюсных наконечников в несколько метров?
Не думается, что он мог в деталях предвидеть столь драматическое развитие событий. Атомную физику Вавилов полагал важной для разгадки самых глубинных тайн материи, расшифровки ее структуры. Именно ради этого ратовал он за исследования, казавшиеся многим ненужными. По-видимому, тут сказалось глубочайшее понимание им принципиального значения сделанных недавно в ядерной физике открытий и выявленных перспектив.
Его взволновало обнаружение позитрона и сам процесс, в котором гамма-лучи превращались в две элементарные частицы разного знака. Он считал, что в данном случае проявляются такие свойства света, которые не могут иметь аналогов в линейно-волновой оптике. Вавилов сравнивал превращение гамма-лучей в две частицы со сказочным превращением мелодии в две скрипки.
Этот процесс интересовал его необычайно, и он поручил Л. В. Грошеву и И. М. Франку заняться подробными исследованиями. Прекрасно понимая, что любые благие порывы могут быстро увянуть без должного материального обеспечение Вавилов не гнушается личным участием в добывании материалов и оборудования. Он пишет И. М. Франку: «С оборудованием довольно благополучно. Я привез из Парижа литр ксенона, будет, по-видимому, тяжелая вода, заказан полоний, есть надежда достать радиоторий». В конце 1936 года институту крупно повезло: Академия наук не смогла использовать отпущенных ей ассигнований; неосвоенными оставались солидные средства. Вавилову удалось выхлопотать значительную долю их и купить Физическому институту препараты радия-мезотория.
Как использовать это богатство? Этой теме было посвящено специальное совещание с участием таких крупных
ученых, как А. Ф. Иоффе и В, Г. Хлопин. Решили несколько ампул с радием, в том числе одну — почти в 500 миллиграммов эквивалента радия — оставить в качестве источника гамма-лучей. Около грамма вещества растворили для получения газа радона. Этот тонкий процесс выполнил лично В. Г. Хлопин, которому удалось также извлечь из препаратов радиоторий, доставшийся впоследствии И. М. Франку и Л. В. Грошеву. Получилось, что Франк и Грошев стали единственными обладателями эманационной установки, имевшейся в те годы в Москве. Радон-берилли-евый источник применялся совместно: ФИАНом — с целью получения нейтронов и Наркомздравом — для использования в лучевой терапии.
Не оставило Вавилова равнодушным и открытие нейтрона. Он решил исследовать волновые и другие свойства этой частицы и предложил своему аспиранту Н. А. Добро-тину изучить с помощью камеры Вильсона угловое распределение протонов, выбиваемых нейтронами из парафиновой пластинки. Угловое распределение при рассеивании нейтронов протонами было очень важным вопросом, можно сказать — фундаментальным для всей нейтронной физики.
С. Н. Вернову было поручено заниматься космическими лучами, П. А. Черенкову — продолжать изучать свечение под действием гамма-лучей. Начал работу в лаборатории Д. В. Скобельцын, который сначала раз в неделю приезжал в Москву из Ленинграда, а затем окончательно перебрался в столицу.
Работа института в новых направлениях не всегда встречала понимание. Сюда насылались многочисленные комиссии. Ведомственные критиковали работы по атомной физике, потому что они были бесполезны для практики. Академические комиссии выражали скептицизм по поводу тех же работ, поскольку не хватало кадров и оборудования, да и потому, что ими не руководил никто из признанных авторитетов.
Особым гонениям подвергалось то, чем занимался П. А. Черенков. Недоверие было настолько велико, что даже сам А. Ф. Иоффе резко препятствовал уже после войны продвижению его работы для награждения Государственной премией.
Вавилов, однако, не унывает. Он находит поддержку в правительстве, в партийной организации Москвы, он развивает все новые и новые научные направления.
Начались полеты в стратосферу — и Вавилов становится председателем комиссии по ее изучению, организатором соответствующей конференции. Готовится первая высокогорная исследовательская научная экспедиция — и в этой экспедиции принимают участие сотрудники ФИАНа. На Терсколе и в Приюте одиннадцати наблюдают они свечение ночного неба, изучают космические лучи непосредственно на льду ледника. Изобретены шары-радиозонды — и сотрудник института С. Н. Верное тут же применяет их для наблюдения космических лучей, открывая неизвестный ранее «широтный эффект» космических лучей в стратосфере. Вернова критикуют и обвиняют в ошибке, указывая на то, что ни у одного крупного специалиста за рубежом такого широтного распределения не получалось. Но Верное был прав.
Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси вносят в исследования ФИАНа свежую, радиотехническую струю. Успешно развивается теория колебаний. В лаборатории, руководимой Мандельштамом, пестуется «нелинейное колебательное мышление».
Перед войной ФИ АН не узнать — он вырос не по годам, став комплексным физическим институтом. Здесь исследуются проблемы люминесценции — их изучает С. И. Ва-вйлов с сотрудниками. Радиотехническая наука процветает в руках Л. И. Мандельштама и Н. Д. Папалекси. Акустикой занимаются Н. Н. Андреев и С. Н. Ржевкин. Оптика вверена Г. С. Ландсбергу и С. Л. Мандельштаму, космические лучи и ядерная физика — Д. В. Скобельцыну и И. М. Франку. У Б. М. Вула — физика диэлектриков. Целая группа талантливой молодежи и исследователей среднего поколения посвятила себя вопросам теории, теоретической физики. Ими руководит Л. И. Мандельштам. В состав группы входят И. Е. Тамм, М. А. Леонтович, Д. И. Блохинцев, М. А. Марков, В. Л, Гинзбург, Е. Л. Фейнберг.
К этому времени в ФИАНе работают уже более ста человек. Почти половина из них — научные сотрудники, в том числе четыре академика и пять членов-корреспонден-тов Академии, сорок — представители научно-технического персонала. В институте учатся десять аспирантов. К нему прикреплено три докторанта и двадцать пять прикомандированных ученых. ФИАН действительно стал крупнейшим научным центром страны, решающим проблемы и фундаментального, и прикладного характера. По количеству научных сотрудников ФИАН уже вдесятеро превосходил Физический отдел Физико-математического института. Вдесятеро больше стали и площади занимаемых помещений. Несравненно возросла и по качеству, и по количеству научная продукция нового института. Если в Физическом отделе Физико-математического института было принято печатать примерно одну статью в год на всех сотрудников, вместе взятых, то теперь для каждого из них стало нормой (и она считалась довольно низкой) публиковать одну статью в год. Но что это были за статьи! Работы Л. И. Мандельштама и Н. Д. Папалекси поинтерференционным методам исследования и распространению электромагнитных волн были удостоены Государственной премии. Государственной премией был награжден С. И. Вавилов за свои труды в области люминесценции. Г. С. Ландсберг за работы в области спектрального анализа также получил Государственную премию.
И это было всего лишь начало.
Иногда, когда Вавилова спрашивали, о чем он фантазирует, о чем размышляет, когда предается свободному полету мечты, он отвечал, что смыкает оптику и энергетику. Говоря о дальних перспективах оптики, Вавилов всегда называл проблему максимальной утилизации энергии солнечных лучей. Он считал, что в этом завтрашний день энергетики, и полагал, что будущее оптических исследований лежит в непосредственном улавливании солнечной энергии, возможно, с помощью каких-то, еще не известных химических соединений. Главная практическая задача аптики — освоение фотоэлектрических процессов под действием видимых и невидимых солнечных лучей с максимальной технической выгодой. В своих мечтах он видел земной шар, опоясанный химическими гелиостанциями, регулирующими всю энергетику.
В его физических фантазиях никогда не присутствовала война.
30 мая 1941 года Вавилов делает на общем собрании Академии наук доклад «Люминесцентные источники света» и показывает первые образцы новых люминесцентных ламп, которые заменят обычные лампочки накаливания. Чертежи и технология их изготовления переданы Московскому электроламповому заводу и московскому заводу «Светотехника». Госплан СССР Определил, что уже в 1942 году Московский электроламповый завод будет выпускать лампы, которые позволят резко сократить количество потребляемой в стране электроэнергии, предотвратят порчу зрения людей... Но тут в размеренную жизнь института врывается война.
6
Уже на следующий день после гитлеровского нападения, 23 июня 1941 года, в Академии наук СССР состоялось экстренное заседание президиума. Решение было простое и вместе с тем сложное — перестроить всю деятельность Академии, поставить работу всех академических институтов на военные рельсы. Все — для фронта, все — для ускорения победы.
Многие сотрудники ФИАНа вступили в народное ополчение, кое-кто был мобилизован в армию. Враг продвигался быстро, и в конце июля 1941 года правительство решило эвакуировать академические институты из Москвы. Физический институт имени П. Н. Лебедева эвакуировался в Казань. Быстро были упакованы станки, сложное физическое оборудование, приборы и — на чем особенно настаивал С. И. Вавилов — библиотека (это оказалось впоследствии необычайно дальновидным шагом).
Когда объявили об эвакуации, встал вопрос: что делать с радием? Как обеспечить его сохранность? В Москве существовала реальная возможность бомбардировок. Раствор радия мог бы разлиться, и при этом не только погиб бы драгоценный препарат, но и вся окружающая территория подверглась бы радиоактивному заражению. Было решено высушить раствор, а выпаренную соль запаять в ампулы. Эту тонкую операцию провели непосредственно в институтском дворе, благо стояла прекрасная погода и ярко светило июльское солнце. Выпариванием занимался Н. П. Страхов, функции лаборанта выполнял И. М. Франк. Опасная работа время от времени прерывалась сигналами воздушной тревоги и тем не менее была благополучно доведена до конца — радиевые ампулы вывезли в безопасное место. Когда через много лет И. М. Франк рассказывал об этом волнующем эпизоде, слушатели задавались вопросом: как это сотрудники так легко и просто управлялись с радиевым раствором? Да, в то время опасностей радиоактивного облучения явно недооценивали. Сам Вавилов считал их «сильно и сильно преувеличенными». Лишь позже краткость жизни многих участников этих событий стала жестоким, но неоспоримым доказательством истинного вреда подобных экспериментов.
С. И. Вавилов трезво оценил серьезность сложившегося положения. Он написал в институтскую стенную газету статью, в которой была фраза «Над нашей Родиной нависла грозная опасность, которую она не знала со времен Батыева нашествия». Суровый тон мобилизовывал. Перестраивать работу института нужно было быстро и по-деловому.
В Казани ФИАНу отвели третий этаж университета по улице Чернышевского. На первом этаже разместился Институт физических проблем, на втором — Ленинградский физико-технический институт. Вся физика Советского Союза — в одном здании! ФИАН занимал десять небольших комнат, в каждой из них работало по 7 — 8 человек. В коридоре размещалась институтская библиотека, которой, конечно, пользовались все институты, эвакуированные в Казань. Библиотекарь института Т. О. Вреден-Кобецкая утверждала впоследствии, что ни одна библиотечная книга во время войны не пропала.
В том же коридоре находилась канцелярия и бухгалтерия, прямо перед дверью в кабинет директора — С. И. Вавилова — стоял стол его референта А. И. Строгановой.
Уже в августе 1941 года в комнатах третьего этажа закипела работа. Все было направлено на помощь фронту. Акустики предложили специальный трал для подрыва немецких плавучих мин — от них наш флот нес большие потери. Оптики совершенствовали методы спектрального анализа металлов на содержание новых элементов. Это было важно в целях сортировки разбитой трофейной и отечественной боевой техники, чтобы случайно не пустить в общий переплав качественные стали.
Как-то раз Вавилова вместе с группой сотрудников ФИАНа пригласили в воинскую часть и показали странное устройство, снятое с подбитого немецкого танка; там была вставлена пластинка, покрытая слоем особого вещества. Секрет устройства был разгадан. Его принцип основан на люминесценции в инфракрасных лучах, то есть, на явлении, хорошо известном в вавиловской лаборатории. Ученые ФИАНа разработали более совершенную конструкцию этого оптического прибора с использованием фосфора с двумя редкоземельными активаторами, дающими ярко-зеленую или ярко-красную вспышку в тог момент, когда на них направляются инфракрасные лучи. Эти приборы уже в 1948 году прошла государственные испытания и были приняты на вооружение. Для экспресс-анализа стали С. М. Райский сумел организовать производство новых приборов — стило-скопов, пользовавшихся необычайной популярностью на металлургических заводах.
Научные сотрудники работали не меньше чем по 10 часов в день, без выходных и отпусков.
В Казани быстро наладилось производство светящихся составов постоянного действия, были разработаны керамические массы для изоляции радиоконденсаторов, заводские дефектоскопы. В помощь госпиталям-изготовили сте-реорентгеновскую установку. В апреле 1943 года на фи-ановском семинаре В. И. Векслер и Е. Л. Фейнберг доложили новую теоретическую работу, называвшуюся «Шумо-пеленгация в присутствии сильной акустической помехи». Несмотря на сугубо теоретический характер, сообщение представляло необычайную ценность для гидроакустиков, поскольку давало возможность резко повысить вероятность обнаружения противника на воде, в воде н в воздухе. Метод, предложенный учеными, позволял выявить полезный сигнал в шуме, гораздо более сильном, чем этот сигнал.
Не только оружие, но и мощь интеллекта служили делу победы.
С. И. Вавилов писал впоследствии: «Академическая научная громада — от академика до лаборанта и механика — направила без промедления все свои усилия, свои знания и умение на прямую или косвенную помощь фронту. Физики-теоретики от вопросов о внутриядерных силах й квантовой электродинамики перешли к проблемам баллистики, военной акустики, радио и т. д. Экспериментаторы, отложив на время острейшие вопросы космической радиации, спектроскопии и пр., занялись дефектоскопией, заводским спектральным анализом, магнитными и акустическими минами, радиолокацией.
Специальные военные исследовательские институты, заводские лаборатории, цехи и непосредственно фронт явно почувствовали живое и полезное влияние научной мысли, сосредоточенной в академии».
...В старое здание на Миусской площади фиановцы прибыли лишь в конце 1943 года. Казалось, все пошло по-старому, ученые возвращались к излюбленным темам... Но однажды — это было уже, по-видимому, в начале нового, 1944 года С. И. Вавилов зашел в лабораторию атомного ядра, собрал вокруг себя нескольких сотрудников, в том числе И. М. Франка, Л, В. Грошева и Е. Л. Фейнберга, и спокойно, без всякой позы сказал! «Вот что, товарищи, нужно нам включаться в ядерную проблему. Дело эта очень нужное и важное, а физиков там мало. Нельзя нам оставаться в стороне. Поговорили бы вы с Курчатовым, походили бы к нему,-ознакомились с делом и тогда выбрали бы свой участок работы».
Е. Л. Фейнберг вспоминал, что, кроме этих слов, ничего не было больше сказано, разговор произошел как бы случайно, участники его даже не присели, гак и простояв у окна.
Но серьезность и далеко идущие последствия этого разговора были сразу же осознаны всеми. Тем самым и И. М. Франк, и Л. В. Грошев должны были переменить свое научное направление и переключиться на исследование физики нейтронов и их взаимодействия с ядрами. Фейнбергу было легче — он был теоретик. Вавилов испытующе смотрел на всех троих. «Ну вот, — сказал он, как бы заключая беседу, — думаю, к известным методам отыскания истины — индукции и дедукции — теперь прибавилась еще и информация».
И ушел.
Е. Л. Фейнберг потом вспоминал: «Стоит обратить внимание на одну деталь: говоря с нами, Вавилов не говорил, что работа будет интересной или сулит какие-нибудь выгоды для нас или для ФИАНа. Аргумент был один — это нужно... Эти слова, сказанные человеком, который сам взваливал на свои плечи неслыханный груз только потому, что нужно, звучали как неопровержимо убедительный аргумент...
Разумеется, Сергей Иванович обдумал вопрос заранее и даже предварительно говорил с И. В. Курчатовым и с Д. В. Скобельцыным. Но точность выбора людей из этой лаборатории для работы по новой тематике заслуживает внимания. Он не привлек С. Н. Вернова и Н. А. Доброти-на, которые еще до войны занимались космическими лучами, и их — основных работников — нельзя было забирать с тематики Д. В. Скобельцына. В. И. Векслер имел свое крупное дело — он уже открыл новые способы ускорения частиц... Почему не был привлечен П. А. Черенков — мне неясно. Может быть, уже тогда было понимание того, что раз он готовил до войны модель циклотрона на электронах, то должен продолжать ускорительное дело. В то же время И. М. Франк и Л. В. Грошев закончили работу по проверке теории образования электрон-позитронных пар, эффект Вавилова — Черенкова тоже в основном был изучен, и их можно было «перебросить».
Когда молодые физики пошли к И. В. Курчатову в Лабораторию № 2 на краю Ходынского поля, стояла солнечная предвесенняя погода. У входа в здание совсем молодые ребята без пальто и шапок, по виду научные сотрудники, дружно передвигали большие ящики с оборудованием. Одним из них оказался ближайший сотрудник Игоря Васильевича И. Н. Головин.
Весной 1944 года сотрудники ФИАНа включились в атомную проблему. Каким предусмотрительным оказался Вавилов, когда организовывал исследования по атомному ядру в Физическом институте! Это было так же дальновидно, как и все, что он делал. Еще в середине 30-х годов Вавилов подписал архитектору Щусеву проект нового ФИАНа — громадного здания за Калужской заставой Москвы, на месте старой деревеньки и картофельного поля. Он особенно настаивал на заборе и требовал, чтобы им огородили всю, именно всю выделенную институту площадь. Многие не понимали: зачем такая большая площадь? Сегодня на территории ФИАНа нет ни одного свободного клочка земли, вся она застроена.
После войны, перед переездом в новое здание, ФИАН являлся одним из самых передовых в мире научно-исследовательских учреждений физического профиля. В нем действовала Лаборатория атомного ядра, руководимая членом-корреспондентом Академии наук Д. В. Скобельцыным, в которой работали доктора физико-математических наук В. И. Векслер, И. М. Франк, С. Н. Вернов, П. А. Черенков, Л. В. Грошев. Считалось, что основная проблема лаборатории — выявить природу космических лучей, но мы знаем теперь, что то была лишь надводная часть айсберга. Лабораторией физики колебаний имени академика Л. И. Мандельштама, недавно перед тем скончавшегося, руководил его друг и соратник академик Н. Д. Папалекси. В ней трудились академик Б. А. Введенский, доктора физико-математических наук С. М. Рытов, II. А. Рязин, А. А. Андронов, Г. С. Горелик и доктор технических наук Е. Я. Щеголев. «Колебательщики» исследовали распространение электромагнитных волн, проблемы нелинейных колебаний. Член-корреспондент АН СССР Г. С. Ландсберг руководил Лабораторией физической оптикщ где продолжали изучать комбинационное рассеивание света и делать успешные попытки его применения для молекулярного анализа и исследования строения жидкостей и кристаллов. Сам директор института, академик С. И. Вавилов, возглавлял Лабораторию люминесценции. Основные его помощники — доктора физико-математических наук В. Л. Левшин, В. В. Антонов-Романовский. В лаборатории познавали физическую природу различных люминофоров. Во главе Лаборатории спектрального анализа стоял сын Л. И. Мандельштама, доктор физико-математических наук С. Л. Мандельштам. Работу Лаборатории физики диэлектриков направлял член-корреспондент АН СССР Б. М. Вул. Физики-теоретики были сгруппированы в Лаборатории теоретической физики под руководством члена-корреспонден-та АН СССР И. Е. Тамма. Здесь успешно трудились академик В. А. Фок, доктора физико-математических наук В. Л. Гинзбург, К. В. Никольский, Е. Л. Фейнберг, А. Марков, а также член-корреспондент Украинской Академии наук Д. И. Блохинцев. В состав Физического института входила и Лаборатория акустики, которой ведал член-корреспондент АН СССР Н. Н. Андреев. Здесь в основном занимались вопросами гидроакустики. Акустики жили очень роскошно, для них был устроен ряд специализированных лабораторий, реверберационных камер. В конце концов Лаборатория акустики выделилась в особый Акустический институт. Еще ранее от ФИАНа отпочковалась Лаборатория поверхностных явлений, на базе которой был создан Коллоидно-электрохимический институт. Часть Лаборатории атомного ядра преобразовалась в Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ. Физический институт не только развивался, но и давал жизнь другим научно-исследовательским учреждениям.
7
Послевоенная жизнь принесла большие перемены. И в том числе — для С. И. Вавилова. Его организаторский талант, многогранность, широкая образованность, глубокая порядочность и понимание потребностей науки были замечены в академических кругах. К тому времени президент Академии наук, ботаник В. Л. Комаров, давно уже тяжело болевший, обратился в президиум Академии с просьбой освободить его от должности президента. Просьбу решено было удовлетворить. И тут же перед руководством Академии встал вопрос: кого избрать на этот ответственный пост?
На перевыборах, состоявшихся 17 июля 1945 года, группа академиков, возглавляемая А. А. Байковым, предложила избрать президентом Академии наук С. И. Вавилова. Все выступавшие на обсуждении поддержали эту идею. Действительно, лучшей кандидатуры было не найти. Важным в данном выборе оказалось и то, что Вавилов — физик, а именно физика стала после войны ведущей областью человеческого знания, определяющей судьбы народов.
От успехов физики зависели сейчас успех или неуспех атомных исследований, будет или не будет иметь Советский Союз атомное оружие и атомную энергетику, современные самолеты и корабли. В то время, как наша страна сражалась с врагом, другие государства наращивали свой научно-технический потенциал и сделали большой скачок вперед в своем научном и техническом развитии. Нам нужно было догонять многие развитые страны — ив первую очередь в области технической физики. Вот почему кандидатура Вавилова обладала еще одним дополнительным привлекательным свойством.
Обеспечить быстрый подъем советской науки можно было, лишь поставив ее развитие на основу долгосрочного планирования, своевременного выявления наиболее перспективных и важных работ. Нужно было добиться увеличения затрат на науку, пересмотра отношения к ней со стороны планирующих и директивных органов. Нужно было изменить и организационный принцип управления самой наукой, сделать так, чтобы проводимые исследования определялись не случайными факторами, а потребностями страны.
С. И. Вавилов оказался как раз таким президентом, который был необходим в это время. Он реально взял дело управления академией в свои руки. Обладая громадным авторитетом у ученых самых различных специальностей, он, как говорили многие, проявил себя в Академии истинным хозяином и талантливым организатором. Сумел скоординировать деятельность прежде разрозненных научных учреждений и подчинить их общему движению советской науки и техники. К тому времени относится организация многих республиканских академий и укрепление их связей с центральными академическими учреждениями. Вавилов стал председателем Совета по координации научной деятельности Академий наук союзных республик. Он видел в самой возможности осуществления такого сотрудничеет-
ва академий гигантекое преимущество нашего строя, источник наших научных сил.
В работу Академии Вавилов смог ввести рациональное плановое начало, связать ее с подготовкой специалистов, с нуждами и возможностями нового строительства, с реальными потребностями страны. Во времена Вавилова были заложены основы грядущих советских успехов в таких важных областях, как космические исследования и атомная техника — он обладал уникальным даром предвидения будущего и посвящал ему труд сегодняшнего дня.
Остро осознавая потребности страны, президент Вавилов заботился о подготовке молодых ученых, о популяризации науки в самых широких массах, о распространении знаний посредством книг, журналов, лекций, радио, кино. Во времена его президентства было создано и запланировано к созданию 300 новых научных учреждений, институтов, лабораторий.
Он не забывал и о людях науки.
Вавилов хорошо знал их нужды и поэтому просил правительство выделить для ученых Академии дачный участок недалеко от Москвы. Вскоре такое согласие было получено, и он лично объездил подмосковные леса, выбирая место для будущего поселка. Его выбор остановился на живописной поляне на берегу Москвы-реки, окруженной лесом, недалеко от Звенигорода и небольшой деревушки Мозжинки. Уже через два года строительство поселка было закончено.
На посту президента Вавилову удалось раскрыть новые черты своей богатой натуры, ее подлинную широту. Он стал главным редактором Большой советской энциклопедии и вложил в это издание колоссальный труд, поскольку прочитывал абсолютно все статьи и лично редактировал их. Он являлся также главным редактором и серии «Классики науки», которая по его инициативе начала выходить в 1946 году. В этом академическом издании с тех пор публикуются забытые или полузабытые труды великих ученых прошлого и современности.
Он существенно улучшил дело книгоиздания в Академии наук, лично ввел книжный академический единый знак — кружок, в центре которого изображена Кунсткамера Петра. Он стал главным редактором журнала «Доклады Академии наук СССР», главным редактором сборников «Материалы к биобиблиографии трудов ученых СССР», председателем редакционно-издательского совета Академии наук, продолжал активно заниматься популяризаторской деятельностью, историей науки.
С. И. Вавилов настоял на том, чтобы восстановить разрушенное еще во время пожара 1747 года здание Кунсткамеры и изящную башенку, увенчанную армиллярной сферой. Положил много трудов и истратил немало академических денег на реставрацию ломоносовских документов и приборов. Настоял на открытии в здании Кунсткамеры музея Ломоносова и сумел получить, буквально вырвать у весьма влиятельных учреждений и музеев, таких, как Эрмитаж и Исторический музей в Москве, ценнейшие экспо-цаты и книги для него. Много книг отдал из собственной уникальной библиотеки. Открывая музей Ломоносова, созданный в значительной мере благодаря его энергии,
С. И. Вавилов сказал: «...Академия наук выполняет свой старинный долг перед памятью одного из самых замечательных людей нашего прошлого...» В этих словах — и смиренное восхищение перед гением прошедших веков, и сознание преемственности русской науки...
Число общественных нагрузок президента все возрастает, и он не отказывается от них, каждая новая обязанность воспринимается им с полной серьезностью. Он отнимает время от сна, отдыха, от обязательного лечения и предписанных процедур... Его избрали депутатом Московского городского Совета депутатов трудящихся, депутатом Верховного Совета СССР, председателем Общества по распространению политических и научных знаний, председателем комиссии по истории физико-математических наук при отделении физико-математических наук. На любом новом посту он не представительствовал, но работал.
Продолжалась научная деятельность и в ФИАНе. Каждый день ровно в 9.30 утра к подъезду института подруливал черный ЗИС-110 и оттуда выходил Вавилов с громадным портфелем в руках. Каждую среду в 10.30 он проводил свой лабораторный семинар, собиравший ученых со всей Москвы. Наряду со своими любимыми работами по люминесценции он продолжал разрабатывать лебедевское наследие, активно поддерживал новые научные направления, в частности радиолокацию. Видя необходимость дальнейшего снижения длины волны, он всегда указывал на пример П. Н. Лебедева, которому удалось еще на заре текущего столетия добиться получения электромагнитных
волн рекордно короткой длины. Вавилов считал необходимым продолжать эти опыты и во многом помог побороть скепсис некоторых ученых — противников коротковолновой радиолокации, идеи коротковолнового радиообнаружения.
Он часто возвращался к мысли Лебедева о связи магнитного момента небесных тел с их вращением. Эта идея неоднократно вновь всплывала в Физическом институте, и однажды зимой 1946/47 года М. А. Марков, будущий академик, рассказал ему о том, что ему хотелось бы провести исследование, связывающее появление магнитного момента у Земли и других небесных тел с вращением гравитирующей массы. Марков исходил из удивительной простоты и красоты соотношения магнитного и вращательного моментов, связанных всего лишь через две постоянные величины — скорость света и корень квадратный из гравитационной постоянной. Сергей Иванович часто вызывал Маркова к себе для обсуждения того, как продвигаются дела в этом направлении, и при этом всегда напоминал, что сторонником и горячим пропагандистом этой идеи был сам П. Н. Лебедев, который уже на склоне лет поставил эксперимент по измерению магнитного момента вращающегося тела. Академик М. А. Марков рассказывает: «Как-то весной 1947 г. я явился в кабинет Сергея Ивановича по его срочному вызову. В руках его был свежий номер журнала «Британский союзник», издававшегося тогда на русском языке, где на развороте двух страниц в докладе проф. П. Блэкета в Королевском обществе Лондона излагалась та же идея о возможной связи магнитного момента Земли с ее вращательным моментом и обсуждалась возможность соответствующих лабораторных опытов. «Что, прошляпили...» — помнится, не без горечи сказал Сергей Иванович. К тому времени я уже охладел к этой идее, так как получить этот результат из модифицированной общей теории относительности не удавалось. А удивившая меня возможность ввести формальную связь между магнитным и вращательным моментами так же, как выяснилось, не являлась новостью. П. Н. Лебедев предполагал, по словам Сергея Ивановича, продолжить исследования с более чувствительной аппаратурой. Но 1912 г. был последним годом его жизни. Из доклада Блэкета следует, что опыты П. Н. Лебедева (1911) были повторены Суонном и Лонгей-кром в 1928 г. Этим авторам так же, как и Блэкету, они, по-видимому, не были известны».
Не слишком ли много для одного человека? Не слишком ли большую ношу взвалил он на себя, став президентом, председателем многочисленных обществ, главным редактором многих изданий, редакций, депутатом и — главное — оставшись ученым? У него уже давно не хватало времени на то, чтобы болеть, чтобы позволить себе взять больничный лист или отпуск... Пять лет такой работы — на износ — не прошли даром. К 1950 году Вавилов понял, что ему необходим длительный отдых. Он понял это тогда, когда оказалось, что перед тем, как кого-нибудь принять, он должен долго собираться с силами, готовиться. Когда он увидел, что ему тяжело подниматься в кабинет, на четвертый этаж ФИАНа, и разгадал невинные хитрости сотрудников, посылающих к его приезду в коридор его старинного знакомого, чтобы помочь ему донести портфель.
В начале лета 1950 года он поехал в Мозжинку, на свою дачу, возвышавшуюся на мысу между Москвой-ре-кой и ручьем Мозжинкой. Там он закончил свою книгу «Микроструктура света», там составил список книг, которые ему еще нужно было написать: «Из того, что у меня есть за душой от прежнего, можно н нужно составить по тому же принципу еще 2 — 3 книги (может быть, брошюры).
1. Общие вопросы люминесценции, а) Что такое люминесценция, флуоресценция и фосфоресценция? б) Второе начало термодинамики и закон Стокса и зависимость выхода от длины волны, в) Абсолютный выход люминесценции. г) Классификация типов люминесценции, д) Люминесценция и природа элементарных излучателей. 2. Молярная и молекулярная вязкость, а) Замечания о молярной и молекулярной вязкости, б) Молекулярная вязкость и явления люминесценции, в) Метод броуновских площадей. 3. Из истории оптики, а) Оптические работы Ломоносова. в) Оптические лекции Ньютона, в) Оптика Л. Эйлера. г) Работы В. Петрова по люминесценции, д) Диалектика световых явлений, е) Принципы и гипотезы оптики Ньютона».
Несмотря на то что ему был предоставлен отпуск, он его не использовал и постоянно ездил в ФЙАН и даже в Ленинград — в Оптический институт. Там в октябре 1950 года и случился с ним сильный сердечный приступ. Через несколько дней приступ повторился, когда Вавилов был на приеме в Совете Министров, Тогда президиум Академии наук уже настоял, чтобы Вавилов отправился в санаторий «Барвиха» для длительного отдыха и лечения.
Но Вавилов не мог представить себе отдыха без работы. Он редактировал здесь большую книгу своего старого знакомца из Берлина П. Прингсгейма «Флоуоресценция и фосфоресценция». Здесь, в Барвихе, составил и список популярных книг, которые намеревался написать («считаю это обязанностью» — приписал он):
«1. Вещество (вариация на тему моей статьи «Развитие вещества»).
Осветить вопрос от электрона до человека. Полезно было бы для других и для себя.
2. Пространство и время (очень трудная и очень нужная тема про Ньютона, Лобачевского, Эйнштейна и т. п.).
3. Действие света (вариации на старую тему)».
Здесь, в Барвихе, начал он писать воспоминания о своих детских годах, которые мы использовали в начале повествования. Здесь стал делать заметки, не относящиеся к какому-либо определенному жанру литературы, а являющиеся мыслями вслух о вечном.
«О БОЛЬШИХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ. Физика завязла в установившихся понятиях массы, энергии, зарядов, элементарных частиц, сил. Это, конечно, неизбежно и перешло в физику из практики, но сама та практика настолько сложна, вторична, третична и т. д., что основой для принципов физики служить не может. (Это не так при решении конкретных и технических задач.)
Глубже всего на дело смотрел, по-видимому, Спиноза (основное; пространство, время и психика). По тому же пути пошел Эйнштейн (о последнем, т. е. психике, он просто молчит).
Итак, есть пространство-время (не ньютоновское, конечно, а что-то вроде эйнштейновского). Дальше на основании наглядных, модельных, привычных представлений, пожалуй, ничего не скажешь. Атом (или вообще частица) это какой-то поток пространства-времени в пространстве-времени, деформирующий окружающее пространство-время, вызывающий поля ядерные, гравитационные, электромагнитные. Почему образуются эти «клубки», почему они строго одинаковые, почему они подчиняются квантовым законам, как объясняются гравитационные, э. м. и прочие поля? Чем объясняются спонтанно-статистические свойства процессов в сложных элементарных частицах (важно, что эти статистические свойстве обнаруживаются только в
сложных системах), ядрах, химических атомах, в системах ядро — фотон и т. д.? Существуют ли статистические свойства в действительно элементарных частицах? Статистиче-ский распад нейтронов и мезонов не свидетельствует ли об их сложности? Об этом следует подумать.
Наконец, психика! Об этом еще у Эпикура и Лукреция и у Ибсена: «Легче ль песчинки в деснице твоей воли людской quantum satis?» Очевидно, не легче.
Наконец, все атомы в их диалектической противоречивой связи. Всего этого в физике пока нет. Не знаю, какой путь ведет к решению. Математический? Экспериментальный? С моделями ничего не сделаешь...»
Его заметки приобретают менее естественнонаучный и более философский характер, они становятся и больше связанными с непосредственными ощущениями. Он анализирует свою память и спорит с мыслью о том, что с распадом мозгового вещества человека исчезают картины его памяти, как при пожаре архива навсегда погибает написанное в документах, в нем хранившихся. Вавилов не согласен с этой аналогией. В конце декабря 1950 года он вдруг остро ощущает удовольствие ходить по полям, покрытым свежевыпавшим густым снегом, унесшим пыль я микробов, принесшим озон. 11 января впервые обращает внимание на чистоту и прозрачность воздуха, замечает довольно редкие блестящие снежные кристаллики. Это — замена пылинок, играющих в солнечных лучах. На такое земное зрелище он впервые обратил внимание.
24 января 1951 года Вавилов решил поехать в Академию. Уже с утра находился в подавленном настроении — принесли телеграмму о смерти замечательного востоковеда академика Ю. И. Крачковского, любимца Вавилова. Но была среда, и ничто не могло помешать проведению семинара. На семинаре делала сообщение ученица Сергея Ивановича, поведавшая о своих соображениях по поводу люминесценции алмазов. Вавилов слушал не очень внимательно; его истязали боли в сердце. После семинара его обступили, как обычно, гости из других институтов, затем он пошел в лабораторию. Вечером надолго задержался в президиуме, разговаривая с академиком П. Ф. Юдиным, только что приехавшим из Китая. Когда он вышел из кабинета, было поздно. Оглядев еще сидевших в приемной президиума посетителей, сказал, обращаясь к секретарям:
— Завтра буду, как всегда, в.час.
Может быть, это было единственным обещанием, которое он не исполнил. Сердечный приступ застиг его ночью. «Скорая помощь» опоздала...
После вскрытия на его сердце было найдено девять рубцов.
Советские ученые и ученые всего мира горько переживали утрату этого замечательного человека. Л. Бернал в статье, посвященной памяти Вавилова и опубликованной в журнале «Нейчур», писал: «Для Вавилова как человека было характерно спокойное и сдержанное достоин-» ство. Он внушал глубокое уважение здравостью своих суждений и цельностью и прямотой своего характера. Он умер на посту, по всей вероятности, в результате пере-» утомления, однако проделанная им работа на пользу Родины превосходит обычно выпадающую на долю одного человека. Наряду с Ломоносовым его будут считать одним из великих создателей науки в СССР».
ГЛАВА XI
ПИРАМИДЫ
ЯДЕРНОГО ВЕКА
1
О людях эпохи, об уровне развития ее науки, искусства мы судим прежде всего по сохранившимся с тех времен памятникам. Египетские пирамиды, римские акведуки, русские иконы, флорентийские фрески, пещеры Аджанты, средневековые европейские соборы, более близкие к нам по времени плотины и телескопы являются уникальными символами ушедших эпох, подчас больше говорящими о тех временах, чем пухлые тома хроник.
А среди памятников, которые оставит после себя наш беспокойный век, быть может, наиболее яркими будут полуразрушенные и поросшие травой старые, заброшенные к тому времени гигантские ускорители. В них отразятся самые значительные приметы ядерного века — состояние его науки, техники, искусства, его материальные возможности и даже отношения между людьми и народами. Ускорители — это наши пирамиды... Пирамиды ядерного века...
В истории — будь то история мореплавания, искусства или науки — часто бывает, когда одной незаурядной личности приписываются заслуги, принадлежащие многим.
Так было с Колумбом. Безвестные и известные предтечи и соратники его, как бы велики ни были их заслуги, не могут в памяти человеческой претендовать на звание «первооткрывателя Америки».
Так было с Микеланджело — наиболее прославленным строителем собора святого Петра. Лишь дотошные искусствоведы знают полный список тех имен, которые следовало бы высечь рядом с именем Микеланджело на мраморе собора.
Так стало и с Лоуренсом. Как Колумб не был первым, ступившим на землю далекого западного материка, как Микеланджело не был единственным создателем знаменитого собора, так и Лоуренс не изобрел циклотрона — ускорителя атомных частиц.
До Лоуренса, вместе с Лоуренсом и после него было много талантливых ученых, которые вправе разделить с ним честь открытия. Так, можно было бы упомянуть харьковских физиков, испытавших на два года раньше Лоуренса устройство, напоминавшее циклотрон. Можно назвать и других. Но спросите любого физика: «Кто изобрел циклотрон?» И он ответит без колебаний: «Лоуренс».
Человек, проходивший по захламленной территории Калифорнийского университета в 1932 году, мог заметить небольшое, буквально разваливающееся на глазах деревянное здание на пути в учебные химические лаборатории. В домике натужно выли генераторы, кругом сыпались искры, тлели огоньки в ртутных выпрямителях. Все было залито светом мощных ламп. Вокруг суетились люди. Здесь создавался циклотрон. Руководил работами Э. О. Лоуренс.
Когда-то, на рубеже 30-х годов нашего века, особый интерес Лоуренса вызвало ускорение ионов. Однажды молодой ученый прочел статью некоего немецкого физика. Тот писал о двух вакуумированных трубках, разделенных электрическим полем. Заряженная частица, перескакивая из трубки в трубку, значительно увеличивала свою энергию.
«А почему бы, — подумал Лоуренс, — не соединить подряд четыре, десять, сто трубок? Тогда мы могли бы в соответствующее число раз увеличить и энергию частицы, может быть, сделать ее достаточно большой, чтобы разбить атом? Наверное, это возможно! Но установка будет очень длинной, может быть, несколько километров в длину... А что, если свернуть эти трубки в спираль? Тогда они будут умещаться на небольшом пространстве... Но частицы двигаются прямолинейно... Как заставить их бежать по спирали? Впрочем, частицы двигаются прямолинейно не всегда. Попав в магнитное поле, частица начинает дви-гаться по кругу... Значит, нужно применить магнитное поле — разместить эту спираль из трубок между полюсами магнита...»
Красоту идеи Лоуренса трудно переоценить. Свернув бесконечно длинную траекторию частиц в трепещущую атомную спираль, Лоуренс, быть может, сделал первый шаг к тому, чтобы создание физических приборов — ускорителей — превратилось в тонкое, изящное искусство.
Возможно, точно так же наш далекий пещерный предок, впервые нарисовав на промерзших сводах завиток вместо такой естественной и простой прямой линии, открыл первую страницу истории изобразительного искусства...
Сразу же после открытия принципа действия циклотрона Лоуренс в бешеном темпе делает две небольшие экспериментальные модели, а затем принимается за строительство более крупной машины, которая, по его расчетам, должна была дать ,ему перевес перед соперниками в гонке за первенство. А первенство это было совершенно особого свойства. Ускорители того времени уже давали протоны с энергией до 0,8 МэВ (то есть 800 тысяч электрон-вольт; электрон-вольт — это энергия, приобретаемая электроном под влиянием разности потенциалов в один вольт). Согласно работам Э. Резерфорда и некоторым выводам волновой механики, протоны с энергией около 1 МэВ должны расщеплять атомы. Честь первым сделать это была настолько заманчива, что за нее боролись несколько всемирно известных лабораторий.
Под руководством Э. Резерфорда работали Д. Кокрофт и Э. Уолтон в Кембридже — самые опасные соперники Лоуренса. Работали мощные группы физиков в Ленинграде и Харькове.
На горе Дженеросо в Швейцарии Браш, Ланж и Урбан пытались использовать для ускорения протонов... молнию — это дало бы им сразу веское преимущество перед соперниками, поскольку разность потенциалов, которую можно получить с помощью молнии, очень велика и частицы были бы ускорены молнией до 15 МэВ и больше. Исследователи натянули между двумя скалами металлическую сетку. Во время грозц здесь скапливался значительный заряд. В особенно сильную грозу ученым удалось получить искусственную молнию длиной около 5 метров. Это означало, что достигнута энергия в 10 МэВ. Но рекорд стоил жизни одному из трех «ловцов молнии» — доктору Урбану...
Тем не менее борьба за первенство в расщеплении атомного ядра продолжалась. И у Лоуренса были все шансы стать первым.
Он не признавал никаких препятствий — ни финансовых, ни научных, ни технических. Он игнорировал трудности экспериментального и, что гораздо опасней, теоретического характера.
...Когда Лоуренс приступал к строительству первого циклотрона, у него была только идея, тысяча долларов н уверенность, что он все может.
Сооружать электромагнит? Долго! И Лоуренс покупает громадный восьмидесятитонный магнит, не выкупленный заказчиком. Лоуренсу удалось приобрести его буквально за гроши.
Отсутствие радиодеталей восполнялось за счет старых радиоприемников «счастливчика» и его сотрудников, а то в просто путем посещения ближайших свалок. Остальные детали делались самими физиками или, в крайнем случае, заказывались на небольших заводах.
Вакуумная камера первого циклотрона представляла собой попросту смятую лабораторную колбу.
Помогали Лоуренсу в основном студенты. Это, естественно, не было их основным занятием. Часто работы велись ночью, и перерыв делался лишь в 4 часа утра, когда уставшие студенты и их руководители шли перекусить в ближайший ночной ресторан.
Все в лаборатории двигались только бегом. Лоуренс кипел энергией и оптимизмом — он не замечал мелких неполадок и ошибок и привлекал всеобщее внимание к успехам. Он постоянно улыбался, глаза его сияли из-под очков. Казалось, его высокая и плотная фигура появлялась сразу в нескольких местах. Его называли «маэстро» — за виртуозность в эксперименте и абсолютно точные и конкретные советы. Лоуренс стремился к тому, чтобы каждый работал творчески и разделял радость открытия, которое впоследствии будет приписано только одному ему, великому «маэстро».
В 1932 году первый в мире циклотрон был построен. Он давал пучок протонов с энергией 1,2 МэВ, то есть с
лихвой превосходящей ту, при которой атомы могли быть расщеплены. Но было уже дюздно.
Кокрофт и Уолтон, ученики Резерфорда, используя принципиально другой, более простой, изящный и дешевый метод, имея пучок с энергией лишь 0,7 МэВ, уже добились в кембриджской Кавендишской лаборатории искус-ственного расщепления атома.
Это было для Лоуренса жестоким, но полезным уроком. Он решил направить усилия на совершенствование циклотрона и увеличение энергии частиц, получаемых с его помощью. Тут уже нельзя было обойтись заброшенным магнитом и деталями со свалок. Наступил новый этап исследований, куда более дорогостоящий...
...Небольшое деревянное здание, в котором проводились первые эксперименты Лоуренса, положило начало грандиозной Радиационной лаборатории в Беркли, раскинувшейся над морем на живописных холмах Сан-Франциско. Там впоследствии установили гигантский фазотрон, на котором было сделано одно из волнующих открытий нашего времени — открытие антипротона.
В свои 38 лет «счастливчик» стал одним из признанных великих физиков. Его друг в день получения Лоуренсом Нобелевской премии шутливо телеграфировал ему: «Дорогой Эрнест, ты подаешь некоторые надежды в смысле карьеры...»
Впрочем, анекдоты, как сказал Вольтер, это колоски, остающиеся на поле истории, когда урожай собран. Так богат ли этот урожай в мире ускорителей?
2
Член-корреспондент АН СССР Д. И. Блохинцев считал, что в развитии физики XX века можно выделить три этапа: изучение атома, атомного ядра и, наконец, структуры элементарных частиц. Третий этап только начат. Но и первые два тоже далеки от завершения.
Многое надеются понять ученые:
Почему природа избрала именно ядро водорода основным «кирпичиком» для постройки всех остальных элементов?
Почему протон в 1836 раз тяжелее электрона?
Есть ли связь между электромагнитными и гравитационными явлениями, а также между теми и другими и ядерными «сильными» и «слабыми» взаимодействиями?
Существует ли «пятая сила», кроме перечисленных?
Есть ли в природе монополи — частицы, имеющие только один магнитный полюс и эквивалентные электрическим зарядам?
Наконец, можно ли обнаружить «бесы» — кварки, из которых, быть может, состоят все «элементарные» частицы?
Всегда ли причина предшествует следствию? Не может ли время течь в обратную сторону?
Все эти вопросы касаются самых глубин понимания нами мира.
Вот почему энергия ускорителей непрерывно увеличивается — примерно в 10 раз за каждые шесть лет.
Такой фантастический рост энергии частиц стал возможен лишь после того, как в 1944 году в журнале «Доклады Академии наук СССР» появились три небольшие статьи, подписанные не известным еще мировой науке именем — В. И. Векслер.
Упоенные успехами, Лоуренс и его помощники сразу же после запуска первых циклотронов заложили новую гигантскую машину — циклотрон-мамонт, циклонтрон-монстр. На постройку его были отпущены колоссальные средства. Сотни людей участвовали в строительстве. И вот циклотрон-колосс построен. Мерцающие полированные плоскости его многометровых магнитов готовы к тому, чтобы между ними завращался рой атомных частиц, ускоренных до огромной по тем временам энергии — 60 МэВ...
Но что случилось? Почему проектировщики быстро проходят мимо еще не пущенного гиганта, стараясь не глядеть в его сторону? Почему все разговоры о махине, сожравшей миллионы, встречают холодным молчанием?
При уточнении расчетов выяснилось, что вся эта масса металла бесполезна — лоуренсовский циклотрон в силу присущих ему особенностей и в соответствии с неумолимой теорией относительности в принципе не может давать частицы с энергией выше 25 МэВ...
Масса любой частицы возрастает при приближении скорости частицы к скорости света. Но частица с большей массой менее подвижна — она начинает отставать от «сестрицы» с меньшей массой и запаздывает к ускоряющему промежутку, то есть попадает к нему в такой момент, когда ускоряющее электрическое поле мало или вообще направлено навстречу частице и тормозит ее.
Все попытки вырваться из этого порочного круга были тщетны. Ненужный многотонный магнит несостоявшегося рекордного циклотрона пылился в лаборатории уже бо-лее четырех лет, когда появились статьи московского физика Векслера. В них впервые была дана идея автофази-ровки, с помощью которой можно теоретически безгранично повышать энергию частиц, получаемых в ускорителях.
Может быть, только физики могут оценить эстетическую сторону этого нового принципа. Частицы сами по себе, абсолютно самостоятельно, повинуясь неумолимым законам теории относительности, приходят к ускоряющему промежутку в среднем как раз тогда, когда это необходимо.
Трудно найти аналогии этому естественному, но очень сложному процессу в природе. Может быть, отдаленно он напоминает поведение лягушки, которая, как говорят, сама по себе, с шокирующей простотой прыгает в широко раскрытую пасть удава...
«Посмотрим теперь, — писал в одной из своих статей Векслер, — нельзя ли использовать это «вредное» для циклотрона нарастание массы частиц при увеличении их скорости в наших целях? Иными словами, нельзя ли создать такие условия, при которых период обращения частиц Т, по крайней мере в среднем за много оборотов, автоматически поддерживался бы всегда равным периоду ускоряющего переменного поля Т0 именно за счет возрастания энергии частиц? Если бы нам удалось осуществить это требование, то очевидно, что важный для ускорения резонанс мог бы сохраняться сколь угодно долго, т. е. можно было бы ускорять частицы до сколь угодно больших энергий...»
Векслер предлагает одновременно с ростом частиц увеличивать и «закручивающее» их магнитное поле, что будет снижать радиус их орбит:
«При каждом прохождении через щель частицы испытывают разное приращение массы (и соответственно разное приращение радиуса, по которому их заворачивает магнитное поле) в зависимости от напряжения поля между дуантами в момент ускорения данной частицы. Оказывается, что среди всех частиц имеются такие выделенные «удачливые» частицы (они обычно называются равновесными). Для этих равновесных частиц механизм, автоматически поддерживающий постоянство периода обращения, особенно прост.
«Удачливые» частицы при каждом прохождении через щель дуантов испытывают приращение массы и увеличение радиуса окружности. Оно точно компенсирует уменьшение радиуса, вызванное приращением магнитного поля за время одного оборота. Следовательно, «удачливые» (равновесные) частицы могут резонансно ускоряться до тех пор, пока происходит возрастание магнитного поля».
3
Удивительна, почти неправдоподобна судьба академика В. И. Векслера. Семи лет, в начале первой мировой войны, остался он без отца, погибшего на войне, ив 1921 году, во время голода на Житомирщине и страшной разрухи, достигшей Украины, навсегда бросил свой сиротский дом и один, без денег, без вещей оказался в Москве. Он становится беспризорником. Ночует, греясь у асфальтовых чанов, на Хитровом рынке. Во время одной из облав его забирает милиция и направляет в детский дом имени Коминтерна, в дом-коммуну, устроенную в старинном покинутом хозяевами особняке в Хамовниках.
В том доме поселились 25 бывших беспризорных. Жизнь их строилась по строгому регламенту: ранний подъем, кухонные работы, уборка, завтрак, школьные занятия, обед. Вечером в коммуне работали всевозможные кружки. После ужина в точно обусловленное время — сон. В доме-коммуне царили свои законы. По всем вопросам жизни решение принимали на общем собрании, и оно не подлежало обсуждению, критике и обжалованию.
Здесь, в коммуне, Владимир Векслер необычайно увлекся физикой и однажды поразил своих друзей тем, что сам построил детекторный радиоприемник.
Он оказался прирожденным общественником, всегда был впереди, не пропускал ни одного культурного мероприятия, ни одного посещения театра; он — активный участник антирелигиозной пропаганды, всевозможных коллективных выходов, работ на общественных огородах.
Владимир довольно прилично окончил школу и в 1925 году был отправлен Хамовническим райкомом комсомола Москвы электромонтером на фабрику имени Свердлова. Там он проработал более двух лет и, разумеется, отлично проявил себя как с производственной, так и с общественной стороны. Завод дал ему комсомольскую путевку
в институт. В то время шла кампания по совершенствованию вузовской работы, полная всяческих перемен и реформ, частых изменений программ и профилей обучения. Так и получилось, что В. И. Векслер, поступив на очное отделение Плехановского института народного хозяйства, окончил в конце концов экстерном в 1931 году Московский энергетический институт, получив диплом инженера-электротехника. Его узкой специальностью стало рентгеновское оборудование.
К этому времени он работал во Всесоюзном электротехническом институте, в лаборатории рентгеноструктурного анализа, где разрабатывал методы измерения ионизирующего излучения, собственными руками изготавливая нужные установки. Один из его учеников вспоминал впоследствии: «Почти 20 лет он сам собирал, монтировал различные придуманные им установки, никогда не чураясь любой работы. Это позволило ему ясно видеть не только фасад современной физики, не только ее идейную сторону, но и все, что скрывается за окончательными результатами, за точностью измерений, за блестящими шкафами установок. Весьма характерно, хотя это и не единственный в истории науки пример, что один из крупнейших современных физиков — по образованию инженер. Правда, к В. И. Векслеру в этом вопросе не следует подходить с обычной меркой. Формальный ценз образования для него очень мало значил. Он всю жизнь учился и переучивался. И до самых последних лет жизни, вечерами, в отпуске, он тщательно изучал и конспектировал теоретические работы. Многократные длительные поездки из Дубны в Москву он также использовал для бесед на научные темы и учебы».
В 1936 году в жизни Векслера произошло важное событие. Им заинтересовались молодые сотрудники Физического института Академии наук. Вот как он сам описывал то, что произошло: «Тогда я работал в ВЭИ (Всесоюзный электротехнический институт) в качестве заведующего рентгеновской лабораторией. Конечно, заведование мое было очень условным, так как в составе лаборатории были либо совсем молодые люди, мои однолетки, либо люди пожилые, но являвшиеся, в сущности, инженерами-прак-тиками, механиками.
Группа молодых физиков, работавших тогда в ФИАНе (И. М. Франк, П. А. Черенков, Л. В. Грошев и другие), узнала о некоторых моих работах, касавшихся методики,
применяемой в ядерной физике. Заведующим лабораторией ФИАНа в то время был С. И. Вавилов, а научным консультантом, который каждую неделю приезжал из Ленинграда в Москву, — Д. В. Скобельцын. И. М. Франк попросил меня сделать доклад о моих работах на узком лабораторном семинаре, после чего, по-видимому, посоветовавшись между собой, меня спросили, не захочу ли я поговорить с С. И. Вавиловым о возможности моего перехода из ВЭИ в ФИАН. В ФИАНе тогда работали такие замечательные ученые, как Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси со своей группой выдающихся теоретиков, И. Е. Тамм, Г. С. Ландсберг и многие другие. Поэтому, конечно, я мог только мечтать о возможности работать в таком коллективе замечательных ученых.
Помню, как в назначенный день И. М. Франк встретил меня в здании на Миусской площади, где прежде помещался ФИАН, и прямо проводил в кабинет Сергея Ивановича.
В кабинете стояли большой старинный письменный стол и стеклянный шкаф, в котором хранились различные приборы, выполненные, в частности, Лебедевым и др. Меня встретил высокий, еще очень молодой и красивый человек. Это и был С. И. Вавилов.
Естественно, что, идя на прием к академику Вавилову, я очень волновался, не представлял себе, как я буду разговаривать с этим широко известным ученым. Первое наиболее сильное впечатление произвело на меня то, что Сергей Иванович держался необыкновенно просто и доброжелательно... Сергей Иванович предложил мне перейти в ФИАН в докторантуру и выразил согласие быть моим научным руководителем».
Поначалу Векслер занялся в ФИАНе изготовлением и опробованием новых установок, связанных с исследованием космических лучей. Однако прозорливый Вавилов уже тогда увидел более важную и перспективную сферу применения его таланта. Эта сфера была связана с лоу-ренсовским циклотроном и атомной энергетикой.
Работы по изучению атомного ядра, задуманные Вавиловым, были в конечном счете связаны с практической целью — использованием хранящихся в нем гигантских запасов в энергетике.
Кто первый заронил идею об этих гигантских запасах? Хотя А. Эйнштейн теоретически показал их существование еще в начале века, серьезные ученые того и даже более позднего времени совершенно не верили в реальность этой идеи, оставив ее фантастам и мечтателям.
Интересно, что еще в 1904 году Марк Твен писал по поводу чудес, которые, по его мнению, сулил человечеству век двадцатый:
«Девятнадцатый век был чудесным веком, но чудеса его покажутся детской выдумкой по сравнению с тем, что несет двадцатый... Дело в том, что энергия... очень дорога, а все действует только с помощью энергии — пароходы, локомотивы, решительно все. Уголь... надо добывать, без него нет ни пара, ни электричества, и к тому же... уголь сжигают, и он исчезает без остатка... Можно обог греть весь мир, залить его светом, дать энергию всем кораблям, всем станкам, всем железным дорогам — и не израсходовать при этом и пяти фунтов радия!»
Оптимизмом и надеждой веет от доклада мудреца В. И. Вернадского «Задачи дня в области радия», прочитанного 29 декабря 1911 года на общем собрании Академии: «Перед нами открылись источники энергии, перед которыми по силе и значению бледнеют сила пара, сила электричества, сила взрывчатых химических процессов... Перед нами открываются в явлениях радиоактивности источники атомной энергии, в миллионы раз превышающие все те источники сил, какие рисовались человеческому воображению. Для получения этих громадных количеств энергии необходим радий или другие радиоактивные вещества».
Вернадский не только мечтал, он действовал. В июле 1940 года вместе с А. Е. Ферсманом и В. Г. Хлопиным он направил в правительство письмо следующего содержания:
«Работы по физике атомного ядра привели в самое последнее время к открытию деления атомов элемента урана под действием нейтронов, при котором освобождается огромное количество внутриатомной энергии, превосходящее в десятки раз количество энергии, выделяющейся при радиоактивном распаде. Вместе с тем, последними работами установлено, с одной стороны, что деление ядер претерпевают лишь атомы изотопов урана с массой 235 и 234, а с другой, что деление это протекает лишь под действием медленных, а не быстрых нейтронов, что дает, если это подтвердится, в руки исследователей возможность регулировать этот процесс. Эти работы ставят на очередь вопрос о возможности технического использования внутриатомной энергии. Конечно, на этом пути стоит еще ряд очень больших трудностей и потребуется проведение большой научно-исследовательской работы, однако, как нам кажется, трудности эти не носят принципиального характера. Нетрудно видеть, что если вопрос о техническом использовании внутриатомной энергии будет решен в положительном смысле, то это должно в корне изменить всю прикладную энергетику...»
Авторы письма сообщали о том, что уже сейчас назрело время, чтобы правительство, учитывая важность технического использования внутриатомной энергии, приняло ряд мер, которые обеспечили бы Советскому Союзу возможность не отстать в разрешении этого вопроса от зарубежных стран. В числе первых мер значилась необходимость поручить Академии наук срочно приступить к выработке методов разделения изотопов урана и конструированию соответствующих установок, форсировать работы по проектированию сверхмощного циклотрона Физического института Академии наук и, наконец, создать государственный фонд урана.
Построить циклотрон, подобный лоуренсовскому, оказалось делом нелегким. Хотя уже в середине 30-х годов циклотрон с диаметром полюсных наконечников примерно в метр, как у Лоуренса, был создан в Ленинграде, только к сороковому году, благодаря кипучей энергии И. В. Курчатова и его коллег, удалось запустить в работу первую в Европе «атомную дробилку», как тогда называли циклотрон. Вавилов понимал, что глубокие исследования в области ядерной физики невозможны без постройки мощного ускорителя. Уже в то время он предложил создать самый крупный в мире ускоритель, диаметр полюсных наконечников которого должен был составить несколько метров. Многим и через тридцать лет такое смелое решение казалось невероятным. Но оно было принято и начало воплощаться в жизнь. Была укомплектована циклотронная бригада. В нее вошли В. И. Векслер, С. Н. Верное, Л. В. Грошев, П. А. Черенков и Е. Л. Фейнберг. Тут же П. А. Черенков и С. Н. Вернов стали изготавливать модель будущего циклотрона. Подобрали магнит, еще небольшой, с диаметром полюсов около тридцати сантиметров, тщательно обработали полюса... Продолжению этих работ помешала война...
Вновь эта идея всплыла в 1943 году, когда для осуществления советской атомной программы потребовалось создать мощный ускоритель, настолько мощный, что принцип циклотрона Лоуренса уже не годился. Полностью идея нового ускорителя созрела у Векслера на рубеже 1944 года. Уже в начале 1944 года С. И. Вавилов собрал в своем директорском кабинете экстренное заседание Ученого совета. Там Векслер сделал свое сообщение. Обсуждение было бурным. Предложение Векслера казалось фантастическим, нереализуемым. Но — физически неуязвимым...
«Сотрудников В. И. Векслера, — вспоминает профессор М. С. Рабинович, — всегда поражала его не столько потрясающая работоспособность, сколько не знающая удержу фантазия. Беседуя со своими учениками, он часто говорил: «У меня есть некоторая идея, которую я хотел бы обсудить». Начинался жаркий спор. Идея подвергалась ожесточенной критике. Температура дискуссии быстро поднималась. Все присутствующие изо всех сил старались опровергнуть новое предложение. Спор продолжался и в следующие дни. Иногда, чтобы разобраться, требовалась большая теоретическая работа. После такой работы спор продолжался. На возражения следовали контрвозражения. Для нас — учеников В. И. Векслера — такой метод разработки различных физических идей явился превосходной школой. Она много давала, но одновременно и много требовала. Не каждый мог выдержать такую работу в течение многих лет, но можно назвать многих ученых, которые прошли подобную школу идей у В. И. Векслера. Многие из его учеников сами в настоящее время стали руководителями больших коллективов научных сотрудников.
Больше всего В. И. Векслер любил работать с молодежью, особенно с молодыми теоретиками. И это понятно. При бурной творческой работе у В. И. Векслера возникало много идей, иногда были и неправильные, но большей частью весьма интересные и настолько на первый взгляд необычные, фантастические, что они вызывали у многих физиков, привыкших к традиционному, медленному, «солидному» движению по дороге науки, возражения, порой даже насмешку и нежелание спорить по существу. К сожалению, некоторые, даже очень хорошие физики настороженно встретили его самую блестящую идею — принцип автофазировки, который привел к перевороту в методах создания ускорителей заряженных частиц. Поэтому В. И. Векслеру было проще с молодежью, которая только вырабатывала свой стиль работы. Из ученых старшего поколения В. И. Векслер любил советоваться по многим научным вопросам с С. И. Вавиловым и Л. И. Мандельштамом. Он часто вспоминал беседу с Л. И. Мандельштамом, состоявшуюся незадолго до смерти Л. И. в 1944 году, в которой рассказал свою идею об автофазировке в ускорителях. Л. И. Мандельштам, тогда тяжело больной, сразу увидел большое революционизирующее значение этой работы».
Статьи В. И. Векслера были молниеносно переведены на английский язык и, как и появившаяся несколько позже аналогичная статья американца Э. М. Макмиллана, были зачитаны до дыр. Работы на брошенном американском циклотроне возобновились, и уже через несколько месяцев он стал давать частицы с энергией 500 МэВ. Был построен и советский ускоритель, немного большей мощности. Назывались эти машины уже не циклотронами, а синхроциклотронами.
Постройка нового советского ускорителя требовала больших средств, и неудивительно, что вопрос об этом решался в различных правительственных комиссиях. Миллионные расходы на ускоритель многим казались чрезмерными, и авторы проекта, в том числе В. И. Векслер, всячески пытались их сократить.
Для строительства ускорителя выделили площадь в Москве, вблизи теперешней Профсоюзной улицы, недалеко от места, отведенного будущему ФИАНу. В. И. Векслер, стараясь удешевить проект, снял зеленое ограждение вокруг выделенной площади, однако С. И. Вавилов настоял на том, чтобы его восстановить.
«За все время, что я знал Сергея Ивановича (а после войны мне пришлось быть его заместителем по ФИАНу), — вспоминал В. И. Векслер, — я только один раз видел, как он не мог сдержать гнев. Дело обстояло так. Мне пришлось рассказывать Сергею Ивановичу о плане постройки научного объекта, за который я отвечал. Я старался сделать проект как можно более экономичным, предвидя возможные осложнения при обсуждении в комиссии, которая должна была утверждать этот проект. Я исключил зеленое ограждение объекта, однако Сергей Иванович при обсуждении настоял на том, чтобы ввести его в проект, и это действительно было разумно и целесообразно. Как и следовало ожидать, во время заседания один член комиссии стал резко и придирчиво критиковать именно этот
пункт проекта. Вот тут я впервые увидел Сергея Ивановича в гневе. Он побледнел, вскочил, ударил кулаком по столу и закричал: «Это я, черт возьми, требовал осуществления этой части проекта!» Поведение Сергея Ивановича было настолько необычным, что виновник придирок побледнел и, заикаясь, начал лепетать бессвязные извинения, а остальные бросились к Сергею Ивановичу и его успокаивали».
Главным достижением ускорительной техники после Лоуренса и Векслера было создание кольцевых ускорителей. Природа давно оценила преимущества трубчатых конструкций. Распилите кость — она внутри полая. Если бы была массивной, она была бы тяжелее, но не прочнее. И природа выбрала инженерно правильное и, следовательно, эстетически безупречное решение. Башня Останкинского телецентра — полая внутри. Это позволило, почти не снижая ее прочности, в сотни раз снизить вес конструкции, сделать ее легкой и стройной.
Кольцевой ускоритель — это ускоритель Лоуренса и Векслера, у которого вынута сердцевина полюса магнита и оставлено лишь узкое кольцо. Вес магнита снижается при этом в сотни раз, а ускоритель приобретает новые прекрасные архитектурные формы. Красота этого решения в глубочайшей технологической целесообразности, в подражании природе.
Такие ускорители получили название синхротронов и синхрофазотронов. Самым грандиозным синхрофазотроном «классического» типа, побившим рекорды по энергии частиц, достигнутых с помощью американских «космотрона» и «беватрона», был и остается дубненский синхрофазотрон на 10000 МэВ. На первом пуске этой машины у пульта управления стоял академик В. И. Векслер. А вокруг дубненского ускорителя вскоре возник целый научный институт, международный научный центр ядерных исследований стран СЭВ — Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ).
До сих пор еще полностью не использован «банк» идей Векслера. В наши дни советские и американские физики пытаются осуществить одно из его предложений об ускорении протонов в пучке электронов. Если бы это удалось сделать, ускорители стали бы в десятки раз дешевле, легче и меньше по размерам.
Работы по разработке идей выдающегося физика продолжаются...
Идеи В. И. Векслера были положены и в основу постройки крупнейшего в мире ускорителя 60-х годов — серпуховского.
Пучок протонов, разогнанный в этом исполинском атомном орудии, достиг энергии 76 ГэВ (миллиардов электрон-вольт!). Под стать этой грандиозной энергии и сам ускоритель.
Новый синхротрон стал базой нового физического института, размещенного в Серпухове, — Института физики .высоких энергий (ИФВЭ). Здесь были получены важнейшие научные результаты: открытие нового в физике высоких энергий типа симметрии — «масштабной инвариантности», положенной теперь в основу теории сильных взаимодействий на малых расстояниях с участием кварков — так называемой «квантовой хромодинамики».
В Серпухове открыт и новый физический эффект сложной природы, описывающий поведение сталкивающихся частиц, — «серпуховский эффект».
Ученые США не остались в долгу и начали строить свой, еще более мощный ускоритель. В этом, может быть, сыграл свою роль «эффект подстегивания», о котором остроумно рассказывал академик Л. А. Арцимович: «Делегация ученых великой державы А, возвращаясь после поездки в великую державу Б, докладывает:
— По богатству идей, глубине понимания научных проблем и квалификации научных кадров мы не только не уступаем нашим зарубежным коллегам, но даже стоим впереди них. Однако там не пожалели денег, и они смогли построить новую замечательную установку X, и если мы немедленно не начнем строить уже давно задуманную нами установку У, то почти сразу же окажемся в жалком и отчаянном положении.
Вслед за этим делегация державы Б возвращается из державы А и декларирует:
— Мы, конечно, в идейном отношении гораздо выше их, но нельзя ждать ни одного часа более. Они уже приступают к строительству установки У, и если мы прозеваем, то через несколько лет нам стыдно будет показаться на любой научной конференции. Поэтому надо немедленно строить установку Z, которая во столько же раз мощнее установки У, во сколько последняя превосходит нашу старую машину X.
И так далее...»
Неудивительно, что идея нового ускорителя родилась в Радиационной лаборатории имени Лоуренса, где был построен первый циклотрон. Предварительный эскизный проект синхротрона на 200 ГэВ был разработан инжене-рами-физиками в Беркли еще в 60-х годах, когда определялось направление следующего этапа работ США в области физики высоких энергий.
Получив 250 миллионов долларов, руководитель Национальной ускорительной лаборатории США Р. Вильсон и его сотрудники решили сделать ускоритель не на 200 ГэВ, как было запланировано, а сразу на 500 ГэВ. Отважные участники встречи 15 июня 1967 года надумали построить ускоритель всего за пять лет (в этот день они не знали хотя бы приблизительно даже размер диаметра новой машины).
Был выбран диаметр, равный точно 2 километрам. Часть окружности, примерно четверть ее, должна была быть освобождена для устройств ввода и вывода протонного пучка, ускоряющих и измерительных устройств. Тогда при индукции поля в магнитах, равной 18 кгс, можно бьгло бы достичь энергии 400 ГэВ, а при 22,5 кгс — 500 ГэВ.
Такую индукцию, и даже значительно большую, в принципе можно было бы довольно легко получить при помощи сверхпроводящих магнитов. Однако проектировщики решили не рисковать и остановились на хорошо освоенных электромагнитах со стальным сердечником.
Крайне упрощено было питание магнита. Вместо надежной, но дорогостоящей системы мотор-генераторов, дающей постоянный ток, здесь установлены мощные селеновые выпрямители, для выпрямления обычного трехфазного тока из сети. Упрощен и фундамент — он не имеет бетонных опор. Возможные в этом случае перекосы магнитов снимаются специальными юстировочными устройствами. Сам туннель составлен из стандартных бетонных секций, установленных на не слишком мощном бетонном монолите.
Вся эта затея была, по выражению самих ее авторов, «бравадой». Некоторая доля риска и самонадеянности социально обусловлена — нужно было привлечь к делу нужных людей. То, что эта идея в конце концов осуществлена и крупнейший в мире ускоритель заработал, — результат сочетания интуиции, осторожной смелости и упорства физиков и инженеров, и случайного благополучного стечения обстоятельств.
В поисках новых путей, позволяющих более дешевым и эффективным способом получить частицы высоких энергий, ученые ФИАНа выдвинули идею построить в Протвино ускорительно-накопительный комплекс (УНК) на энергию ускоряемых протонов 3000 ГэВ. Большой вклад в развитие и осуществление этой идеи внес академик А. А. Логунов. Частицы энергией 70 ГэВ, ускоряемые на уже существующем серпуховском ускорителе, будут «впрыскиваться» в УНК для дальнейшего ускорения. В УНК будут использоваться мощные сверхпроводящие магниты, которые позволят снизить длину окружности ускорителя с 60 километров до 20, резко уменьшить энергозатраты на питание магнитов. Несмотря на гигантские финансовые расходы, комплекс решено строить, и строительство начато. Ученые предполагают, что уникальный физический прибор поможет раскрыть самые сокровенные тайны строения вещества. Новый ускоритель будет стоить около миллиарда рублей, диаметр его секционного кольцевого магнита — около семи километров, а займутся строительством его тысячи человек и сотни организаций. Защищаться от радиации такого ускорителя придется бетонными стенами двенадцатиметровой толщины.
Строительство новых сверхмощных ускорителей вызовет определенное напряжение даже для таких стран, как СССР и США. Это напряжение будет не только финансовым, но и «умственным». С новым ускорителем так или иначе свяжут свой труд около 2000 кандидатов и докторов наук — целая армия ученых. Поэтому в европейской печати довольно часто начинает проскальзывать мысль о том, что ускорители на такие большие энергии следует строить «всем миром» — то есть в буквальном смысле силами всех развитых стран.
Еще в 1963 году, когда В. И. Векслер получал международную премию «Атом для мира», он призвал к международному сотрудничеству ученых в деле постройки сверхмощных ускорителей: «Природа одна; проблемы, которые она представляет нам на данном этапе развития науки, очень часто имеют единственное решение, конечно не зависимое от того, где живут — в Советском Союзе или в Соединенных Штатах — люди, стремящиеся найти это решение».
Неизвестно, как в конце концов осуществится эта проблема — будут ли такие ускорители строиться отдельными государствами или группами государств, или, наконец,
«всем миром». А может быть, найдется еще какое-нибудь решение, которое позволит достичь новых колоссальных энергий путем меньших затрат?
ГЛАВА Х1Г
ЛАБОРАТОРИЯ №2
1
Год 1932-й был богат на крупные физические открытия. В этот год Дж. Чедвик открыл давно предсказанный теоретиками нейтрон, Г. Юри получил тяжелый водород — дейтерий, сотрудники Резерфорда Кокрофт и Уолтон расщепили ядро лития и, наконец, Андерсон обнаружил «положительный электрон» — позитрон.
В свете этих действительно крупнейших достижений, на все лады обсуждавшихся во всех физических лабораториях мира, приказ по ленинградскому Физико-техническому институту № 64 от 14.12.1932 года, подписанный директором А. Ф. Иоффе, мог показаться событием незначительным. Лишь теперь стало ясно, что появление этого документа в определенном смысле знаменовало собой гигантский шаг в развитии атомной физики и техники. Приказом была образована «особая группа по ядру» в составе академика А. Ф. Иоффе — начальника группы, И. В. Курчатова — зам. нач. группы, М. А. Еремеева, В. Д. Скобельцына, П. А. Богдасевича, В. А. Пустовойтен-ко, С. А. Бобковского, И. П. Селинова, И. П. Бронштейна, Д. Д. Иваненко.
До этого времени двадцатидевятилетний И. В. Курчатов, талантливый ученый (через два года ему без защиты диссертации будет присуждена ученая степень доктора наук) возглавлял крупную лабораторию по физике диэлектриков.
А. Ф. Иоффе пригласил И. В. Курчатова в свой институт весной 1925 года из Баку, где тот работал в Политехническом институте. Игорь Васильевич сразу же включился в исследования, связанные с диэлектриками и полупроводниками. Молодому коллективу института, который называли «детским садом», пришелся по душе двадцатидвухлетний новобранец. Его энтузиазм, работоспособность, стремление и желание жить общими интересами вполне соответствовали духу института.
Не заставили себя ждать и первые научные результаты. Курчатов занимался теорией электрического пробоя диэлектриков, изучал высоковольтную поляризацию.
А. П. Александров, впоследствии академик и президент Академии наук СССР, тоже приглашенный в те годы в Физтех, вспоминал, что Курчатов «заканчивал работу по разрядникам для высоковольтных линий электропередачи и начинал исследования в области сегнетоэлектри-ков. Сегнетоэлектрики — а этот термин в науку ввел именно Игорь Васильевич — были загадочны и непонятны. По справочникам, диэлектрическая проницаемость сегнетовой соли колебалась от единиц до десятков тысяч. Оказалось, что, подобно изменению магнитной проницаемости при повышении температуры (в точке Кюри), у сегнетоэлектриков есть некоторая температура, при которой резко меняется диэлектрическая проницаемость, своеобразная точка Кюри. И. В. Курчатовым, Б. В. Курчатовым и П. П. Кобеко был открыт целый класс веществ, обладающих подобными свойствами, которые Игорь Васильевич и окрестил «сегнетоэлектриками». Эта работа Игоря породила большое направление современной физики твердого тела».
Деятельность Курчатова, признанного лидера в исследовании сегнетоэлектриков, завершилась изданием монографии, переведенной впоследствии на многие языки. Но Курчатов уже охладел к этой теме. Новые проблемы привлекли внимание молодого профессора.
Уже не первый год следил он за публикациями ученых, занимавшихся загадочным атомным ядром. Постепенно назревал вывод — именно эти проблемы представляют собой передний край физики, определяют ее дальнейшее движение. Он решил забросить диэлектрики и сегнетоэлектрики, следствием чего и явился упоминавшийся ранее приказ по Физтеху.
В новом деле ярко проявились те качества Курчатова, за которые близкие друзья называли его «Генералом». В любой увлекшей его работе он быстро захватывал инициативу, загорался сам и не давал энтузиазму окружающих угаснуть до тех пор, пока она не доводилась до конца. Не в его характере было подолгу заниматься одними и теми же вопросами, наводя безукоризненный лоск на полученные результаты, вести утомительные теоретические изыскания! Нет! Как только определено главное, получены отчетливые ответы на вопросы, заданные природе,- вперед, к новым вопросам! Так же, сосредоточиваясь всегда на главном, умел он ставить и решать вопросы организационные.
В Физтехе закипела жизнь. Создавались новые лаборатории, уже ядерные, которые возглавили А. И. Алиханов, Д. В. Скобельцын, Л. А. Арцимович. Регулярно действовал «семинар по ядру», где собирались единомышленники, свежая поросль физиков, составившая потом целую научную школу. В 1933 году в Ленинграде с большим успехом прошла Первая Всесоюзная конференция по атомному ядру. Председателем оргкомитета, естественно, был назначен лидер советских ядерщиков — И. В. Курчатов. Он сумел привлечь к участию в конференции выдающихся специалистов по ядру из ряда стран. В Ленинград приехали Ф. Жолио-Кюри, П. Дирак, Ж. Перрен, многие другие. Впрочем, они и стали центральными фигурами конференции. Наши ученые ограничивались пока скромными рефератами.
Курчатову становятся тесны рамки Физтеха. Он производит опыты в Радиевом институте. В Педагогическом институте имени М. Н. Покровского организует лабораторию, где изучают распад ядер под действием нейтронного облучения. Часто выезжал в Харьков и там проводил эксперименты вместе с давними друзьями К. Д. Синельниковым и А. И. Лейпунским.
Такой размах исследований не мог не принести результатов. В 1935 году у группы Курчатова — первое серьезное научное достижение мирового класса: открыто явление ядерной изомерии. В том же году начато изучение расщепления ядер различных элементов под действием облучения замедленными нейтронами.
В следующем году Ф. Жолио-Кюри вновь посетил Советский Союз. Он побывал в нескольких физических институтах и познакомился с работами советских ядерщиков. В интервью корреспондентам советских газет прославленный ученый заявил: «В области физики и химии атомного ядра, в вопросах строения атома за последние два года Советский Союз выдвинул плеяду талантливых исследователей. Если научно-исследовательская работа в вашей стране будет продолжаться с той же быстротой, то уже через несколько лет советская научная продукция займет передовое место в науке».
Ф. Жолио-Кюри не предполагал, как быстро это произойдет. Вторая Всесоюзная конференция по изучению атомного ядра состоялась в 1937 году в Москве. «Известия» в день ее открытия отмечали «интереснейшие опыты по расщеплению ядра, произведенные Курчатовым и его сотрудниками». Сотрудников у него теперь значительно прибавилось. Многих ученых, и молодых, и уже известных, заразил он своей убежденностью в важности работ по ядру, сделал своими единомышленниками.
Осенью 1938 года немецкие физики О. Ган и Ф. Штрасс-ман облучали уран медленными нейтронами. При этом они пытались получить сверхтяжелые трансурановые элементы, но безуспешно. Среди осколков деления ядра урана исследователи обнаружили лантан и барий — то есть почти вдвое более легкие элементы, чем уран. 22 декабря
1938 года в редакции журнала «Натурвиссеншафтен» было получено сообщение об этом событии, а уже 6 января 1939 года журнал со статьей Гана и Штрассманз вышел в свет. Сразу же этот номер невозможно стало достать — все ученые, изучавшие ядро, оценили важность происшедшего. У реакций Гана и Штрассмана была особенность. Какие бы осколки ни образовывались при делении урана, их суммарная масса была меньше, чем масса распадавшегося ядра. В соответствии с известной формулой А. Эйнштейна при этом должна была выделиться энергия. Прикидки показывали, что она в несколько миллионов раз превышает ту, которую можно получить от лучшего из обычных топлив. Ученые поняли, что появилась перспектива высвобождения ядерной энергии в огромных масштабах. Правда, в физике процессов деления многое еще было неясно. О каких-то инженерных решениях вообще говорить не приходилось. Но цель определилась точно.
А. Ф. Иоффе писал: «В феврале 1939 года в неожиданной форме возродилась проблема использования внутриядерной энергии, до тех пор не переступавшая рамок фантастических романов... В результате расщепления одного ядра урана выделяются, по-видимому, несколько нейтронов, которые, в свою очередь, расщепляют несколько новых ядер. Такой процесс, раз начавшись в большой массе урана, мог бы лавинообразно расти и заменил бы уголь и нефть, но в концентрациях, в 20 миллионов раз превышающих обычное топливо».
«Мог бы лавинообразно расти»... Группа Курчатова немедленно приступила к поиску ответа на самый важный вопрос: при каких условиях процесс будет поддерживаться сам собой? Совсем еще молодой тогда Г. Н. Флёров и более опытный Л. И. Русинов установили, что за каждый акт деления ядра урана выделяется около трех нейтронов.
Результат был доложен на нейтронном семинаре в Физтехе уже 10 апреля. Если каждый нейтрон вызовет деление ядра, то делящихся ядер станет все больше и больше и в куске урана начнется самоподдерживающаяся цепная реакция. Теория предсказывала, однако, что делиться за счет медленных нейтронов должны только ядра легкого изотопа урана с массой 235, которого в общем количестве урана всего один процент. Что происходит в это время с обычным ураном-238 и как можно было бы заставить делиться и его, было пока неясно. Это обстоятельство вовсе не помешало теоретикам Я. Б. Зельдовичу и Ю. Б. Харитону провести теоретический расчет цепной реакции в уране-235.
Уран-238 изучали Г. Н. Флёров и К. А. Петржак, оба в недалеком прошлом — дипломники И. В. Курчатова. В первую же ночь — а измерения проводились только ночью, чтобы движение транспорта не сбивало показаний чувствительнейших приборов — они столкнулись с неожиданным явлением — самопроизвольным делением ядер урана. Под руководством Игоря Васильевича были проведены скрупулезные контрольные опыты, в том числе и под земной поверхностью — на станции «Динамо» московского метрополитена. Факт подтвердился — молодые физики обнаружили совершенно новое явление.
Группа Курчатова тем временем все более подробно изучала условия протекания цепной реакции. Постепенно Игорь Васильевич пришел к всестороннему пониманию этого процесса, и его временами стал охватывать страх. Он постоянно подчеркивал на семинарах, что, если не ограничить цепную реакцию, произойдет гигантский, не поддающийся контролю, взрыв. Ею нужно управлять, не допуская возрастания числа нейтронов выше определенной величины. Тогда она будет протекать спокойно и деление ядер урана станет источником огромной полезной энергии.
В ноябре 1940 года в Москве состоялось очередное Всесоюзное совещание по физике атомного ядра, оказавшееся последним, на котором ядерные проблемы обсуждались открыто. В докладе Курчатова были уже четко намечены основные пути использования ядерной энергии.
Он хорошо представлял себе масштаб технических трудностей, с которыми придется встретиться при решении такой задачи, но был способен наметить и конкретные возможности их преодоления.
Результатом размышлений энтузиастов изучения атомного ядра стало письмо, посланное в адрес непременного секретаря президиума Академии наук СССР П. А. Светлова и озаглавленное «Об использовании энергии деления урана в цепной реакции». Подписали его И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, Л. И. Русинов, Г. Н. Флёров. Они писали, что «исследования последних двух лет открыли принципиальную возможность использования внутриатомной энергии путем осуществления цепной реакции деления урана». Речь шла об осуществлении цепной реакции и о постройке атомного реактора.
Авторы письма считали необходимым: 1. Созвать специальное совещание при президиуме Академии наук, посвященное проблемам урана, и 2. Создать при Академии наук СССР фонд урана в количестве нескольких тонн для опытов по цепной реакции.
Предложения были приняты. При Физико-математическом отделении Академии наук президиумом Академии была организована постоянная комиссия по атомному ядру, как «центральной проблеме современной физической науки», в которую входили А. Ф. Иоффе, И. М. Франк, И. В. Курчатов и другие крупные физики. Председателем комиссии был назначен С. И. Вавилов.
Все более очевидным становилось и Еоенкое применение работ по урану. Академик Н. Н. Семенов написал в Наркомат тяжелой промышленности письмо, в котором указал на возможность создания оружия фантастической разрушительной силы. Обращало на себя внимание и то, что начиная с 1939 года резко сократился, а с 1940 года и совсем иссяк поток публикаций о трудах зарубежных физиков, изучавших атомное ядро. Если иметь в виду европейских специалистов, то это можно было еще как-то объяснить — в Европе шла война, многие физики эмигрировали из стран, захваченных Гитлером. Порождало недоумение и наталкивало на мысль о работах по ядерному оружию молчание американских физиков. В то время лишь строились предположения о причинах этого молчания, но сейчас все факты известны совершенно достоверно.
«...Сэр,
Ознакомившись в рукописи с недавними работами Э. Ферми и Л. Сциларда, я пришел к выводу, что в самом ближайшем будущем можно будет превратить уран в новый и важный источник энергии... Это... может навести на мысль об изготовлении соответствующих бомб... нового типа, обладающих чрезвычайной мощностью. Одна такая бомба, доставленная на борту корабля и взорванная в порту, может уничтожить и весь порт, и все, что есть на примыкающей к ней территории...»
Это — отрывок из письма А. Эйнштейна президенту Соединенных Штатов Франклину Д. Рузвельту, написанного 2 августа 1939 года. Многие считают, что от этой даты должны отсчитываться сроки, связанные с созданием атомного оружия.
Так это или не так, но американские (по сути дела, не американские, большую роль в исследованиях играли итальянец Ферми и венгр Сцилард) ученые вплотную приступили к работе над бомбой в 1940 году, когда военное ведомство США выделило на это первые шесть тысяч долларов из более чем двух миллиардов, истраченных до первого взрыва. (На эти первые деньги Ферми сделал весьма необычный заказ — несколько тонн графита. Кроме того, он купил несколько десятков тонн окиси урана.)
Что толкнуло великого старца в непременной кожаной куртке, существующего вне мелочных интересов времени, отвергающего всякие условности (Оппенгеймер даже заметил, что о таких, как Эйнштейн, в Англии говорят: «Он из простой семьи», — а в Америке: «Он невоспитан»), совершенно чуждого лицемерия и тщеславия, как бы неизменно мысленно повторяющего слова Экклезиаста: «Суета сует — все суета!» — что заставило его окунуться в самую гущу событий, в эту нервную и неприятную для него атмосферу военных и гражданских учреждений предвоенной Америки?
Что побудило его принять на себя громадный риск и ответственность, когда он предложил откупорить запечатанный самой природой сосуд, в котором покуда дремал невероятной силы и коварства джинн, готовый сразу же по освобождении погубить и своего освободителя и весь мир?
Америка в то время старалась не быть втянутой во вторую мировую войну. Она отказывалась от активной финансовой и военной помощи кому бы то ни было, не исключая и своего традиционного союзника — Англию. Провозглашенный Америкой принцип «плати и вези» позволял любой без исключения стране (лишь бы платила золотом) покупать любые американские товары и везти их на своих кораблях. Может, это было одной из причин того, что Белый дом относительно спокойно реагировал на эйнштейновское письмо-набат.
В оправдание своей политики американский сенат ссылался на прощальную речь первого президента США Джорджа Вашингтона. Он предостерегал от «политических связей» с Европой, которые «сделают нашу мирную жизнь и благополучие игрушкой европейских амбиций, соперничества, интересов, настроений и прихотей».
Совсем иная обстановка царила в то время во Франции и Англии, которые уже были вовлечены в войну с гитлеровской Германией.
В осажденной Франции, уже, по сути дела, преданной своим правительством и обреченной на вторжение бронированного чудовища вермахта, ученый-патриот Ф. Жолио-Кюри вместе со своими сотрудниками Г. Халбаном, Л. Ко-варски и Б. Понтекорво исследовали возможность создания в уране самоподдерживающей цепной реакции. Они открыли принцип создания ядерного реактора и запатентовали его вместе с принципом атомной бомбы. Халбан дни и ночи работал с помощниками в сердцевине глыбы чистого графита в три метра высотой. Однако результаты этой правильной работы Халбан истолковал не совсем верно — не хватало теоретической подготовки (главного теоретика группы Перрена правительство перебросило на выбор прожекторных площадок, тогда это казалось более важным). Поэтому исследователи решили, что уран-гра-фитовая система на данном этапе бесперспективна, и принялись за другие исследования. Впоследствии французская группа влилась в английскую, за исключением самого Жолио-Кюри, который остался в Париже и стал там одним из руководителей французского Сопротивления. Говорят, что в дни восстания его видели на баррикадах. Зажигательные бомбы, которые бросал в немецкие танки человек, запатентовавший первую атомную бомбу, были обычные, самодельные.
В Англии в те годы практически все видные ученые и лаборатории -(включая Кавендишскую) были заняты отработкой новейшего изобретения — радара. Работы эти проводились в обстановке величайшей секретности. Не у дел остались лишь те ученые, которым не полностью доверяли. Такими, в частности, оказались эмигрировавшие от угрозы фашизма немецкие физики О. Фриш и Р. Пай-ерлс. По существу, только у них была возможность думать о делении урана. Они-то и обратились к правительству Англии с предложением начать работы по атомной бомбе. Правительство «учло» предложение Фриша и Пайерлса, но из-за «высокой секретности» не допустило их к обсуждению проблемы и не информировало их о дальнейшей судьбе предложения.
Однако Фриш и Пайерлс не теряли зря времени — им удалось рассчитать так называемую «критическую массу» урана-235, то есть то минимальное количество урана, в котором может осуществиться цепная реакция взрывного типа. Эта масса составляла, как показали расчеты, всего несколько фунтов, что было неожиданным, так как раньше считалось, что взрыв невозможен в системе, масса которой меньше нескольких тонн (вот почему Эйнштейн писал Рузвельту о кораблях, взрываемых в порту, но не о самолетах). Атомное оружие оказалось возможным изготовить в виде авиационной бомбы!
Деятельность Фриша и Пайерлса принесла плоды. Был образован специальный комитет, создан совет крупных ученых. Инженеры приступили к созданию ядерного горючего.
Англичане разработали теорию и запустили первые заводы по разделению изотопов урана. Вся документация по разделению была впоследствии передана Соединенным Штатам Америки, что минумум на два года ускорило первый американский ядерный взрыв в пустыне Аламогордо.
Английское правительство поручило своей военной разведке выяснить, какие работы по атомной бомбе проводятся в Германии. Ведь там остались физики мирового класса, один из которых (Отто Ган) обнаружил деление ядра атома урана.
Задание оказалось нелегким, выводы приходилось делать по косвенным данным. Известно было лишь следующее: ядерное деление впервые открыто в лаборатории Гана; через некоторое время немецкий специалист по урану Флюгге прозрачно намекнул о возможности создания атомного оружия; немецкая наука была прекрасно организована и обладала большими средствами; разрушительный характер атомного оружия вполне соответствовал захватническим планам Гитлера.
Улов «Интеллидженс сервис» был невелик: проанализировав содержание текущих научных журналов, разведчики, как и ученые, убедились, что Флюгге довольно часто печатается; если предположить, что это не специальная дезинформация, то ясно, что он не занимается сколько-нибудь серьезными работами. Зато о великом ядерщике В. Гейзенберге этого сказать было нельзя — его имя начисто исчезло из печати, и даже когда один из его сотрудников защитил диссертацию, среди списка лиц, которым диссертант выражал благодарность, Гейзенберга не было.
Кроме того, разведчики и физики заметили, что аннотации в реферативных журналах, относящихся к ядерной физике и разделению изотопов, составлены одними и теми же лицами. Это не могло быть случайным, хотя и не годилось в качестве твердых доказательств.
Однако нашлись они и поубедительней. В 1940 году немцы дали указание норвежской фирме «Норск Хайдро» в десятки раз увеличить выпуск тяжелой воды на имеющемся у нее заводе. К началу 1942 года требования о поставке такой воды возросли втрое. Поскольку тяжелая вода — прекрасный замедлитель нейтронов, необходимых для работы атомного реактора, это уже было серьезным доказательством. Сочувствовавший Англии инженер «Норск Хайдро» специально ездил в Германию, где ему удалось точно выяснить, что вода предназначается для ядерных исследований.
Все это вселяло тревогу. Значит, немцы усиленно работают над бомбой и, возможно, имеют достижения в этой области. Особенно окрепли эти подозрения в 1942 — 1943 годах, когда немецкая пропаганда начала кричать об изготавливаемом в Германии «сверхоружии»...
...После бомбежки Пирл-Харбора и объявления Италией и Германией войны Америке начала форсироваться атомная программа США. Достаточно сказать, что с шести тысяч долларов, данных Ферми в начале исследований, финансовая поддержка правительства возросла сначала до шестидесяти тысяч, потом до двухсот миллионов и, наконец, до двух миллиардов долларов.
Незадолго до начала войны И. В. Курчатов и его сотрудники приступили к строительству большого циклотрона в Физико-техническом институте. Наконец-то в руках исследователей появится инструмент, с помощью которого можно будет проникнуть в «самые темные закоулки» атомных ядер, выведать у природы ответы на многие неясные вопросы и приблизить время осуществления цепной реакции. Как всегда, Игорь Васильевич берется за дело с огромной энергией. С ним работают А. И. Алиханов, Л. М. Неменов, В. П. Джелепов. Электротехническую часть циклотрона проектируют под руководством начальника лаборатории завода «Электросила» Д. В. Ефремова, впоследствии министра электропромышленности СССР. В «Правде» публикуется беседа корреспондента газеты с заведующим циклотронной лабораторией Физтеха Л. М. Неменовым. В публикации подчеркивается, что строительство здания закончено, оборудование готово и вскоре могучий советский циклотрон вступит в строй. Беседа состоялась 21 июня 1941 года. Когда читатели «Правды» знакомились со статьей, на западных границах нашей Родины уже бушевало грандиозное сражение.
Великая Отечественная война перечеркнула планы физиков. Напряженное военное положение требовало непосредственного их участия в работах, необходимых фронту уже сегодня. Многие сотрудники И. В. Курчатова ушли на фронт. К. А. Петржак стал начальником разведки зенитного полка, Г. Н. Флёров был направлен на курсы техников по спецоборудованию самолетов, а потом и на фронт.
Сам И. В. Курчатов поспешил на помощь А. П. Александрову, работавшему по заданиям Военно-морского флота над проблемой защиты кораблей от магнитных мин. Они пишут инструкции для моряков по противоминной защите, а в начале августа срочно вылетают в Севастополь, где на минах подорвалось несколько наших кораблей.
Стали обучать моряков тому, как размещать на кораблях размагничивающие обмотки, в Северной бухте отвели специальный полигон для испытания кораблей. Моряки вначале не очень верили в «профессорские штучки», но вскоре поняли, что кораблям, прошедшим размагничивание, немецкие мины не страшны. У испытательного полигона выстроилась очередь кораблей для обработки против немецких мин. Один из советских адмиралов вспоминал, что после «благословения» Курчатова и Александрова моряки без опасений выходили в море на размагниченных кораблях, спокойно вверяя им свою жизнь.
Вскоре начались бомбежки Севастополя, разминирование перестало быть необходимым, и командование решило направить Курчатова в Поти. Но там мало работы. Группу Курчатова расформировывают. Часть сотрудников отправляется на Каспий для защиты танкеров, а сам Игорь Васильевич должен прибыть в Казань, куда эвакуирован Физтех.
В дороге Курчатов простудился и приехал в Казань с тяжелейшим воспалением легких. Только через несколько недель поднялся он с постели неузнаваемый — у него появилась черная курчавая борода, которая, согласно заявлению выздоровевшего, будет сбрита лишь после полной победы над врагом.
Курчатов возглавляет в институте лабораторию танковой брони. Он считает, что сейчас не время заниматься атомной физикой, стране нужны исследования, которые можно быстро внедрить в военную промышленность. Ленинградское оборудование лежит нераспакованным. Точку зрения Курчатова, однако, не все разделяют.
Находящийся в армии Г. Н. Флёров пишет И. В. Курчатову письмо, в котором обосновывает необходимость возобновления исследований по ядру. Он считает, что прекращение публикаций по этим вопросам убедительно свидетельствует о том, что в других странах работы ведутся очень интенсивно. Не исключено, что в Германии может быть создана атомная бомба. Летом 1942 года Флёров обратился с таким же письмом к Председателю Государственного Комитета Обороны. Вскоре Флёров был вызван с фронта для доклада в Москве. Тогда Советское правительство уже располагало сведениями, что в США и Германии ведутся работы по атомному оружию.
Кроме письма Флёрова, оказались и другие важные причины для того, чтобы серьезнейшим образом отнестись к проблеме создания собственного атомного оружия.
Летом 1942 года группа военных разведчиков Южного фронта, производившая ночной налет на занятый фашистами поселок Кривая Коса, в числе прочих трофеев добыла записную книжку немецкого офицера инженерных войск в чине майора. В ней оказались расчеты и формулы.
Анализ их в одном из советских физических институтов бесспорно свидетельствовал о том, что в Германии лихора-дочно ведется деятельность по созданию сверхмощного взрывчатого вещества на основе деления ядер урана...
В 1942 году до Советского правительства дошла информация и о том, что работы по созданию ядерной взрывчатки под строжайшим секретом от союзника — СССР осуществляются и в США...
В Москву вызваны из эвакуации академики А. Ф. Иоффе, В. И. Вернадский, В. Г. Хлопин и П. Л. Капица. Они должны решить — нужно ли развивать соответствующие работы в СССР. Решение было однозначным — необходимо срочно изучать свойства урана, исследовать возможности осуществления цепной реакции. Когда возник вопрос о научном руководителе работ, А. Ф. Иоффе без колебаний назвал кандидатуру Игоря Васильевича Курчатова.
(Позже многие поражались: как можно было поручить это ответственнейшее дело тридцатидевятилетнему доктору наук, а не какому-нибудь маститому академику? Однако по зрелом размышлении все соглашались с правильностью выбора — Курчатов был крупнейшим советским авторитетом по атомному ядру, он обладал исключительными организаторскими способностями. И потом, в те годы молодостью удивить было трудно — даже выдающимся военачальникам, управлявшим армиями, тоже было иной раз по сорок!)
Осенью 1942 года Курчатов был вызван из Казани в Москву. Состоялась его первая встреча с С. В. Кафтановым и М. Г. Первухиным, которым правительство поручило обсудить с учеными атомную проблему и окончательно определить целесообразность развертывания исследований. После обсуждения было принято решение о начале работ. На Курчатова возлагали научное руководство.
Взволнованный вернулся он из Москвы в Казань, лучше других представляя себе гигантский объем предстоящих трудов, невиданные материальные и людские ресурсы, которые должна была выделить страна, и так ведущая тяжелейшую для нее войну. Именно на него ложилась теперь огромная ответственность за то, чтобы все это было использовано правильно. Ему предстояло решить задачу, равной которой еще не приходилось осуществлять советским физикам. Это крупнейшее дело предстояло совершить в условиях строжайшей секретности и большой срочности. Ясно было, что война, по крайней мере на 2 — 3 года, задержала развитие этих исследований в СССР. Нужно было наверстывать.
4
Как теперь известно, в то время работы по созданию атомной бомбы шли в США уже полным ходом. Возглавлял интернациональный коллектив физиков итальянец Энрико Ферми (впоследствии в целях секретности его называли на американский манер Генри Фармером). Еще в 1940 году на его имя прибыл секретный груз из африканского порта Лобито Бэй — 1142 тонны обогащенной урановой руды.
На складе ждали своей очереди тонны графитовых блоков. Согласно представлениям Ферми, графит должен был несколько уменьшать энергию нейтронов, выделяющихся при делении. Слишком быстрые нейтроны не способны вызвать цепную реакцию. Поэтому урановые блоки Ферми намечал перемежать с графитовыми. Чтобы цепная реакция не носила взрывной характер, сквозь блоки могли при необходимости пропускаться стержни из кадмия или бора, веществ, активно поглощающих нейтроны. Реактор был нужен для того, чтобы показать возможность развития цепной реакции. Кроме того, Ферми и его сотрудники надеялись получить в реакторе новый материал — плутоний, более удобный, чем уран, для изготовления атомной бомбы.
Постепенно блоки графита и урана образовали гигантский черный куб, который был закрыт забавным резиновым мешком. (Этот мешок доставил много веселых минут физикам и много тяжелых дней резинотехнической компании, которой было строго сказано сделать «шар в виде куба». Впоследствии мешок оказался ненужным.). Уран-графитовые блоки были пронизаны «предохранителями» — стержнями из бора и кадмия. Для страховки во время предстоящего эксперимента на платформе, расположенной над реактором, должны были стоять молодые ученые, держащие в руках ведра с раствором соли кад мия. При первых признаках неконтролируемого разгона котла «бригада самоубийц» должна была заливать реактор этим раствором.
Наступило 2 декабря 1942 года. Вот как описывает события этого дня американский журналист Лоуренс: «Наконец великий момент наступил. Ферми приказал своему помощнику Джордэну Вейлю выдвинуть последний . контрольный стержень «еще на фут». Все другие стержни уже были извлечены.
«Это должно привести все в действие», — сказал Ферми доктору Комптону, стоявшему рядом с ним на балконе над реактором.
Прошли четыре напряженные минуты. Но вот нейтронные счетчики защелкали все громче и громче. Ферми, быстро производивший расчеты на логарифмической линейке, неожиданно защелкнул ее, и этот звук был поглощен треском приборов. Ферми выглядел спокойным, даже задумчивым.
По чикагскому времени было 15 часов 25 минут. Движущийся грифель самописца, фиксирующий все происходящее внутри атомного реактора, поднимался все выше, выше и выше, вычерчивая прямую вертикальную линию, которая не переходила в горизонтальную. Это означало, что внутри реактора идет цепная реакция.
Атомный огонь «горел» полчаса. Затем Ферми дал сигнал, и его погасили. Человек высвободил энергию атомного ядра и доказал, что может ее контролировать.
Через несколько минут по междугородному кабелю состоялся странный телефонный разговор. Говорил доктор Комптон: «Алло, Джим, это я, Артур. Я думаю, тебе интересно узнать, что итальянский мореплаватель только что прибыл в Новый свет?»
Это была условная фраза, означавшая, что первый в мире атомный реактор доказал возможность осуществления цепной атомной реакции. Путь к бомбе был открыт.
5
В то время в Казани, по существу, еще только думали о возобновлении работ по атомной проблеме. Условия труда советских физиков нельзя было даже приблизительно сопоставлять с американскими. Страна отражала ожесточенный натиск двухсот сорока вооруженных до зубов гитлеровских дивизий. В те самые дни, когда отозванный с фронта Г. Н. Флёров приступил в Казани к опытам по исследованию размножения нейтронов при делении урана, немецкие войска начали летнее наступление, подошли к Сталинграду, прорвались на Северный Кавказ.
В конце 1942 года советские войска перешли в наступление под Сталинградом. Тогда же было принято окончательное решение и о наступлении на атомном фронте. 11 февраля 1943 года Курчатова назначили научным руководителем урановой проблемы. Работы решено было разворачивать в Москве. Начался московский период деятельности Игоря Васильевича.
Уже в феврале 1943 года он перебирается в столицу, где сразу же собирает группу единомышленников — И. К. Кикоина, Я. Б. Зельдовича, А. И. Алиханова, Г. Н. Флёрова. Группа составляет подробную программу и начинает расчет бомбы, хотя никаких материалов для ее создания пока еще нет.
С разных концов Союза, из эвакуации, с фронта вызывает Игорь Васильевич, наделенный «исключительными полномочиями», своих бывших соратников. Группа сотрудников Физтеха в Ленинграде подготовила сохранившееся оборудование ядерной лаборатории для отправки в Москву. Пока же Г. Н. Флёров проводит опыты в здании Института общей и неорганической химии на Калужской.
Президиум Академии наук разрешил разместить новые лаборатории в здании Сейсмологического института в Пыжевском переулке. Здесь находился и штаб, сюда на совет собирались ведущие ядерщики страны — А. И. Алиханов, Ю. Я. Померанчук, брат Игоря Васильевича — Б. В. Курчатов, И. И. Гуревич, Я. Б. Зельдович, Ю. Б. Харитон, К. И. Щелкин.
Только теперь стало возможным придать советским исследованиям урана необходимый размах. Только теперь Курчатов вместе со своими довоенными сотрудниками, взятыми иной раз прямо с передовой или со смены военного завода, смог приступить к строительству по-настоящему крупного института, к организации промышленности урана и графита, к постройке циклотрона и первого атомного реактора.
Трудиться приходилось в нетопленых корпусах, иногда в палатках, без самого элементарного оборудования. Не хватало статистического материала, знания ядерных констант, получение которых требовало времени.
Все требовало времени. И хотя ученые это время по-» стоянно обгоняли, его не хватало... Слишком велик был объем работ, слишком ограничены средства, слишком велики разрушения...
Под влиянием сложности и неопределенности задачи, из-за неясности физических процессов, протекающих в ядре и нуждающихся в исследовании, которое, возможно, заняло бы годы, у И. В. Курчатова в то время сформировался совершенно новый подход к решению научных проблем. Традиционный поэтапный, последовательный метод сейчас не годился. Надо было идти на риск начала следующего этапа работы еще до того, как закончился предыдущий. Слишком дорог был каждый день, каждый час.
После освобождения Харькова в августе 1943 года туда сейчас же выехал К. Д. Синельников, старинный друг. Курчатова. Он должен был как можно быстрее восстановить разрушенные харьковские лаборатории и начать исследования по согласованной с научным руководителем программе.
Курчатов ищет постоянное помещение для проведения работ. В это же время он окончательно становится москвичом. Процитируем приказ по Ленинградскому физико-техническому институту от 14 августа 1943 года:
§ 1. Организовать лабораторию в следующем составе: 1. Курчатов И. В., 2. Алиханов А. И., 3. КорнфельдМ. О.,
4. Неменов Л. М., 5. Глазунов П. Я., 6. Никитин С. Я-, 7. Щелкин К. И., 8. Флёров Г. Н., 9. Спивак П. Е., 10. Ко-зодаев М. С., 11. Джелепов В. П.
§ 2. В дальнейшем именовать лабораторию «Лаборатория № 2».
§ 3. Заведующим лабораторией № 2 назначить профессора Курчатова И. В.
§ 4. Весь состав лаборатории считать переведенным в Москву на постоянную работу.
Директор ЛФТИ академик А. Ф. Иоффе».
Поиски помещения затянулись. От некоторых свободных зданий в черте города Игорь Васильевич отказывается — он предвидит большое будущее нового института и считает, что в городе ему будет тесно.
Наконец, найден подходящий недостроенный кирпичный дом за Окружной железной дорогой, на самом краю бывшего Ходынского поля. Здесь начала строиться Лаборатория № 2, получившая теперь кодовое название «Лаборатория измерительных приборов Академии наук СССР» — ЛИПАН, зародыш будущего гиганта — Института атомной энергии имени И. В. Курчатова. Лаборатория — что было тогда в новинку — стала охраняться; у входов встали, как выразился академик А. П. Александров, I «летчики, но без пропеллеров на погонах». 1
Давая указания на застройку громадного участка с 1 необъятным картофельным полем, сосновым лесом, желез- 1 ной дорогой, молодой академик (совсем недавно И. В. Кур- ) чатова избрали действительным членом Академии наук ; СССР) первым делом распорядился здания выстроить по периметру выделенной площади — «чтобы участок нельзя было отобрать назад».
Вскоре на всех трех этажах нового здания начались . эксперименты. На первом строится циклотрон — из Ленинграда удалось доставить детали еще того, заложенного перед войной циклотрона. (Липановцы не знали, что в это самое время в Соединенных Штатах был сооружен гигантский циклотрон для «Манхеттенского проекта», то есть для создания атомной бомбы. Обмотка магнита этого циклотрона была выполнена из серебряных трубок; колоссальное количество серебра — десятки тонн — взято взаймы из государственного казначейства.)
Но не все опыты удается вести в здании. Прежде всего это относится к получению сверхкритической массы. Пока это делали, стреляя из двух винтовок навстречу друг другу и фотографируя скоростной камерой процесс сближения пуль, опыты можно еще было проводить в здании. Но вскоре результаты такой стрельбы перестали удовлетворять ученых. Тогда рядом с институтом построили сарайчик, в нем установили два 76-миллиметровых орудия, которые должны стрелять навстречу друг другу.
Ходынка... Много видела ты — и ходынскую трагедию, и солдат в различной форме, топтавших тебя, возивших по твоей зеленой груди пушки и пулеметы и ранивших тебя в тех местах, где были установлены черные мишени...
Много видела ты, а такого — не видела... Поставили два мощных орудия прямо друг против друга, стреляли в одно и то же мгновение, рассчитанное с невиданной точностью... Две раскаленные смерти, с грохотом отрыгнутые орудиями, с невероятной мощью расплющивались друг о друга, давая собравшимся вокруг ученым знания для создания оружия, по сравнению с которым две эти ревущие огнедышащие смерти и их столкновение были не более страшны, чем комариный укус и писк.
Позже Курчатов наладил контакт с наркомом боеприпасов Б. Л. Ванниковым, который поручил решение задачи о сближении масс специальному оружейному инстатуту. Так начинался переход от лабораторных опытов к широкой программе инженерных дел.
Фронт работ нарастал с каждым днем. Промышленность получила срочное правительственное задание — наладить производство чистого металлического урана. Начинается изготовление в больших количествах сверхчистого графита. В двух больших армейских палатках, поставленных на лужайке напротив окон кабинета Курчатова, давний его сотрудник И. С. Панасюк выкладывает графитовые призмы, чтобы измерить, насколько активно они поглощают и замедляют нейтроны. В конце 1944 года — первая большая победа. Удалось всего за год запустить циклотрон.
Когда запускали эту атомную машину, Курчатов был на приеме у члена правительства. Л. М. Неменов, в последний предвоенный день рассказывавший корреспонденту «Правды» о будущем циклотроне, около двух часов ночи, когда сложная установка вышла на рабочий режим, позвонил ему прямо на совещание. Через час Игорь Васильевич был в институте. Не в силах сдержать свою радость, он. пригласил всех участников пуска к себе домой, чтобы, невзирая на столь неподходящее время, распить специально припасенную для этого случая бутылку шампанского.
На циклотроне можно было начинать важнейшую работу — получать драгоценный 94-й элемент, который тогда еще не назывался плутонием. Как только первые мизерные дозы его — микрограммы — были получены, Игорь Васильевич поручил Б. В. Курчатову детально исследовать его свойства. Ожидания физиков оправдались — трансурановый элемент был вполне пригоден и для создания атомной бомбы, и для использования в управляемой ядерной реакции.
Наступил май 1945 года. Великий праздник Победы пришел на советскую землю, в каждый дом. Многие тогда, да и, наверное, сам Игорь Васильевич, считали, что после разгрома гитлеровской Германии работы по созданию страшного оружия можно будет отложить, направив все силы на получение мирной атомной энергии. На территории института начинается строительство новых корпусов, большого циклотрона, уран-графитового атомного котла, других зданий.
С победой стали ясны и некоторые подробности судьбы немецкого атомного проекта. Сама идея, оказывается, родилась незадолго до войны, в Гейдельберге. Профессор В. Ханле на одном из физических коллоквиумов предложил использовать ядерные реакторы для получения энергии. Г. Иос, руководитель Ханле, подхватил идею, заявив, что такую ценную мысль нельзя бросать на произвол судьбы. Он тут же обратился в министерство просвещения и нашел там полную поддержку.
Было созвано совещание под председательством президента рейхсбюро стандартов и главы физической секции исследовательского совета при министерстве А. Эзау, ярого нациста. Он, не теряя времени, принялся реализовывать широкую программу, направленную на то, чтобы прибрать в свои руки всю германскую ядерную физику — добивался запрета вывоза из страны урана, требовал поставки радия из недавно захваченного Иоахимсталя — чешского Яхимова.
Позже оказалось, что пока Йос еще только собирался писать в министерство просвещения, два молодых гамбургских физика — профессор П. Хартек и доктор В. Г орт предложили военному министерству создать атомное взрывчатое вещество невиданной силы.
«Мы взяли на себя инициативу, — писали они, — с целью обратить ваше внимание на самые последние события в ядерной физике; по нашему мнению, они, по всей вероятности, открывают возможности для изготовления взрывчатого вещества, которое своей разрушительной силой на много порядков величины превзойдет взрывчатые вещества обычных типов».
В конце концов это письмо попало эксперту германской армии по взрывчатым веществам К. Дибнеру, молодому специалисту в области ядерной физики. Для осуществления идеи атомной бомбы Дибнеру подчинили крупное исследовательское бюро и испытательную лабораторию в Куммерсдорфе, близ Берлина, выделили крупные средства.
Таким образом, уже в начале второй мировой войны в единственной стране мира — Германии — велись исследования, прямо направленные на использование атомной энергии в военных целях — на создание атомного оружия. Тем самым подтвердились худшие опасения союзников.
В атомный проект Германии так или иначе оказались вовлечены крупнейшие немецкие физики В. Гейзенберг, К. Вейцзеккер, В. Боте. В Лейпциге Гейзенбергу удалось построить подкритические урановые котлы, позволившие обеспечить создание бомбы надлежащей теоретической базой.
Обилие исследовательских групп, к счастью, создавав ло между ними жестокую конкуренцию, и они вредили одна другой как могли, не предоставляя в распоряжение соперников уран, тяжелую воду и ценную информацию.
23 июня 1942 года о ведущихся по атомной бомбе работах было доложено Гитлеру. А. Шпеер записал по этому поводу: «Коротко доложил фюреру о совещании по поводу расщепления атомов и об оказанном содействии». А в сорок четвертом Гитлер похвалялся перед Антонеску подготовкой атомного оружия.
Позже, в 1945 году, Гейзенберг попытался объяснить неудачу германского атомного проекта сознательным бойкотом со стороны некоторых ученых: «Весной 1942 года у нас не было морального права рекомендовать правительству отрядить на атомные работы 120 тысяч человек».
Это лишь полуправда. Правда же в том, что Гейзенбергу не удалось получить цепную реакцию.
Не удалось получить ее и Боте. Гейдельбергские эксперименты, завершенные в январе 1941 года, были ошибочно истолкованы в том смысле, что создать котел на не-обогащенном уране и графите невозможно (?!). Этот неправильный теоретический вывод послужил на пользу союзникам, в большой мере определив конечную неудачу работы немцев над атомным проектом. Ошибочно забраковав графит как замедлитель нейтронов, немцы сосредоточили внимание на тяжелой воде, получаемой из Норвегии, и стали полностью зависимы от поступления этого продукта. Поэтому отчаянно смелая и хорошо организованная операция норвежских патриотов с диверсией на гидроэлектростанции «Норск Хайдро», где промышленным образом производилась тяжелая вода, и оказала столь разрушительное влияние (в известной мере случайно) на немецкую атомную программу...
К концу февраля 1945 года у немцев, однако, был уже готов новый реактор — на смеси обычной и тяжелой воды в качестве замедлителя. Вывезенный из берлинского бункера реактор запускался в Хайгерлохе — убежище на юге Германии, где еще не были так часты воздушные атаки. Имперский исследовательский совет связывал с этим котлом большие надежды — для того, чтобы осуществить эксперимент, была закрыта половина всех остальных исследовательских программ.
...По мере заполнения котла тяжелой водой счетчики работали все веселее, и в конце концов стало ясно, что столь высоких параметров, в частности, коэффициента размножения нейтронов, в Германии еще не добивались. Гейзенберг с волнением ждал продолжения ответственного эксперимента...
Наконец, в реактор закачана практически вся германская тяжелая вода — полторы тонны. Однако коэффициент размножения нейтронов все еще недостаточен. Каждые сто нейтронов, введенные в котел, давали на поверхности котла всего лишь шестьсот семьдесят нейтронов. (Последующие расчеты показали, что, если бы масса урана и количество тяжелой воды были бы в реакторе примерно наполовину больше, возникла бы цепная реакция. Еще бы килограммов семьсот урана и три четверти тонны тяжелой воды — и реакция бы пошла. Правда, неизвестно, чем бы в этом случае кончилось дело, поскольку самый совершенный немецкий котел не был снабжен устройством для аварийной остановки. «На всякий случай» имелся лишь кусок кадмия, который предполагалось бросить в котел в случае опасного развития событий.)
Результат эксперимента все же истолковали как весьма успешный, и устроители его уже поверили в то, что вскоре их разместят для продолжения исследований в «Альпийском редуте» Гитлера.
Однако победоносное наступление советских войск не дало этим планам осуществиться...
После окончания войны с гитлеровской Германией Курчатов, как когда-то в Ленинграде вместе с Жолио-Кюри, снова мечтает о дешевой электроэнергии из атома, о кораблях и самолетах, в двигателях которых клокочет укрощенный атом, о мирных исследованиях...
Казалось, что теперь работы союзников над разработкой атомного оружия можно было бы остановить. Однако американская программа зашла, видимо, уже очень далеко... Затрачено слишком много усилий и денег — почти два миллиарда. Пора было получать дивиденды, и не обязательно — с Германии...
16 июля 1945 года в 5 часов 30 минут утра небо над пустынным участком вблизи авиабазы Аламогордо в США было озарено небывало яркой вспышкой — американцы произвели взрыв первой плутониевой атомной бомбы.
Один из ее создателей, профессор Р. Оппенгеймер сделал тогда красочное признание. «Мы, — сказал он, — совершили работу за дьявола».
Бомба появилась для американцев весьма кстати. Шли потсдамские переговоры, на которых вместо покойного ф. Рузвельта впервые участвовал новый президент США — Г. Трумэн. Присутствовавший на переговорах английский чиновник Р. Мэрфи записал в своих мемуарах: «Когда Трумэн председательствовал на четвертом пленарном заседании, мы заметили перемену в поведении президента. Он казался гораздо более уверенным в себе, более склонным к активному участию в дискуссиях, к оспариванию некоторых заявлений Сталина. Было очевидно, что что-то случилось». Трумэн в тот день стал возражать против воссоединения восточных районов Германии с Польшей.
24 июля после пленарного заседания Трумэн решил рассказать о бомбе Сталину. Дочь президента Маргарет Трумэн пишет: «Мой отец тщательно обдумывал вопрос о том, как и что сообщить Сталину об атомной бомбе. Он решил сказать ему как можно скорее, но ограничиться замечанием самого общего характера... Он подошел к советскому лидеру и сообщил ему, что Соединенные Штаты создали новое оружие «необыкновенно разрушительной силы». Премьер Черчилль и государственный секретарь Бирнс находились в нескольких шагах и пристально наблюдали за реакцией Сталина. Он сохранил поразительное спокойствие... Мой отец, г-н Черчилль и г-н Бирнс пришли к заключению, что Сталин не понял значения только что услышанного».
Однако они ошибались. Вот что пишет об этом же событии в своих воспоминаниях маршал Г. К. Жуков: «В ходе Потсдамской конференции глава американской делегации президент США Г. Трумэн, очевидно, с целью политического шантажа, однажды, попытался произвести на И. В. Сталина психологическую атаку.
Не помню, какого числа, после заседания глав правительств Г. Трумэн сообщил И. В. Сталину о наличии у США бомбы необычайно большой силы, не назвав ее атомным оружием.
В момент этой информации, как потом писали за рубежом, У. Черчилль впился глазами в лицо И. В. Сталина, наблюдая за его реакцией. Но тот ничем не выдал своих чувств, сделав вид, будто ничего не нашел в словах Г. Трумэна. Как Черчилль, так и многие другие англо-американские авторы считали впоследствии, что, вероятно, И. В. Сталин действительно не понял значения сделанного ему сообщения.
На самом деле, вернувшись с заседания, И. В. Сталин в моем присутствии рассказал В. М. Молотову о состоявшемся разговоре с Г. Трумэном. В. М. Молотов тут же сказал:
— Цену себе набивают.
И. В. Сталин рассмеялся:
— Пусть набивают. Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы».
А всего через несколько дней США произвели беспрецедентные по варварству и бессмысленные с военной точки зрения атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Бомба была сброшена вопреки воле ученых, которые ее создали. Их мнение уже не интересовало военных и политиков.
«Мои взгляды начали меняться после... 1944 года, когда стало очевидным, что немцы проигрывают войну и что у них нет атомной бомбы. У японцев ее тоже не было», — писал один из физиков, создавших бомбу.
Лео Сцилард говорил: «Весь 1943 и отчасти 1944 год нас преследовал страх, что немцам удастся сделать атомную бомбу раньше, чем мы высадимся в Европе. Но когда в 1945 году нас избавили от этого страха, мы с ужасом стали думать, какие же еще опасные планы строит американское правительство, планы, направленные против других стран».
А. Эйнштейн услышал о хиросимском взрыве по радио. От ужаса у него так сдавило горло, что он мог только произнести: «О, горе!..»
Бомба нужна была Трумэну не для того, чтобы поставить Японию на колени — она была обречена. Бомба нужна была для того, чтобы возвестить об особой роли Соединенных Штатов в послевоенном мире.
Взрывы над Хиросимой и Нагасаки, бесполезные в военном отношении, дали понять, что в мире возникла ситуация, когда одно государство вздумало диктовать свою волю другим.
В этой обстановке Советское правительство дало новое задание институту Курчатова: форсировать создание советского атомного оружия.
Для решения этих вопросов при Совете Народных Комиссаров СССР был создан Научно-технический совет, им руководил легендарный «комиссар по боеприпасам» Б. Л. Ванников. Заместителями его назначены И. В. Курчатов и нарком химической промышленности М. Г. Первухин. В состав совета вошли крупнейшие ученые — А. И. Алиханов, И. К. Кикоин, А. Ф. Иоффе и другие, а также виднейшие инженеры и руководители промышленности — А. П. Завенягин, В. А. Малышев, Е, П. Славский.
Организуются новые институты — один из них создал А. И. Алиханов в Сухуми (теперь это Институт теоретической и экспериментальной физики). В Москву из Ленинграда переведен А. П. Александров — директором Института физических проблем, который теперь по приказу Председателя СНК СССР также привлекался к работам Курчатова. Игорь Васильевич заботится о подготовке молодых специалистов для новой, небывалой отрасли промышленности — ив результате организуется Московский инженерно-физический институт, вводятся новые курсы на некоторых факультетах Московского энергетического и других институтов. Серый спортивный «Мерседес» Курчатова неустанно колесит по послевоенной Москве...
Чтобы выиграть время, начали строить атомные заводы, хотя было еще не совсем ясно, что и как на них производить. Создавались новые «атомные города» и «атомные поселки», в невиданно короткие сроки возводились заводские корпуса.
По всей стране для разведки урановых залежей отправились многочисленные поисковые партии, вооруженные непривычной тогда для геологов аппаратурой — счетчиками Гейгера. Многие тысячи инженеров, техников, рабочих трудились, сами зачастую не подозревая об этом, над выполнением срочных заказов Курчатова.
В этот период Игорь Васильевич проявил себя как организатор науки невиданного доныне масштаба. А. П. Александров пишет: «Наше великое счастье, что именно Курчатову была поручена эта работа. Все другие ученые4 хорошо решали бы отдельные ее части, но, думается, никогда не решились бы так революционно подойти к задаче в целом». И далее: «Напряженность его работы была поразительная — постоянные внезапные появления то в одной, то в другой лаборатории или институте (но никогда не по мелочам), постоянные звонки в любое время дня и ночи, в выходные дни, как и в будни. Он привык работать без перерыва... Его жизнь была наполнена до краев, и, даже приходя домой, он часто хватался за телефон и практически продолжал работу, всегда работу. Не нужно думать, что его жизнь, проходящая в непрерывной работе, была эмоционально бедна. Напротив, каждый свой или чужой успех, встречу с друзьями Игорь горячо и радостно переживал, он щедро одарял своим оптимизмом и жизнерадостностью других».
6
Деятельность И. В. Курчатова приобретает государственные масштабы. Он быстро находит общий язык с руководителями промышленности; на любых совещаниях выступает необычайно кратко, ясно и убедительно. Он посвятил всего себя атомной проблеме, отказавшись даже от личной жизни. Характеризуя его настойчивость и пробивную силу, его называют «человек-танк», «атомный реактор», «бомба». Авторитет его огромен, но он по-прежнему прост и доступен для всех своих друзей и коллег.
...Вскоре с новых заводов были получены первые тонны урана и графита. Можно было начинать строительство реактора, теория которого разработана заранее. Сначала складывали небольшие модели реактора, на которых изучали процессы в установке. Основной, большой «надкритический» реактор намечалось построить в специальном корпусе, условно называвшемся «Монтажные мастерские». Реактор должен был, как показали исследования на «подкритических моделях», иметь высоту около восьми метров (шесть метров — активная зона, по метру на сторону — графитовая стена, отражающая нейтроны). Весь гигантский цилиндр должен был состоять из слоев; каждый слой — из графитовых кирпичей; в кирпичах активной зоны просверливались отверстия, в которые вставлялись урановые цилиндры.
Чрезвычайно большое внимание было уделено безопасности при работе реактора, хотя от ближайшего жилья вблизи Сокола до реактора было несколько километров. Близко находился только дом Курчатова.
Сам реактор собирался в подвале «Монтажных мастерских». Под землей находился и пульт управления. Запасный пульт управления реактором располагался также под землей, в километре от «Мастерских». Погасить реакцию можно было, опустив в активную зону кадмиевые стержни; кроме того, были предусмотрены аварийные стержни, которые в случае непредвиденного разгона реакции могли быть сброшены вниз.
Строжайше соблюдая осторожность, рабочие вели кладку реактора. Вот уложен первый слой, второй, третий... Прошло всего лишь полгода со дня первого взрыва американской бомбы. Уступим здесь страницу одному из непосредственных участников пуска первого советского реактора И. С. Панасюку:
«25 декабря в 14 часов при трех введенных в объем уран-графитовой решетки кадмиевых стержнях был закончен 62-й слой... В это время И. В. Курчатов находился в другом здании, и ему по телефону сообщили, что все готово для осуществления пуска ядерного реактора.
Прежде всего И. В. Курчатов распорядился отпустить отдыхать всех рабочих и техников, которые строили последние два слоя реактора. В подземной лаборатории у пульта управления реактором остались только И. В. Курчатов и сотрудники лаборатории, помогавшие ему в пуске реактора.
Включены были все приборы, сигнализирующие о радиационной опасности. Проверена исправность системы управления и защиты...
Следили за показаниями механического нумератора нейтронной импульсной установки и наносили на график результаты этих измерений... Взглянув на график, И. В. Курчатов заявил, что это еще не саморазвивающаяся цепная ядерная реакция, и тут же ее погасил. Затем он предложил повторить опыт, подняв регулирующий кадмиевый стержень еще на 10 сантиметров. Два аварийных стержня ввели внутрь реактора, а регулирующий извлекли еще на 10 сантиметров.
В следующем опыте регулирующий стержень Курчатов дополнительно извлек уже не на 10 сантиметров, как в предыдущих сериях, а только на 5... После быстрого подъема Игорем Васильевичем двух аварийных кадмиевых стержней все присутствующие с удвоенным гнимани-ем стали наблюдать за световыми и звуковыми сигналами, отражающими развитие цепной реакции деления ядер урана-235. Через 30 минут все звуковые индикаторы выли, световые ярко светились, гальванометр... уже отклонялся не равномерно, как в предыдущей серии, а все быстрее и быстрее... Напряжение всех присутствующих достигло предела, когда дублирующая... установка, расположенная внутри подземной лаборатории, стала вместо двух-трех фоновых щелчков в минуту выдавать все более и более частые сигналы. Это означало, что нейтроны из реактора, пронизав большие толщи земли и цемента, попали в подземную лабораторию...
Курчатов нажал на кнопку аварийного сброса кадмиевых стержней. Частота звуковых и световых сигналов стала быстро снижаться. Саморазвивающаяся цепная реакция по воле человека была вызвана и по воле человека погашена!»
23 декабря 1946 года в 18 часов впервые в СССР и в Европе И. В. Курчатов с помощниками осуществили управляемую цепную реакцию деления урана.
Так был зажжен первый в Европе атомный огонь.
Десятилетие спустя, вспоминая события того дня, Курчатов писал, что он надеется на торжество здравого смысла, на то, что драгоценный уран-235 и плутоний не будут расходоваться на изготовление разрушительного оружия, а будут использованы лишь в атомных реакторах, движущих мирные корабли и самолеты, на электростанциях, несущих в жилища людей свет и тепло.
Но в январе 1947 года Курчатову было еще не до электростанций. Американцы наращивали свой ядерный потенциал, сколачивали антисоветские блоки, создавали вокруг СССР военные базы. Необходимо было срочно противопоставить этой угрозе наше, советское атомное оружие.
Когда в Центральном Комитете партии в 1945 году Игоря Васильевича спросили, сколько времени понадобится советским ученым, чтобы создать атомное оружие, он ответил: «Пять лет». Сейчас, спустя всего два года, ему стало ясно, что срок должен быть сокращен.
Американских стратегов, конечно, тоже интересовало, скоро ли СССР, если возьмется за это, сможет создать собственное атомное оружие? Силами группы экспертов было проведено специальное исследование, и в результате появился доклад Д. Хогертона и Э. Рэймонда, озаглавленный «Когда Россия будет иметь атомную бомбу?». По докладу получалось, что при максимальном напряжении для этого потребуется 10 лет. Таким образом, в США полагали, что бомба, если будет построена вообще, появится в СССР не ранее 1952 года.
Как раз в это время в Москве было организовано Издательство иностранной литературы. Одним из первых заданий для него было перевести этот доклад. Перевод вышел в 1948 году и содержал предисловие, в котором говорилось:
После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз многие американские газеты и политические деятели предсказали неизбежность поражения Советской Армии. Исход войны наглядно показал, что стоили эти пророчества.
Однако оракулы не унимаются. Теперь они вновь пророчат, что Советский Союз в течение многих лет не сможет решить проблему атомной энергии.
Совершенно бесспорно, что практическое решение задачи использования атомной энергии — дело исключительно трудное и сложное по своей новизне. Ясно, что эта задача не может быть решена без большого напряжения сил людей нашей науки и техники, сил всего советского народа. Но советские люди неоднократно уже доказывали на деле, что они умеют справляться с трудностями.
Лучшим судьей в таких случаях, как показал опыт, является сама жизнь. Пусть «пророки» гадают на кофейной гуще, в каком году Россия будет иметь атомную бомбу.
Поживем — увидим!»
Успешный запуск первого реактора, получившего название Ф-1, оказал огромную помощь в проектировании предприятий атомной промышленности, хотя строительство завода по производству плутония, например, началось задолго до Создания реактора. Теперь стало ясно, что основные параметры, заложенные в проект завода, угаданы точно.
Можно было уверенно строить промышленные атомные котлы, можно было выдавать задание и металлургам. На первом реакторе с трудом накопили несколько микрограммов плутония, и на этой крохотной крупинке металла, величиной меньше булавочной головки, удалось провести исчерпывающие исследования, установить его свойства, разработать химию и металлургию плутония. Атомные заводы были заложены на основании опробования различных процессов и технологий на микрограммах вещества.
Город, в котором должен был заработать первый промышленный реактор, располагался в живописном месте, далеко от Москвы. Сотрудники ЛИПАН постоянно присутствовали на стройке, принимая участие на всех этапах сооружения уникальной установки. Осенью 1947 года на строительную площадку приехали И. В. Курчатов и Б. Л. Ванников, чтобы принять участие в завершении монтажа.
Прямо в здании, где монтировался корпус реактора, Курчатов оборудовал кабинет. В любое время шли к нему люди с вопросами, непрерывно возникавшими в ходе невиданного строительства. Он не принимает непродуманных решений — слишком велика ответственность. Ведь в реактор загружен весь имевшийся в то время в стране металлический уран. Но ни одного дела Игорь Васильевич и не затягивает, его решения рождаются прямо на глазах, поразительно быстро. О рабочей обстановке тех лет — обстановке подлинно творческого труда могут дать представление воспоминания академика Г. И. Будкера: «Эти три года ежедневной работы до двух часов ночи, без выходных, без отпусков вспоминаются мне как самые светлые, самые восторженные годы в моей жизни. Никогда больше я не слышал музыки, не читал стихов, не представляю вообще себе произведение искусства, которое бы по красоте внутреннего своего звучания и внешнего оформления, по гармонии чувства и разума могло сравниться с деятельностью по решению атомной проблемы. Нам тогда трудно было представить симфонию, которая бы звучала так, как музыка экспериментальных результатов».
Вскоре первый промышленный реактор заработал, начал накапливаться драгоценный плутоний.
Как-то один из участников атомного проекта, впоследствии член-корреспондент Академии наук СССР В. С. Емельянов поздно ночью принес А. П. Завенягину стеклянный стаканчик с притертой пробкой. В нем лежал небольшой кусочек тяжелого металла серебристо-белого цвета. Завенягин долго рассматривал кусочек и вдруг спросил:
— Ты уверен? Это плутоний?
Вопрос был вполне законен. Раньше такого материала у нас не видели, и «по внешности» определить — плутоний ли это — было невозможно.
Курчатов приступил к непосредственной подготовке взрыва плутониевой бомбы. Приближался момент решающего испытания.
Этот взрыв — не просто демонстрация небывалой мощи атомного оружия. Это и научный эксперимент, который многому должен научить и конструкторов, и физиков, и военных стратегов. Поэтому к испытанию готовятся капитально — строится настоящий город с домами разного типа, чтобы оценить влияние взрывной волны, в зоне взрыва расставляют танки и артиллерийские орудия, размещают животных. А за много километров от полигона, где должен произойти взрыв, строится укрытый командный пункт, устанавливаются приборы, которые помогут физикам оценить параметры взрыва. Много проблем — от отказа некоторых приборов до неподходящей погоды — возникали перед Курчатовым и Завенягиным, непосредственно руководившими подготовкой. Наконец, все было готово. Приказом Курчатова испытания назначены на 7.00 утра 29 августа 1949 года.
Именно в этот момент физики, представители Верховного командования Советской Армии, руководители партии и правительства, присутствовавшие на испытаниях, впервые увидели уходящий в стратосферу гигантский гриб атомного взрыва. Курчатов не выдержал напряжения — он бросился к кому-то на шею и зарыдал...
...Задание партии выполнено, страна получила надежное оружие для отпора любому агрессору.
Но не дано было Курчатову теперь расслабиться и отдохнуть — новые задачи, не менее сложные, встали перед возглавляемым им коллективом ученых. У Советского правительства появились данные о том, что в Соединенных Штатах готовится во много раз более мощное оружие — водородная, термоядерная бомба.
...И опять жизнь И. В. Курчатова приобрела лихорадочный темп — снова полигон, снова сверхтщательная, не упускающая ни одной мелочи, подготовка испытания, еще более сложного, чем первый атомный взрыв, — ведь расчетчики утверждали, что сила взрыва возрастет в тысячи раз.
Под утро 12 августа 1953 года, еще до восхода солнца, над полигоном раздался сокрушительный взрыв первой в мире термоядерной бомбы.
Предоставим слово участнику испытаний:
«...Создавшие бомбу ученые, конструкторы, рабочие, тысячи других участников увидели с безопасного расстояния всепроникающий ослепляющий свет...
Выждав время, необходимое для спада радиоактивности, на место взрыва выезжают в танках медики и биологи. Получив от них сведения об уровне активности в разных местах, к эпицентру направляются Курчатов, Завенягин, солдаты, офицеры, научные работники, ведущие измерения.
На месте металлической башни, где была снаряжена водородная бомба, — громадная воронка. Башня уничтожена вместе с бетонным основанием. Весь металл испарился. Почва вокруг превратилась в спекшуюся стекловидную массу, желтую, испещренную трещинами, покрытую оплавленными комками. Чем дальше от эпицентра, тем повреждений меньше, тем тоньше желтая оплавленная корка под гусеницами танков, еще дальше — обугленная земля и, наконец, сохранившаяся трава. И в этой траве изумленные зрители видят беспомощных птиц. Свет разбудил их, они взлетели, но излучение спалило им крылья...
Приборы записали все, что надо было, о взрыве. Разрушенные и отброшенные танки, орудия, опрокинутый паровоз, снесенные взрывной волной бетонные стены, сожженные деревянные постройки — все, что было приготовлено на полигоне для контроля, подтвердило точность сделанных расчетов. Взрыв первой в мире водородной бомбы прошел успешно.
Разбита не только атомная монополия США. Развеян миф о превосходстве американской науки».
Снова обратимся к воспоминаниям А. П. Александрова: «Когда Игорь Васильевич вернулся после этих испытаний в Москву, я поразился каким-то его совершенно непривычным видом. Я спросил, что с ним, и он ответил: «Анатолиус! Это было такое ужасное, чудовищное зрелище! Нельзя допустить, чтобы это оружие начали применять». Он глубоко переживал ужас, охвативший его, когда он осмыслил результат испытаний. Он стал рассуждать о запрете атомного оружия, о мирном использовании атомной энергии».
...Только через полгода, в марте 1954 года, смогли американцы повторить достижение советских ученых.
Усилиями советских физиков, рабочих и инженеров было создано могучее оружие, организовано его производ-водство. Границы страны надежно защищены. Курчатов мог теперь, наконец, вернуться к тем вопросам, которые волновали его еще задолго до войны — мирному использованию атомной энергии.
Работы по мирной атомной энергетике «потихоньку», без шума, Бее это время велись. Еще в 1947 году Курчатовым была организована лаборатория в небольшом поселке Обнинске, расположенном между Москвой и Калугой. На месте нынешнего огромного Физико-энергетического института тогда были дощатые бараки, случайные здания, приспособленные под лаборатории, непролазная грязь под ногами в период долгих осенних дождей.
Энтузиасты мирного атома работали в тяжелейших условиях, приближая то время, когда название их города узнает весь мир. Коллектив института, которым руководил Д. И. Блохинцев, в начале 50-х годов разработал проект атомной электростанции. Сооружается она очень быстро, скоро все будет готово к пуску.
На последние недели перед пуском Курчатов переезжает в Обнинск. Снова вникает он во все детали невиданного сооружения. Здесь в центре внимания — вопросы радиационной безопасности, ведь станция расположится в густонаселенном районе, на ней будут работать много людей, а еще больше приедут, наверное, взглянуть на первенца энергетики будущего.
Наконец, первый оборот турбины, первое движение стрелок на приборах пульта управления. 27 июня 1954 года первая в мире атомная электростанция вступила в строй. (Интересно, что великий фантаст Уэллс назвал именно 1954 год как год, когда, по его мнению, появятся атомные станции!)
30 июня 1954 года ТАСС сообщило: «В настоящее время в Советском Союзе усилиями ученых и инженеров успешно завершены работы по проектированию и строительству первой промышленной электростанции на атомной энергии полезной мощностью 5000 киловатт».
Не все поняли важность этого первого шага. Некоторые считали первую атомную дорогостоящей игрушкой физиков.
Но Курчатов видел далеко — в небольшом здании Обнинской станции он представлял уже контуры будущих гигантов атомной энергетики — Кольской, Ленинградской, Белоярской, многих других могучих атомных электростанций.
Начинается эпоха мирного атома. Давний друг Курчатова А. П. Александров приступает к разработке судовых атомных двигателей для ледоколов и подводных лодок. Проектируются новые реакторы для энергетики — водо-водяные, где вода — и замедлитель нейтронов, и теплоноситель, реакторы-размножители на быстрых нейтронах.
И. В. Курчатов в эти годы — уже трижды Герой Социалистического Труда, член президиума Академии наук СССР, избран в Верховный Совет СССР, его имя известно всей стране. И в науке он снова на самом передовом рубеже — увлекся проблемой управляемого термоядерного синтеза, обузданием термоядерного взрыва.
Еще в начале 50-х годов теоретики по его заданиям провели расчет условий, при которых могут сливаться атомы водорода, рождая в результате реакции солнечный газ гелий и гигантские количества энергии. Курчатов понимал, что лишь на пути овладения термоядерной энергией лежит кардинальное решение вопроса преодоления вечного энергетического голода. В Институте атомной энергии строятся первые экспериментальные установки.
В декабре 1955 года Курчатов собирает Всесоюзное совещание по управляемым термоядерным реакциям. М. А. Леонтович докладывает о достижениях в области теории «термояда», как называл проблему Игорь Васильевич, Л. А. Арцимович — о проведенных экспериментах.
Борьба за мирный атом, за атомное разоружение становится главной заботой Игоря Васильевича. Он понимает, что объединение усилий ученых всего мира для решения атомных проблем намного ускорило бы прогресс и ядерной физики, и ядерной энергетики. Засекречивание работ физиков в мире, разделенном на враждебные лагеря, препятствует совместной работе ученых. Курчатов решает войти в правительство со смелым и благородным предложением — рассекретить работы по управляемым термоядерным реакциям. Для этого имеется благоприятный повод — советская правительственная делегация, в состав которой входит и Курчатов, отправляется в Англию. В программе — посещение атомного центра в Харуэлле. Игорь Васильевич просит разрешить ему выступить в Харуэлле с большим докладом о советских исследованиях в области термоядерного синтеза, до этого абсолютно засекреченных.
Правительство одобрило предложение Курчатова, и он приступил к подготовке доклада.
Уже после смерти Курчатова известный английский ученый Д. Кокрофт вспоминал: «В апреле 1956 года про=-изошло знаменательное событие — визит в Англию правительственной делегации СССР, в составе которой был И. В. Курчатов. Я не встречал И. В. Курчатова прежде. На меня произвели большое впечатление его живой ум и страстность разговора о сотрудничестве в области атомной энергии. У нас была очень оживленная дискуссия на ступеньках клуба «Атенеум», где в своих предложениях И. В. Курчатов шел так далеко, что я не мог ответить взаимностью и не имел никаких представлений о том, как продолжить эту дискуссию. Он предложил прочесть лекцию в Харуэлле, и я согласился договориться об этом».
25 апреля 1956 года ученые Великобритании, собравшиеся на лекцию Курчатова в Харуэлле, были поражены: советский гость рассказывал о работах, которые были строжайше засекречены и в Англии и в США. Он спокойно говорил о термоядерной реакции в газовом разряде, о термоядерном горючем — дейтерии, тритии. Рассказал советский академик и о методах удержания раскаленной до звездных температур плазмы в «сосудах» из магнитных силовых линий и о том, что советским ученым удалось разогреть плазму до миллиона градусов.
Внимательнейшим образом слушали и тщательно записывали пораженные английские ученые. Высокий чернобородый оратор задал работу и журналистам. Такой сенсации они не ожидали.
Не знали, как себя вести, и физики. Газета «Дейли мейл» писала в те дни, что «в течение пяти часов после лекции И. В. Курчатова английские атомщики в Харуэлле звонили по телефону в свой лондонский центр и резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, чтобы выяснить, можно ли выступить с официальным английским заявлением в этой области». Газета добавляла, что никаких комментариев не последовало — английским специалистам нужно было несколько дней для оценки сведений, сообщенных в докладе руководителя советской атомной программы.
В комментарии агентства Рейтер говорилось, что английские ученые ожидали, что Курчатов будет «выкачивать» из них информацию, а вместо этого «он сказал, что им следует делать».
Доклад Курчатова поставил английское правительство в сложное положение. Работы по термоядерным исследо- ваниям рассекречивать не хотелось, но и на советский жест доброй воли приходилось ответить.
На приеме, состоявшемся вскоре после лекции, английский премьер-министр Г. Макмиллан сообщил И. В, Курчатову, что и советская делегация уедет из Англии не с пустыми руками — английские ученые готовы раскрыть советским идею атомного самолета. Однако Курчатов спокойно ответил на это, что наши ученые уже давно занимаются разработкой атомного самолета ,(эта идея оказалась нежизнеспособной из-за несовместимости требований малого веса и необходимости тяжелой радиационной защиты).
На митинге после возвращения на Родину Курчатов заявил: «С разрешения партии и правительства я доложил на заседании английских физиков о некоторых работах Академии наук по вопросам развития атомной энергетики в СССР и о возможности создания термоядерных реакций в газовом разряде. Я счастлив тем, что правительство моей страны проявило благородную инициативу и первым в мире решило снять секретность с этих работ». В августе 1956 года — новая советская инициатива: на симпозиуме по космической электродинамике, происходившем в Швеции, о последних советских достижениях в области термоядерного синтеза рассказали во всеуслышание Л. А. Арцимович и И. Н. Головин.
Лишь через год решению СССР о снятии секретности с работ по термоядерному синтезу последовали США и Англия.
И вот что выяснилось: разделенные непреодолимыми барьерами секретности, физики трех стран — СССР, США и Англии — пришли к одному и тому же выводу: единственная возможность удержать плазму и не дать ей охладиться — использование магнитного поля. Невидимое, неосязаемое, оно прочной сетью силовых линий будет держать плазму вдали от стенок любого сосуда, которые она могла бы испепелить. Выяснилось также, что физики этих стран не только разработали однотипные установки, но и получили на них примерно одинаковые параметры плазмы. Более того, жаргонные названия установок также оказались одинаковыми!
Начался широкий международный обмен идеями, делегациями ученых. Курчатов нередко принимает в Институте атомной энергии иностранных гостей. Вот и сейчас он готовится принять весьма представительную делегацию ученых, прибывших на конференцию по физике высоких энергий в Москву...
Однако гигантское напряжение, в котором Курчатов прожил почти пятнадцать лет, не могло не дать знать о себе — на несколько месяцев тяжелая болезнь приковала его к постели. Только через полгода приступает он к работе, но следовать предписаниям врачей не в его характере. Он снова работает на износ, и в феврале 1957 года — второй удар. Теперь уже только в декабре смой вернуться Курчатов к своей работе. Он по-прежнему все свое внимание уделяет мирным термоядерным реакциям. Под его руководством строятся экспериментальные установки «Огра» и «Токамак» в Москве, «Альфа» в Ленинграде. Он — горячий сторонник запрещения атомного оружия; он лично инструктирует делегацию экспертов по обнаружению ядерных взрывов, отправляющихся в Женеву на международную конференцию по мирному использованию атомной энергии.
Свое выступление на XXI съезде КПСС Курчатов посвятил запрещению испытаний атомного и водородного оружия и управляемым термоядерным реакциям.
Незадолго до смерти, выступая на очередной сессии Верховного Совета СССР, он говорил: «Мы надеемся, что стремление народов к миру победит, что в ближайшее время между заинтересованными сторонами будет заключено соглашение (при соответствующем контроле) о прекращении испытаний ядерного оружия повсеместно и на вечные времена... Совместная работа над увлекательными, сложными и глубокими проблемами современной атомной науки и техники, сулящая радостные перспективы счастливой жизни людей, объединит, как мы надеемся, усилия ученых двух великих стран мира и поможет им найти средства ускорить решение проблемы ядерного разоружения».
О благе своего народа, о благе всех людей мира думает в последние дни своей жизни Игорь Васильевич. Где-то в эти дни у него выдаются свободные минуты, и он с упоением слушает концерт классической музыки. Первый сотрудник Лаборатории № 2 академик И. К. Кикоин вспоминает, что в том концерте, последнем, который слышал Курчатов, исполнялся «Реквием» Монарта.
: Ни на день тяжело больной Курчатов не снижает своей активности. В конце января 1960 года он едет в Харьков к своему коллеге и другу К. Д. Синельникову, потом обсуждает в Киеве с руководителями республики перспективы развития физики на Украине. 30 января Игорь Васильевич уже в Москве, он докладывает в ЦК КПСС о планах работ по термоядерной энергетике.
3 февраля он обсуждает проблемы термоядерных исследований с П. Л. Капицей, 4-го — уточняет с Б. Е. Патоном вопросы сварки конструкций вакуумных камер «То-камаков», 5-го — докладывает руководству Академии об итогах поездки в Харьков, 6-го — вместе с академиком Л. И. Седовым приходит на «Огру» и просит собеседника подумать о турбулентности плазмы...
В воскресенье, 7 февраля, Игорь Васильевич едет в подмосковный санаторий навестить своего старинного друга Ю. Б. Харитона. Они выходят прогуляться в заснеженный сад, чтобы ? скоротать время в ожидании спешащих из Москвы В. С. Емельянова и Д. В. Ефремова. Присаживаются на скамейку...
Внезапно Курчатов замолк...
Вызванные врачи констатировали смерть. Спазм навсегда остановил сердце выдающегося ученого, крупного государственного деятеля, руководителя советской атомной науки, убежденного борца за мир.
Тысячи соратников Курчатова, москвичей, приезжих из разных уголков страны прошли через Колонный зал Дома союзов в скорбные дни, когда страна прощалась со своим преданным сыном. Урна с его прахом вмурована в Кремлевскую стену на Красной площади.
Подвести итог его героической жизни лучше всего можно его же словами:
«Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой Страны Советов. Я глубоко верю и твердо знаю, что наш народ, наше правительство только благу человечества отдадут достижения этой науки».
На посту директора Института атомной энергии И. В. Курчатова сменил академик А. П. Александров, который начиная с 1948 года вплотную занялся проблемами постройки ядерных реакторов самых различных типов. Именно здесь оказался наиболее ценным сплав редких его способностей крупнейшего физика-теоретика и одновременно
выдающегося инженера, талантливого организатора .и человека широкой общей культуры. Его руководству мы обязаны появлением в Советском Союзе гигантских атомных электростанций, многие из которых были и являются до сего времени самыми мощными и уникальными по конструкции.
Сегодня под руководством А. П. Александрова создаются атомные реакторы мощностью 440 тысяч, а затем — и миллион киловатт. Появились новые весьма экономичные реакторы РБМК-Ю00, прекрасно зарекомендовавшие себя в эксплуатации на Ленинградской, Курской и других атомных станциях нашей страны. Атомные реакторы были применены и для транспорта. Александров стал пропагандистом и инициатором идеи использования атомных Авигателей в ледокольном. флоте. В 1959 году было спущено на воду первое в мире надводное судно с атомным двигателем — атомный ледокол «Ленин». За ним последовали «Арктика» ич «Сибирь». В 1977 году ледокол «Арктика» осуществил беспримерный поход к Северному полюсу. Почти круглый год открыта навигация для этих атомных исполинов. Александров — один из тех, кому страна навсегда благодарна за ее отличный атомный подводный флот.
Невозможно перечислить широчайшую сферу практических промышленных, медицинских и научных применений, которые получила атомная энергия за то время, пока институтом руководит академик А. П. Александров.
В чем секрет того мощного влияния науки на практику, которое имеют исследования, проводимые в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова? В чем особенность этого института? Академик Е. П. Велихов отвечает:
— Я всю свою «научную жизнь» провел в стенах Института атомной энергии имени И. В. Курчатова. С одной стороны, это, конечно, совершенно уникальное научное учреждение, а с другой — тем не менее типичный отраслевой НИИ. Ядерная физика, атомная энергетика и термоядерный синтез — вот те три направления исследований, которые определяют его лицо. Одна из главных черт его коллектива — умение очень быстро откликаться на новые идеи. Чем только у, нас ни занимались: конструировали МГД-генераторы и создавали новые типы лазеров, изучали сверхпроводимость и исследовали генетические структуры. Здесь же получены фундаментальные результаты в области физики твердого тела...
Секрет достижения успеха при решении таких разноплановых задач не только в том, что у нас собраны талантливые исследователи, блестящие теоретики и виртуозы-экспериментаторы, но и в том, что в институте существуют прочные, формировавшиеся на протяжении десятилетий традиции научной работы. Прежде всего наши администраторы сами являются выдающимися учеными, которых не надо долго убеждать в ценности родившейся идеи. Попробуй-ка в другом месте получить деньги и оборудование, если от тебя требуют составлять планы исследовательской работы чуть ли не на десять лет вперед, да еще и со списком «достижений» в каждом квартале! У нас же, если твоя идея признана заслуживающей внимания, ты можешь спокойно работать. Но одновременно — и это еще одна характерная особенность институ-та — нужно ясно осознавать, что твой научный поиск, когда-то должен привести к реальному, внедрению. А оно хорошо «идет», если есть соответствующее конструкторское бюро и жизнеспособные инженерные коллективы, которые могут результаты твоего труда превратить в готовое изделие. И опять-таки в нашем институте эти внедренческие традиции тоже хорошо развиты.
Эти традиции Института атомной энергии имени И. В. Курчатова распространяются по стране вместе с новыми институтами, основанными на базе курчатовского. В Обнинске создан Физико-энергетический институт, в Меле-кессе — Научно-исследовательский институт атомных реакторов, в Москве — Институт теоретической и экспериментальной физики, в Дубне — Объединенный институт ядерных исследований. И все они — достойные продолжатели традиций научного исследования, заложенных И. В. Курчатовым и А. П. Александровым.
8
Как это часто бывает в физике, термоядерные исследования — сегодня, возможно, наиболее современное научное направление — имели довольно длинную предысторию. Первые термоядерные реакции, реакции синтеза были предложены еще Э. Резерфордом, М. Олифантом и П. Хартеком. Им удалось, столкнув дейтерий с дейтерием, получить тритий и протон одновременно с довольно большим (по расчету) выделением энергии. Резерфорд, однако, категорически отвергал идею практического использования этой реакции, даже со временем.
В 30-х годах А. А. Власов и Л. Д. Ландау заложили основы теории «идеального вещества» — полностью ионизированной плазмы. Ими была решена теоретическая задача, интересная прежде всего тем, что, когда во взаимодействие вступают полностью ионизированные частицы, оно существенно упрощается, определяясь лишь законом Кулона.
Кое-что еделали и экспериментаторы. В 1935 — 1938 годах появились описания опытов Г. В. Спивака, Э. М. Рейхруделя, В. А. Фабриканта и Г. Н. Рохлина. Они наблюдали интересное явление: отжатие плазмы от стенок сосудов под действием магнитного поля. На это открытие тогда почти не обратили внимания, не оценили его принципиального значения.
В 1942 году, в уединенной лаборатории на острове Хьюэмель при поддержке аргентинского правительства проводил «термоядерные эксперименты» немецкий физик Р. Рихтер. А в 1951 году аргентинский президент Перон объявил, что 16 февраля того года Рихтер, наконец, осуществил управляемую термоядерную реакцию.
На самом деле «настоящие» термоядерные исследования начались где-то в J950 году одновременно в СССР, США и Великобритании. В конце лета этого года в лабораторию И. Е. Тамма в ФИАНе прислали на отзыв изобретение. В заявке речь шла об осуществлении лабораторного синтеза водорода. В процессе получения газа этим способом была стадия, в которой главным действующим лицом становилась плазма. Но она должна была где-то храниться. А вот такого сосуда в установке, предложенной автором, не имелось. То есть, конечно, некий сосуд был, но он оказывался непригодным, ибо плазма с гигантской температурой тотчас бы его испепелила — из какого бы земного или неземного вещества он сделан ни был. Сотрудники лаборатории Тамма отклонили заявку, но она заставила их задуматься над проблемой термоизоляции плазмы от стенок сосуда. Для осуществления термоядерной реакции нужно было как-то отжать плазму от стенок. То есть сделать как раз то, что когда-то, еще до войны, удалось группе московских физиков.
Осенью 1950 года в лаборатории Тамма рождается простая и изящная идея — изолировать плазму от стенок сосуда, где она содержится, магнитным полем. В этом «магнитном сосуде» можно было бы осуществить и реакции синтеза — слияния легких ядер в более тяжелые с гигантским выделением энергии.
Идея была «подброшена» Курчатову, и он ею необычайно увлекся. Молодой физик В. Л. Гинзбург сразу же загорелся желанием создать теорию плазмы — написал две большие статьи, суммирующие с единых позиций все известное о плазме и содержащие первоначальные расчеты главных процессов в ней.
Курчатов решил начать новые работы — по мирному термоядерному синтезу — с 1 января 1951 года.
Чем объяснялся столь повышенный интерес к проблеме управляемого термоядерного синтеза, сохраняющийся до сего времени?
Сейчас реакцию деления урана можно считать хорошо освоенной, и стоимость электроэнергии атомных электростанций становится сравнимой со стоимостью энергии электростанций тепловых. Но запасы радиоактивных элементов, способных к делению, на Земле не безграничны. А вот воды — топлива для реакции синтеза — на Земле сколько угодно. Академик И. Е. Тамм как-то подсчитал, что из дейтерия, содержащегося в 1 л воды, можно получить столько же энергии, сколько из 350 л бензина. Таким образом, с точки зрения энергетики четыре земных океана равноценны 1400 океанам бензина. Даже при стократном увеличении потребления энергии такого запаса хватит человечеству на миллиарды лет.
Очень важно и то, что отходы обычных атомных электростанций радиоактивны. В отличие от этого, реакции синтеза, как иначе называют термоядерные реакции, являются «чистыми» и не отравляют окружающую среду.
Однако овладеть областью управляемых (именно управляемых: ведь водородная бомба, в которой осуществляется термоядерный синтез, — пример давно осуществленной, но неуправляемой реакции) термоядерных реакций оказалось гораздо сложнее, чем эта предполагалось вначале. Одна из серьезных трудностей, которую нужно было преодолеть, — это «выгекание» плазмы из «магнитных бутылок», в которых ее содержат, неустойчивость плазмы.
Ясно, что все осложнения, связанные с неустойчивостью плазмы, не являются непреодолимыми. Они не могут заблокировать путей к термоядерному реактору.
В 1975 году в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова вошла в строй установка «Токамак-10», обладающая чрезвычайно обнадеживающими характеристиками.
Исключительно интересной оказалась для специалистов и созданная в Институте атомной энергии термоядерная установка «Токамак-7», по многим параметрам близкая установке «Токамак-10», но отличающаяся от нее и от всех других термоядерных установок одной особенностью — обмотки ее магнитов выполнены из сверхпроводника.
. Глубокое видение перспективы А. П. Александровым, еще в 60-х годах решившим резко нарастить в Институте атомной энергии мощности по производству жидкого гелия, поставить это производство на промышленную основу, позволило создать уникальную систему, равной которой нет в мире. А магнитная система в «То-камаке-15», для которой строится самый крупный в мире сверхпроводящий магнит, будет сохранять внутри себя энергию, в 50(!) раз большую, чем в установке «Токамак-7».
В «Токамаке-15» параметры плазмы уже будут соответствовать тем, которые должны существовать в термоядерном реакторе. Созданию всех этих систем предшествовал и способствовал блестящий цикл теоретических работ сотрудников Института атомной энергии имени И. В. Курчатова — академика Р. 3. Сагдеева, доктора физико-математических наук А. Г. Галеева, академика Б. Б. Кадомцева и его учеников по магнитному удержанию высокотемпературной плазмы. Запроектированная установка «Токамак-20» будет обладать параметрами, удовлетворяющими «критерию Лоусона», что означает до: стижение режима управляемой термоядерной реакции. Мы вступим, по выражению академика Л. А. Арцимовича, в «термоядерное Эльдорадо». И все же нельзя забывать о том, что еще в 1958 году, на II Международной конференции по мирному использованию атомной энергии в Женеве предполагалось, что до осуществления термоядерного синтеза рукой подать. Казалось, вспоминал Л. А. Арцимович, что нужно пройти всего лишь небольшой путь между двумя точками; потом оказалось, что надо не пройти, а проехать на _ велосипеде; потом — что проехать на велосипеде, но по канату; потом — что велог сипед одноколесный; потом — что ехать нужно с завязанными глазами; и наконец — задом наперед. Задачи овладения горячей плазмой все время усложняются...
Результаты экспериментов на установках типа «Тока-мак» чрезвычайно обнадеживающие, и подобные системы, по-видимому, будут широко применяться в дальнейших исследованиях.
Стоимость электроэнергии, получаемой от термоядерных электростанций, будет очень низкой из-за дешевизны исходного сырья (воды). Настанет время, когда электростанции начнут вырабатывать буквально океаны электроэнергии. С помощью этой электроэнергии станет возможным, быть может, не только кардинально изменить условия жизни на Земле — повернуть вспять реки, осушить болота, обводнить пустыни, — но и изменить облик окружающего космического пространства — заселить и «оживить» Луну, окружить Марс атмосферой.
Л. А. Арцимович писал: «Вряд ли есть какие-либо сомнения в том, что в конечном счете проблема управляемого термоядерного синтеза будет решена. Природа может расположить на пути решения этой проблемы лишь ограниченное число трудностей, и после того как человеку, благодаря непрерывному проявлению творческой активности, удастся их преодолеть, она уже не в состоянии будет изобрести новые. Неизвестно лишь, насколько затянется этот процесс...»
Программа «Токамаков» успешно развивается. После смерти Л. А. Арцимовича научное руководство ею осуществляет академик Е. П. Велихов.
Пока «Токамаки», идея которых была предложена М. А. Леонтовичем и В. Д. Шафрановым и первый из которых был построен под руководством Н. А. Явлинского, — наиболее явные фавориты в термоядерной гонке. Практически все перспективные системы, и в том числе крупнейшие термоядерные установки мира — ПДХ, ПЛТ в Принстонском университете (США), установки ФРГ и Японии, а также международная система «Интор», строятся на этом принципе. Однако, как показала X Европейская конференция по управляемому термоядерному синтезу, проходившая в Москве осенью 1981 года, это — не единственный вариант. Перспективными следует признать идеи, предложенные физиками ФИАНа. Уже в апреле 1968 года они впервые в мире получили нейтронный импульс из плазмы, нагреваемой излучением лазера. Недаром говорят, чго наиболее яркие открытия происходят на стыках научных областей. Предложенная Н. Г, Басовым и О. Н. Крохиным идея — осуществлять с помощью лазера термоядерные микровзрывы для получения энергии — так называемый ЛTC — лазерный термоядерный синтез — переживает сейчас период бурного развития. Проведение в Москве в 1978 году XII Европейской конференции по взаимодействию лазерного излучения с веществом и лазерному термоядерному синтезу еще раз подтвердило, что Москва — один из ведущих мировых центров и в области термоядерных, и в области лазерных исследований.
Интересны идеи «гибридного» реактора, разрабатываемого совместно физиками ФИАНа под руководством академика Н. Г, Басова и Института высоких температур Академии наук СССР под руководством академика А. Е. Шейндлина. Это — перекресток атомной и термоядерной энергетики. В реакторах используется деление тяжелых ядер, происходящее под действием нейтронов, получаемых от термоядерных микровзрывов.
Московские физики — это один из наиболее передовых отрядов исследователей, сегодня практически вплотную подошедших к решению главной научно-технической задачи современности — мирному использованию термоядерной энергии.
ГЛАВА XIII
ВЕЛИКИЙ СИНТЕЗ
1
Последний день последнего года войны означал для Н. Г. Басова конец его воинской службы. Он был демобилизован. Перед молодым офицером могла бы встать проблема — кем быть теперь, но этот вопрос был решен раньше. Он должен заниматься физикой, причем физикой наиболее современной.
Как-то случайно, в трамвае, он краем уха услыхал о новом факультете Московского механического института — инженерно-физическом, на который производился необычный, «зимний», набор. Это как раз то, что нужно. Сдал документы в приемную комиссию и уехал домой, в Воронеж. Вызова на экзамены долго не было, Басов забеспокоился, приехал в Москву. Оказалось, что он опоздал. Абитуриенты, с которыми он сдавал документы, набирали очки на начавшихся уже экзаменах. После бурного объяснения в деканате Басов был все-таки допущен к конкурсу. Чтобы догнать остальных, все пришлось делать в головокружительном темпе. И вот сегодня сдана математика, завтра — химия, а затем — физика, русский. Абитуриент в гимнастерке уверенно берет один барьер за другим. Наконец, вывешиваются списки: Басов — студент нового факультета института.
...И сразу очутился он в новом для себя мире. Институт был необычным. Он создавался с целью сочетать глубокую теоретическую подготовку студентов с решением наиболее насущных практических задач. Преподаватели института — в основном блестящие теоретики — были в то же время связаны с важными конкретными практическими проектами. Читали лекции, вели семинары крупнейшие ученые Физического института имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР. Даже простое перечисление их имен способно поразить: И. Е. Тамм, впоследствии Нобелевский лауреат, Л. А. Арцимович, впоследствии руководитель советской термоядерной программы, академики И. К. Кикоин, М. А. Леонтович, М. Д. Миллионщиков...
Учиться было необычайно сложно, -но молодому воронежцу способностей, упорства и терпения было не занимать, и учился он блестяще, хотя условия жизни, прямо надо сказать, не слишком благоприятствовали.
Под общежитие заняли цех эвакуированного завода. Ходили, спотыкаясь о бетонные фундаменты вывезенных на восток станков. Для тепла прямо в цехе жгли костры, готовили нехитрую еду из продуктов, полученных по карточкам или выменянных на «профсоюзные талоны».
Все эти житейские сложности не имели, однако, ровно никакого значения, поскольку Басов понял, что он попал как раз туда, куда мечтал. Институт действительно был связан с самыми современными проблемами физики. Здесь готовили специалистов по радиолокационной технике для советской атомной программы, для создания современных ускорителей заряженных частиц. Тема дипломной работы Басова — «Работа циклотрона на режиме кратного резонанса». Руководителями назначены будущие академики М. А. Леонтович и А. М. Прохоров.
Для работы над дипломом надо было чаще бывать в ФИАНе: там был и ускоритель, и знаменитый теоретический семинар Тамма. И вот Басов, не прерывая учебы, становится сначала лаборантом, а затем инженером знаменитой на весь мир Лаборатории колебаний Физического института имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР, основанной Л. И. Мандельштамом и тогда возглавляемой М. А. Леонтовичем.
Нелегко было Прохорову заполучить Басова для работы в ФИАНе — ведь те годы отличались громадным спросом на физиков всех специальностей. За каждого выпускника инженерно-физического факультета шла борьба различных ведомств и институтов, порой необычайно влиятельных. А уж тем более стоило бороться за отличника Басова, прошедшего фиановскую школу, человека устойчивого, трудолюбивого, неунывающего, организованного, да еще и бывшего фронтовика! Пришлось Прохорову, говорят, не раз сходить в деканат, настаивая, чтобы его дипломника Басова направили именно в Физический институт Академии наук. Поговаривали потом, что для распределения Басова туда, куда следует, Прохоров пожертвовал инженерно-физическому факультету лабораторный синхротрон...
Мы помним, что дипломная работа Басова была посвящена ускорителю заряженных частиц. Речь шла о синхротроне, незадолго до того изобретенном В. И, Векслером. Но не сама проблема ускорения частиц, столь успешно решенная В. И. Векслером, интересовала Басова и Прохорова. Они пытались использовать синхротрон совсем по-другому. Их, если так можно выразиться, интересовал не столько сам синхротрон, сколько его «отходы производства».
Только что закончившаяся война сильно продвинула вперед методы радиолокации. Чем ближе к концу, тем более совершенными становились радиолокационные станции и укорачивалась длина рабочей волны. Это генеральная линия прогресса. Если в самом начале войны локаторы работали в метровом диапазоне волн, то уже к середине типичными стали дециметровые волны, а к концу — и сантиметровые. Чем короче волна, тем точнее нащупает луч радиолокатора невидимую опасность.
Однако сантиметровые волны несли с собой новые проблемы. Это была уже область СВЧ — сверхвысоких частот. Приборы уменьшались, а мощность и частоты их увеличивались. Размеры радиоламп приближались к длине излучаемой волны. Плотность энергии в радиолампах миллиметрового диапазона достигала столь значительных величин, что их уже становилось невозможно охлаждать, В поисках новых принципов генерации миллиметровых и более коротких волн физики обратились к совершенно новым, даже экзотическим, неизведанным еще устройствам...
Синхротрон — вот что привлекло внимание исследователей из ФИАНа. Этот остроумный ускоритель позволял резко повысить энергию частиц. Двигаясь по орбитам ускорителя, они излучали электромагнитные волны, причем доля этой энергии с ростом энергии ускорителя увеличивалась. Нельзя ли излученные ускорителем электромагнитные волны использовать в качестве рабочих волн радиолокаторов новых типов? Вот идея, которую хотели воплотить в жизнь Прохоров и Басов.
Они понимали, что ускоритель, построенный Векслером, — уникален. Он не может простаивать. Каждый час его рабочего времени обходится очень дорого, каждая минута его учтена. Экспериментировать на таком сверхзагруженном оборудовании неудобно. И Прохоров решает.. сам создать ускоритель. Ему удается достать магнит — от ускорителя другого типа, небольшого и уже давно «списанного». Он переделывает радиосхему, создает новую камеру. Самодельный синхротрон — вот ускоритель, на котором исследователи пробовали свои силы. Но хотя диплом был защищен Басовым на год раньше установленного срока, вывод из дипломной работы разочаровывал: ускоритель не годился как радиолампа для будущих радиолокаторов.
В 1950 году двадцативосьмилетний Басов оканчивает институт. Его оставляют в аспирантуре по кафедре теоретической физики Московского инженерно-физического института. Да, теперь это уже не инженерно-физический факультет Механического института, а самостоятельный институт, решающий важные для страны задачи.
Было как раз то время, когда молодые физики Лаборатории колебаний ФИАНа приступили под руководством
А. М. Прохорова к разработке совершенно нового научного направления — молекулярной спектроскопии.
После неудачи с синхротроном Басов с большим увлечением, скорее даже — с энтузиазмом занялся спектроскопией.
Словосочетание «молекулярная спектроскопия», по существу, означает, что, исследуя спектры поглощения молекул, можно расшифровывать их строение и свойства. Прибавление к слову «спектроскопия» слова «радио» означает, что молекулы облучаются радиоволнами.
Особый интерес к теме «подогревался» тем обстоятельством, что улучшающиеся при укорочении волн свойства радиолокаторов внезапно вновь ухудшались по мере приближения длины волны к сакраментальной величине 1,25 см. Большинство сходилось на том, что этот таинственный «провал» происходит из-за рассеивания радиоволн на молекулах каких-то газов, находящихся в атмосфере, — возможно даже, водяных паров. (Впоследствии оказалось, что «виноваты» тут молекулы аммиака, того самого газа, который работал в первых квантовых генераторах, — здесь еще раз можно отметить глубину связей между, казалось бы, разрозненными явлениями, тонкий намек природы, раскрывающей один из важных своих секретов. Связи в конце концов были замечены, намек разгадан.)
Идея исследователей необычайно изящна и смела — нельзя ли приспособить к генерации радиоволн именно молекулу: раз она поглощает радиоволны, стало быть, она может и излучать их! Если бы эту идею удалось осуществить, в руки человека попал бы удивительный радиогенератор, не подверженный поломкам, старению, всегда работающий ровно и устойчиво. Учитывая квантовый характер процессов излучения, следовало бы говорить о квантовом генераторе.
Надо сказать, что эта идея имела под собой весьма солидное теоретическое обоснование.
Пытаясь произвести новый вывод формулы Планка, желательно без квантов, к которым он относился с некоторым подозрением, Эйнштейн задумался над проблемой: что произойдет, если частота внешнего электромагнитного поля совпадет с частотой спектральных линий атомов? Опираясь на законы термодинамики, он был вынужден предположить, что они могут быть соблюдены лишь в том случае, если при облучении атомов извне сами они тоже начнут излучать. Таким образом Эйнштейн разделил процессы спонтанного и индуцированного излучения,
Предсказания Эйнштейна и Дирака, относящиеся к све-ту, к оптике, квантам, как оказалось, имеют самое прямое касательство к абсолютно классическим, «волновым», вполне радиотехническим поискам наших героев.
Как мы говорили, Н. Г. Басов и А. Н. Прохоров работали в области микроволновой радиоспектроскопии. Чтобы повысить чувствительность спектрометров и их разрешающую способность с целью изучить тонкую и сверхтонкую структуру молекулярных спектров, нужно было как можно больше сузить линию поглощения молекул. У Басова и Прохорова возникла радикальная идея добиться этого путем изменения самой сущности изучаемого процесса, превратив его из поглощения в излучение. Другими словами, Басов и Прохоров решили превратить поглощающую радиоволны молекулу в молекулярный генератор.
Впервые об этой сногсшибательной идее их коллеги узнали в мае 1952 года, когда состоялась Общесоюзная конференция по радиоспектроскопии. Затем эта же мысль прозвучала в докладе о применении молекулярных пучков в радиоспектроскопии на Всесоюзном совещании по магнитным моментам ядер, которое состоялось в январе 1953 года. В сообщениях Басова и Прохорова 1952 — 1953 годов были суммированы результаты теоретического анализа эффектов усиления и генерации электромагнитных излучений квантовой системы и разработана физика этих процессов.
Над такими же проблемами, как потом оказалось, размышляли и в США. Еще в 1951 году на Симпозиуме по субмиллиметровым волнам в Иллинойском университете выступил А. Нетеркот, который, между прочим, упомянул об идеях, разрабатывавшихся его коллегой Ч. Таунсом и связанных с новыми подходами к генерации и усилению радиоволн. В декабре того же года Ч. Таунс описал эти идеи в секретном отчете лаборатории излучений Колумбийского университета. В 1953 году Ч. Таунс был приглашен в Японию инженерами-электриками. Там он прочел на совместном заседании двух электротехнических обществ лекцию на тему «Физические и технические применения субмиллиметровых волн». Лекция и последовавшие вопросы были записаны на магнитофон, переведены на японский язык и затем опубликованы в журнале японского общества электросвязи. Отвечая на один из вопросов Таунс сказал, что последовательное уменьшение волны приводит к тому, что размеры резонаторов, применяемых в микроволновом диапазоне, «уменьшаются уже настолько, что становится необходимым использовать весьма миниатюрные резонансные цепи, естественно приводящие к молекулам и электронам...»
Таким образом, уже в начале 50-х годов Н. Г. Басовым и А. М. Прохоровым в ФИАНе и Ч. Таунсом в Ко; лумбийском университете была независимо сформулирована важнейшая идея использования индуцированного излучения на практике и открыта принципиальная возможность постройки молекулярного усилителя и генератора.
Устроены эти приборы были, на удивление, просто: источник молекулярного пучка, сортирующая и фокусирующая системы, объемный резонатор, волновой вывод. Все это — в глубоком вакууме. Пучок молекул аммиака, поступающий из источника, под действием сильного и неоднородного электрического поля между пластинами конденсатора претерпевает серьезные изменения. Слабо возбужденные молекулы выбрасываются из пучка, в то время как сильновозбужденные фокусируются на оси конденсатора и узким пучком поступают в объемный резонатор, представляющий собой металлическую полость, обычно прямоугольной формы. Резонатор настроен точно на частоту «инверсного перехода». Именно здесь под действием радиоволны длиной 1,25 см и происходит «сбрасывание» молекул с верхнего энергетического уровня на нижний и вследствие этого — излучение радиоволны. На выходе генератора можно Наблюдать радиоколебания необычайно высокой стабильности и частоты спектрального состава.
Статья Н. Г. Басова и А. М. Прохорова «Применение молекулярных пучков для радиоспектроскопического изучения вращательного спектра в молекулах» поступила в редакцию «Журнала экспериментальной и теоретической физики» в начале 1954 года. В октябре того же года она вышла в свет. Начиная читать статью, поначалу думаешь, что речь пойдет о высокоточном радиоспектроскопе с большой разрешающей способностью и громадной чувствительностью. Однако дальше это впечатление быстро исчезает, ибо весьма знаменателен сам способ улучшения этих характеристик! «...Ширина спектральной линии, — пишут Н. Г. Басов и А. М. Прохоров, — может быть су щественно уменьшена, если наблюдать поглощение микроволн не в газе, как это делается в радиоспектроскопах, а в молекулярном пучке...» Заканчивается статья описанием нового прибора, с помощью которого можно было осуществлять генерацию радиоволн путем индуцированного излучения, то есть молекулярного генератора.
С одной стороны, новый прибор — это «всего лишь» пучковый радиоспектроскоп, снабженный устройством для сортировки молекул, С другой, это — совершенно новый по принципу действия физический прибор — молекулярный генератор. Вот знаменательная фраза из этой статьи: «Применение сортировки молекул по вращательным состояниям дает возможность изучить не только спектры поглощения молекул, но и спектры излучения молекул, так как из пучка по желанию можно отсортировать молекулы, находящиеся в нижнем или в верхнем состоянии рассматриваемого перехода. Используя молекулярный пучок, в котором отсутствуют молекулы в нижнем состоянии рассматриваемого перехода, можно сделать «молекулярный генератор». Как видно, здесь, в общедоступном журнале, впервые прямо и недвусмысленно изложена важнейшая мысль о создании генератора. До этого в открытой литературе таких идей никто не высказывал.
Постепенно идея молекулярного радиоспектроскопа отходит на второй план, а на первый выступает квантовый генератор. В ноябре 1954 года в журнал «Доклады Академии наук СССР» поступила статья Басова и Прохорова «Теория молекулярного генератора и молекулярного усилителя мощности», где было дано исчерпывающее определение нового устройства. «Молекулярным генератором, — пишут авторы, — мы называем автоколебательную систему, использующую энергию, связанную с переходами между различными энергетическими уровнями». Здесь же приведена и разработка теории нового прибора.
Статья была опубликована в январе 1955 года, а в мае того же года в редакцию журнала «Физикл ревью» поступила и в августе напечатана статья Дж. Гордона, X. Цангера и Ч. Таунса «Мазер — новый тип микроволнового усилителя, стандарта частоты и спектрометра». В ней описываются принцип действия прибора и его конструкция. Дано краткое название нового прибора, которое быстро привилось: мазер. Сообщено также о действующем молекулярном генераторе на аммиаке. Авторы ссылаются на работы Басова и Прохорова.
1 Слово «мазер» — это аббревиатура английского выражения Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, что озна-
Новое устройство обладало уникальными характеристиками. Прежде всего, частота его излучения была необычайно стабильной. Это позволяло создать на его основе спектроскоп с очень высокой разрешающей силой, а также использовать этот новый прибор в качестве стандарта частоты, своеобразных атомных часов.
В 1959 году Н. Г. Басову и А. М. Прохорову была присуждена Ленинская премия «за открытие нового принципа генерации и усиления электромагнитного излучения на основе квантовых систем». Через пять лет Н. Г. Басова, A. М. Прохорова и Ч. Таунса назвали и Нобелевскими лауреатами.
3
...Новое устройство — мазер — оказалось настолько интересным, что на некоторое время оно как бы заставило забыть о возможности использования молекулярных генераторов в оптическом диапазоне, то есть не для генерации радиоволн, а для генерации света, о которой писал Эйнштейн.
Наиболее драматические страницы предыстории квантовых генераторов связаны с работами московского физика B. А. Фабриканта. Он изучал оптические свойства газового разряда. В своей докторской диссертации 1939 года Фабрикант впервые прямо указывает, что, осуществив условие инверсии (сделав так, чтобы высокие уровни энергии молекул были более «населены», чем низкие), «мы получим интенсивность выходящего излучения большую, чем падающего».
Работа Фабриканта, опубликованная в 1939 году в трудах московского Всесоюзного электротехнического института, к сожалению, не привлекла внимания исследователей. Более того, сама защита им докторской диссертации в ФИАНе, на которой присутствовали крупнейшие советские физики, также никого не навела на мысль о возможности постройки генераторов или усилителей нового типа. Видимо, то, что предлагал Фабрикант, было слишком сложно, чтобы этим заниматься, особенно учитывая, что в правильности выводов Эйнштейна никто не сомневался. Практические же выгоды от применения этого устройств тогда невозможно было даже вообразить.
Теперь, по прошествии нескольких десятков лет, нашлось много охотников, претендующих на лавры первопроходцев. Так, американец Ф. Хоутерман опубликовал в 1960 году статью, в которой утверждает, что он, начиная с 1932 года, неоднократно обсуждал со своими друзьями, а именно В. Паули, Г. Копферманом, Л. Ландау, Ю. Ру-мером и другими крупными физиками, идею, связанную с созданием оптического квантового генератора. Это кажется маловероятным. Дело в том, что в 30-е годы Хоутерман жил в Советском Союзе и являлся редактором журнала «Совьет физик», издававшегося в Харькове, что существенно облегчало для него публикацию любой статьи по указанному вопросу. Он мог бы, в конце концов, вернуться к своей идее сразу после открытий Басова, Прохорова и Таунса.
Фабрикант и его группа, тем не менее, продолжали работы. Они велись урывками, в небольших островках времени, остающихся от учебной деятельности, от трудов по промышленному внедрению ламп дневного света...
Летом 1951 года в Министерство промышленности средств связи СССР поступила заявка на изобретение. Тогда Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР еще не существовало, и авторы обращались в соответствующие министерства. Заявка была подписана сотрудниками Московского энергетического института В. А. Фабрикантом, М. М. Вудынским и Ф. А. Бутаевой. Ее тема — «Новый способ усиления электромагнитного излучения ультрафиолетовых, видимого, инфракрасного и радиодиапазонов волн» — существенно расширяет взгляды Фабриканта 1939 года.
Во-первых, речь уже идет не только о световом диапазоне, но и о ультрафиолетовом, инфракрасном и радиодиапазоне. Во-вторых, обогатились методы получения инверсной заселенности: кроме резонансного возбуждения частиц ударом второго рода — возбуждение вспомогательным высокочастотным излучением и импульсным разрядом. Предложение было зарегистрировано 18 июня 1951 года.
Заявка ученых была всеобъемлюща, охватывала фактически все, что можно было впоследствии представить себе под термином «квантового усиления», как писалось в одном американском журнале. И все же она в силу трагического стечения обстоятельств не могла оказать ровно никакого влияния на развитие квантовых генераторов. Причина в том, что признали и опубликовали ее лишь в 1959 году, когда вся лазерная эпопея осталась уже позади. Свидетельство об открытии было выдано по материалам заявки лишь в 1964 году, то есть спустя 13 лет, уже Государственным комитетом по делам изобретений и открытий СССР. Это произошло в год, когда Н. Г. Басов, А. М. Прохоров и Ч. Таунс получали свои нобелевские медали — высшее международное отличие ученых.
К этому времени были разработаны и построены не только мазеры, но и лазеры — оптические квантовые генераторы.
В принципе казалось, что ничего сложного в постройке лазеров не было, поскольку свет — это те же электромагнитные колебания, что и радиоволны, использовавшиеся и получаемые в мазерах. Для создания квантового оптического генератора можно было бы в принципе использовать ту же конструкцию, что и для радиочастот, то есть готовую конструкцию мазера.
Главная трудность заключалась в том, что для оптических частот очень сложно создать резонатор. Пытаясь решить эту проблему, Н. Г. Басов летом 1957 года направляет в журнал «Радиотехника и электроника» статью, в которой он предлагает конструкцию молекулярного генератора вообще без объемного резонатора. А через год А. М. Прохоров предложил конкретное устройство для генерации и усиления волн короче одного миллиметра, В статье о молекулярном усилителе — генераторе на суб-миллиметровых волнах, опубликованной в 1958 году в «Журнале экспериментальной и теоретической физики», он рекомендует употребить в качестве резонатора два плоскопараллельных зеркала, то есть использовать, по существу, уже известный оптический интерферометр Фабри-Перо, который с тех пор стал называться резонатором открытого типа и получил широчайшее применение в лазерах — квантовых генераторах волн оптического диапазона. Тут же новый тип резонатора был исследован экспериментально.
Работа была проведена в ФИАНе А. М. Прохоровым и его сотрудниками. Подобный же тип резонатора для создания мазеров инфракрасного и светового диапазона ((фактически — лазеров) был предложен в работе А. Шав-лова и Ч. Таунса, опубликованной все в том же 1958 году в «Физикл ревью». В статье дана широкая панорама сведений о лазере, о его теории и возможных конструкциях..
И тут в дело вмешивается малоизвестный физик Г. Гоулд. Оказывается, он тоже работал над созданием лазера и, более того, был настолько предусмотрителен, что заверял у нотариуса каждую страницу своего лабораторного журнала. 13 ноября 1957 года Гоулд принес нотариусу девять страниц своего журнала, где была вчерне сформулирована идея создания таллиевого лазера. Заявка Таунса и Шавлова на оптический мазер была подана 30 июля 1958 года. 22 марта 1960 года им был выдан патент, несмотря на то что Гоулд подал в патентное ведомство встречную заявку на аналогичное устройство. Но Гоулд сделал это лишь 6 апреля 1959 года. Нотариально заверенные записи не помогли, и спор завершился в пользу того, кто первым обратился в Патентное бюро. Подобный вопрос возникал еще не раз. Спорить было из-за чего. Прбедивший становился нобелевским лауреатом, изобретателем лазера, проигравший оставался малозначащей фигурой в истории науки, примером неудачника, «мученика науки».
В Советском Союзе над созданием лазера работал ряд групп ученых. Не прекращала свою деятельность группа В. А. Фабриканта и Ф. А. Бутаевой. В 1957 году они предложили создать газовый лазер и провели с этой целью серию теоретических и экспериментальных исследований.
На следующий год Н. Г. Басов высказал идею использовать в квантовых генераторах и усилителях не твердые тела, не газы, а полупроводники. Еще через год Н. Г. Басов, Б. М. Вул и Ю. М. Попов публикуют работу, где отражены основные проблемы, связанные с созданием полупроводниковых лазеров. В 1959 году в журнале «Успехи физических наук» выходит обзор Н. Г. Басова, О. Н. Кро-хина и Ю. М. Попова, как бы подводящий итог первому этапу исследований квантовых генераторов и намечающий основные направления работ на будущее. В конце статьи авторы указывали, что «отсутствие принципиальных ограничений позволяет надеяться на то, что в ближайшее время будут созданы генераторы и усилители в инфракрасном и оптическом диапазонах волн».
Эти слова оказались пророческими. В конце 1960 года в английском журнале «Нейчур» была опубликована статья Т. Меймана, в которой рассказывалось о том, что, оптически возбуждая образец розового рубина, автор впервые получил на нем генерацию в оптическом диапазоне волн. Тут же начал бурно исследбваться вопрос о других возможных твердых телах для лазеров, например, кристаллах, стекловолокнах. Но оказалось, лишь один материал может успешно конкурировать с рубином — неодимовое стекло.
Вскоре под руководством Басова в Физическом институте имени П. Н. Лебедева Академии наук был создан газовый лазер на смеси неона и галлия, а затем и полупроводниковый лазер.
Наступила лазерная эра.
4
Открытие лазеров часто приводят как пример запоздало: го открытия. Действительно, теория этого явления — индуцированного излучения — была создана еще Эйнштейном. До Великой Отечественной войны лекции на эту тему читались в Московском государственном университете как само собой разумеющийся раздел курса оптики. Спокойно воспринял Ученый совет Физического института Академии наук СССР в 1939 году выводы докторской диссертации В. А. Фабриканта о возможности экспериментального подтверждения предсказаний ЭйнЩтёйна. Уверен: ность в реальности какого доказательства была, видимо, настолько велика й столь же’велики были очевидные экспериментальные трудности, что, похваДив диссертанта за хорошо разработанную теорию, никто из крупных ученых не заметил в словах «усиление излучения» намека на возможность использования совершенно нового явления, способного изменить облик науки и техники XX века...
Была подготовлена не только теория. Даже люди. Я имею в виду широкую аудиторию: разве можно забыть фантастический «зеленый луч» из «Войны миров» Уэллса?
Вспомните: «Вдруг сверкнул луч света, и светящийся зеленоватый дым взлетел над ямой тремя клубами, поднявшимися один за другим в неподвижном воздухе.
Этот дым (слово «пламя», пожалуй, здесь более уместно) был так ярок, что темно-синее небо наверху и бурая, простиравшаяся до Чертей, подернутая туманом пустошь, с торчащими кое-где соснами вдруг стали казаться совсем черными. В этот же миг послышался какой-то слабый шипящий звук... Языки пламени, ослепительный огонь перекинулись на кучку людей. Казалось, невидимая струя
ударила в них и вспыхнула белым сиянием. Мгновенно каждый из них превратился как бы в горящий факел — Почти бесшумная ослепительная вспышка света — и человек падает ничком и лежит неподвижно. От невидимого пламени загорались сосны, потрескивая, вспыхивал еухой дрок. Даже вдалеке, у Нэп-Хилла, занялись деревья, заборы, деревянные постройки.
Эта огненная смерть, этот невидимый неотвратимый пылающий меч наносил мгновенные, меткие удары. По вспыхнувшему кустарнику я понял, что он приближается ко мне, но я был слишком поражен и ошеломлен, чтобы спасаться бегством...»
Вот как объясняет Г. Уэллс принцип действия прибора марсиан: «Многие предполагают, что они как-тб кон« центрируют интенсивную теплоту в абсолютно не проводящей тепло камере. Эту конденсированную теплоту они бросают параллельными лучами на тот предмет, который они избрали целью, при посредстве полированного параболического зеркала из неизвестного вещества, подобно тому как параболическое зеркало маяка отбрасывает снопы света. Но никто не сумел убедительно это доказать. Несомненно одно: здесь действуют тепловые лучи. Тепловые невидимые лучи вместо видимого света. Все, что только может гореть, превращается в языки пламени при их прикосновении: свинец растекается как жидкость, железо размягчается, стекло трескается и плавится, а когда они попадают на воду, она мгновенно превращается в пар».
Еще более близко (и все же — бесконечно далеко!) подошла к будущим лазерам фантазия Алексея Толстого. Он говорит уже не о тепловых лучах, а о лучах света: «... — Это просто, как дважды два. Чистая случайность, что это до сих пор не было построено. Весь секрет в гиперболическом зеркале... и в кусочке шапонита... Лучи, собираясь в фокусе зеркала, падают на поверхность гиперболоида и отражаются от него математически параллельно, — иными словами, гиперболоид концентрирует все лучи в один луч, или в «лучевой шар» любой толщины.
...Во время первых опытов я брал источником света несколько обычных стеариновых свечей... За три года работы, стоившей жизни двоим моим помощникам, была создана вот эта угольная пирамидка. Энергия пирамидок настолько уже велика, что... они дают «лучевой шнур», способный в несколько секунд разрезать железнодорожный мост...»
Итак, существовала даже психологическая подготовь ленность широких кругов общественности к восприятию новых «лучей»...
Прекрасное развитие оптики на рубеже 40-х годов...
Все говорит о том, что наука и техника действительно были способны уже в конце 30-х годов обеспечить создание лазера.
А может быть, задержка случилась потому, что практическое применение реального эффекта, предсказанного Эйнштейном, наоборот, казалось слишком далеким — еще более далеким, чем использование атомной энергии, неумолимо следующее из соотношений, выведенных тем же Эйнштейном? Война прервала неторопливый ход работ в обоих направлениях, затормозила одни и резко стимулировала другие. О возможности квантового усиления забыли, атомная бомба была построена...
И вот, уже после войны, проблема решена. Но не оптиками. Радиофизиками. Басовым, Прохоровым, Таунсом. Теми, кто работал с самыми короткими известными тогда радиоволнами, применяемыми в радиолокаторах. Именно здесь, стремясь как можно сильнее укоротить длину волны и получить большую точность обнаружения летящей опасности, вели наиболее интенсивные поиски. Не случайно американский создатель лазера Ч. Таунс работал на военно-воздушные силы США, которыми была поставлена задача снизить длину рабочей волны радиолокаторов с 3 до 1,25 см. Таунс руководил сначала созданием новых магнетронов и клистронов. Советские исследователи шли от синхротрона, который они также пытались использовать как источник коротковолнового излучения. Громадную роль в создании лазеров сыграла именно техническая необходимость.
Способствовала успеху направленность поисков непосредственно на создание квантового генератора, а не просто усилителя.
Постройка квантовых генераторов облегчалась тем, что для радиофизиков было вполне естественно использовать с целью усиления резонатор, столь обычный в СВЧ-техни-ке и принцип обратной связи. Оптикам прийти к этим идеям было несравненно сложнее. Инженерно-физическое мышление, характерное для фиановской школы колебаний, оказалось необычайно мощным инструментом для разработки и постройки первых квантовых генераторов.
„.Предполагая, что история создания лазеров представляет сегодня весьма редкий случай физического открытия столь крупных масштабов, происшедшего буквально на наших глазах, автор встретился с академиком АПН СССР В. А. Фабрикантом и задал ему несколько вопросов.
В. К. Хотелось бы узнать у Вас подробности Вашей довоенной работы, где Вы вплотную подошли к открытию лазера.
В. Ф. Стоит ли об этом? Уже много писалось на эту тему. Да и хвастать нечем.
В. К. А мне по-прежнему кажется, что это необычайно драматическая, интересная, а главное — поучительная страница истории науки... Особенно, если начать перелистывать эту историю с первых страниц. Может быть, опять немного отойти назад, вернуться в Московский университет 20-х годов, встретиться с физиками тех времен?
В. Ф. Значит, об учителях. Нам, студентам физфака МГУ конца 20-х годов, повезло, ведь мы слушали лекции таких выдающихся ученых, как Л. И. Мандельштам, С. И. Вавилов, Г. С. Ландсберг, И. Е. Тамм. Курс введения в теоретическую физику нам читал А. К. Тимирязев. И хотя он был совершенно неправ в мнении, что развитие физики в XX веке прекратилось, преподаватель он был заменательный. Его куре был серией задач, занятия — полулекциями-полусеминарами. Он ходил между рядов и очень умело вовремя нас подталкивал в решении. Главное, он нас научил тому, как ставится в физике задача, то есть переходу от составления задач к математическому оформлению, получению результата и его осмыслению. И, слу« шая лекции «идейных противников» Тимирязева, стоя на их точке зрения в вопросе о развитии физики, а не на его, мы все же были ему признательны. Л. И. Мандельштам преподавал теоретическую физику в блестящем стиле конфликтной педагогики. Никогда не забывал о престиже эксперимента, об истории науки. Каждая его лекция была событием.
В научную лабораторию я попал еще студентом, работал непосредственно у Г. С. Ландсберга, но «под приглядкой» и Мандельштама. Мне нужно было реализовать новый экспериментальный метод определения планковской постоянной из спектра рассеянного света.
Моя установка вскоре была сделана, данные получены, а постоянная Планка... не получалась. Неверна была имевшаяся в то время расчетная формула. Потом, впрочем, ошибку исправили. Но я склонен считать свою первую работу аварией. Вообще в научном поиске ученого часто встречают неудачи.
В. К. Мне кажется к этим неудачам должен быть готов каждый, входящий в науку. Кроме того, в науке не бывает «отрицательных» результатов. Доказательство отсутствия эффекта иногда не менее ценно, чем доказательство его наличия. Простите, я перебил Вас...
В. Ф. После окончания университета я решил заниматься оптикой плазмы. Идея заключалась в том, чтобы связать элементарные атомные процессы с макроскопическими оптическими характеристиками плазмы. Я был молод и храбр. Кое-что удалось сделать, но и сейчас оптика плазмы — - один из очень сложных разделов физики. Все делалось на квантовой основе, и когда я дошел до процессов вынужденного испускания, я уже несколько лет жил, думал только этими представлениями.
Моей задачей было показать, при каких условиях можно экспериментально обнаружить предсказанный Эйнштеином эффект...
Что затрудняет наблюдение вынужденного испускания в чистом виде? Если взять любую обычную среду, Ъудь то газ, жидкость или твердое тело, число нормальных атомов в ней всегда выше, чем возбужденных. При прохождении светового луча сквозь такую среду нормальные атомы будут поглощать фотоны, а возбужденные атомы — отдавать дополнительные фотоны благодаря- вынужденному испусканию. Число нормальных атомов превышает число возбужденных, поэтому поглощенных фотонов будет больше, чем дополнительно испущенных.
Среда будет усиливать только свет, обладающий такой же частотой, как и частота света, испускаемого средой при переходе атомов с верхнего уровня на нижний. Возрастание интенсивности луча и явится, прямым экспериментальным доказательством существования вынужденного испускания.
Как видите, идея весьма простая, но до ее реализации дистанция огромного размера. Должен признаться, что ни я сам, ни мои оппоненты, ни виднейшие физики — члены Ученого совета Физического института Академии наук СССР, где происходила защита, не обратили внимания на практическую ценность данной идеи. Отмечался только ее научный интерес. Известным, но слабым утешением служит то, что в истории науки такие случаи встречаются далеко не так редко,
в. К. с творцами этой истории удается общаться нечасто. Поэтому я чрезвычайно рад возможности побеседовать с Вами и именно от Вас узнать подробности этой драматической эпопеи. Вы вплотную подошли к лазеру, но устройство, которое предлагали построить, еще не было, по существу, лазером — в нем отсутствовал важнейший элемент — резонатор...
В. Ф. Да, это интересный момент. Когда мы с вами говорили о начале моих работ, я упомянул, что в то время находился под мощным влиянием «квантовой» идеологии, если можно так выразиться. Именно она и заста-вила меня искать доказательства существования предсказанного эффекта. Конечно, я знал и классическую физику, но она оставалась как бы на втором плане, в стороне, а в кровь и плоть впиталась вот эта квантованность. Так что, если хотите, сделать последний шаг — додуматься до резонаторов для лазеров — мне не позволила «слишком передовая» физическая идеология. Зеркала у меня были, но предназначались они лишь для увеличения пути, не для резонанса. Н. Г. Басов и А. М. Прохоров, теперь уже лауреаты Ленинской и Нобелевской премий, шли более классическим путем. От радиотехники. Я отталкивался от фотонных представлений, они от волновых.
В. К. Значит, будь рядом с вами коллега, воспитанный на «волновой идеологии», все могло получиться иначе, и вы продвинулись бы дальше?
В. Ф. Кто знает... Может быть. О пользе свежего взгляда, кстати, свидетельствует и окончание нашей истории.
Движимые указанными ранее чисто научными побуждениями, я с моей многолетней сотрудницей Ф. А. Бутаевой начали во Всесоюзном электротехническом институте опыты по прямому экспериментальному доказательству существования вынужденного испускания. Однако эта деятельность являлась для нас побочной, так как наши основные силы сосредоточивались тогда на разработке люминесцентных ламп дневного света и их внедрении в промышленность. Работа по вынужденному испусканию велась урывками и надолго была прервана Великой Отечественной войной.
После ее окончания мы возобновили опыты и стали получать положительные результаты. Но они внушали нам новые сомнения. И вот однажды, в 1951 году, по совершенно случайному поводу, заменяя заболевшего докладчика, я рассказал об этих опытах на научном семинаре в Московском энергетическом институте. М. М. Вудынский, крупный специалист в совершенно другой области физики, выслушав доклад, обратил наше внимание на то, что речь идет, по существу, о новом техническом принципе усиления света. Бутаева, Вудынский и я в июне 1951 года оформили заявку, по которой потом получили авторское свидетельство и диплом на открытие. В заявке был указан ряд конкретных способов получения эффекта усиления и дана основная формула для закона усиления. Речь шла не только о свете, но и о радиоволнах. Как известно, к аналогичным идеям пришли академики Н. Г Басов и А. М. Прохоров, а также американский физик Ч, Таунс. Они занимались исследованием спектров молекул радиодиапазоне так называемой радиоспектроскопии. Их блестящие работы, опубликованные в 1954 году, послужили началом быстрого развития квантовой электроники и были удостоены в 1964 году Нобелевской премии. В 1959 году Басов и Прохоров получили Ленинскую премию.
В. К. Спасибо, Валентин Александрович, за Ваш увлекательный рассказ.
5
Как это всегда бывает, вновь изобретенное устройство — первый квантовый генератор — по техническим возможностям далеко превзошло то, ради чего создавалось. Оно превзошло и писательскую фантазию... Лазеры и мазеры оказались неисчерпаемыми, универсальными, может быть, даже в большей степени, чем электронно-вычислительные машины.
Радиолокация луны и планет — и удаление веснушек, сверхточные эксперименты — и лазерная обработка "материалов, гидирование по лазерному лучу — и лазерная навигация, наконец, лазерная связь, лазерный термоядерный синтез, лазерная голография... К счастью, в длинном перечне применений квантовых генераторов нет пока тех, которые в первую очередь интересовали Г. Узллса и А. Толстого, — военных... Не счесть новых научных и технических направлений, которые были разработаны на основе использования лазера... А сегодня обнаруживаются все новые и новые возможности их, да такие, что дух захватывает...
Я говорю об оптоэлектронике.
Да, радиотехника родила лазер. А что, если, образно говоря, лазером осветить все темные уголки самой радиотехники? Преобразовать ее на основе нового — оптического диапазона волн? Разве невозможно представить себе весь обычный радиотехнический цикл — от передатчика до приемника — состоящим из чисто оптических элементов?
Открытия оптоэлектроники последних лет дают все основания для такого радикального пересмотра, можно даже сказать, всеобъемлющей технической революции в области связи и систем информации...
А ведь стоит сначала вспомнить о том, что саму идею применения оптического квантового генератора в связи тоже не смогли сначала оценить, даже те, кто непосредственно занимался проблемами связи. Когда Ч. Таунс впервые принес свою заявку на лазер в патентный отдел компании «Белл телефон», начальник отдела выставил его вон. Фирма «Белл телефон» категорически отказалась патентовать усилитель и генератор оптического диапазона, поскольку, как было объявлено автору, оптические волны никогда не были сколько-нибудь полезными для связи и, следовательно, имеют слабое отношение к «Белл»!
Прохладное отношение к проблемам квантовых генераторов и усилйтелей поначалу бытовало и среди ученых; Так, крупнейший математик США Дж: Нейман в 1953 году оставил в своих бумагах «заметйи о методе неравновесного усиления фотонов», где он рассматривал возможность квантового усиления света с использованием двух частей полупроводника с различной проводимостью. Если бы Дж. Нейман сколько-нибудь отдавал себе отчет в важности этих заметок, он, несомненно, опубликовал бы их, тем более, чго любой американский журнал с удовольствием принял бы любую его статью. Однако заметки фон Неймана лишь после его смерти обнаружил Дж. Бардин, опубликовавший их в своем изложении только в 1963 году.
Уже в 1962 — 1963 годах в СССР удалось создать полупроводниковый квантовый генератор на арсениде галлия. Это заслуга Н. Г. Басова, Б. М. Вула и других ученых ФИАНа. Успехи физики, химии и технологии полупроводников привели к постройке необычайно эффективных полупроводниковых лазеров; интересно, что в технологическом процессе их изготовления широко используется лазерная технология (наряду с сверхвысоким вакуумом и сверхсильными магнитными полями, сверхнизкими температурами, электронной микроскопией, микрорентгеновским анализом и проч., и проч.).
Полупроводниковый лазер обладал удивительными свойствами. Во-первых, он невелик по размеру, внешне походит на обычные диоды; во-вторых, имеет коэффициент полезного действия свыше 50%, что в десятки раз превышает КПД обычных лазеров. Вследствие этого питание полупроводникового инжекционного лазера может осуществляться даже от нормальной батарейки для карманного фонаря.
Компактный и экономичный источник когерентного света, полупроводниковый лазер является незаменимым ге-нераюром для радиосистемы, работающей в оптическом диапазоне волн. Им можно заменить радио и телепередатчик.
Другой элемент такой системы — это линии передачи информации. В последние годы были созданы и, более того, широко освоены промышленностью световолокна,. из которых изготавливают световые кабели с чрезвычайно низкими потерями. Километр такого кабеля ослабляет сигнал всего на 20%. Свет, идущий по центральной жиле кабеля, испытывает на границе с оболочкой полное внутреннее отражение и, многократно отражаясь, может проходить очень большие расстояния.
Оптическому кабелю свойствен ряд капитальных преимуществ. Во-первых, он защищен от всевозможных помех, связанных с электромагнитными воздействиями, и не имеет специфических недостатков радиоволн. Ему не страшны атмосферные возмущения — ураганы и грозы, надолго выводящие из строя обычную радиосвязь. Информацию, идущую по световодному кабелю, трудно «подслушать». Во-вторых,, на изготовление одного километра световодного кабеля затрачивается в 100 тысяч раз меньше энергии, чем на коаксиальный кабель из меди, или в полмиллиона раз меньше, чем на коаксиальный кабель из алюминия. Световодные системы имеют громадное преимущество и в том, что они делаются из стекла — то есть, в конечном счете, из песка, запасы которого на земном шаре бесконечны, в то время как медь, например, становится все более дефицитным и дорогим металлом. Подсчитали: если в самолете все линии связи сделать оптическими, то его вес снизится сразу на четыре тонны, а стоимость — более чем на 10 миллионов долларов, Световодные линии связи могут обеспечить непревзойденное качество телевизионных передач, ведущихся из единого центра и распространяющихся по кабелям, то есть к индивидуальным абонентам. Следует учесть также, что по световодному лазеру будет идти не простой луч, а лазерный, являющийся самым емким из известных носителей информации, наиболее прогрессивным средством передачи и обработки ее. Один лазерный луч может нести в себе тысячи телевизионных программ.
Волоконная оптическая линия связи завершается быстродействующим фотоприемником, заменяющим обычный в системах радиосвязи.
Простейший тип фотоприемника — это та же установка Столетова, в которой под действием света начинает течь электрический ток. Как бы соревнуясь с обычными радиоприемниками, современные фотоприемники гоже выполнены на полупроводниках. Чувствительность такого фотоприемника чрезвычайно велика. Он способен реагировать буквально на единичные фотоны.
Замечательным успехом советской науки и техники является и наш приоритет в создании лазерных электронно-лучевых трубок и приборов на их основе. Чем-то такая трубка напоминает обычный кинескоп. Однако то, что за электронным пучком следует лазерный луч, повышает сочность изображения в 10 тысяч раз. Это — невыносимо яркое изображение. Чтобы приблизить его к обычному, есть смысл телевизионную картинку спроецировать теперь на гигантский телевизионный экран размерами в несколько квадратных метров. Я видел такой гигантский телеэкран в , лаборатории оптоэлектроники ФИАНа. Это яркая цветная стена...
Как необычно сбывается мечта Рэя Брэдбери о говорящих стенах!
Системы оптической связи смогут коренным образом преобразовать всю нашу жизнь, весь наш быт. Появятся громадные цветные экраны, на которых с помощью необычайно емких видеомагнитофонных записей можно будет воспроизводить многочасовые цветные теле- и кинопрограммы. Сочетание таких систем с электронными вычислительными машинами, опять же выполненными на основе оптоэлектронных систем, позволит мгновенно использовать все богатство библиотек всего мира, любых справочных центров, архивов и банков, которые по запросу пришлют свою информацию нам на дом.
Мы упомянули оптоэлектронную ЭВМ — да, это будущее электронных машин. Запись на оптическом диске в 100 раз более плотна, чем на магнитном, и необычайно надежна. Не стареет, не размагничивается, не подвержена внешним влияниям. Она гораздо дешевле магнитной. Лазерный луч очень тонок, и это позволяет, концентрируя его в пятнышко диаметром в микрон, резко уплотнить записанную информацию. Совершенно фантастические перспективы сулит сочетание «лазерной радиотехники» с техникой голографии. Цветные движущиеся изображения новых «телевизионных стен» приобретут объемность; персональные компьютеры на оптоэлектронных элементах внесут в изображения и звуки изменения в согласии со вкусами и пожеланиями их владельца... можно будет даже разговаривать с изображениями на экране...
Но здесь мы вновь вторгаемся в область научно-фантастических видений Рэя Брэдбери... Впрочем, единственный вывод из чтения фантастики — я говорю, конечно, о фантастике научной — это то, что она всегда оказывается бледнее вступившей в свои права действительности...
ГЛАВА XIV.
В ПОИСКАХ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ
1
6 декабря 1838 года Фарадей доложил Королевскому обществу о результатах своих исследований электрического угря. В опытах он использовал два металлических электрода, которыми можно было касаться рыбы, плавающей в аквариуме, специально изготовленном для эксперимента. Электроды посредством медных нитей были подсоединены к проволочной спирали, внутри которой размещалась железная игла. Вот Фарадей касается угря — удар! Мощный импульс тока превращает спиральку в тгростейший электромагнит — соленоид. Игла намагничивается, у нее появляются северный и южный полюсы. Зная, какой конец стал северным, Фарадей определял и знак электрического поля угря.
Этот эксперимент долго оставался экзотическим воспоминанием. Первым ученым, всерьез принявшимся за исследование импульсных магнитных полей, был советский физик Г1. Л. Капица. Двадцатисемилетним доцентом Петроградского политехнического института приехал он в 1921 году в Лондон в составе первой советской научнопромышленной делегации. Петр Леонидович не предполагал тогда, что проживет в Англии долгих 14 лет, создаст там собственную школу и превратится из скромного доцента в ученого с мировым именем. Большую роль во всем этом сыграл другой член делегации, известный физик А: Ф. Иоффе. Это он отвез Капицу в Кембридж в лабораторию знаменитого физика Э. Резерфорда. Однако Резерфорд заколебался: в его «сургучно-веревочной», хотя и блестящей ядерной лаборатории уже работало 30 стажеров. Говорят, что Капица тогда заметил: «30 и 31 различаются примерно на 3%-; поскольку же Вы всегда предостерегаете против рабской тбчности измерений, такая трехпроцентпая разница вовсе не будег Вами замечена». Правильна ли эта версия, сказать трудно, но так или иначе Капица остался у Резерфорда (с условием: не вести «красную пропаганду») и вскоре поднялся от скромного стажера, плохо знающего английский язык, до наиболее близкого к Резерфорду человека, имеющего свою лабораторию. В ней Капица, вслед за Фарадеем, обратился к импульсным магнитным полям, задумав довести их до страшной, небывалой силы.
Вот история восхождения молодого российского физика в Кембридже, в Кавендишской лаборатории Э. Резерфорда, описанная им самим в письмах к матери — О, И. Капица.
«12 августа 21-го года ...Вчера в первый раз имел разговор на научную тему с профессором Резерфордом. Он был очень любезен, повел к себе в комнату, показывал приборы. В этом человеке, безусловно, есть что-то обаятельное, хотя порою он и груб».
«1 ноября 21-го года ...Результаты, которые я получил, уже дают надежду на благополучный исход моих опытов. Резерфорд доволен, как передавал мне его ассистент. Это сказывается на его отношении ко мне. Когда он меня встречает, всегда говорит приветственные слова. Пригласил в это воскресенье пить чай к себе, и я наблюдал его дома. Он очень
мил и прост... Но... когда он недоволен, только держись-Так обложит, что мое почтение. Но башка поразительная! Это совершенно специфический ум: колоссальное чутье и интуиция. Я никогда не мог этого представить себе прежде. Слушаю курс его лекций и доклады. Он излагает предмет очень ясно. Он совершенно исключительный физик и очень своеобразный человек...».
«16 февраля 22-го года
...Сегодня беседовал с Резерфордом... Увидев, что он в хорошем духе, я рассказал ему одну из своих идей. Эта идея касается дельта-радиации, теория которой очень неясна. Я дал свое объяснение. Довольно сложный математический подсчет подтверждает хорошо эту мысль и дает объяснение целому ряду опытов и явлений. До сих пор, кому я об этом ни говорил, все находили мои предположения чересчур смелыми и относились к ним очень скептически. Крокодил 1 со свойственной ему молниеносностью схватил сущность моей идеи и, представь себе, одобрил ее... Тут очень забавно: как только профессор с тобой мил, это сразу сказывается и на всех остальных в лаборатории — они тоже сразу делаются внимательнее...»
«6 июля 1922-го года
Я попробую в общих чертах осветить тебе мое положение. Представь себе молодого человека, приезжающего во всемирно известную лабораторию, находящуюся при университете самом аристократическом, консервативном в Анэдии, где обучаются королевские дети. И вот в этот университет принимается этот молодой человек, никому не известный, плохо говорящий по-английски и имеющий советский паспорт. Почему его приняли? Я до сих пор этого не знаю. Я как-то спросил об этом Резерфорда. Он расхо-» хотался и сказал: «Я сам был удивлен, когда согласился вас принять, но, во всяком случае, я очень рад, что сделал это...»
П. Л. Капица решил продолжить в Кембридже те эксперименты, которые он задумал еще в Петрограде вместе со своим другом Н. Н. Семеновым — тогда они хотели использовать для измерения магнитного момента атомов неоднородные магнитные поля. Теперь он предполагал исследовать отклонение открытых Э. Резерфордом альфа-частиц магнитным полем и определить их импульс.
1 Так П. Л. Капица называл Э. Резерфорда.
П. Л. Капица предложил для изучения свойств альфа-частиц помещать камеру Вильсона в магнитное поле. В нем траектория заряженной частицы искривляется, причем радиус искривления зависит от импульса частицы.
«29 ноября 1922-го года. Для меня сегодняшний день до известной степени исторический... Вот лежит фотография — на ней только три искривленные линии — полет альфа-частицы в магнитном поле страшной силы. Эти три линии стоили профессору Резерфорду 150 фунтов стерлингов, а мне и Эмилю Яновичу — трех с половиной месяцев усиленной работы. Но вот они тут, и в университете о них все знают и говорят. Странно: всего три искривленные линии! Крокодил очень доволен этими тремя искривленными линиями. Правда, это только начало работы, но уже из этого первого снимка можно вывести целый ряд заключений, о которых прежде или совсем не подозревали, или же догадывались по косвенным фактам. Ко мне в комнату — в лабораторию — приходило много народу смотреть три искривленные линии, люди восхищались ими...»
«4 декабря 1922-го года. Я эти дни был что-то вроде именинника. 2-го в субботу был прием у проф. J. J. Thomson’a по случаю приезда голландского физика Zeeman’a. Конечно, надо было напялить смокинг. Я говорил с Zeeman’oM, и меня представляли примерно таким образом, что это, дескать, такой физик, который решает такие проблемы, которые считаются невозможными (для решения). И эти генералы меня трепали около 20 минут, пока я не ушмыгнул в угол... Сегодня Zeeman и лорд Rayleign (сын) были у меня в лаборатории и смотрели мою работу...»
«15 июня 1923 года Вчера был посвящен в доктора философии... Мне так дорого стоил этот миг, что я почти без штанов. Благо Крокодил дал взаймы, и я смогу поехать отдохнуть...»
Проведя серию экспериментов в полях до 43 тыс. Эрстед, Капица решил распространить измерения на более сильные магнитные поля. Для этого необходимо было создать соленоиды, поле которых превышало бы прежнее примерно в 10 раз.
Основные трудности в создании сильных полей заключаются в том, что необходима громадная мощность источника тока и существует опасность разрушения соленоида при нагревании. Для решения этих двух проблем Капица предложил создавать сильные магнитные поля на очень короткий срок, в который можно провести необходимые измерения и в то же время избежать разрушения соленоида.
В качестве источника тока при этом могут быть использованы устройства, способные дать мгновенный мощный разряд, следующий за относительно продолжительным периодом зарядки.
Таких устройств довольно много. Можно, например, использовать электрическую энергию, накопленную в конденсаторной или аккумуляторной батарее, работающей при разрядке в режиме короткого замыкания.
Можно воспользоваться магнитной энергией, накопленной в магнитном поле трансформатора.
Такой эксперимент в небольшом масштабе был проведен Капицей вместе с известным физиком П. Блэкеттом. Он оказался неудачным. Выяснилось, что быстро механически разорвать первичную цепь трансформатора было почти невозможно — при разрыве появилась дуга, и энергия намагниченного железа, вместо того чтобы обрушиться лавиной во вторичную цепь, возвращалась в первичную и выделялась в дуге.
Конденсаторы также были непригодны, поскольку в то время они были весьма несовершенны и громоздки.
Капица обратился к аккумуляторным батареям. Их тоже пришлось специально конструировать, поскольку необходимо было, чтобы их собственная емкость и активное сопротивление были минимальны. В одном из соленоидов, навитом медной лентой, можно было проводить измерения в поле 130 тыс. Эрстед. Когда тот же соленоид погружался одновременно в жидкий азот, поле повышалось до 250 тыс. Эрстед. Это было тем максимумом, который удалось в то время получить с помощью аккумуляторов. Для больших полей было необходимо искать другой, более мощный источник электроэнергии.
В январе 1923 года 11. Л. Капица познакомился в Лондоне с молодым советским инженером М. fl. Костенко, в то время работавшим в Англии. Костенко был, как и Капица, инженером-электромехаником по образованию ч окончил тот же Петербургский политехнический институт. Вскоре они подружились. Петр Леонидович предложил своим новым друзьям супругам Костенко вместе съездить в отпуск во Францию. Он помог им получить французские
визы, и они вместе отпраздновали в Париже День взятия Бастилии.
Интересно; что Костенко занимался в то время как раз теми вещами, которые могли заинтересовать Капицу, — он разрабатывал, в частности, «электромагнитный молот» и «электромагнитную пушку» — специализированные электро-механические системы, в которых важным элементом была электрическая машина, работающая в режиме короткого замыкания.
Для опытов Капицы нужны были большие токи на весьма небольшие моменты времени. И он подумывал о токах короткого замыкания. Костенко, уже работавший с генераторами, действующими в условиях коротких замыканий (электромагнитный молот), предложил использовать для этой цели большие всплески тока, возникающие при внезапном коротком замыкании синхронных генераторов. В качестве нового источника большой мгновенной мощности можно было взять быстроходный синхронный генератор, с тем чтобы использовать в течение маленького промежутка времени запасенную ранее электромагнитную и кинетическую энергию ротора.
. Костенко мастерски подобрал параметры необходимого генератора, получив максимально возможные для машины заданных габаритов всплески тока и соответствующие магнитные поля.
Капица ознакомил с проектом руководителя Кавендиш-сиой лаборатории. Профессор Резерфорд высоко отозвался об идее эксперимента и даже предположил возможность создания с помощью «ударного генератора» магнитных волей порядка 7 млн. эрсгед и тем самым, воздействовав на внутреннее поле атома и заставив все электроны вращаться в одной плоскости, «сплющить атом».
Костенко и Капица стали соавторами предложенного ими устройства, получив 30 июня 1926 года английский патент. Импульсный генератор был изготовлен и с большим успехом испытан.
Соленоид, на который обрушивался колоссальный ток короткого замыкания генератора, представлял собой катушку из меди квадратного сечения. Когда ток генератора проходит через катушку, в ней развиваются грандиозные механические усилия. Для того чтобы эти усилия не разорвали обмотку, она снаружи обматывалась прочной стальной лентой.
Это, однако, было не все, Под влиянием мощных сил катушка немного разматывается и концы ее отрываются от тех электропроводов, через которые к ней подается ток. Катушка за катушкой погибали таким образом на глазах у Капицы из-за второстепенного явления уже после того, как были преодолены, казалось бы, все основные трудности. Устранение «мелочей» заняло несколько месяцев. Наконец, решение было найдено. Капица создал обмотку, которая могла «дышать», то есть автоматически расширяться. Один из контактов был сделан подвижным и сам, после нескольких испытаний, занимал то положение, которое ему «больше нравилось».
Другой трудностью, как уже говорили, была краткость времени, в течение которого можно было производить измерения. Ведь магнитное поле существовало в соленоиде всего одну сотую долю секунды, и за этот миг все эксперименты должны были быть и начаты, и закончены.
Серьезную проблему создавали и микроземлетрясений, происходящие при резком торможении генератора в тот момент, когда его обмотка замыкалась накоротко. Несмотря на то что генератор был установлен на массивном фундаменте, покоящемся на скальном основании на вибро-устойчивой подушке волна микроземлетрясения искажала результаты измерений. Чтобы этого не происходило; Капица предложил весьма остроумный выход. Он расположил соленоид с объектом исследования на расстоянии 20 м от генератора — в другом конце комнаты. Волна землетрясения, двигающаяся со скоростью звука в данной среде, проходит это расстояние за одну сотую секунды и достигает соленоида уже к тому моменту, когда измерения окончены.
В момент короткого замыкания в обмотке образуются очень высокие местные температуры, постепенно рассасывающиеся. Расчеты показывают, что они должны были бы превышать температуру на Солнце. Это дало повод профессору А. С. Эддингтону шутливо заявить, что работы Капицы и работы Резерфорда по расщеплению атомов приводят к тому, что, хотя температура в глубинах звезд, может быть, равна миллионам градусов, эти глубины являются довольно прохладным местом по сравнению с Кавендишской лабораторией.
Вот что писал П. Л. Капица о своих опытах Резерфор-» ду, находившемуся в то время в Каире:
«Кембридж. 17 декабря 1925.
Я пишу Вам это письмо в Каир, дабы рассказать, что мы уже сумели получить поля, превышающие 270 000, в цилиндрическом объеме диаметром 1 см и высоте 4,5 см. Мы не смогли пойти дальше, так как разорвалась катушка, и это произошло с оглушительным грохотом, который, несомненно, доставил бы Вам массу удовольствия, если бы Вы слышали его...
Но результатом взрыва был только шум, поскольку, кроме катушки, никакая аппаратура не претерпела разрушений. Катушка же не была усилена внешним ободом, каковой мы теперь намереваемся сделать.
...Я очень.счастлив, что в общем все прошло хорошо, и отныне Вы можете с уверенностью считать, что 98 процентов денег были потрачены не впустую и все работает исправно.
Авария явилась наиболее интересной частью эксперимента и окончательно укрепляет веру в успех, ибо теперь мы точно знаем, что происходит, когда катушка разрывается».
Став «рекордсменом» по созданию сверхсильных магнитных полей, Капица решил исследовать с их помощью явления, происходящие при сверхнизких температурах. Здесь он вступал уже на охотничью тропу голландца Г. Камерлинг-Оннеса — весьма близкого ему по инженерному складу мышления ученого, много лет бывшего монополистом в области сверхнизких температур.
2
Да, в середине 20-х годов П. Л. Капица решил, что пришла пора нарушить монополию Камерлинг-Оннеса и научиться легко получать сверхнизкие температуры. Там, в области температур, близкйх к абсолютному нулю, многие физические явления, например в магнитных полях, представляли для физиков не меньший интерес, чем сокровища инков — для покорителей Америки.
Догнать Камерлинг-Оннеса было трудно — у голландца было довольно мощное и современное по тем временам оборудбвание, и, главное, в его лаборатории существовал ряд «небольших секретов» — тех тщательно скрываемых навыков и приемов, не зная которых чрезвычайно сложно работать в неизведанной области. Любое упущение могло сорвать эксперимент, подготавливаемый месяцами.
Капица начал с постройки мощного водородного ожижителя, отличающегося одной хитростью. В нем был использован так называемый «двойной цикл», при котором ожижается только хорошо очищенный водород, а грязный участвует лишь в промежуточных операциях. Это резко удешевляло и упрощало установку. Капица выкинул из ожижителя все лишние металлические детали, влиявшие в силу своей высокой теплоемкости на увеличение срока запуска машины.
Однако, когда ожижитель был построен — а именно с его помощью Капица рассчитывал добраться и до жидкого гелия, — ему в голову пришла новая идея: вообще обойтись без промежуточного жидкого водорода.
Лейденский метод был действительно очень сложен и громоздок в понедельник получали жидкий воздух, во вторник с его помощью — 20 — 30 литров жидкого водорода, а уж в среду — с помощью жидкого водорода — микроскопическое количество гелия: 2 — 3 литра в неделю самое большее.
Для создания новой машины Капица использовал поршневой детандер, быстро забирающий тепло у гелия, расширяющегося в цилиндре, откуда извлекается поршень. Трудность заключалась в том, чтобы создать для поршня подходящую смазку. Поскольку все вещества при столь низких температурах затвердевают, Капица решил обойтись вообще без смазки, оставив между стенками цилиндра и поршнем небольшой зазор. Так как расширение производилось очень быстро, гелий не успевал ускользнуть через щель в сколько-нибудь значительных количествах. Капице удалось довести термодинамический КПД этой машины до 60 процентов. Машина, построенная в Кембридже, давала 1,7 литра жидкого гелия в час. Практически во всех ожижителях, строящихся до сегодняшнего дня, используют принцип, предложенный Капицей.
Постепенно Капица убедил Резерфорда построить специальную лабораторию для его исследований в сильных магнитных полях и при сверхнизких температурах. Резерфорд поддержал предложение и даже получил соответствующие средства. Решение вопроса сильно облегчалось тем, что авторитет Капицы в Кембридже уже был чрезвычайно высок — его избрали даже членом Лондонского Королевского общества, то есть английским академиком.
И вот на древней кембриджской земле рядом со столетними колледжами и вязами поднялось суперсовременное, хотя и не слишком многоэтажное здание лаборатории имени Монда, директором которой был назначен П. Л. Капица.
Торжественное открытие состоялось в феврале 1933 года в присутствии премьер-министра Великобритании С. Болдуина и, разумеется, Э. Резерфорда.
Резерфорд был необычайно доволен и новым зданием, и его оборудованием, и особенно новым директором Монд-лаборатории, Г1. Л. Капица, по мысли Резерфорда, должен был бы впоследствии стать его преемником и по Кавендншской лаборатории.
Н. Винер вспоминал: «...в Кембридже была все же одна дорогостоящая лаборатория, оборудованная по последнему слову техники. Я имею в виду лабораторию русского физика Капицы, создавшего специальные мощные генераторы, которые замыкались накоротко, создавая токи огромной силы, пропускавшиеся по массивным проводам; провода шипели и трещали, как рассерженные змеи, а в окружающем пространстве возникало магнитное поле колоссальной силы;.. Капица был пионером в создании лабораторий-заводов с мощным оборудованием... Сейчас, в связи-с созданием атомной бомбы и развитием исследований по физике атомного ядра, такие лаборатории стали совершенно обычными».
Однако директором Монд-лаборатории П. Л, Капица пробыл недолго.
3
Осенью 1934 года Капица, как он это делал каждый год, приехал в Москву для свидания с матерью и друзьями. На этот раз здесь его ждала неожиданность. В Академии намекнули, что его английская командировка несколько затянулась. Задачи развития советской науки требуют, чтобы он далее занимался исследованиями в Москве, а не в Кембридже.
Капице предложили создать собственный институт — по его вкусу как в научном, так и в архитектурном отношениях, в том месте Москвы, где он захочет, и с теми направлениями работ, какие запланирует. Уже 18 декабря Капицу назначили директором Института физических.проблем — это название выбрал он сам. Капица поселился в гостинице «Метрополь» и оттуда вместе с А. И. тальниковым — первым сотрудником нового института — совершал рейды в московские пригороды для подыскания подходящего места. Оно должно было быть малонаселенным и непромышленным, подальше от трамваев — во избежание нежелательного искажения показаний приборов.
Сначала Капица облюбовал нарядный особняк в Нескучном саду, но его ему не отдали. Тогда он стал иссле-довать близлежащие места и наткнулся на располагающийся неподалеку от однодневного дома отдыха гигантский пустырь. Рядом была Москва-река и много деревьев.
На этой территории Капица решил разместить совсем небольшой, сотрудников на пятьдесят, институт — двухэтажный администра гивно-экспериментальный корпус с лабораторией внизу и кабинетами наверху, несколько отдельных лабораторий и дома для научных работников.’ На берегу ;ретси Капице был выстроен небольшой двухэтажный особняк в английском стиле, из окон которого видна излучина Москвььреки, Нескучный сад и маленькая церковка.
Тогда от института до окраинной Калужской заставы Нужно было еще идти минут десять. Сегодня там чуть не цейтр Москвы — площадь Гагарина, Дом тканей. Дом обуви, «Тысяча мелочей»...
Советское правительство предложило П. Лл. Капице закупить у Англии то оборудование, которое было установлено в Монд-лаборатории.
Можно представить себе раздвоение чувств у Резерфорда, узнавшего об этом, — он так любил эти машины!-Но Капицу он любил больше. Оборудование было отданб Советскому Союзу за сравнительно небольшую сумму — тридцать тысяч фунтов. Говорят, Резерфорд, принимая решение, сказала:
— Эти машины не могут работать без Капицы. А Капица — без них...
Р. Юнг в своей книге «Ярче тысячи солнц» вспоминает о Кембридже тех лет:
«Уход Капицы не только очень глубоко повлиял на Резерфорда. Он оказал разрушительное влияние на лабораторию Кавендиша в целом, и в течение немногих последующих лет ее блестящий коллектив стал распадаться».
Нужно сказать, что дела со строительством института в Москве шли неважно. Вместо года стройка заняла два, да и то не была закончена за это время полностью. Капица страдал. Он писал Резерфорду:
«Дела идут медленно и плохо. Пока у меня руки не опускаются. Я хочу сделать все, чтобы восстановить здесь свою работу».
Резерфорд, обращаясь к своему ученику, шлет ему слова утешения.
«21 ноября 1935 г
Мне хочется дать Вам небольшой совет, хотя, может быть, он и не нужен. Я думаю, что многие из Ваших неприятностей отпадут, когда Вы снова будете работать... Возможно, что Вы скажете, что я не понимаю ситуации, но я уверен, что Ваше счастье в будущем зависит от того, как упорно Вы будете работать в лаборатории. Слишком много самоанализа плохо для каждого».
Последнее письмо от Резерфорда датировано 9 октября 1937 года. Через десять дней он умер. А еще через несколько дней в «Известиях» появился некролог о Резерфорде, подписанный П. Л. Капицей. Он писал: «В физике, как и во всякой науке, существует ряд основных проблем, решение которых обозначает как бы вехами тот путь, по которому развивается научная мысль. Мало кому из ученых удается поставить больше одной такой вехи. Резерфорд, как и Фарадей, поставил их несколько».
...Все, к чему обращался ум Капицы, умел он сделать по-особому, оригинально, необычно, значительно более эффективно. В свой новый институт, в его устройство, уклад и распорядок привнес Капица черты рациональности и продуманности.
Попасть в лаборатории и выйти из них можно было только через кабинет директора, что резко упрощало пропускной режим и дисциплинарные проблемы. К каждой отдельной комнате имелся свой особый замок и ключ, но у Капицы был один, главный, которым можно было открыть любую комнату. В подвале здания располагались помещения для особо тонких, чувствительных приборов и экспериментов. Пол в этом помещении был резиновый. В одной из комнат использована бариевая штукатурка — здесь можно вести эксперименты с рентгеновыми лучами. На первом этаже — лаборатории, на втором — канцелярия, кабинеты, библиотека. Необычайно удобной была система электроснабжения — в каждую лабораторию можно подать переменное и постоянное напряжение любой величины.
Главными научными направлениями института Капица наметил исследования в области магнетизма и низких температур.
Обе эти проблемы должны были решаться комплексно, с равным участием физиков-экспериментаторов и физиков-тёоретиков. Капица думал о том, что их работа в рамках единого института будет способствовать общему прогрессу исследования. По его замыслу здесь должны были работать немногие, но первоклассные ученые, полностью отдавшиеся научному творчеству.
Однако Капица приехал в Москву, не имея ни сотрудников, ни научной школы. Институт был как бы привнесен в Москву извне. Готовых кадров для него не существовало.
А может, это и неплохо — создать новые направления и традиции, привить на древе московской физики непривычную ветвь?
Несколько лет заняло формирование и обучение основного и вспомогательного составов сотрудников, образование его ядра. В институте культивировалось служение науке. Руководство его также должно было непосредственно участвовать в научном процессе. Капица не собирался прощаться с изысканным удовольствием проведения собственных исследований.
«Только когда работаешь в лаборатории сам, своими руками, проводишь эксперименты, пускай часто даже в самой рутинной их части, только при этом условии можно добиться настоящих результатов в науке, — писал он. — Чужими руками хорошей работы не сделаешь. Человек, который отдает несколько десятков минут для того, чтобы руководить научной работой, не может быть большим ученым. Я, во всяком случае, не видел и не слышал о большом ученом, который бы так работал, и думаю, что этого вообще быть не может. Я уверен, что в тот момент, когда даже самый крупный ученый перестает работать сам в лаборатории, он не только прекращает свой рост, но и вообще перестает быть ученым».
Наконец, институт укомплектован, в нем ведутся исследования...
«Мне кажется, цель достигнута, и институт можно считать не только одним из самых передовых в Советском Союзе, но и в Европе», — писал радостный Капица.
На установке для получения сверхсильных магнитных полей кавендишцы — механик Пирсон и лаборант Лауэр-ман — помогали продолжать кембриджские опыты. В одном из них было зафиксировано получение нового рекордного импульсного магнитного поля — полмиллиона Эрстед!
Намечено провести и эксперименты при сверхнизких температурах. Капице не дает покоя идея, связанная с использованием в холодильных машинах не поршневых детандеров, как ранее, а турбодетаидеров — то есть ма« леньких турбинок, вращая которые газ теряет свою энергию и охлаждается.
Идея была не нова — ее на заре столетия предложил Рэлей. Но все построенные до сих пор турбодетандеры были крайне ненадежными и имели КПД около 6 процентов. Проверив расчеты, на которых основывались до сих пор эти проекты, Капица обнаружил в них принципиальную ошибку. Зо всех расчетах за рабочее тело принимали пар, в то время как газ при сверхнизких температурах гораздо ближе по свойствам к жидкости.
«Мы пришли к выводу, — писал Капица, — что с газом при низкой температуре нужно обращаться не как с паром, а, скорее, как с водой и строить турбодетандер не по образцу паровой турбины, а, скорее, уже по образцу водяной».
. Когда провели новые расчеты, весь облик турбодетандеров , изменился. Они стали работать с КПД до 85 процентов. В ожижении газов наступила новая эра.
В то время в советских научно-технических кругах широко обсуждались идеи применения в промышленности кислорода — для кислородного дутья, подземной газификации угля, ускорения химических процессов. Обычно горячие обсуждения кончались печальным признанием того, что потребуются миллионы кубометров кислорода, а откуда их взять?
Когда Капица, успешно запустивший турбодетандер, предложил создать широкомасштабную кислородную промышленность, ответом был шепоток: «Профессор фантазирует. Он далек от современных представлений».
Капица вспоминает: «По существу, как ученый, я мог бы здесь остановиться, опубликовать свои результаты и ждать, пока техническая мысль достаточно созреет, чтобы их охватить и воплотить в жизнь. Сегодня я знаю, что этим творческим исследованием я предначертал всю ту работу, которую делал сам последние 4 года уже как инженер" и которую, как я вначале предполагал, должна была бы делать наша промышленность. На этой теоретической работе я имел бы право остановиться, если бы сам не был инженером, если бы меня, не скрою этого, не разобщал задор инженера, Мне говорят, что те идеи, которые я выдвигаю как ученый, нереальны. Я решил сделать еще шаг вперед. За полтора-два года я построил в институте машину для получения жидкого воздуха на этих новых принципах. Общие теоретические положения, которые были высказаны, оправдались».
В статье Капицы в многотиражке московского завода «Борец», где был построен первый образец промышленной турбинной установки для ожижения воздуха, говорилось о том, что заводу предстоит совершенствовать машину с учетом ее промышленной эксплуатации. «Если новые установки, — писал П. Л. Капица, — войдут в широкий промышленный обиход, советская техника глубокого холода сможет перегнать европейскую технику, и сотрудничество между научным институтом и заводом «Борец» будет прекрасным образчиком того, как научная идея, разработанная учеными и подхваченная заводом, может оказать большое влияние на развитие нашей промышленности».
В институте продолжаются и фундаментальные исследования... В 1940 году Капица обнаружил ранее не известное науке явление сверхтекучести жидкого гелия, поставившее в тупик теоретиков из Института физических проблем и других институтов — как в СССР, так и за рубежом. То, что показывал Капица пораженным посетителям, напрашивающимся в институт «посмотреть на паучка», было поистине удивительным.
Жидкий гелий вытекал из сосуда. Истечение было отчетливо видно, ибо при этом вращалась крохотная турбннка — «паучок». Но уровень гелия в сосуде не снижался! Какими-то неведомыми путями гелий опять оказывался в нем. Опыт с «паучком» навсегда останется для всех физиков классикой физического эксперимента.
Новое явление полностью захватило и директора института, и его сотрудников. Эксперимент доказывал мудрость решения ограничиться некоторыми направлениями исследований и не набрасываться на всю физику сразу. Можно было бы заняться, например, физикой атомного ядра, столь хорошо знакомой ученику Резерфорда. Однако нужно было остановиться на чем-то одном, и Капица сосредоточился на сверхнизких температурах. И именно здесь его ждало выдающееся открытие.
Великая Отечественная война необычайно ярко высветила громадную практическую пользу, которую мог давать Институт физических проблем стране, находящейся в горящем кольце фронтов. Турбодетандер Капицы стал работать в установках для получения жидкого кислорода,
нужного для раненых, необходимого для металлургии, для военных заводов, для летчиков.
«Война обостряет нужду страны в кислороде, — писал Капица. — Приходится, засучив рукава, самим всеми силами браться за доработку машин под промышленный тип, изучать вопросы выносливости, продолжительности эксплуатации. Это мы делали в Казани после эвакуации туда института. Параллельно, на основании казанского опыта, по чертежам под руководством и совместно с институтом срочно строятся крупные промышленные установки, которые начинают вступать в промышленную эксплуатацию».
В стране было создано даже специализированное управление по кислороду — Главкислород, начальником которого назначили Капицу. И на этом административном посту он проявил себя прекрасным организатором. Первое научно-промышленное объединение страны, как вспоминал заместитель П. Л. Капицы по Главкислороду А. С. Федоров, оказалось необычайно действенным. Были созданы крупнейшие в мире машины для получения жидкого кислорода.
«В военное время не рекомендуется широко распространять цифровые данные, — говорил П. Л. Капица, — но я могу вам сказать, что есть завод, который успешно работает на наших турбинах уже в продолжение нескольких тысяч часов. Третья часть всего кислорода в Москве делается сейчас таким путем».
К пятидесятилетию Капицы, исполнявшемуся 9 июля 1944 года, в «Правде» была опубликована статья о нем, в которой говорилось: «Вероятно, Капица владеет секретом неутомимости. Его нельзя себе представить без какого-нибудь спешного, неотложного дела. Дела нагромождаются, конечно, одно на другое. Капица жалуется: он и директор, и экспериментатор, и лектор, а тут еще, видите ли, кислород, который нужно повсюду внедрять...
Он способен загонять трех помощников зараз. В особенности тогда, когда опыты не удаются, он готов с одинаковым усердием видоизменять их по нескольку часов подряд. А в промежутках, пока подготовляется техника эксперимента, он взбежит наверх по лесенке, соединяющей лабораторию с «официальными» помещениями (в любое время доступными для посетителей), и продиктует
сложившуюся во время экспериментальных пауз главку своей новой книги.
Если у него бывает сонный и флегматичный вид, это значит, что он особенно напряженно обдумывает какую-нибудь новую идею. И когда работа мысли будет закончена, он встрепенется и устремится в мастерскую, где уже несколько дней возится с давно задуманным прибором еще один из его ассистентов — механик. Все, над чем тот трудился в течение последних суток, все нужно переделывать заново. У механика опускаются руки. Но это просто так — от внезапного прилива усталости. Нелегко карабкаться на гору и затем сразу съехать вниз. Через минуту он смотрит влюбленными глазами на новый чертеж, набросанный Капицей на доныщке табачной крробки».
...Главкцслорбд работал активно, и кислородные фабрики к концу войны полностью обеспечивали потребности страны в «газе жизни». Уже перед самой победой, в апреле 194§ года, был издан Указ Президиума Верховного Совета dCCP б присвоении академику П. Л. Капице «за успешную научную разработку нового турбинного метода получения кислорода и за создание мощной установки для производства жидкого кислорода» звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Труды и. Л. Капицы получили всенародное признание.
А Капица продолжал увлекаться все новыми и новыми проблемами, новыми людьми.
Так, еще в 1943 году, возвращаясь из эвакуации, Капица привез с собой из Казани Е. К. Завойского, работавшего заведующим кафедрой физики Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина. Завойский делал в самый разгар войны поразительные вещи. Без сильного физического окружения, без школы, без современных приборов он обнаружил удивительный эффект — электронный парамагнитный резонанс. Это таинственное поглощение парамагнетиком, помещенным в магнитное поле, энергии некоторых, строго определенных частот, связанное с поворотом спиновых магнитных моментов электронов из положения вдоль магнитного поля в противоположное.
Это исследование как бы продолжало столетовскую линию, начатую «Исследованием о функции намагничения мягкого железа», где закладывались азы понимания природы магнетизма.
После революции в магнитной лаборатории Московского университета, которой было присвоено имя Максвелла, под руководством профессора В. К. Аркадьева вписывались яркие главы в теорию магнетизма. Еще в 1913 году ученик П. Н. Лебедева Аркадьев заметил первый магниторезонансный эффект — поглощение ферромагнетиками высокочастотных электромагнитных колебаний. Эксперименты проводились по программе Лебедева.
«Исследования полного спектра вещества, — писал Ар кадьев, — открывают перед нами возможность проникнуть в геометрическое распределение зарядов отдельных атомов и молекул, изучить строение их и подойти к решению самых разнообразных физико-химических вопросов. Эта огромная задача, которую электронная теория матери» ставит спектральному анализу, открывает спектроскопии широкое поле интересной и плодотворной работы, но она требует для своего решения ряда систематически проведенных исследований в разных частях спектра..; Ближайшей задачей является определение полос поглощения по всей доступной нам шкале электромагнитных волн...»
Это все та же великая лебедевская программа изуче--ния процессов взаимодействия излучения с веществом. Работы Аркадьева вызвали большой интерес у самых крупных физиков. Г1. Эренфест писал ему в Москву 20 июня 1913 года: «Я вчера рассказывал о Ваших магнитных работах Вейссу и Эйнштейну. Оба проявили большой интерес к Вашим опытам и к Вашим идеям».
Завойский начал свои исследования еще до войны, в 1939 году, и уже в мае 1941, экспериментируя на протонах, впервые с группой коллег наблюдал странные сигналы, которые из-за старого, то и дело замыкающего электромагнита, носили нерегулярный характер. Война прервала работы, провести контрольные опыты не удалось, материалы не были опубликованы. А эти сигналы подавала им природа, готовая поведать ученым об одном из заветнейших ее секретов. За открытие ядерного магнитного резонанса американские физики Ф. Блох, Р. Паунд и Е. Пэрселл были удостоены в 1946 году Нобелевской премии по физике.
Во время войны Завойский стал изучать поглощение радиоволн парамагнетиками и наткнулся на явно выраженный максимум поглощения, смещавшийся в сторону более сильных магнитных полей при повышении частоты
волн, — это определенно указывало на резонансную природу эффекта.
Капица предложил Завойскому продемонстрировать эффект на оборудовании Института физических проблем в Москве и исследовать эффект при низких температурах. Вместе с Завойским над созданием экспериментальной установки работал будущий академик А. И. Шальников.
В 1974 году, когда праздновали восьмидесятилетие П. Л. Капицы, Е. К. Завойский преподнес ему в качестве подарка макет своей знаменитой теперь установки. Вот какой текст сопровождал подарок:
«Глубокоуважаемый Петр Леонидович!
Вы — первый физик, оценивший электронный парамагнитный резонанс. В день Вашего юбилея в память об этом, прошу принять Вас то, что сохранилось... 1946 г. Институт физических проблем. Подвал. Установка по изучению ЭПР в диапазоне длин волн 16 см на клистроне, собранная из деталей: клистрон — американский, высокочастотный кабель — немецкий. Остальная аппаратура была отечественной. Не все сохранилось. Но в памяти осталась атмосфера дружелюбия. Вы и Александр Иосифович Шальников во многом определили счастливую судьбу ЭПР, 1974 г.
Ваш Е. К. Завойский» Открытке За во некого сильно подтолкнуло вперед ту область исследований, которая позднее привела к созданию мазеров и лазеров, а также способствовала обнаружению новых, близких по природе к ЭПР физических эффектов — ядерного парамагнитного резонанса, ферромагнитного и антиферромагнитного резонанса, акустического парамагнитного резонанса к других. За свое открытие Завойский был в 1957 году награжден Ленинской премией.
4
В многотиражной газете Московского физико-технического института «За науку», в одном из ее номеров за 1961 год появилась заметка С. Фоминых, озаглавленная «Чем больше трудиться, тем лучше», о встрече студентов института с прославленным академиком Л. Д. Ландау. Вот что рассказал ученый студентам о самом себе:
— Родился я в Баку, вундеркиндом не был; учась в школе, по сочинениям не получал отметок выше троек.
Интересовался математикой. Все физики-теоретики приходят в науку от математики, и я не стал исключением. В 12 лет умел дифференцировать, а в 13 — и интегрировать.
Потом поступил в Бакинский университет и занимался там одновременно на двух факультетах: физико-математическом и химическом. Так как вскоре этот университет был преобразован в пединститут, я в 1924 году перевелся в Ленинградский государственный университет. Здесь мне пришлось сделать выбор: я стал заниматься физикой, о чем до сих пор не жалею.
На лекции в университете ходил два раза в неделю, чтобы встретиться с друзьями и посмотреть, что там делают. Но самостоятельно я занимался очень много. Университет окончил, когда мне было без двух дней 19 лет. Первая научная работа была опубликована в 1926 году, за полгода до окончания университета. После этого поступил в аспирантуру Ленинградского физико-технического института. Затем в течение полутора лет был за границей. Я был в Германии, Швейцарии, Дании, Англии, смотрел Бельгию и Голландию. В Дании был трижды. Это путешествие имело громадное значение для меня, я перевидал всех великих физиков. Не виделся только, и теперь уже не увижусь, с Э. Ферми.
Со всеми, кого я видел, было приятно разговаривать. Ни в ком из них не было и намека на кичливость, важность и зазнайство. В. Паули и В Гейзенберга хорошо знал. Встречался с П. Дираком...
Своим учителем считаю датского физика Н. Бора. Именно он научил меня понимать принцип неопределенности квантовой механики. С А. Эйнштейном встречался в Берлине, он произвел на меня большое впечатление.
А. Эйнштейн не мог понять основных принципов квантовой механики. Этот факт поистине удивителен. Эйнштейн совершил революцию, создав теорию относительности, и в то же время не смог понять другой революции — не смог понять квантовую механику. Я пытался ему объяснить принцип неопределенности, но, как видно, безуспешно...
В начале 1931 года вернулся на Родину и работал в Ленинградском физико-техническом институте. Потом переехал в Харьков, где был около пяти лет. С 1937 года работаю в Институте физических проблем.
Вот и вся биография...
Ландау с детства отличался ершистостью характера, стремлением оспаривать все устоявшееся. Так, он считал, или, по крайней мере, писал, что Татьяна Ларина «в целом была довольно занудной особой», что замысел «Героя нашего времени» мог бы разъяснить один лишь Лермонтов и т. п.
Будучи в 30-х годах в заграничной командировке, он поразил одного своего приятеля и соавтора взглядами на брак. Тот впоследствии вспоминал:
«Ландау нравилось делать заявления, шокирующие представителей буржуазного общества. Когда мы были вместе с ним в Копенгагене, я женился. Он одобрил мой выбор (и играл в теннис с моей женой). Однажды он спросил нас, как долго мы собираемся быть вместе. Когда я ответил, что, конечно же, весьма долгое время и что у нас нет никаких намерений расторгнуть брак, он разволновался и сказал, что только капиталистическое общество может заставить своих членов испортить саму по себе неплохую вещь, чрезмерно продляя ее таким способом».
В 1937 году, перессорившись с директором Ленинградского физико-технического института А. Ф. Иоффе и руководством Харьковского университета, где он работал после ЛФТИ, Л. Д. Ландау появляется в Москве. П. Л. Капица приглашает его в Институт физических проблем, и Ландау немедленно соглашается.
Он сразу же начинает активнейшую деятельность в новых малоразработанных и важных направлениях — в теории фазовых переходов, статистической теории атомных ядер, каскадной теории электронных ливней... Основное внимание его занимает загадка непонятного явления, открытого перед войной П. Л. Капицей, — сверхтекучести.
Ландау предположил, что жидкий гелий представляет собой некоторый конгломерат из двух жидкостей, находящихся в различных квантовых состояниях. Этим он и объяснял одновременные встречные движения жидкого гелия.
«Но в действительности-то жидкость всего одна, — за-» мечает друг и соавтор Ландау академик Е. М. Лифшиц, — и необходимо подчеркнуть, что эта «двухжидкостная» модель гелия-II является не более как удобным описанием происходящих в нем явлений. Как и всякое описание квантовых явлений в классических терминах, оно не вполне адекватно — вполне естественная ситуация, если вспомнить, что наши наглядные представления являются отра-
жением того, с чем мы сталкиваемся в обыденной жизни, между тем как квантовые явления проявляются обычно . лишь в недоступном нашему непосредственному восприятию микромире».
«Если бы это теоретическое положение не было так полно подкреплено экспериментальными доказательствами, — говорил П. Л. Капица, — оно звучало бы как идея, которую очень трудно признать разумной...
Между теорией, развитой Ландау, и экспериментом в основных вопросах существует не только качественное, но и количественное совпадение. Но еще существуют и явления, которые не охватываются теорией. Выяснение их — дело будущего. Теория указывает на некоторые явления, как наличие сосуществования двух скоростей звука, которые еще не удавалось наблюдать в жидком гелии». (Второй звук в жидком гелии был экспериментально обнаружен через несколько лет.)
В Институте физических проблем стала формироваться и школа Ландау. Она не носила каких-то жестких организационных рамок, и к ней обычно причисляли тех, кто смог преодолеть высокий барьер — «теорминимум Ландау», включавший, по существу, десять экзаменов. Всего сорок три человека сдали эти экзамены целиком за двадцать восемь лет. Рекорд скорости — два с половиной месяца — был поставлен талантливым Померанчуком, обычно же у способных соискателей на подготовку и сдачу экзаменов уходило до трех лет, и это считалось неплохим результатом.
Школа крепла на теоретических семинарах.
Бросающейся в глаза особенностью их было отсутствие тематических ограничений — на семинаре могла обсуждаться работа из любой области теоретической физики. Ландау делал это сознательно. Еще стажируясь у Н. Бора в Копенгагене, он вместе со своими коллегами и сверстниками — В. Вайскопфом и Р. Пайерлсом поставил себе целью заниматься всей теоретической физикой, не признавая узкой специализации, эра которой тогда уже наступала.
Семинары проходили в весьма демократичной обстановке. К Ландау можно было обратиться с такими, например, словами: «Мэтр, ты говоришь чушь!» Но и он не оставался в долгу.
На семинарах многие узнавали характерные высказывания Ландау:
— Лучшей своей работой считаю теорию сверхтекучести. Потому, что ее до сих пор никто по-настоящему не понимает.
— Жизнь человека слишком коротка, чтобы браться за безнадежные проблемы. Есть люди, на которых поглядишь, и сразу видно, что они — «жрецы науки». Они жрут благодаря науке. Никакого другого отношения к науке они не имеют.
— Два жулика уговаривают третьего, что за гривенник он может понять, что такое теория относительности. (О книге Л. Д. Ландау и Ю. Б. Румера «Что такое теория Относительности», вышедшей в издательстве «Советская Россия».)
В сборнике «Физики шутят», выпущенном несколько лет назад в издательстве «Мир», есть весьма колоритный эпизод, характеризующий некоторые педагогические принципы Ландау в его научной школе:
«Когда Нильс Бор выступал в Физическом институте Академии наук СССР, то на вопрос о том, как удалось ему создать первоклассную школу физиков, он ответил: «По-видимому, потому, что я никогда не стеснялся признаваться своим ученикам, что я дурак...»
Переводивший речь Нильса Бора Е. М. Лифшиц донес эту фразу до аудитории в такбм виде: «По-видицому, потому, что я никогда не стеснялся заявить своим ученикам, что они дураки...»
Эта фраза вызвала оживление в аудитории, тогда Лифшиц, переспросив Бора, поправился и извинился за случайную оговорку. Однако сидевший в зале Капица глубокомысленно заметил, что это не случайная оговорка. Она фактически выражает принципиальное различие между школами Бора и Ландау, к которой принадлежит и Лифшиц».
На семинаре всегда кипели страсти. Однако его участники не припомнят случая, чтобы проявились личные отношения между участниками, чтобы споры выражали симпатии или антипатии участников, а не отношение к обсуждающейся идее.
Объединению школы способствовало и создание Ландау его знаменитого «Курса теоретической физики», который продолжает расти и выпускаться даже после смерти Ландау — сейчас он состоит из десяти томов. Этот курс — как бы камертон, задающий необычайно высокий тон советской теоретической физике.
Курс стал издаваться с 1938 года; его соавторами выступили уже тогда Ландау и его друг Лифшиц. Без Лиф-шица он никогда бы не появился в свет. Гений Ландау имел одну особенность — он писал с колоссальным трудом даже письма. Лифшиц говорил об этом: «Ему было нелегко написать даже статью с изложением собственной (без соавторов!) научной работы, и все такие статьи в течение многих лет писались для него другими. Непреодолимое стремление к лаконичности и четкости выражений заставляло его так долго подбирать каждую фразу, что в результате труд написания чего угодно — будь то научная статья или личное письмо — становился мучительным».
Все книги Ландау написаны в соавторстве с Е. М. Лифшицем, А. С. Ахиезером, А. И. Китайгородским, Ю. Б. Ру-мером, Я. А. Смородинским; то же относится и к большинству его статей. Если отвлечься от соавторства с Р. Пай-ерлсом, Э. Теллером и другими крупными зарубежными физиками, основной массиь совместных работ Ландау падает на сотрудничество с его многочисленными учениками (А. А. Абрикосов, Е. М. Лифшиц, И. А. Померанчук, И. М. Халатников и др.).
Жизнь и творчество Ландау нераздельны от жизни и творчества его учеников. Ландау выработал, как говорит академик Капица, «крайне своеобразный процесс исследования, основная особенность которого заложена в том обстоятельстве, что трудно отделить собственную работу Ландау от работы его студентов. Трудно представить, как он мог бы успешно работать в столь различных областях физики без своих студентов».
В школе Ландау были глубоко восприняты и развиты традиции научного общения, бережно пестовавшиеся в лучших европейских физических школах (в кавендиш-ской — у Дж. Томсона и Э. Резерфорда, в копенгагенской — у Н. Бора). Достаточно сказать, что научное общение Ландау было настолько интенсивным, что он мог почти совершенно не читать физических книг и журналов, черпая информацию у студентов и коллег на бурных своих семинарах.
Касаясь взаимоотношений со своими соавторами и учениками, Ландау как-то сказал со свойственной ему образностью: «Некоторые говорят, что я граблю своих учеников. Некоторые — что ученики грабят меня. Правильнее было бы сказать, что у нас происходит бзаимный грабеж».
Преданность и любовь физиков к Ландау особенно ярко проявились в тяжелые Дни 1962 года, когда в автомобильной катастрофе он получил тяжелые ранения — перелом основания черепа, ребер и костей таза.
Начался отек мозга и всего тела. Капица немедленно отправил телеграммы П. Блэкетту, П. Бикару и Н. Бору — в Лондон, Париж и Копенгаген — с просьбой прислать необходимое лекарство, и оно тут же было доставлено самолетом.
Шесть недель Ландау был без сознания, на грани жизни и смерти.
То, что он выжил, — чудо, обязанное, как тогда говорили, своим возникновением на 33 процента врачам, на 33 — физикам, на 33 — организму и на 1 процент — самому господу богу.
Чудо произошло потому, что за жизнь Ландау боролись его коллеги и ученики. Ничто не было пущено на самотек. Днем и ночью в больнице дежурили физики. У подъезда «Академички» иной раз скапливалось несколько машин сразу. Была разработана система оповещения и действий «на крайний случай».
Член-корреспондент Академии А. И. Шальников (теперь — академик), в соответствии с врачебным предписанием, ежедневно лично готовил больному пищу. Точно рассчитаны врачом и взвешены рукой физика продукты. Все готовится в стерильной посуде, из безукоризненных, свежайших продуктов. В роли поваров выступают доктора и кандидаты наук — физики Москвы.
8 апреля Ландау сказал свое первое после январской аварии слово: «Спасибо».
С 14 апреля он стал свободно говорить на русском, английском и немецком языках. 3 мая он вспомнил, что у него есть сын Гарик, и пожелал увидеть его. 6 мая аспирант-физик стал осторожно задавать ему вопросы, касающиеся любимого предмета, и получал вполне осмысленные ответы.
Однако великий физик уже навсегда умер, хотя Лан-дау-человек прожил еще шесть лет. Нобелевская премия по физике «за пионерские исследования в области конденсированного состояния, в особенности жидкого гелия» была вручена ему послом Швеции в СССР в Академической больнице.
Умирая, Ландау сказал, что он счастливо прожил свою жизнь, потому что ему всегда все удавалось.
Он умер, сделав то, на что был способен. Как-то один из крупных советских физиков задал ему вопрос, смысл которого сводился к тому, что Ландау по силе своего таланта мог бы сделать еще более крупные открытия.
— Нет; — ответил Ландау с полной серьезностью, — я сделал всё, что мог.
Он трезво и скромно оценивал свои успехи в науке. Известна его логарифмическая шкала ценностей — научных заслуг отдельных ученых, состоящая из пяти классов, причем представители каждого последующего класса сделали, по мнению Ландау, в десять раз меньше, чем предыдущего.
К первому классу он причислял Ньютона, Френеля, Клаузиуса, Максвелла, Больцмана, Гнббса, Лоренца и Планка, Бора, Гейзенберга, Шредингера, Дирака и Ферми. Эйнштейн принадлежал к «половинному» классу. Себя Ландау относил к «двухсполовинному классу», но однажды, после какой-то особо удачной работы он перевел себя во второй класс.
5
Ландау первым пролил свет на природу сверхпроводимости. В 1950 году он и считающий себя его учеником В. Л. Гинзбург (сейчас академик) опубликовали обобщенную феноменологическую теорию сверхпроводимости - теория, или теория Гинзбурга — Ландау), являющуюся, по существу, следствием идеи об одновременном существовании двух электронных жидкостей.
Ландау первым сопоставил два «странных» явления — сверхпроводимость и сверхтекучесть — течение жидкого гелия-II без трения через узкие капилляры — и предположил, что они родственны. Сверхпроводимость — э*о сверхтекучесть весьма своеобразной жидкости — электронной. Эта идея Ландау оказалась в высшей степени плодотворной, на ее основе построено большинство теорий сверхпроводимости.
Следующий шаг был сделан почти одновременно советским физиком академиком Н. Н. Боголюбовым и американскими физиками Д. Бардиным, Л. Купером и Дж. Шриффером. Теория, разработанная ими, сводится, грубо говоря, к предположению о том, что сверхпроводящие электроны, в противовес обычным, объединены в пары, тесно связанные между собой. Разорвать пару и разобщить электроны чрезвычайно трудно. Такие мощные связи позволяют электронам двигаться в материале, помогая друг другу и не встречая электрического сопротивления.
Ярким достижением в разработке теории сверхпроводимости являются работы ученика Л. Д. Ландау члена-корреспондента АН СССР А. А. Абрикосова. Он, детально рассмотрев один из «малоинтересных» частных случаев уравнения Гинзбурга — Ландау, теоретически подтвердил давнюю догадку Шубникова о преимуществах сверхпроводящих сплавов перед сверхпроводящими металлами. За разработку этой теории ее авторы удостоены в 1965 году Ленинской премии, а теория получила мировое признание.
Когда основные положения ее были доложены Абрикосовым на Международной конференции по низким температурам в Москве в 1957 году, в зале долго не смолкали аплодисменты. После доклада состоялся банкет, на котором американские физики поздравили своих советских коллег с крупным успехом.
Итак, теория разработана, она утверждает, что в металлургических лабораториях со дня на день должны родиться сплавы с предсказанными физиками чудесными свойствами...
И вот в 1961 году американский физик Дж. Кунцдер, исследуя сплав ниобия с оловом, обнаруживает совершенно фантастические сверхпроводящие свойства этого соединения. Оказалось, что даже самое сильное магнитное поле в 88 тысяч Эрстед, имевшееся тогда в Соединенных Штатах, не в силах разрушить сверхпроводимость сплава. Вскоре в Институте физических проблем под руководством члева-корреспондента Академии Н. Е. Алексеевского обнаруживают несколько других сверхпроводящих соединений и сплавов, обладающих удивительными свойствами...
Путь к сверхпроводящим магнитам, сверхпроводящим электротехническим устройствам был открыт...
Уже через несколько лет были созданы магниты, о которых Камерлинг-Оннес мог только мечтать: сверхпроводящие, легкие, дешевые, небольшие по габаритам, с полем сначала 102, затем 120, а потом и 250 тысяч Эрстед. Они созданы в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова, в Институте теоретической и экспериментальной физики.
Мест приложения этим силачам сколько угодно. Возьмем для примера электрическую машину. Она тем мощнее, чем сильнее у нее магниты — при сверхпроводящих магнитах можно резко сократить размеры электрооборудования. Таковы же и трансформаторы, ведь их обмотки — тоже магниты, только переменного тока.
Расчеты советских и американских ученых показали, что сверхпроводники выгодно использовать в дальних линиях электропередач. Оказалось, что по сверхпроводящему кабелю всего лишь с руку.толщиной можно было бы передавать всю электроэнергию, потребляемую такой индустриально развитой страной, как СССР.
Созданы и испытаны первые сверхпроводящие линии электропередачи, электрические машины, трансформаторы, плазменные генераторы, вычислительные машины, измерительные приборы. Сверхпроводники — спутники вечного движения — верно служат человеку, где бы он ни находился: на земле, в воздухе, в космосе или под водой.
В 1978 году Капице была присуждена Нобелевская премия по физике за фундаментальные изобретения и открытия в области низких температур. Он поехал в Швецию для, получения ее вместе со своей женой — Анной Алексеевной и референтом П. Е. Рубининым, «специальным корреспондентом» стенной институтской газеты «Магнит», для которой он впоследствии и написал интересный репортаж об этом событии.
Как всегда, Капица поразил всех. Но не тем, что нарушил Нобелевскую процедуру. Напротив, она прошла как по маслу, и фрак сидел безукоризненно. Дело было в самой нобелевской лекции, которую Капица, согласно протоколу, должен был прочитать. Обычно лекции читают по той тематике, по которой лауреат получил награду.
Но Капица не захотел говорить про свои старые работы! Он простодушно заявил, что это было так давно, что он про них уже забыл. Лучше он остановится на том, над чем трудится в настоящий момент.
Начало относится, по-видимому, еще к 40-м годам...
В 1946 году метод получения кислорода, предложенный Капицей, был... осужден. На институт посыпались всевозможные комиссии...
Капица был уволен из института и остался не у дел, хотя всего год назад ему было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.
Он поселился на своей даче на Николиной горе и решил самостоятельно продолжать исследования. Первое, что он сделал, — создал во дворе дачи новый ИФП — на этот раз «Избу физических проблем» — собственную лабораторию, оснащенную несложной техникой, приборами и станками. Здесь он обращается к совершенно иному классу физических задач — созданию мощных, непрерывно действующих генераторов сверхвысоких частот. Предварительно он решает сложную теоретическую задачу о движении электронов в генераторах сверхвысокочастотных колебаний. Ему помогает сын Сергей и один из сотрудников.
Его новое устройство названо «ниготрон», два первых слога являются аббревиатурой названия местности, где расположена дача, — Николина гора. Мощность ниготрона получается рекордной — 175 киловатт. Это — хорошая основа для разработки нового научного направления — электроники больших мощностей.
При одном из испытаний излучение ниготрона пропускалось через кварцевый шар, наполненный гелием. Вдруг вспыхнуло сильное, имеющее четкие границы, свечение. Через несколько секунд шар в одном месте проплавился, и оно исчезло.
Это, казалось бы, незначительное событие навело Капицу на мысль о сходстве того, что произошло в кварцевом шаре, с таинственным явлением — шаровой молнией. Он предположил, что шаровая молния получает энергию «со стороны» — при помощи высокочастотного излучения, возникающего в грозовых облаках после обычной молнии.
После снятия секретности на курчатовские работы по управляемому термоядерному синтезу (Капица был несколько обижен, что доклад об этом был сначала сделан в Харуэлле, а не в Академии наук) выявилось некоторое сходство идеи ниготрона с идеей термоядерного реактора.
Капица получал горячую плазму при помощи высокочастотных колебаний. Он смог достичь температуры в миллион градусов.
Конечно, это произошло уже не в «Избе физических проблем», а в настоящем Институте физических проблем, куда под именем «Физическая лаборатория» была в 1954 году целиком переведена «Изба». Капица вернулся в Институт физических проблем и с 1955 года вновь назначен его директором. Теперь он вплотную занялся электроникой больших мощностей и термоядерными исследованиями.
Его волнуют проблемы, возникающие при быстром развитии атомной энергетики. Он боится, что долгоживущие радиоактивные шлаки, образующиеся на атомных станциях, в конце концов разрушат стенки могильников, в которые они замурованы, казалось бы, навечно, и заразят местность.
Он беспокоится, что распространение атомных реакторов по всему земному шару создаст возможность для какой-нибудь шайки террористов или гангстеров захватить станцию и шантажировать население страны возможностью гигантского взрыва.
Он опасается, что при столь широком распространении атомных реакторов и известном принципе устройства плутониевой бомбы какая-нибудь группа преступников сможет сама сделать атомное оружие...
Наконец, он видит пример Браунс-Ферри — атомной станции в США, где всего лишь случайностью можно объяснить то, что там не произошло страшной катастрофы...
Вот почему он — самый активный сторонник горячей плазмы и термоядерной энергетики; вот почему он активно разрабатывает одно из ее направлений.
Капице почти девяносто лет, но ум его свеж, он по-прежнему думает не только о физике, но и о глобальных проблемах человечества, так или иначе связанных с физикой, — об энергии, долголетии, искоренении голода и болезней, об установлении на Земле прочного и справедливого мира.
Проблемы физики и проблемы мира...
Физик и мир...
Москва, 1980 — 1983 гг.
Автор рад возможности выразить свою глубокую благодарность крупным московским ученым, которые рассказом, письмом, советом способствовали возникновению замысла книги и работе над ней. Среди них — академики Н. Г. Басов, С. Т. Беляев, Е. П. Велихов, Б. М. Вул, В. Л. Гинзбург, П. Л. Капица, И. К. Кикоин, Е. М. Лифшиц, А. Б. Мигдал, А. И. Шальников, академик АПН СССР В. А. Фабрикант, члены-корреспонденты АН СССР А. А. Абрикосов, Н. Е. Алексеевский, И. Л. Фабелинский, Е. Л. Фейнберг.
Особое стимулирующее влияние оказала на автора творческая обстановка Института истории естествознания и техники АН СССР и общение с членом-корреспондентом АН СССР С. Р. Микулинским, профессорами Б. Г. Кузнецовым, А. Т. Григорьяном и М. Г. Ярошевским, научными сотрудниками В. П. Визгиным, В. С. Кирсановым и В. М. Орлом. Естественно, что автор пользовался большим количеством литературы б сю ее перечислить невозможно, но следует упомянуть о трудах А. М. Ливановой, В. Н. Болховитинова, Ф. Б. Кедрова, В. К- Кузакова, В. Л. Левшина, А. Р. Сердюкова, М. С. Со-минского, Б. А. Старостина, Г. Е. Павловой и А. С. Федорова, В. Босса (Канада), книги которых чаще других лежали на его письменном столе.
Неоценим вклад в книгу ее рецензентов — профессоров С П. Капицы, Ю. М. Кагана и писателя А. Н. Томилина, с помощью которых удалось ярче проявить основную идею книги.
Карцев В. П.
К53 Всегда молодая физика. — М.: Сов. Россия, 1983. — 368 с, 12 л. ил.
Перед тем, как Москве превратиться в научный центр исследований в области физики, наука должна была пройти долгий путь — от перьых наблюдений за «огненным шибением», от любопытства Петра — к М В. Ломоносову и В. В Петрову, а затем к А. Г. Столетову и П. Н. Лебедеву. Автор книги, известный писатель и ученый В. Карцев находит в судьбах московских физиков много интересного и поучительного для сегодняшнего гражданина. Кто герои книги? Кроме перечисленных, это С. И. Вавилов, И. В. Курчатов, В. И. Векслер, И. Е. Тамм, Л. Д. Ландау, П. Л. Капица, Н. Г. Басов, А. М. Прохоров, А. П. Александров. «Героями» книги являются также и научные учреждения, в рамках которых развивалась физика в Москве, — это и Московский университет, и академические физические институты. Каждый из них имеет захватывающую историю... В них разрабатываются наиболее современные направления оптики, ядерной физики, магнитных явлений, сверхтекучести и сверхпроводимости, мазеров и лазеров, термоядерного синтеза...|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) —
творческая студия БК-МТГК.
|