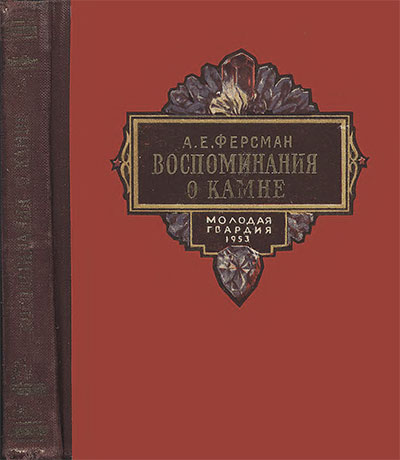Предисловие
Имя академика Александра Евгеньевича Ферсмана (1883–1945) широко известно в нашей стране. Он завоевал всеобщее признание не только как выдающийся ученый в области минералогии и геохимии, как географ и путешественник, но и как непревзойденный популяризатор.
Он превосходно писал. А. М. Горький, близко знавший Александра Евгеньевича, очень высоко ценил его своеобразное литературное дарование и советовал ему даже сделаться профессиональным беллетристом.
Александр Евгеньевич был ученым-романтиком. Его отношение к камню можно назвать только настоящей, страстной влюбленностью. Наделенный этой возвышенной страстью с самого раннего детства, он оставался верен ей до конца дней.
«Воспоминания о камне» — не ученый труд и не научно-популярная книга в обычном смысле этого слова: это, если можно так выразиться, научная лирика, одинаково замечательная и в смысле глубины истинно поэтического чувства, и в смысле изящества формы. «Поэтом камня» назвал автора писатель А. Н. Толстой.
Рассказы А. Е. Ферсмана помогают смотреть вперед, вызывают интерес и любовь к науке, к тем областям знаний, которые так мало известны широкому кругу читателей.
Многие рассказы, собранные в этой маленькой книге, описывают события, успешно закончившиеся лишь после долгих лет напряженной работы за овладение богатыми недрами нашей земли.
В настоящем издании к девятнадцати небольшим, ранее опубликованным очеркам добавлено два новых, найденных среди рукописей А. Е. Ферсмана, — «Синий камень Памира» и «Алмаз „Шах“».
Академик Д. И. Щербаков
От автора
«Что мы знаем, так ничтожно, по сравнению с тем, чего мы не знаем».
Не читайте эту книжку так, как читают увлекательный роман, подсмотрев его конец, а потом залпом — от первой страницы до последней.
Не читайте ее так — между делом, между газетой и радиоконцертом, между телефонным звонком и деловым разговором.
А читайте тогда, когда просто хочется отдохнуть, набраться новых впечатлений, окунуться в совсем иной, новый, мало кому знакомый мир.
Воспоминания о камне — история целой жизни, история своеобразной любви к природе, искания разгадок природных тайн в течение почти пятидесяти лет.
Такую книгу можно решиться писать, когда жизнь в основном уже прожита, когда последние отзвуки старых переживаний сливаются и заглушаются торжествующими волнами новых идей и побед человека нового поколения. И в этих могучих звуках настоящего, в ярко сверкающих красках сегодняшнего дня растворяются эти картины прошлого так, как тонут неясные контуры утренних миражей в ярких солнечных лучах прекрасного дня.
И все же в этих воспоминаниях так много пережитого, передуманного, так много прошлого, которое любишь не потому, что оно было, а потому, что в нем были ростки нового, светлого будущего!
Москва
Март 1940 г.
Искры прошлого
Темная, бурная ночь. Холодно, угрюмо и мрачно.
Плотно закутавшись в свой плед, сидит он, после тяжелой болезни, в кресле у окна, а за окном мириады снежинок носятся в вихре, то тихо и плавно падая на холодную землю, то снова в дикой пляске целыми потоками вздымаясь кверху, выше зеленых верхушек замерзших сосен, выше шпилей затерянных в лесу домов.
И, как эти снежинки, проносятся в его воспоминаниях картины прошлого, — нет, не самые важные и решающие моменты в его жизни, а тысячи каких-то мелочей, которые врезались в память ярче и резче самых сильных событий, — какие-то отдельные искры прошлого, царапины, которые не изгладились из памяти, хотя нередко ничтожны были сами причины и еще незаметнее были их следы.
…Я вижу себя шестилетним мальчиком, на берегу моря, около Афин; весь берег Елевсинской бухты усыпан серой и белой обточенной галькой, а я забавляюсь, бросая плоские камешки в тихо набегающую волну.
— А знаешь ли ты, что все эти камешки мрамор? — говорит мне отец, и слово «мрамор» врезается мне в память, как острый шип шиповника. — Это не простой камень, это тот мрамор, из которого построен Акрополь в Афинах…
«Мрамор, мрамор…». Я не могу успокоиться, перестаю бросать камешки, собираю лучшие, обточенные водой, бережно кладу их в спичечную коробку и храню, храню как талисман много десятков лет!
…Бал-премьера в московском Большом театре. Молодой студент впервые среди роскоши и богатства московского купечества и знати! Залиты ярким электричеством залы театра, сверкают, переливаются тысячами огней бриллианты и самоцветы на обнаженных плечах.
— Вот посмотри, это княгиня Юсупова. Сине-зеленые камни — старые изумруды Колумбии, а среди них сверкает замечательный камень — бриллиант древней Голконды. Вот это колье, что так мертвенно блестит на шее этой красавицы, — это алмазы из Южной Африки, среди них известный солитер в пятнадцать каратов чистой голубой воды; смотри, все-таки мертвы эти алмазы Капа, и не сравняться им со старой Индией. Смотри, вон два камня, как капли крови, и смотри, какой нежной они окружены оправой из алмазных роз, как гармонируют они с этим выточенным как бы из слоновой кости греческим профилем. И как ярко горят они из-под черных вьющихся волос! Вот эта брошь известна всей Москве. Это гранатовый кабошон из Бирмы или Сиама (Таиланд); вокруг него как-то незаметно вьется струйка из дивных индийских бриллиантов. Говорят, что пришлось заложить два имения, продать часть своих фабрик иностранцам, чтобы купить эту замечательную брошь у индийского раджи. Впрочем, что говорить, — много слез и крови скрывается за блестящим огнем самоцветов; пожалуй, помнят это еще наши бабушки, но и они не любят рассказывать…
Я был первый раз на балу, меня туманили эти камни, этот нежный запах тончайших духов, этот мягкий колорит привезенных экспрессом из Ниццы фиалок, меня дурманили слова моего спутника, одного из представителей московской знати, его намеки на то, что эти камни много могли бы рассказать о себе и веселого и страшного, могли бы оживить много картин страсти и гнева, злобы и преступлений.
— Ну пойдем! — сказал мне мой спутник, с усмешкой смотря на мое растерянное лицо. — Я вижу, тебе не по нутру эта роскошь.
…Наконец мы на Риддере. Целый день, сгибая спины, ходим мы по подземным ходам, следим за мощными жилами серебристой свинцовой руды, собираем в пустотах и расщелинах кристаллики горного хрусталя, цинковой обманки, — мы целиком под впечатлением алтайских богатств. Все-таки как хорошо, когда снова выходим на солнышко: как ослепительно ярко горят снега Белков, шумит, бежит Громотуха, ласково и пышно разливается вокруг нас дивная алтайская природа, полная красок и цветов.
— Ну, теперь осталась только обогатилка! Там на столах Вильфлея ты увидишь, что делается с нашей рудой.
Дрожит деревянное здание дробилки, мощные щеки из марганцовистой стали сжимают в своих неумолимых тисках серую, невзрачную руду. Грязный водный поток увлекает растертую руду по желобам на большие столы, — они медленно, как-то неверно качаются, то содрогаясь судорожными движениями, то снова плавно покачиваясь на своих неустойчивых осях. Дрожат, мечутся в беспорядке кусочки руды: одни, что полегче, уносятся в потоках воды, другие тяжело падают на дно, расстилаясь по поверхности стола. Вот полоса черной цинковой руды, она занимает почти весь стол, — руда редких металлов: кадмия, галлия и индия. Дальше идет блестящая стальная полоса — это тяжелый свинцовый блеск с серебром, а по самому краю какой-то замечательной змейкой, яркой, тонкой, сверкающей, как искусная оправа, медленно плывут частички чистого золота…
Прошло с тех пор больше двадцати лет, но я не могу забыть этой сверкающей струйки настоящего золота…
Все эти картины для него сейчас в отдаленном прошлом: длинной вереницей, как снежинки за окном, тянутся воспоминания — то неясные, подернутые дымкой тумана, то яркие блестки старых впечатлений.
Почти полстолетия жизни исканий и увлечений, почти полстолетия любви, упорной и упрямой, любви безраздельной к камню, к безжизненному камню природы, к самоцвету, к куску простого кварца, к обломку черной руды! И за эти многие десятки лет он научился языку этих безжизненных и мертвых тел, он познал многие тайны их существования, зарождения и гибели, он сроднился с их природой, таинственной и скрытой, с их великими законами гармонии и порядка.
И в кажущемся хаосе окружающего его мира он увидел, наконец, величайшие законы мировой гармонии, того созвучия всего и всех в мире, о котором говорили древнегреческие философы, и особенно Пифагор, космоса, как величайшей идеи порядка, красоты и мира, слитых воедино в этом слове! И он понял, что неразрывными узами связаны судьбы природы с судьбой человека и что познание природы есть один из самых могучих рычагов на пути победы человека над миром.
Так, одно за другим, как птицы или, скорее, стрекозы, проносились перед ним воспоминания о прошлом, они теснились в беспорядке, вне времени и пространства, сплетаясь и переплетаясь то в развернутые ленты законченных картин, то в отдаленные обрывки, случайные, без начала и без конца. И замечательно, как это прошлое менялось в зависимости от настоящего, окрашивалось новыми красками…
Он записывал их, эти искры прошлого, сначала в темные зимние вечера, среди снежных бурь сосновых лесов; он кончал весной, той дышащей жизнью весной, когда кажется — даже мертвые камни горят более ярко; он писал, когда летнее солнце казалось растворенным во всей природе, в море, светлом, спокойном, в небе, залитом солнцем, в яркой листве, во всех переживаниях, мыслях, чувствах, исканиях, когда просыпаются новые силы к борьбе за светлую жизнь, когда, сильный и уверенный в самом себе, хочешь сбросить годы вместе со старым другом — чешским пледом.
И, вспоминая прошлое, он понимал, что из этого прошлого мы должны взять только то, что нам нужно, взять его так, чтобы прозорливее смотреть в будущее и безраздельно отдать этому будущему свои силы и свою жизнь!
Черное и белое
Гудки, гудки, телеграф в машину: малый ход — есть задний, — снова протяжный гудок. А так еще хочется спать, хотя яркие лучи солнца врываются сквозь жалюзи кабины большого черноморского теплохода! Потом начинается возня на палубе, шумно спускают трап, мерно стучат моторы кранов, и слышно, как из глубоких трюмов выгружаются машины, мешки, тюки, а в другие грузятся сотни ящиков мандаринов, табака, чайного листа…
«Вира, вира помалу, майна!» — доносятся знакомые с детства слова черноморских пристаней…
Солнце и звуки не дают заснуть, зовут на палубу, на берег земли.
Да! Это Поти. Углом разошлись громады цепей: снежной преградой стоит на севере Кавказский хребет, отдельными пиками высятся белые вершины турецкого Трапезунда; а между ними зеленая равнина Колхиды, залитая водами Риона; Колхида аргонавтов, будущая жемчужина кавказских предгорий!
Уже вытягиваются к небу громадные эвкалипты с их нежной листвой, благоухающие магнолии наполняют воздух острым запахом белых цветов, «золотисто-желтые цветы мимозы приносят в марте первое весеннее приветствие из Колхиды на снежные улицы Москвы».
Выстраиваются правильными рядами, как атомы в кристалле, деревья мандаринов и лимонов; по склонам холмов — зеленые бугорки чайных кустов, снова в том же строго геометрическом порядке, заимствованном человеком из великих законов кристаллов.
Солнце ослепляет еще заспанные глаза, сверкает и переливается синее море, сверкают вершины хребтов, и вдруг… две необычные картины приковывают наше внимание. Налево, как конусы маленьких вулканов, один за другим вдоль каменного мола высятся массы буро-черной земли. Огромные экскаваторы медленно, гордым движением своих пастей захватывают из вагонов тонны руды, высоко поднимают ее к небу, потом со скрежетом изрыгают черным дождем на вершину конуса. Но к ним протягиваются и другие пасти. Они, в свою очередь, захватывают так же спокойно и медленно черную землю, тихо поворачиваются к грязным «иностранцам», стоящим некрашеными и немытыми у прикола, и с шумом и пылью опускают буро-черную землю в глубину их черных и темных трюмов.
Из белоснежных известняков Чиатур привезена сюда дорогая марганцовая руда — лучшая в мире, и пароход за пароходом заполняют свои трюмы черной землей, чтобы везти ее на металлургические заводы разных стран мира.
И мирный и тихий марганцовый осадок мирных и тихих морей будет поглощен расплавами железа в пылающих и шипящих печах металлургических цехов, и новый металл, твердый и жесткий, родится из черной земли.
…И не отрывается глаз от медленных движений экскаваторов, отправляющих спокойно и величаво тысячи тонн марганцовой руды в новую, бурную жизнь.
Но справа от нас, за горой ящиков с мандаринами и грудами мешков с мукой, другая картина привлекает внимание.
Из парохода медленно и тихо извлекает экскаватор белоснежную муку. Он бережно поворачивается, как бы на цыпочках, и, бережно открывая свою пасть, бросает белый песок на пристань… И растут белые конусы, ослепительные на южном солнце, белые конусы муки, привезенные на пароходе «Рошаль». Я читаю под кормой имя города, хозяина парохода: «Ленинград», и мне делается понятной и загадочная мука и ее пути. Это апатит, химически претворенный в ценное удобрение на ленинградских заводах, это апатит — камень плодородия, камень великой кировской земли, камень фосфора, без которого нет ни жизни, ни мысли.
И он пришел сюда из жерл хибинских вулканов, вынесенный горячими парами и расплавами из глубин земли и ее магм; он пришел сюда после бурных дней своего рождения, пришел для мирного труда.
Скоро развеется и рассеется белая мука апатита по полям и садам новой Колхиды, давая жизнь и силу ростку, наполняя сахаристым соком цитрусы, выгоняя зеленые листики чайного куста.
Так скрещиваются в Потийском порту пути марганца и фосфора, пути двух различных атомов природы. Менделеевская таблица дала им два номера — 25 и 15: черному 25 и белому 15; два нечетных номера — числа вечно кружащихся вокруг них электронов.
Всюду они избегают друг друга, всюду расходятся их пути, — в глубинах ли магм земных недр, на земной ли поверхности, в технике ли человека.
Только издали переглядываются в Потийском порту черные и белые конусы — их судьбы различны в истории природы и человечества: номер 25 — друг номера 26, железа, металла войны; номер 15 — друг номера 19, калия, атома жизни, мирного роста природы…
Долго-долго с палубы уходящего в Батуми теплохода следим мы за этими двумя картинами, и великие законы природы сливаются в воображении в одну старую и вечно юную сказку, — в ней нет начала и нет конца, а есть лишь вечная смена борьбы и покоя, исканий и отступлений, войны и мира, жизни и смерти.
Чайки своими белыми крыльями почти задевают нас; мерно и уверенно работают машины теплохода, тихие синие волны с белыми гребешками бегут на восток…
Саамская кровь
Мой отряд ушел далеко на восток, в низовья Тульи; там готовят нам переправу в Ловозерские тундры, чинят карбас, собирают сведения у Петра Галкина, поджидают погоду.
Я спешу один догнать отряд; дорога до Купявра хорошо знакома, а там, на берегу Малого озера, я должен встретить нашу старую знакомую — саами Аннушку — и с ней пойти дальше через перевал Лявайока на реку Тулью. В лесу, вдоль склонов Путеличорра, видны наши зарубки, по ним идешь так легко и уверенно. Налево маячит гладь Большого Кунявра, справа высятся обрывы Хибинских тундр.
Солнце начинает безжалостно пригревать, какая-то усталость гнетет все тело, — очевидно простудился в дороге, — мешок за плечами тянет к земле, а десять-пятнадцать километров пути кажутся целой сотней.
Иду как-то неуверенно, утомленно, только зарубки подбадривают и заставляют быть постоянно начеку. Вот известный мне поворот влево, потом опрокинутая старая сосна, не ошибись! Снова зарубка справа, потом шесть зарубок прямо, ну, а дальше очень просто — крутой поворот налево к бурной реке, а на ней челнок, выдолбленный из ствола.
Все в порядке! Вот она и река, вот и челнок, а на том берегу стоит сама Аннушка, машет руками и готовится к переправе.
— Заждалась я второй день, уж чего случилось? — затараторила она, поворачивая ловким движением челн к левому берегу реки.
— Я, видишь, немного заболел дорогой, пойдем скорее в вежу и попьем горячего чаю.
Мы пошли нарядным сосновым леском к знакомому месту лопарской вежи, вернее шалаша-куваксы — из жердей, — перекрытого старыми, рваными мешками и чем-то, что было раньше брезентом. Снизу от ветра шалаш был защищен ветками елки и обложен мхом, посредине горел огонь, застилавший своим дымом верх вежи и медленно выходивший через отверстие наверху.
Меня сильно знобило, и я лег у огня, поджидая кипяток. Вечерело, но вечера и ночи были еще светлые, северные, полярные, только отдельные яркие звезды загорались на востоке, чтобы скоро погаснуть в лучах утренней зари.
— Вот, попей чайку и закуси рыбкой, что я тебе на палочке по-лопски зажарила, а потом, пока не заснешь, я тебе буду рассказывать наши лопские сказки.
— Ну, ладно, только подложи огня, а то холодно.
— А ты закройся оленьей шкурой, — сказала она, бросив мне на ноги старую шкуру.
И начала свой рассказ:
— Так вот, слушай. Это было давно-давно, когда меня еще не было, не было и Василия Васильевича, что пасет оленей на Малом озере, не было и старика Архипова на Мончегубе; очень давно это было. Нашли на нашу землю чужие люди, сказывали — шветы, а мы лопь были, как лопь, — голая, без оружия, даже без дробников, и ножи-то не у всех были. Да и драться мы не хотели. Но шветы стали отбирать быков и важенок, заняли наши рыбьи места, понастроили загонов и лемм — некуда стало лопи деться. И вот собрались старики и стали думать, как изгнать швета, а он крепкий был такой — большой, с ружьями огнестрельными. Посоветовались, поспорили и решили пойти все вместе против него, отобрать наших оленей и снова сесть на Сейявр и Умбозеро.
И пошли они настоящей войной — кто с дробником, кто просто с ножом, пошли все на шветов, а швет был сильный и не боялся лопи. Сначала он хитростью заманил на Сейявр нашу лопь и стал ее там крошить. Направо ударит — так не было десяти наших, и каплями крови забрызгали все горы, тундры да хибины; налево ударит — так снова не было десяти наших, и снова капли крови лопской разбрызгались по тундрам.
Ты ведь знаешь, сам мне показывал, такой красный камень в горах — это ведь и есть та самая кровь лопская, кровь старых саамов.
Но осерчали наши старики, как увидели, что швет стал крошить их, спрятались в тальнике, пособрались с силами и все сразу обложили со всех сторон швета; он туда, сюда — никуда ему прохода нет: ни к Сейявру спуститься, ни на тундру вылезти; так он и застыл на скале, что над озером висит. Ты, когда будешь на Сейявре, сам увидишь великана Куйву, — это и есть тот швет, что наши саами распластали на камне, наши старики, когда войной на него пошли.
Так он там и остался, Куйва проклятый, а наши старики снова завладели быками и вженками, снова сели на рыбьи места и стали промышлять…
Только вот красные капли саамской крови остались на тундрах, всех их не соберешь, много их пролили наши старики, пока Куйву осилили…
И вдруг, увидев, что я засыпаю под ее несколько путаный рассказ, Аннушка остановилась и неожиданно спросила меня:
— А сколько у тебя там дома быков?
— У меня? У меня нет оленей.
Она недоверчиво покачала головой и стала подбрасывать ветки в потухавший костер.
На следующий день мы с ней пошли на Умбозеро и к вечеру были на берегу, где нас нетерпеливо ждал отряд, готовый к переправе на Ловозерские тундры. Мы ласково простились с Аннушкой, и она на прощанье повторила:
— Не забудь на Сейявре посмотреть на Куйву, он страшный-страшный.
Но нас интересовал не сам Куйва, а рассеянные в тундре капли саамской крови, того замечательного красного камня Хибинских и Ловозерских тундр, имя которому эвдиалит.
И нет ему равного во всем мире, как нет ничего дороже крови человеческой, пролитой за свободу и жизнь.
Алебастр
Белый-белый, как ваш сибирский хлеб, чистый, как сахар или лучшая русская мука для макарон, — таким должен быть алебастр, — говорил мне маленький быстрый итальянец, показывая бесформенные куски белого камня в своей художественной мастерской.
Мы — в Вольтерре, угрюмой, нависшей на скалах крепости старой Этрурии, в центре художественной обработки алебастра. Этот камень находят глыбами, неправильной формы, величиною с голову человека, среди серо-зеленых глин безводной итальянской Мареммы, очищают от породы и чистые куски, без трещинок и жилок, целыми возами, запряженными мулами, отправляют по пыльной дороге наверх в Вольтерру.
Здесь больше 2 тысяч лет тому назад зародилось замечательное искусство обработки этого мягкого белого камня. Ножом, скребком, сверлом, пилочкой, мягкими деревянными палочками быстро и верно обрабатывается алебастр, и на ваших глазах из бесформенного желвака вырастает каррарский бык, задумчивый ослик или фигурка девочки.
Тихо поют мастера, что-то приговаривают другие, то вдруг раздается веселая общая песнь, подхватываемая десятками молодых голосов. Яркое южное небо, ослепительное солнце, вдали сверкает полоска Средиземного моря, где-то в дымке тумана, на севере, лежит Пиза, на востоке, за голыми безжизненными хребтами — Сиенна с ее желтыми солнечными мраморами.
Город застыл в своем XV веке, когда, залитый кровью гражданской борьбы, он ожесточенно бился за свободу, против Лоренцо Медичи; огромные камни скатывались сверху, осаждавших обливали кипящим маслом, сбрасывали с круч приставных лестниц… чтобы потом город оказался почти целиком вырезанным потерявшими человеческий облик победителями.
Как будто бы застыл с тех пор свободолюбивый город: тихо раздаются песни приезжих крестьян, тихо отбивают такт колеса машин, режущих мрамор и алебастр на тонкие пластинки. Из столетия в столетие передаются старые приемы и старая техника. Кажется, все живет и дышит здесь XV веком.
— Пойдемте вниз, туда, где свершалось правосудие.
По стертым лестницам в полумраке фонаря спускались мы в подземелье; мрачные своды как бы сжимали нас со всех сторон. Мраморный пол был застлан мягким ковром, большой стол и удобные кресла стояли в одном углу. Во мрак сводов уходили коридоры подземелья.
Здесь творился суд.
По углам, около стола на больших постаментах стояли вазы из просвечивающего алебастра.
— В них горели свечи, — сказал проводник, предупредив мой вопрос, — я вам сейчас покажу. — И он поставил свою свечу внутрь одной из ваз-светильников. Ровный, мягкий свет разлился вокруг, нервно и судорожно трепетал свет свечи, безжизненными казались наши лица, словно лица мертвецов.
И вдруг я увидел картину правосудия! Судьи в черных балахонах, с черными капюшонами на голове, и перед ними трепещущий, бессильный отступник. От чего отошел он в своем преступном богохульстве? Какие идеи посмел он высказать в нарушение священного слова? Отказывается он сейчас от этих своих слов? Или же там, в углу подземелья, при свете двух факелов пытки заставят его отказаться и назвать имена тех, кто с ним?
Мертвенный свет алебастровой лампы скрывает мертвенность его липа, его борьбу с самим собой, борьбу физических страданий с глубокой верой в свою правоту.
Безжизненно белы лица судей в черных капюшонах, дрожат на них отблески колеблющегося пламени свечи в алебастровом светильнике.
Это был священный трибунал Санта-Оффицио — инквизиции.
Гатчинский дворец. Ночь. Все входы и выходы заняты верными караулами, и еще более верные гренадеры занимают внутренние двери апартаментов царя Павла.
Все повержено в полумрак. Только по углам больших залов дворца горят одинокие свечи в высоких алебастровых вазах. Дрожит мягкий лунный свет в зеркалах и на блестящем паркете. Мертвенная тишина отвечает мертвенным бликам алебастровых ваз. А они просвечивают каким-то неземным сиянием: вот пробегает через камень желтенькая жилка, вот какое-то пятнышко нарушает общий белесый тон камня. Казалось, вся душа камня, все его содержание пронизано и пропитано было мерцающим лунным светом.
Медленно, с военной выправкой, полутемными апартаментами идет император. Его лицо бледно, как у мертвеца. Он останавливается, тихо прислушивается и снова идет проверять часовых. Все в порядке. В изнеможении от непонятного страха и гнева садится он на трон большого зала, где итальянские алебастровые вазы проливают загадочный лунный свет на штофные покрывала царского трона.
Веселые западные склоны Урала. Приветливая речонка вьется по широкой долине. Через нее, как полагается, сломанный мост, а по обоим берегам вольно раскинулась деревня, с двумя широкими улицами и непролазной грязью. Всюду весна, тепло, хорошо, скоро новое лето и новый урожай.
Так рисовалась нам старая русская уральская деревня, старое ямщицкое село Покровское. Здесь жили кустари, работающие по камню. Здесь вытачивались к пасхе золотистые яйца из селенита. Здесь из алебастра вырезались зверьки, пепельницы, чернильницы, стаканчики, слоны, уточки, змеи, древние челны, пресспапье да всякие безделушки. Кто сам дома, у себя на дворе, обтачивает камень и не хочет идти ни в «кумпанство» артели, ни в «казенную», кто работает на земство в его мастерской, — камня в горе много: и алебастра — белого и желтоватого, и селенита — не то золотистого, не то лунного, и даже синеватого ангидрита, чуть-чуть более твердого, чем гипс, но слегка просвечивающего.
Летом не до камня! Пахота, выгон скота, сенокосы, уборка хлеба, — а вот с осени, в длинные вечера, под лучинку или под керосиновую лампу с обитым стеклом, — вот тогда за работу!
— Вырежем мы камень да отнесем его отцу Вахромею, он горазд красками его разукрасить.
И растут букеты роз на бело-серой чернильнице, на пасхальное яйцо наносится пронзенное сердце, а на слоника — маленький цветочек незабудки с двумя листочками.
— Зачем? — спрашиваем мы.
— Так веселее, да и товар ходчее.
И из года в год, десятки и сотни лет по старинке жили люди, по старинке работали, по старинке думали…
Это были годы до потрясений войны, до революции.
Я кончил свой рассказ. Что хотел я им сказать? Я просто хотел нарисовать несколько судеб камня в прошлом человеческой истории.
И когда сейчас я вхожу в удобную гостиницу «Москва» и вижу под потолком нежные алебастровые люстры, мягко и весело отбрасывающие лучи на потолок, я просто вспоминаю эти отдельные картинки прошлого.
А тем, кто не знает, что такое алебастр, я посоветую прочесть о нем в учебнике минералогии, где сказано примерно так:
«Алебастр — мелкозернистая разновидность гипса разного цвета, преимущественно чисто белого, встречается в Италии, на Волге, на западном склоне Урала и во многих других местах. Используется как мягкий декоративный камень».
В огне вулкана
Как-то раз вечером, в порыве откровенности, он рассказал нам историю одной своей встречи, странную и страшную историю, которой мы сначала не поверили. А потом… когда увидели, как переживал он прошлое, рассказывая о нем, должны были поверить ему.
Я был оканчивающим университет студентом, увлекался геологией, и меня, жителя равнин, привыкшего к бесконечным осадкам морей и некогда могучих ледников, увлекали вулканы, расплавленные лавы, извержения, глубины земли; я весь горел мечтой попасть на настоящий вулкан, хотя бы и потухший, на вулкан, который когда-то наводил ужас своими взрывами, извержениями горячих паров, пепла, лав…
— Поезжайте в Крым на Карадаг, — с легкой усмешкой сказал мне профессор. — Я вижу, вы так увлекаетесь вулканическими породами, что вам надо поехать посмотреть хотя бы древнеюрские вулканы Крыма. Поезжайте, соберите нам образцы пород и минералов… а мы вам поможем денежно, — прибавил он как-то застенчиво, не желая, очевидно, вопросы науки смешивать с вопросами бренного металла.
И я поехал, но поехал не один. Еще зимой я увлек своими рассказами о вулканах молодую курсистку Исторических курсов, которой я с горячностью доказывал, что единственная история, которой стоит заниматься, — это история самой Земли, ибо с нее все начинается и на ней все кончается. Шурочка очень внимательно и серьезно слушала меня, и хотя она, как всякая историчка, была спокойной, трезвой, разумной, но я заразил ее своим увлечением… И мы поехали.
Забрали с собой книги, ученые и неученые, о Крыме; тут был и старый томик в кожаном переплете — Дюбуа, сто лет тому назад мастерски описавшего природу Крыма, были и совсем новые научные книги о вулкане Карадаге, о его зеленых трассах, о коктебельских камешках. В поезде я усиленно читал с молодым пафосом Шурочке отдельные страницы из этих книг, с грехом пополам переводил старика Дюбуа де Монперре, и все шло хорошо-хорошо, так весело, молодо и беззаботно.
Шурочка была прекрасным спутником, быстро вошла в роль «заведующего снабжением», даже слишком была разумной и расчетливой. «Шурочка, Шурочка, не будь такой умной», — смеясь, говорил я ей.
Мы решили выйти на станции Сарыголь, не доезжая до Феодосии, пешком пройти через поля в Старый Крым, а оттуда через хребет прямо сверху свалиться на Карадаг, — так интереснее, думали мы, наметив этот необычный маршрут. Все шло как по маслу.
Пришли в Старый Крым, заночевали в буковом лесу у старого армянского монастыря, вдыхая аромат лугов Крымской Яйлы, неожиданно увидели синее безбрежное море, внизу — громаду Карадага, а слева, у белой линии морского прибоя, несколько маленьких домиков — Коктебель.
Ну, словом совсем как писал Пушкин о берегах Тавриды:
Мы весело скользили вниз по шуршащим старым листьям под зелеными буками, взявшись, как дети, за руки, сбегали по каменистым дорожкам, через виноградники, табачные плантации, мимо саклей, домиков, хибарок; море все опускалось и опускалось перед нами, а Карадаг вырастал грозной черной массой.
Ну, вот и Коктебель! Вот приветливый берег с мягким гулом лениво набегающих волн. Вот там поставим мы нашу палатку и утром и вечером будем смотреть на грозный, настоящий вулкан!
Сначала мы даже как-то разленились: вышли на берег моря, легли у убегающих и нежно журчащих по камешкам волн и… заразились, да, заразились той болезнью, которой болеют все в Коктебеле, особенно после грозных бурь, когда громадные пенистые валы приносят на берег сотни, тысячи, миллионы прекрасных коктебельских камешков. И мы лежали часами, не скрою — днями на животиках, хвастаясь своими находками и бережно собирая в носовой платок один камешек лучше другого. А потом, вечером, в нашей палатке, при свете где-то раздобытой коптящей лампы, мы разбирали наши сокровища: вот розовые и пестрые агаты с витиеватыми рисунками, вот зеленые яшмы с пестрыми пятнами, ведь это подводные лавы каких-то страшных извержений морских глубин, вот кусочек окремнелого коралла — свидетеля грандиозных катастроф подводных вулканов, вот мягкие цеолиты, которые рассказывали нам о тех горячих источниках, которые вытекали из вулкана, когда уже затихли скованные в недрах силы.
Горящими глазами смотрела на эти камни Шурочка; какое-то мне раньше незнакомое выражение глаз и незнакомая интонация немного дрожащего голоса говорили, что камень взял ее за живое, что в ней проснулись какие-то новые нотки, не знаю, как сказать, — пожалуй, нотки страсти, чего-то такого, что даже немного задело меня.
Но это было мимолетное выражение и мимолетный блеск глаз, и я продолжал с увлечением рассказывать ей о великих законах магм, кипящих в неведомых глубинах, о том, что все наши материки, наша большая и твердая земля не что иное, как острова на расплавленном океане вот такой именно лавы, из которой и наш Карадаг.
Мы взяли лодку и отправились в Сердоликовую бухточку, зажатую между нависшими вулканическими скалами.
— Отсюда мы должны начать наши работы, — говорил я. — Подымемся выше по крутому и дикому ущелью Гяурбаха, где мы должны отыскать старое жерло вулкана, которого не нашел сам академик Левинсон.
Мы легко выпрыгнули на берег, отправили лодку с греком-рыбаком обратно, приладили свои рюкзаки с продовольствием и фляги с водой…
Налево, в десяти метрах над нависшей скалой мы открыли первую жилку розового агата. О, как веселилась Шурочка, отбивая молотком острые и твердые куски этого камня! С шумом летели вниз осколки, а море было такое тихое, спокойное, покорное, лучезарное, как небо над нами!
Но жилка агата тянулась вверх. Вот разошлись ее стенки, на розовом и голубовато-зеленом агате показались кристаллики горного хрусталя, потом какие-то иголочки с перламутровым блеском — целый пучок.
— Вот это настоящая жила, — говорил я Шурочке, которая, забыв о круче, ухватившись одной рукой за выступ скалы, другой усиленно выбивала кристаллики.
— Будь осторожна, — говорил я ей, но камень заворожил ее.
— Оставь, оставь, вот там, смотри, повыше — жилка еще прекраснее, какой-то нежно-зеленый халцедон, как бархатом, выстилает всю жилу, а там дальше, нет, подожди, не мешай…
И снова в ее глазах я видел все то же незнакомое выражение, но теперь это не была искорка, а огонь азарта, о котором я раньше только читал в рассказах о рулетке Монте-Карло. Да, в ней проснулся какой-то огонь страсти. Страшная искра игрока, для которого нет ничего, кроме выигрыша и победы…
«Ну нет, глупости, — успокаивал я себя, — она просто еще молода и неопытна».
А Шурочка, смелыми, резкими движениями цепляясь за камни, лезла все выше.
— Ура! — кричала она сверху. — Вот в щелке какой-то красный камень, красные кристаллики сидят на зеленом халцедоне, а там дальше большие кристаллы белого кальцита. А жила, жила тянется все выше, все шире, все прекраснее! — кричала она мне, но я в ее словах слышал уже только голос азарта, голос охотника, игрока. Я видел, как горели ее глаза, как она сбрасывала дрожащей от волнения рукой отбитые образцы, я помню, как прижалась она, как белая бабочка, к раскаленному утесу всем своим телом, стараясь удержаться на заколебавшейся скале…
А дальше я ничего не помню… Кроме острого крика, шума падающих каменных глыб, плеска воды и потом — мертвой, мертвой тишины…
…Ее тело мы нашли только через три дня, оно прибито было волнами на прекрасную гальку Сердоликовой бухты.
С тех пор я никого не беру на поиски камня.
Беломорит
Там, где Белое море своими белыми тонами сливается со светлым, бескрасочным небом, там, где вся природа проникнута белыми ночами Севера, — там родился беломорит, этот лунно-загадочный, мерцающий камень. Нет, он не родился там, — это мы его там придумали!
Рано утром, хорошо выспавшись в мягком вагоне, мы с Николаем Александровичем вышли на станции Полярный Круг, поправили свои рюкзаки, подтянули брюки, затянули ремешки высоких сапог и пошли на «Синюю Палу».
Тропка вилась болотами, хотя Николай Александрович уверял, что пути всего часа два-три, что болот почти нет, а дорога хорошая, чуть не шоссе!
Но мне сразу что-то не поверилось. Тропка, правда, была нахоженная, но мокрая, топкая, земля только что оттаяла, болота едва начинали покрываться пушком, а тропка… а ну ее, эту проклятую тропку, — нога тонула в мягком болотистом мху, с усилием приходилось ее вытаскивать, чтобы снова утопать другой ногой.
Вот болотистая речонка, никак не знаешь, где перейти.
Не то по сваленному дереву, не то циркулем в обход, а вода уже давно хлюпает в высоких сапогах.
— Я вам говорил, — уверенно журит меня Николай, — нечего было надевать высокие сапоги, тут лучше просто в туфельках, все равно мокро и скользко.
Прошло два часа, мелькают какие-то озера, или это болотца, или заливы Белого моря — не знаю, да и знать не желаю; устал, а мошка и комарье начинают виться вокруг. Опустишь накомарник — душно, жарко, пот так и капает, откроешь — кусаются, черти… А тропка все вьется по мягкому мху лесов да перелесков, между вараками, через вараки, вокруг вараков, — да скоро ли?
— Скоро, — кратко отвечает Николай. Он тоже устал, но не хочет в этом сознаться. — А впрочем, вон и казарма.
Взаправду, совсем близко — избушка, кузница, новый барак, а дальше, на склоне невысокой вараки, белеют камни, штабеля — словом, пришли: «Синяя Пала».
Сразу даже стало легче ногам, и мох показался не таким топким, и вода меньше стала хлюпать в левом сапоге.
— Ну нет, подождите, — сказал методически Николай, — сначала закусим, попросим кипятку в чайничке, а потом пойдем на жилу.
Это не совсем было в моих привычках, но он говорил правильно. Сели, закусили, выпили чайку, аккуратненько уложили все снова в мешок и только потом пошли на жилу.
Среди темных амфиболовых сланцев лежала белоснежная жила, она растянулась свободно на целых десять метров, высоко вздымалась на вершину вараки, уходила своими белыми ветвями в темный камень сланцевых пород.
Николай как опытный следопыт, сразу напал на ранее открытые им замечательные минералы; уже целая коллекция прекрасных штуфов лежала около его мешка, а он упорно, шаг за шагом, маленьким молоточком отбивал все новые и новые образцы.
А я сел около штабеля сложенного к отправке полевого шпата, посмотрел внимательно на него и больше не смог от него отвести своих глаз, — это был белый, едва синеватый камень, едва просвечивающий, едва прозрачный, но чистый и ровный, как хорошо выглаженная скатерть.
По отдельным блестящим поверхностям раскалывался камень, и на этих гранях играл какой-то таинственный свет. Это были нежные синевато-зеленые, едва заметные переливы, только изредка вспыхивали они красноватым огоньком, но обычно сплошной загадочный лунный свет заливал весь камень, и шел этот свет откуда-то из глубины камня, — ну так, как горит синим светом Черное море в осенние вечера под Севастополем.
Нежный рисунок камня из каких-то тонких полосочек пересекал его в нескольких направлениях, как бы налагая таинственную решетку на исходящие из глубин лучи. Я собирал, отбирал, любовался и снова поворачивал на солнце лунный камень. Так прошло много часов.
— Ну, теперь хватит, наработались, — не без привычки к команде сказал мой спутник. — Пойдем на вершину вараки, там полюбуемся Белым морем, закусим бутербродами — и домой!
Быстро поднялись мы на оголенную вершину вараки… и неожиданно увидел я свой камень, — нет, не камень, а Белое море с тем же синевато-зеленым отливом, сливавшимся с таким же синеватым горизонтом такого же серого, туманного, но искристого неба. Заходящие лучи солнца иногда поднимали из глубин какие-то красноватые огоньки; синева леса была подернута все той же полярной дымкой, без которой нет нашего Севера и его красот.
Белое море отливало цветами лунного камня… или камень отражал бледно-синие глубины Белого моря?..
Мы назвали наш полевой шпат беломоритом и отвезли его на Петергофскую гранильную фабрику как новый поделочный камень нашей страны.
По грибы
Знаете ли вы, как собирают грибы? Если не знаете, то обязательно прочтите мой рассказ, а если знаете… то все же прочтите, может быть кое-что исправите или пополните, да мне напишите.
Конечно, набрать грибов — это совсем не значит принести целую корзину да вывалить ее всю на стол, все вместе, в общей каше: и помятые мокрые подберезовики, и оборванные ножки рыжиков, и смятые переборочки волнушек. Нет, собирать грибы — это значит с толком и с расстановкой их уложить еще в лесу в корзинку и аккуратно выложить дома на стол: серо-зеленые шляпки рыжиков вместе — для салата со сметаной; мокроватые подберезовики для супа — отдельно; ну, а если посчастливилось найти белые грибы, то их надо принести осторожно в платке и поставить так во всей их красе и гордости, даже с кусочками нежного мха…
Вы не смейтесь! Это дело серьезное, но еще серьезнее само хождение по грибы: здесь надо быть большим спецом, надо учиться этой науке — грибособиранию, или, по-ученому, фунгоколлегологии.
Ведь там, где вырублена просека березового леса, там ничего, кроме сухих подберезовиков да разве что волнушек, не найдешь. Вот поближе к речке, где больше осины стоят, там сейчас на солнышке растут красные шапочки подосиновиков, а на старой дороге, по обочинам, в весенней колее зимника и особенно около канавы или рытвины с водой, там, где посырее, — там царство рыжиков; их сразу не заметишь: они, черти, рыжие только снизу, а сверху какие-то мокро-зеленые, серые, ну, как сама заросшая дорога, — видимо, прячутся от фунгоколлекциофилов.
Но главная тайна нашей науки изложена в последней ее главе: как и где искать белый гриб? Там об этом написано целых двадцать страниц. У меня же свой секрет. Надо пойти в старый еловый лес, в этом лесу поискать место, где подлесник сквозь мох пробивается, чтобы травы не было, а такой сплошной зеленый, мягкий, но сухой мох, — вот там осторожно подыми ветки елки да пошарь рукой под мягким мхом; обязательно найдешь крепкого красавца боровика… конечно, если там грибное место, а если не грибное, то ничего не найдешь!
Надо только с любовью да думаючи собирать грибы, и тогда они у тебя в корзинке.
А знаете ли вы, как надо собирать камни, кристаллы, минералы, образцы руд?
Это совсем не значит — отломать грубым молотком два-три куска, положить их в мешок, свалить потом их в ящик, в городе вынуть обтертые и запыленные образцы из мешка, наложить горой их на лоток, на него поставить второй, так целым штабелем… ибо в шкафу нет места.
— Да что вы делаете, милый друг, ведь вы безбожно обломали замечательный кристалл берилла! Теперь даже не разберешь — не то кварц, не то прозрачный воробьевит. Да можно ли так!..
— А вы что думаете, — начинает герой оправдываться, — легко их было везти? Мы ведь с самых круч Бартанга должны были камни тащить на своей спине, а бумаги, знаете, не было, а потом двести километров верблюдами, в куржумах, там сеном переложили, а потом автомобилем тоже сотни километров, вы что думаете — по асфальту везли, как пирожные с кремом из кондитерской в Москве, — вот камни и обились. Нет, Это вам хорошо критиковать. Да ничего, мы помоем их щеткой, разобьем, сделаем шлифы… Это еще ничего, а вот когда мы в прошлом году собрали коллекцию нежнейших цеолитов — таких волосистых кристалликов с красными головками, так, знаете, от них ничего не осталось, все в муку превратилось: ну и выбросили.
С растущим ужасом слушал я слова геолога.
— Ну, а как же вы будете их изучать? Ведь надо же измерить кристаллы, определить относительный возраст минералов. Так ведь вы в этих обломках ничего не поймете. Только тонкий химический и кристаллохимический анализ помогает разобраться в сложных процессах кристаллизации, в законах роста этих некогда прекрасных образований. Ведь истинные законы — великие законы природы — обычно начинаются за третьим десятичным знаком, — в тонких мелочах строения, в неуловимых чертах лица скрыты глубочайшие тайны мироздания; надо присмотреться, вдуматься в каждый камень, и он сам расскажет тебе без шлифов и полировок о своем прошлом. Ты только к нему присмотрись, так любовно и думаючи!
— Видишь, смотри! — показывал мне горщик Лобачев кусочек редчайшего хиолита на Ильменской копи. — Вот видишь ты, тоненькая розовая полосочка, что лежит между шпатом и леденцом, — это, значит, будет хиолит, по-вашему; а если нет полосы, то самый настоящий криолит, он на зубах потверже, скользкий такой, как кусочек льда, а хиолит — тот рассыпчатый, хрустит под зубом.
Так поучал меня Андрей Лобачев, этот неграмотный миасский горщик, всю свою жизнь отдавший горам и камню.
А через несколько лет в прекрасном трактате датского минералога об ильменском криолите я нашел почти все эти описания мелочей строения как разгадку тайны рождения этого ледяного камня в горах Южного Урала. Тончайшие наблюдения, достойные самых великих ученых натуралистов, рождались в простой, бесхитростной душе горщика, всю жизнь — тяжелую и голодную жизнь — проведшего на копях, в мокрых дудках Мурзинки, на отвалах Шишимских копей или в Ильменском лесу. Десятки лет глаз привыкал к тем едва уловимым сочетаниям цвета, формы, рисунка, блеска, которых нельзя ни описать, ни нарисовать, ни высказать, но которые для горщика были ненарушимыми законами природы.
— На Кривой, там ширла с мягким задником, она только легко прикипелася к шпату, а на Мокруше сидит глубже, как треппами у гранильщика, и не оторвать ее оттуда, да и блеск, знаешь, на Кривой зеленый, что стоячая вода, а на Мокруше — иссиня-черный, как воронье перо, только не с крыла, а с хвоста вороны.
И вспомнились мне эти уроки старых горщиков, любивших камень, сроднившихся с его тайнами, умевших в своих мозолистых, грубых руках бережно отнести домой штуф с тяжеловесом, кристаллы тумпаза с шляпкой и иглами ширлы.
Вы, творцы толстых фолиантов, написанных в кабинете, о происхождении цинковых руд или о свойствах тысячи шлифов змеевика, умеете ли вы так любить и ценить камень? Поняли ли вы, в разговоре с ним наедине, его язык, разгадали ли вы тайны пестрого наряда его кристаллов, таинственного созвучия его красок, блеска, форм?
Нет, если вы не любите камня, если вы не понимаете его там, в самой горе, в забое, в руднике, если не умеете в самой природе читать законы прошлого, которые рождают его будущее, то мертвыми останутся все ваши ученые трактаты и мертвецами, обезображенными, изуродованными, будут лежать бывшие камни в ваших шкафах.
Лучше тогда оставьте их… и займитесь фунгоколлегологией.
Testa nera
Знаменитые пегматитовые жилы Монте-Капанны на острове Эльбе лежат где-то в лесистом овраге между Сант-Илларио и Сан-Пиетро-ин-Кампо.
Был жаркий июльский день; мне не хотелось подниматься по крутым каменистым тропинкам до самого Пиетро — деревушки, высоко висящей на склонах гранитного массива. Я решил пойти в Илларио и там поискать кого-нибудь, кто проведет меня по горным тропам в Гротта-Доджи, замечательные самоцветы которой так широко известны минералогам всего мира.
Я не ошибся. Уже входя в деревню, приветливо улыбавшуюся мне среди виноградников, я увидел, что здесь ценят и умеют любить камень: в каменных заборах осторожно и любовно вставлены были глыбы пегматитов со «щетками» полевого шпата и кварца, а в одном доме, у входа, в оштукатуренную стену был замурован обломок жилы с красивым розовым турмалином. Я постучался, кое-как на своем ломаном итальянском языке сговорился со стариком, хозяином дома, и мы пошли.
Скоро по камням, обрамлявшим узкую тропу, я смог догадаться, что мы приближаемся к Гротта-Доджи: глаза уже разбегались при виде кусков письменного гранита с большими длинными копьями черной слюды.
Но вот и Гротта-Доджи. Несколько рабочих лениво бьют отверстие для шпура; огромные отвалы загромождают узкое ущелье, на брезенте лежат отобранные штуфы редких минералов.
Кто из минералогов не знает замечательных образцов из этой копи — кристаллов плоского розового берилла, блестящего серого полевого шпата, редчайших цеолитов и, наконец, самой большой ценности — кусочков как бы обсосанного леденца — самого поллукса! Этот камень — единственное в мире соединение редчайшего металла цезия, и его неизменным спутником в копи является цеолит, по прозванию кастор. Самым замечательным минералом в этой копи был турмалин, кристаллики которого были окрашены в самые разнообразные цвета — зеленые, желтые, бурые, голубые, но красивее всех были большие прозрачные камни с нежно-розовыми головками, ими можно было любоваться в музее университета в Пизе.
Testa nera — многоцветный (полихромный) турмалин (вверху); эвдиалит, или саамская кровь (внизу).
Я усиленно собирал образцы пород и минералов, но мне никак не удавалось найти хотя бы маленький турмалин с розовой головкой; с черными концами кристаллики лежали в изобилии на брезенте рабочих, а розовых не было.
Я сказал о своем желании старику. Тот угрюмо посмотрел на меня.
— Разве ты не знаешь, что здесь нет больше розовых головок?
— А почему?
— Ну, слушай, если хочешь, я тебе расскажу…
— Только, пожалуйста, помедленнее, а то я плохо знаю ваш тосканский язык, хотя и учился в гимназии латыни.
— Так вот, был у нас в деревне, это было давно, парень Ферручио Челлери. С детства возился он с камнями. Собирал опалы в зеленом камне из-под Илларио, где-то нашел аметисты и желто-бурые гранаты, а потом как-то набрел и на розовый турмалин. Целыми днями он шарил между Илларио и Сан-Пиетро-ин-Кампо, отбивал камни, смотрел под корни деревьев, ползал по самому ручью и, наконец, нашел турмалиновую жилу. Все свои силы, деньги, время, всю душу отдал он своей Гротта-Доджи, как он ее нежно назвал. Лето и осень, даже греясь в зимние холода у костра, он работал на жиле, и чудные камни, о которых мы больше не можем и мечтать, бережно выносил он к себе в деревню.
Слава о самоцветах пошла по острову.
И вот в один весенний день Ферручио, придя на свою жилу, увидел там двух карабинеров, знаешь, с петушиными перьями на голове. Они грубо сказали ему, чтобы он убирался, так как земля не его, а принадлежит Дельбуоно, и отныне сам барин Дельбуоно будет добывать камни в Гротта-Доджи.
Да, это было верно. Земля помещика Дельбуоно клином врезалась между Илларио и Сан-Пиетро-ин-Кампо, а ты ведь слышал о Дельбуоно, — это он купил дворец у Демидовых Сан-Донато, там, где жил сам император Наполеон. Это он осквернил память великого корсиканца, построив перед самым дворцом завод для шампанского! С ним бороться нельзя было. Весь бледный, шатающийся, вернулся к себе домой Ферручио. Потом прошло несколько дней, что-то ничего не слышно было о нем, и лишь, как сейчас помню, в самую вербную субботу рыбаки принесли его тело с южного берега Монте-Капанны.
Пошел ли он с горя искать сверкающие, как капли росы, кристаллы горного хрусталя, да оступился, или хотел отбить куски той зеленой гранатной змейки, что вьется между гранитом и чипполинами у мыса Паломбайя, — никто этого не знает.
Только похоронили мы Ферручио в ограде церкви Сан-Пиетро и на его могилу положили большой белый кусок породы из Гротта-Доджи: хорошего штуфа с кристаллами Дельбуоно нам не дал!
А на жиле начал работать Дельбуоно; он привез машины, нанял много рабочих, разворотил, как видишь, целую гору, но розовых турмалинов с розовой головкой больше не было… А вместо них, рассказывают рабочие, выросли на турмалинах черные головки, знаешь, Эти мохнатые, некрасивые камни с черными траурными головками — testa nera, как назвали их наши горщики. А розовых камней так больше и не было! — прибавил старик и замолчал.
— Что же, как хочешь, верь или не верь, — сказал он немного погодя, уловив, очевидно, на моих губах улыбку сомнения. — Не верь, а вот у вас, русских, есть говорят, еще более диковинный камень. Когда в Рио-Марину пришел лет пять тому назад русский пароход с мукой, то один инглезе с парохода рассказывал в кофейне; знаешь, что на углу Виа-Гарибальди у переулочка Фраскатти, почти у пристани, что у них в России есть такой камень: днем он зеленый, веселый, чистый, а как приходит вечер, заливается кровью, красным делается: не то кто-то убил кого, не то… не знаю, но кровь каждый вечер выступает в этом камне. Кажется, его у вас называют александритом. Это еще диковиннее, и Джузеппе из кофейни в Рио-Марине клянется святой девой, что это правда!
Я молчал и, не отвечая на немой вопрос, стал бережно, особенно внимательно заворачивать образцы в бумагу и укладывать в свой рюкзак.
Люди камня
Я проходил мимо людей; меня называли часто сухим, бесчувственным. Годы шли, лучшие молодые годы, а люди оставались как-то вне моего жизненного пути…
Камень владел мною, моими мыслями, желаниями, даже снами… Какая-то детская любовь к камню, красивому, чистенькому кристаллу с аккуратно наклеенным номерком и чистенькой этикеткой; потом юношеские увлечения красотою камня. И много лет алмаз в тысячах, десятках тысяч каратов проходил перед моими глазами, заворожив меня своим сверкающим блеском, и законы его рождения казались мне величайшими тайнами мира; на смену алмазу пришло увлечение аквамарином, горным хрусталем, топазом в пегматитовых жилах Эльбы, Урала, Забайкалья. Мне казалось, что именно здесь, в сложной истории этих самоцветов, в их родстве и связях с сотнями других редчайших минералов, скрыты величайшие тайны нашей науки, и толстенные фолианты исследований о пегматитах сложились как результат долгих, почти тридцатилетних наблюдений над законами их жизни и смерти.
Камень наполнял мою жизнь, в сложных сочетаниях, в своей внутренней природе, в своей длинной и сложной истории, а люди?..
И вот сейчас, когда в моей голове постепенно проходят воспоминания прошлого, когда приходится это прошлое не просто вспоминать, а раскладывать на части, острым скальпелем анатома вскрывая отдельные нервы и жилки, вот сейчас только начинаю я понимать, какую огромную роль в моей жизни сыграли именно люди, как тесно сплетались они со всеми переживаниями, как именно они, часто совершенно незаметно, руководили мыслями, поступками и желаниями. Я начинаю понимать, что человек в его борьбе, во всем величии его победы над природой являлся, в сущности, центром прошлого, а камни?..
Много, много замечательных людей прошло перед глазами — людей, о которых нельзя сейчас вспоминать без благодарности…
Я помню застенчивую, несколько сутуловатую фигуру профессора химии, спокойного в своем рассказе, по задевавшего за живое каждым неожиданно горячим словом, сверкающим мыслью при воспоминании о родном Кавказе. Каждую субботу приходил он вечером к нам, а я, десятилетний мальчишка, спрятавшись в углу дивана, с каким-то благоговением слушал его, пришедшего из большой лаборатории, полной стаканов, колб, банок с солями, с жидкостями и каким-то особенным запахом.
Каким праздником было для меня разрешение навестить его в самом университете, пройти по темным коридорам старого здания к нему в лабораторию и тихо, затаив дыхание, смотреть, как ученый, переливает какие-то жидкости, кипятит что-то на газовых горелках или осторожно капает окрашенные капельки в большой стакан.
Так шло много лет, потом жизнь развела наши пути, и только осенью 1937 года в Тбилиси, перед зданием созданного им Грузинского университета, увидел я знакомую фигуру Петра Григорьевича Меликова и с благодарностью выискивал знакомые черты на его лице.
Я помню жаркий, весь пронизанный ароматом цветов вечер на берегу моря около Копенгагена. Солнце уже зашло, и лишь последние лучи его горели в маленьких тучках над шведской землей по ту сторону пролива.
«Вот где еще скрыты тайны наших наук; ведь в этой морской воде растворено свыше 60 элементов менделеевской таблицы, в странном, не понятном нам еще сочетании атомов, ионов, молекул, в каких-то обломках кристаллов, аморфных солей… Может быть, здесь еще таятся не открытые человеком загадочные атомы двух номеров таблицы: 85 и 87; может быть, здесь, в сложных излучениях солей калия, урана, радия мезотория и родилась первая живая клетка, вот вроде тех медуз, которые там плавают у берега!»
Так говорил красивый смуглый человек с блестящими глазами; за открытие нового химического элемента — гафния — он получил Нобелевскую премию; тончайшими химическими анализами он показал роль радиоактивных элементов в человеческом организме. Это был Георг Хевеши — блестящий физико-химик.
«А для меня здесь другая проблема: твердый известняк, берега, море и воздух — три компонента, две фазы, две свободы в правиле равновесия Гиббса; это перед нами не просто камень, вода и газ, это величайшее уравнение природы, в котором принимает участие несколько десятков различных заряженных электрических частиц. Для нас разгадка природы — только в законах сочетаний этих атомов и ионов, они управляют всем миром; в едином неразрывном взаимодействии вещества и энергии рождается окружающий нас мир».
Так говорил властитель дум минералогов и геохимиков начала XX века Виктор Мориц Гольдшмидт. Его проницательные глаза, его медленный вдумчивый голос, его привычка к строго логической мысли, — все выдавало в нем замечательное сочетание философа, теоретика физико-химика и натуралиста-геолога.
«Нет, я вижу еще что-то другое, — просто, отчетливо, скромно, но деловито сказал третий. — Я вижу здесь не ваши кристаллы как сложные геометрические постройки из атомов и ионов; я вижу самый атом с его малюсеньким ядром и вращающимся вокруг него электроном. Ведь все, о чем вы говорили, зависит от того, сколько этих спутников вертится вокруг этих центров. Но, по существу, все они одинаковы, и для меня вся природа вокруг рисуется как сочетание протонов и отрицательных электронов. И вся она гораздо проще, определеннее, созвучнее с тем, чему нас учат астрономы; да, гораздо проще, чем ваши кристаллы, минералы или органические соединения!»
Так говорил один из величайших физиков нашего времени Нильс Бор, с его замечательно ясным умом, спокойным взглядом синих глаз, с уравновешенностью мысли, духа и тела, которая свойственна только северным людям; он был датчанин.
…Так проходили одно за другим воспоминания о людях, — людях, без которых нет и не может быть того, что мы называем жизнью.
Личное счастье, наука, уважение, сама жизнь ему улыбалась! Он только что кончил замечательный труд о турмалине, его доклады, блестящие по содержанию и замечательные по форме, привлекали к нему молодежь во всех научных собраниях; он заведовал прекраснейшим минералогическим музеем в стране, наследием кунсткамеры Петра; его сборы минералов на Урале обещали открыть совершенно новые горизонты в изучении уральских цепей.
Все улыбалось ему: и научное имя и личная жизнь; из этого рождалось то обаяние, которым он покорял всех и вся. Он видел эту улыбку фортуны, ему даже иногда казалось как-то страшным, что все складывается слишком хорошо и ярко в его жизни.
Он собирался уезжать на ледники Кавказа, чтобы изучить найденные им новые месторождения исландского шпата, — красивый, жизнерадостный и умный. Среди сутолоки укладки, снаряжения и подготовки экспедиции он успевал беседовать со мной, еще молодым студентом, пояснять свои идеи о минералах Кавказа и Крыма, показывать любимые образцы из дорогого ему музея.
А там, на Кавказе, произошло что-то непонятное…
Вечером, после удачного сбора минералов, когда его спутники уже перед сном сидели у костра, он сказал, что пойдет немного погулять. «Один, не надо сопровождать!»
Он ушел и не вернулся.
Долго-долго искали его и нашли его труп в трещинах ледника.
Это был Виктор Иванович Воробьев — один из лучших молодых минералогов старой, дореволюционной России.
Память о нем осталась не только в его детище — Минералогическом музее Академии наук, но и в названном в его честь минерале — воробьевите, столь же жизнерадостном и светлом, как и он сам.
На Урале наш путь всегда лежал сначала на деревню Южакову.
Здесь, на северном конце бесконечно длинной деревни, стояла довольно ветхая, типичная уральская изба с полукрытым двором; большие штуфы камней лежали у входа.
Это был дом Андрея Хрисанфовича Южакова.
Среди длинного ряда горщиков Урала, любителей и энтузиастов камня, самой крупной и самобытной фигурой был Хрисанфыч.
Все заботы мужицкого хозяйства: покосы, выгоны, заготовка дров, — все это было как-то между делом в том, что он называл своим делом. Дом был запущен, сараи покосились набок, сбруя порвалась и была связана веревочками; для него вся жизнь и дело были в горé, или на аметистовых жилах Ватихи, или на дорогой ему Мокруше.
Много лет подбирал он колье из 37 аметистов — не тех дешевых, светлых, почти стеклянных, которые мы обычно знаем под названием аметистов, а тех темных, фиолетово-черных густых камней, которые вечером, при свете свечи или лампы, загораются красным огнем каких-то страшных пожаров. Камни для этого колье он всегда возил с собой в тряпочке. Он любил раскладывать их на столе и показывать, чего ему еще недостает.
Но больше всего любил он Мокрушу — то замечательнейшее место на всем свете, где в болотистом лесу, в полузалитых водою ямах, добывались нежно-голубые топазы, черные морионы и желто-винные бериллы.
— Заложу душу свою, а раскрою я эту жилу, что под Алабашку падает, и камень найду, да какой еще!
И он действительно находил камень: то замечательные штуфы с новыми редкими минералами, то почти двухпудовый топаз-тяжеловес, то лиловую слюду с зелеными оторочками.
Хрисанфыч умел бережно и аккуратно доставить домой свою добычу, уложить в сундуке все штуфы получше, а в белье спрятать самое ценное.
Когда мы в красном углу, под образами, распивали чай с кринкой молока да яйцами, Хрисанфыч постепенно, не без гордости раскрывал перед нами добытые сокровища. Мой спутник Илья Владимирович спокойным движением откладывал один из образцов налево, другой — правее, около себя; их он хотел купить у Хрисанфыча, но боялся неосторожным взглядом поднять цену.
— Ну что же, бери, но меньше катеньки не возьму, — завязывался тонкий разговор.
Вся бесхитростная дипломатия Хрисанфыча сплеталась с шитой белыми нитками политикой Ильи Владимировича, который получил из музея на покупку минералов всего лишь восемь красненьких. Я не должен был вмешиваться в эту тонкую игру, не должен был и показывать виду, что мне какой-либо штуф нравится.
После долгих-долгих бесед, многих чашек чаю, после перекладывания справа налево и слева направо все-таки все интересное оказывалось в правой кучке. Хрисанфыч соглашался на три красненьких, а Илья Владимирович аккуратно заворачивал приобретенные образцы в привезенную из города бумагу и укладывал в прочный кожаный саквояж.
Но были камни, для которых цены не было. Это те, что лежали в сундуке, среди холста, — они не продавались ни за какие катеньки, их любил особой любовью Хрисанфыч, он долго вертел их в руках, но неизменно клал обратно в невьянский сундук, а я… много лет смотрел на некоторые из этих штуфов, вздыхал, умоляюще взглядывал на Илью Владимировича, заискивающе на Хрисанфыча. Но ничто не помогало… Камни возвращались в сундук.
Однако продажа камней мало давала Хрисанфычу — ни партии темных аметистов Каменного Рва, ни штуфной материал, вывезенный в город для продажи, ни перекупленные краденые изумруды. Все это были отдельные рубли да красненькие, а на копи уходили сотни целковых, никто даром не помогал горщику и мало кто верил в его «фарт». А он был фанатиком камня, сумевшим перенести весь фанатизм своих предков кержаков-староверов на камень, борьбу за него в мокрых ямах Мокруши.
Пришла революция, прошли через Мурзинку отряды белых, оставив разрушение и ненависть, потом начались первые годы трудного подъема из разорения войны. Медленно стали оживать Мурзинка, Южаково и Липовка. Зашевелились горщики, завертелись гранильные станки.
Хрисанфыч сбросил как будто бы три десятка лет и стал организовывать артели с тем же фанатизмом и упорством, с каким он раньше копался один с сыном в глубине своих ям. Жизнь научила его, что одному не справиться с Мокрушей и Ватихой, с их водой и плывунами, что камень не дается в руки без борьбы.
И вот в самую разруху в старом Екатеринбурге, который горщики всегда называли просто «город», встретил меня на улице Хрисанфыч. Он, который не признавал раньше «чугунки», считал машину делом антихриста, приехал в «город» за насосом. И достал его, увлек еще несколько горщиков и гранильщиков в общее дело, сумел завязать связи с «самим совнархозом»…
Я не узнавал старого упрямого кержака. Он взял с меня обещание, что я приеду через год, через два на его копи, с оживлением рассказывал о своих планах, о том, что Каменный Ров даст гранильщикам Свердловска новые огромные заработки, что он раскроет, наконец, Мокрушу, что он снесет дресьву и обнажит жилу с самоцветами. Он уже мечтал о возрождении Липовки с ее красными и полихромными турмалинами…
Через много лет приехал я снова в Свердловск. С горечью я узнал, что Хрисанфыч умер, простудившись на Ватихе, когда надо было в воде устанавливать мотор. Но дело, поднятое им, не замерло.
Разрослись Изумрудные копи, на место старых полуголодных, бесправных хищников пришли артели, объединившие старателей. Мои старые друзья по изумрудной тайге, которых я навещал до войны в темные ночи в лесу, сделались бригадирами. Техническая помощь приучила их к новому типу работы, а огромный опыт, чутье камня, знание многочисленных неуловимых признаков превратили их в ценнейших разведчиков. Вместо того чтобы заниматься обработкой краденых изумрудов, гранильщики Свердловска, объединились вокруг специального гранильного цеха государственных гранильных мастерских. Зашумел мотор на Липовке, и впервые проникли под землю наши горщики, под пашни деревни, нащупывая жилы розового лепидолита и цветного турмалина.
В далекое прошлое ушли хрисанфычи, на смену тяжелому старательскому труду одиночек пришли сильные артели с техническим оборудованием и техническим руководством. Стали оживать уральские самоцветы, засверкали бусинки в ожерельях дымчатого топаза и хрусталя, заискрились красные камни в пятилучевых звездах горняков, заиграли своим затейливым рисунком броши из пестроцветной орской яшмы, снова появились уточки и слоники, ладьи и лодочки…
А на больших государственных гранильных фабриках десятками тысяч каратов стал граниться зеленый самоцвет — изумруд — для экспорта: в Англию, Францию, Америку, на Восток, в обмен на машины. На сотнях станков гранильных фабрик в Свердловске и Петергофе твердые камни Урала стали превращаться в валики для бумажной промышленности, в призмы и подпятнички для наших точных приборов — часов, буссолей, весов; технический камень стал вытеснять старые аляповатые поделки. Опыт старых гранильщиков позволил быстро наладить новое дело, и сотни молодых учеников пришли на смену старым гранильщикам, пионерам и фанатикам уральского камня.
Кипит, горит работа по созданию Хибин: города, дорог, рудника, фабрики, буровых, улиц, электростанции, школ, домов — ну, словом, всего того, что нужно человеку, когда он на голом месте растит «новостройку».
Пронченко пришел сюда еще молодым комсомольцем с самыми первыми разведочными партиями 1929 года. Сначала он жил в каменном сарайчике на Ворткуай, построенном еще в прошлом году и гордо называвшемся «небоскребом», — действительно, это был первый каменный дом на всем просторе десятков тысяч километров Кольских тундр.
Потом он со своей партией построил деревянные бараки, в которых осенью того же 1929 года разведчики впервые смело и решительно начали говорить о сказочных богатствах апатита; здесь в глухую декабрьскую ночь С. М. Киров сам готовил диспозицию к бою… с темнотой полярной ночи, с неверием старых, заскорузлых геологов, с неведомыми еще силами Заполярья, со снегами, морозами и вьюгами.
И первым среди пионеров края был Григорий Степанович Пронченко, первый секретарь первой партийной ячейки Хибинской тундры.
Он весь горел новостройкой. Волновался за прокладку железной дороги, сам помогал вытаскивать тяжелые катерпиллеры, когда они с громадным грузом больших саней проваливались сквозь наст в двухметровый снег. Он первым был на первых буровых вышках, объясняя название пород кернов, записывая показания, подбадривая при неполадках.
Всегда веселый, оживленный, несколько беспокойный, с отрывистой речью, всегда горящий и большевистски настойчивый. И где нужна была новая смелая мысль, где надо было проложить новые пути, там был Пронченко. Закладывались ли штольни Юкспора с его обрывами, надо ли было идти таежным путем на Иону, на новое железо, нужно ли проверить партию в Ловозере, на самолете слетать в Сейтъявр, — всюду первым был Пронченко, не успевавший даже записывать свои наблюдения, всегда простой, искренний товарищ, новый человек новой страны.
Но вот пришла страшная зима 1935/36 года.
В темное декабрьское утро огромная снежная лавина пронеслась со склонов Юкспора, она пролетела через железную дорогу, едва не зацепив проходивший поезд. Воздушной волной подняло большой двухэтажный дом и бросило его с размаху на другой…
Более сотни рабочих нашли свою смерть под этой страшной лавиной. Пронченко, забывая себя, без устали работал, руководил раскопками и поисками оставшихся в живых.
…Но тяжелая зима продолжалась. В январе новые массы снега стали нависать на Юкспоре, и снова смерть грозила домам и поселкам. Надо было выяснить размеры опасности, и вот он во главе небольшого отряда с трудом поднимается по гребешку Юкспора среди мягких снегов.
— Лавина, лавина, осторожно! — кричит он, завидев снежное облако катящееся сверху.
Но это были его последние слова, и товарищи, спасенные этими словами, откопали его в снегу уже мертвым.
Светлая память герою Хибин, светлая память одному из строителей-кировцев!
Многими сотнями писем молодежь отвечает на книгу «Занимательная минералогия», сотни молодых энтузиастов камня рождаются в нашей стране, и как бесхитростно, просто, как увлекательно, правдиво, с какой глубокой верой в себя, природу, родину написаны эти письма!
Вот отрывки из них:
Двенадцатилетний мальчик выводит крупными буквами:
«Я стал заниматься минералогией недавно, хотя любил камни и мальчиком; всегда таскал их домой, за что иногда и попадало» (1934 год).
«С меня смеялись и смеются некоторые товарищи и взрослые за то, что я собираю коллекции и много времени уделяю этим наукам… Не раз приходилось иметь нахлобучку от мамы за то, что дома, куда ни повернешься, все камни… Но теперь уже никакие насмешки невежд не помогут!» (Ученик, 15 лет, город Сталино, 1925 год.)
«Я давно люблю химию и минералогию. Собрал уже коллекцию из 64 минералов. Сейчас мне уже 13 лет… Я имею свою лабораторию, произвожу опыты и ращу кристаллы.
Можно ли мне, окончив школу (семилетку), поступить сразу в Академию наук…» (Полтава, 1931 год.)
«Спасибо Вам за книжку. Мы отобрали ее от папы и поставили ее к нам». (Ученицы московской школы, 8 и 10 лет, 1938 год.)
«Я сделался страстным минералогом. Я крепко решил добиться намеченного и добьюсь». (Комсомолец из Воронежа, 1934 год.)
«Я хочу поехать трудиться и в труде и работе учиться природе, и все, что будет человеческим трудом добыто, отдать на пользу социалистической нашей Родине». (Ученик 7-го класса, Воронеж, 1937 год.)
«Я очень люблю заниматься минералогией и уважаю эту науку, которая дает Советской стране много ценного, которая необходимо нужна нам, людям нового времени. Нужна и нашей тяжелой промышленности, нужна строящемуся коммунизму.
Но жаль, — я этой наукой начал заниматься очень поздно».
Эти замечательные слова пишет ученик 13 лет из Винницкой области в 1935 году.
«Я уже с ранних лет интересуюсь камнями; будучи маленьким, ходил с полными карманами камней и галек, теперь мне 12 лет; у меня есть друг, с которым мы вместе мечтаем о будущем, как будем делать зарисовки и определять минералы.
Напишите, какие книги прочесть, — сейчас занимаюсь по книжкам теорией, а летом займусь уже практикой». (Ученик 4-го класса, 12 лет, Сарапул, 1937 год).
«Я полюбил природу с тех пор, как помню себя. Я рано уходил из дому: на речку, в сад, в поле; наблюдал там жизнь птиц, зверей и растений, а оттуда возвращался с собранным для коллекции… С тех пор прошло шесть лет. Я организовал два кружка юннатов, и вот, лазая по горам и хребтам Тянь-Шаня, среди разных камней искали мы и собирали дикие луки и прочие хозяйственноценные растения. Здесь в горах у меня возникла любовь к камням.
И я решил быть натуралистом, минералогом, защищать от хищничества природу. Я решил разгадывать тайны природы, тайны земли, разгадывать богатства земли на пользу своего Отечества — СССР». (Ученик 7-го класса, из-под Москвы.)
«Я совершенно потрясен минералогией и зажегся ей. Казалось, что я и рожден теперь только для минералогии, и если только была бы школа, изучающая минералогию, я кинулся бы в нее, подобно расплавленной магме, и сжигал бы все то, что мне на пути преграждает». (Ученик фабзавуча, 17 лет, работает кузнецом, 1930 год.)
«Я девушка, мне 19 лет. Давнишней мечтой было поступить на геолого-разведочный факультет Горного института, а мне мужчины говорят, что женщина не подойдет для этой работы и испортит все дело. Напишите мне, верно ли это? А я хочу быть именно работником-практиком» (Ленинград, 1929 год).
И таких писем много-много! Я не прибавил к ним ни одного слова, не исправил ни одной неточности, так как хотел сохранить все в целости, всю их бесхитростную форму и их юную душу.
В таких письмах мы находим замечательные черты нового человека: определенность, целеустремленность и настойчивость в достижении цели; искренность, правдивость, чистоту и вместе с тем реальность, конкретность при большом увлечении, но без фантазии, нередко при большой лирике, но без сентиментальности; горячее, необоримое желание читать и учиться, изучать свою родную страну, ее богатства; твердое убеждение в необходимости участвовать в общей стройке Союза, уверенность в силе и мощи Родины.
Разве не замечательные люди рождаются вокруг пас, крепнут, закаляются и готовятся сменить нас!
Спокойно закрываем мы страницы прошлого, ибо будущее — светлое, ясное, определенное — придет с этими новыми людьми, с ними и через них!
Монча
Монча — это целая эпопея, целая длительная история крупнейшей новостройки Союза, хотя ей всего пять лет.
Монча — это замечательной красоты горный хребет на Кольском полуострове, на запад от Кировской железной дороги; его вершины достигают высоты свыше тысячи метров, его склоны омываются многими десятками озер, бурные реки стекают в порожистых течениях с его каменистых круч, а леса, леса заповедные, с седым ягелем, покрывают предгорья, охраняя стада диких лосей и оленей…
Такой неведомой, таинственной страной рисовались Заимандровские тундры до начала экспедиции Академии наук 1929 года.
Правда, еще раньше проходили здесь отдельные маршруты профессора Петербургского университета Б. А. Попова, да в начале 80-х годов частично коснулся их французский географ Рабо, который возвращался из Индии в Париж по весьма необычному маршруту: через Кандалакшу, Зашеек, Нотозеро, Колу… и Ледовитый океан.
Но все же очень мало знали мы об этом красивом хребте. Много лет мечтали посетить его грозные ущелья и живописные озера, любовались с озера Имандры его резкими контурами на розовом вечернем небе, но… Хибины заворожили нас и долго не пускали на запад.
Так вот об этой Монче-тундре и будет речь в нашем очерке.
Как часто читаем мы в газете коротенькое сообщение в три-четыре строки: «Партия геологов такого-то учреждения открыла там-то богатое месторождение такого-то металла. Намечена постройка рудника и завода».
Все это верно: и партия такая существовала, и месторождение она открыла, и организация рудника уже разрабатывается, идет проектирование завода, но… не так все это просто, легко и гладко выходит, как это рисуется в этих строчках, напоминающих выражение Юлия Цезаря: «пришел, увидел, победил».
В этих строчках обычно скрыта длинная, сложная и подчас тяжелая история, в них и за ними в действительности так много борьбы, борьбы с самим собою, со своими первыми предположениями, со своими собственными ошибками, борьбы с неверием или с завистью других, борьбы за растущую уверенность в своей правоте, наконец борьбы за разгадку самого месторождения, борьбы за точные запасы руды — словом, борьбы со своим и чужим незнанием, с косностью человека, косностью самой науки. И когда в газете читаешь, что такой-то ученый нашел новый метод технологических процессов, не думайте, что и его путь был такой простой, краткий, ясный, как те три строчки, в которых газета повествовала миру о новом завоевании химии.
Нет, длинный путь борьбы, подчас нервной и тяжелой, приводит к этим строкам. А между тем только в этой борьбе и рождается всякое научное завоевание. Только в ней закаляется воля: настоять на своей правоте, из неясных для самого себя намеков высказать предположение, из предположения вырастить и укрепить вероятность, из вероятности — ту действительность, которую мы называем общепризнанным фактом.
И вот эта длинная цепь ступенек и есть то, что мы называем открытием.
Так часто спрашивают: кто открыл? И так редко сходятся в ответе. Открытие почти никогда не делается сразу. Оно лишь последняя ступенька той длинной лестницы, которая создана трудами очень многих. Поэт А. Толстой говорил:
Природа, ее тайны не даются без борьбы организованной, планомерной, систематической; и в этой борьбе за овладение тайнами природы, ее силами — счастливый удел ученого, в этом — его жизнь, радости и горести, его увлечения, его страсть и горение.
Но если у исследователя нет этой страсти, если по шестичасовому звонку поспешно запирает он двери своей лаборатории и если его рука не дрожит, когда он производит последнее взвешивание или последние вычисления, то он не будет настоящим ученым! И если в своих исканиях он ценит каждый успех лишь постольку, поскольку успех этот лично его, его слово и его мысль, если он не понимает, что законченная мысль есть последняя капля, собиравшаяся долгие годы в десятках умов, то он не может быть истинным борцом за новое, за истину!
— Так вот вам история Мончи! — начал он свой рассказ.
Он лежал в больнице, после тяжелой болезни, схваченной в Хибинах; мы навещали его и приносили ему камни и цветы, говоря, что и то и другое — кусочек любимой им северной природы. Он рассказывал медленно, волнуясь, как бы с трудом вспоминая последовательность отдельных событий, сменявшихся во времени скорее, чем в его памяти, опережавших и мысль, и людей, само время.
…Осенью 1929 года исследователь-географ Академии наук разложил перед нами привезенные из Заимандрья образцы минералов. Это были довольно бесформенные куски зеленых оливиновых и пироксеновых пород, только в некоторых из них в лупу можно было разглядеть блестящие точки каких-то сернистых соединений.
— Что, это часто? — спросил я географа.
— Да, иногда попадается, — ответил он.
А блесточки запали мне в душу. Я знал, что темные породы, богатые оливином и пироксеном, несут с собой часто, особенно в Норвегии и Канаде, блестящие руды меди и никеля, и быстро созрело решение ехать на Мончу в следующем году во что бы то ни стало.
Пришел теплый июль 1930 года. Спокойная Имандра, большой карбас со знакомыми рыбаками уже ждет нас у станции Хибины.
«Экспедиция Академии наук выехала в Заимандровский район вместе с геофизическим отрядом для поисков железных руд и металлов», так писали газеты, а в нашей экспедиции было всего нас двое: я да моя обычная спутница по Хибинам — Нина. Мы прекрасно подходили друг к другу по закону противоположности и потому, взаимно нейтрализуясь, образовывали, очевидно, прочное и устойчивое химическое соединение, если выражаться химическим языком.
Не буду описывать эту прекрасную поездку. Много часов на бурно качающемся карбасе, гроза и молния, почти морские волны. Упорно гребем под защиту островов. Наконец тихая Монча-губа, приветливый костер саами Архипова, маленькая избушка с саамским камельком, сети, рыба, рыба и рыба…
На следующий день на шестах вверх по реке; мокрые, измученные, мы, наконец, на Нюдозере, красивейшем из наших полярных озер, среди лесистых берегов. А потом долгий, тяжелый поход в тундру. Бурные и порожистые реки, с трудными переходами, изматывающий нас бурелом; мягкий, седой, затягивающий ногу мох; бесконечные, непроходимые болота, мошкара, тучи комаров и снова болота.
Ночевки под елками, в мягком мху при ярком полуночном солнце, потом подъем на вершины тундр Сопчуайвенча, Ниттиса, Кумужьей вараки… И снова комары. Вокруг шеи окровавленные полотенца, ноги тонут в болоте, ослепительное палящее солнце.
Так, много раз, истомившись дневным переходом, в изнеможении садился я на мох и, задыхаясь в своем накомарнике, говорил Нине:
— Запомни же, Нина, ни ногой я больше сюда, к черту. Лучше все пески Кара-Кумов, где испаряешься, как стакан с кипящей водой, но где хоть нет этих комаров и этих болот.
Кое-где попадались нам блестки в породах, кое-где ржавые пятна говорили о том, что здесь были сернистые руды металлов, и вот, наконец, нам посчастливилось. Осматривая в бинокль окружающие горы, мы увидели как-то на склоне Нюдуайвенча бурые пятна и потеки.
— Мы ведь столько раз проходили у этого Нюда, — говорил я, — и там, в лесу, очевидно, за деревьями ничего не было видно, а отсюда, вот смотри, как на ладошке, — бурые пятна.
И мы пришли, увидели и, как нам показалось, победили! Здесь были уже не отдельные блестки, а настоящие сульфидные руды; правда, они тоже были рассеяны в темной породе, но все же казалось, что найдена настоящая руда.
Однако, когда мы привезли ее в Хибины, наши товарищи стали подсмеиваться над нами: они привыкли, что руда только там, где она лежит целой горой, вроде апатита, а эти блестки содержат небольшой процент металла. Тщетно я уверял, что и небольшой процент никеля и меди — это целое богатство, — никто с нами не соглашался, и мы были жестоко разочарованы.
А все-таки руда там была, анализ подтвердил наше предположение. Никеля было около 1 %, химики нашли даже немного платины.
— Это руда того же типа, что в Норвегии, — говорил я.
— Но это не достоинство ее, там никелевые рудники давно уже закрыли.
— Ведь я-то взял с поверхности, а в глубине, где руда не окислена, там ее, наверное, больше.
— Ну, что вы, там, конечно, ее меньше. Здесь металл при окислении накопился.
Сомнения мучили. Недоверие со стороны росло, цифры анализов колебались, колебался и я сам.
И я просто пришел тогда к С. М. Кирову, рассказал откровенно обо всем, и он отдал приказ начать разведки.
Глубоко запали в душу его слова: «Нет такой земли, которая бы в умелых руках при советской власти не могла быть повернута на благо человечества».
Начались разведки, зашумели моторы буровых станков. В тихом, старом заповедном лесу, где еще ходили дикие олени и лоси, стали прокладывать дороги, рубили деревья, взрывали камни, строили землянки, дома…
Началась новая жизнь — предвестник будущей стройки.
Первые найденные точки не оправдали надежд.
Больших скоплений не было, сомнения усиливались.
Потом вдруг повезло: на том самом Нюдуайвенче, под скалой, где были найдены первые куски с блестками меди и никеля, штольня совершенно неожиданно врезалась в сверкающую никелевую руду; весь забой во всю его ширину и высоту состоял из руды. И свыше 6 % никеля содержалось в ней, это превосходило лучшие руды Канады.
Наконец нашли!.. Но недолгой была наша радость. Плоская линза руды очень скоро выклинилась, и забои, проведенные во все стороны, врезались в темную пустую породу.
Одни искали на границах тех расплавов, которые вынесли с собой руду из глубины, другие считали, что главные руды накоплены в глубинах, третьи признавали существование огромных запасов лишь рассеянных, бедных руд. Одни хотели искать только у Мончи, другие тянули к Нотозеру, третьи — на юго-восток: туда, где на юг от Ловозерских тундр были открыты тоже блестки руды.
Сколько новых буровых, сколько надежд и разочарований, сколько грандиозных, но бедных запасов, сколько геологических и технологических трудностей, сколько упрямых идей, сколько фантазии и увлечения!
А между тем все новые и новые буровые появлялись в тундре, отдельные отряды рассеивались по всему Кольскому полуострову, радость сменялась разочарованием, а медлить было нельзя, — надо было строить завод, фабрики, город, железную дорогу, надо было верить, что богатая руда будет найдена.
И снова делились мы своими заботами и своей верой в окончательную победу с С. М. Кировым, и снова его спокойное деловое слово подбадривало нас, охлаждало пыл чрезмерной фантазии, внушало волю и веру в дело.
Действительное знание и упорство победили, богатые руды были найдены, наконец, в глубинах Кумужьей вараки, и уже сейчас первые шахты достигли этих прекрасных руд — настоящих богатств Монче-тундры.
Сомнения остались в прошлом. Растет красивейший город Союза — Мончегорск, — между тремя озерами, в прекрасном сосновом лесу, среди шума бурных рек, у подножья остроконечной вершины Ниттиса и горных хребтов Мончи.
Сейчас в городе несколько десятков тысяч жителей. Новые кварталы возникают один за другим, открыта телефонная станция, имеется библиотека с десятками тысяч книг. Население одного из самых северных городов Союза получило новые клубы, детские сады, кинотеатр на пятьсот человек. Сооружены больница, поликлиника, амбулатории, родильный дом, детский санаторий, уже к лету 1938 года были открыты стадион, лодочная станция и цирк.
Сомнение изжито, сняты и отброшены все те, кто мешал, путал карты, сдерживал, срывал развитие рудников и города. Новые люди, молодое поколение — не без ошибок, но полное искренней любви к делу — сумело сломать это старое, и новый, самый молодой город Советского Союза вырастает там, где на курьих ножках стоял сарайчик старого саами Архипова, где на Лумболке имела свою избушку его сестра Матрена, где нетронутой белела целина сплошного ягельного мха.
И недаром Архипов говорил: «Нет нам больше места на Монче-губе. Хоть бы в музей нас взяли!».
Дома и сейчас стоят в сосновом и еловом лесу, так что, выйдя за порог, можно сразу собирать грибы. На улицах-дорогах столбы со строгой надписью, каких нет ни в одном городе мира: «Воспрещается разведение в лесу огня, курение табаку, стрельба из ружей с пыжами из войлока и пакли».
Побеждена природа, побеждены темные и тяжелые породы Мончи и Нюда, побеждены сомнения, неуверенность, шатания, неверие, побеждены настойчивостью и смелостью, твердой выдержкой и упорной борьбой нового поколения, того, что сумеет воплотить в жизнь заветы С. М. Кирова.
Так рассказывал нам историю Мончи кольский исследователь.
Он лежал больной в белой, чистой палате и горевал, что заболел в Хибинах накануне того дня, когда должен был выехать на Мончу посмотреть своими глазами долгожданные богатые руды.
Рассказывал он и о том, что Монча только кусочек в большом медно-никелевом поясе, который тянется от границы Финляндии до самого Белого моря, огибая с юга Хибинский массив; что еще много Мончей таит Кировская земля: «надо только хорошо тряхнуть ею».
Он рассказывал тысячу мелочей, из которых слагалась его двадцатилетняя работа на Кольском полуострове, которые то мучили, то радовали его, то открывали новые перспективы, то снова как бы туманом закрывали дорогу.
Рассказывая, он волновался, не мог остановить поток воспоминаний и свою радость, что Монча живет. Но час посещения больных окончился, и мы должны были прервать его рассказ и покинуть больницу.
Целестин
Целестин — нежно-голубой камень, цвета неба, такой чистый и прозрачный. О нем я читал замечательное стихотворение в прозе.
Оно было написано в годы юности горячим революционером Казани, глаза которого горели огнем борьбы и гнева, когда речь шла о царе и жандармах, горели ярким, светлым огнем романтика, когда он декламировал Горация, и скромно, едва теплились мягким любящим светом, когда речь шла о синей Волге и голубых камнях.
Куда-то затерялся листочек с его газетной статьей о целестине: не точно на память приходят мне отдельные картины из этой поэмы о камне.
…После серьезной лекции по геологии Урала, после трудных описаний синклиналий и антиклиналий, дислокаций и шарьяжей захотелось на свободу самой природы.
И вот мы вместе с Наэми плывем на лодочке, плывем по простору широко разлившейся Волги.
— Наэми, Наэми, почему ты молчишь? Или слишком уж хорошо на весеннем солнце? А я смотрю в твои глаза, голубые-голубые: ты помнишь, как тот голубой камень неба — целестин, который кристалликами, как глазки, встречается там, в белом известняке правого берега Волги. Хочешь, пойдем поищем этот камень. В нем вся нежность твоего взора, вся яркость весеннего дня, вся глубина синевы Волги.
Легким и привычным движением остановили мы лодку у обрыва правого берега Волги.
— Ну, теперь кто первый найдет? Возьми ножик и зубила. У кого первый кристалл, тому, — ну, тому мы назначим особую награду.
Легко прыгала Наэми с камня на камень, пока я спокойно искал тот горизонт известняков, в котором сидят голубоглазые целестины. Но вот, как кошечка, бросилась она на свою жертву, вся прижалась к скале, что-то била молотком, а потом радостно, с хитрым выражением синих глаз, подбежала ко мне и показала выбитый кристалл…
Но, о ужас! Как обезображен он был зубилом Наэми! Белые полосы избороздили его поверхность, острый уголок кристалла был обит…
— Наэми, Наэми, что ты сделала? Разве ты не знаешь, что целестин — камень мягкий, податливый, добрый… Да не смейся своими хитрыми синими глазками! Это камень мягкий, с ним надо обращаться осторожно, бережно, а ты? Разве я так обращаюсь со своей Наэми? Наэми, Наэми, ты не знаешь ни минералогии, ни души человека!.. Ну, не огорчайся, пойдем искать повыше, я, знаю, там, над чистым белоснежным карнизом известняка, есть целый горизонт с пустотами, а в них сидят голубые целестины.
Долго и бесцельно ползали мы по белому склону; камень не давался нам. С шумом скатывали мы вниз в синюю Волгу большие глыбы, упорно работали своими молотками, разбивая куски и выискивая целестин.
Уже вечерело, красные краски стали заливать широкий горизонт левобережной низины, когда счастье нам улыбнулось. В маленькой пещерке известняка сверкали, как синие глазки, несколько прекрасных голубых кристаллов, желто-белые кальциты еще более оттеняли голубой цвет, серый халцедон скреплял кристаллы прочной оправой, а они были чистые, светлые, с блестящими гранями, сверкавшими какими-то переливами в лучах заходящего солнца.
Бережно и осторожно выломали мы кусок известняка с пещеркой целестина, завернули бережно в носовой платок и косыночку Наэми и тихо спустились к лодке.
Кто не знает этого очарования весеннего вечера на Волге, когда потухают последние отблески вечерней зари, когда загораются первые огоньки в домах, когда так тихо, что, кажется, слышно биение самой земли; где-то мерно отбивает такт пышущий огнем буксир, изредка раздаются нервные звонки плотов при встрече с «пассажирским»; стада спускаются к водопою… И снова тихо и тихо.
— Хочешь, Наэми, я расскажу тебе сказку? — говорил я.
— Расскажи, только чтобы это была настоящая сказка, с чародеями и богатырями!
— Ну, ладно! Это было давным-давно, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Не было ни Казани, ни Волги, ни даже этих белых скал: море, великое Пермское море, и его валы разбивались о гордые снежные вершины Уральских цепей; его воды широко разливались на юг и на север, уходя своими заливами и солеными лиманами далеко на запад. Это было первое глубокое море-океан — после горячих вулканов и землетрясений великой Герцинской эпохи, когда из глубин выливались могучие лавы, набегали с востока каменные волны, вздымая хребты Урала, открывая дорогу горячим дыханиям земли. Все сказки со всеми их чародеями бледнеют перед этими картинами подъема из глубин земли могучего Урала…
Потом пришло море, море широкое, море спокойное. Вокруг него расстилалась пустыня, огромные реки разрушали хребты, нагромождая дюны и песчаные наносы по берегам, а в самом море кишела буйная жизнь: светящиеся морские звезды с их ногами-змеями, осьминоги пестрых цветов вытягивались из красиво завитых раковин аммонитов, широко развивалась пермская жизнь, накапливая пестрые раковины, завитки, строя твердые фосфорные скелеты рыб, в тонкой филигранной работе вытачивая узор радиолярий то из чистого опала, то из нежно-голубого целестина.
Да, да, из нашего камня, этой сернокислой соли металла стронция, строили акантарии свои каменные скелетики-звезды из острых шипов, игольчатые ажурные шарики. В сказочных глубинах Пермского моря, куда не проникал даже взор Садко, в полумраке синих тонов садились на дно эти скелетики, нежные, как узор тончайшего кружева, легкие, как пена или пушок одуванчик, но прочные, нерастворимые кристаллики целестина.
Прошли миллионы, сотни миллионов лет, ушло Пермское море, сменили его просторы пустынь, степей, полей. Прошли еще миллионы лет, остатки морей сделались прочными каменными породами, белые известняки поднялись из глубин Пермского моря, а рассеянные иголочки акантарий выросли в голубые кристаллики целестина.
Но разве эта сказка не сказочнее всех чудодеев и всех богатырей? Разве не сказочна эта история стронция, за сотни миллионов лет вырастившего из иголочек радиолярий голубые кристаллики целестина? Разве?.. Стой! Ты видишь, там внизу, около Казани, красные бенгальские огни? Видишь, вон рассыпается ракета красными звездочками.
Ты видишь? Ведь это продолжение моей сказки. В этих огнях горят соли стронция из нашего целестина. В красных ярких звездах ракет последние вспышки нашего камня…
Мы замолчали. Тихо неслась лодка по течению реки. Горели огоньками берега, яркое зарево огней поднималось над городом. Залитый огнями, шел вверх, весь ажурный, просвечивающий огнем пассажирский теплоход.
Мы тихо и молча подплыли к причалу, привязали лодку и пошли домой.
— Ну что, Наэми? Что ответишь ты профессору, когда он спросит тебя на экзамене о целестине?
Примерно так писал о волжском голубом камне наш казанский ученый. Это было давно-давно, и я не знаю, насколько точно передал его стихотворение в прозе.
Мрамор, мрамор и мрамор
По мраморным ступеням шел я в Афинах в Акрополь. Яркое южное солнце горело на пожелтелых плитах камня, и глубокие темно-голубые тени сливались с прозрачной синевой мрамора в непонятную гамму таинственных красок.
Вот гордый Парфенон, весь изваянный из пентеликонского мрамора. Легкий, на десятках строгих дорийских колонн, но вместе с тем тяжелый в своей каменной громаде.
Внутри полумрак. Глаз едва привыкает к ярким лучам солнца, врывающимся в храм. Холодный мраморный пол, холодные мраморные стены с желтыми полосами, а в глубине, освещенная солнечным лучом, вся живая и грозная, стоит Афина. Еще окутано полумраком ее спокойное, прекрасное, бесстрастное лицо. Но горит рука в лучах солнца, божественная рука из нежного полупрозрачного паросского мрамора. Кажется, вот поднимет она карающее копье, оживет кровь в тонких жилах, едва просвечивающих сквозь тонкую «кожу» мрамора.
Он живет, этот мрамор великого Фидия, слитый с золотом и слоновой костью в прекрасное живое существо богини Победы!
Я забываюсь, как во сне, перед обаянием камня, и мне кажется, что со всех сторон медленной поступью входят девушки и юноши в белых хитонах. Среди них победитель ристалищ в лавровом венке; его прекрасное сильное тело почти обнажено, перед ним склоняется и молодость и старость — он победитель!
Мне слышатся странные напевы хора Софокла, превозносящие гибкость, ловкость и силу победителя; сама мраморная рука Афины как бы протягивается к нему, благославляя его на борьбу за величие мраморных Афин, за красоту и силу!
В полумраке туманного ленинградского вечера, окутанного мокрой дымкой моря, входим мы в мраморный зал.
Только две дежурные лампы горят на потолке, длинные столы стоят извилистым рисунком, утопая в букетах каких-то пока трудно различимых цветов.
Но вот зажигаются огни, одна за другой убегают серые тени, яркие лучи заливают розовые мраморные стены, розовые колонны, розовый пол. Мягкими лучами освещаются яркие краски осенних цветов, темная зелень так сказочно гармонирует с нежно-розовым мрамором.
Розовые плиты своим пестрым затейливым рисунком улыбаются нам. Кажется, что все недостатки, все жилки, трещинки, включения — все превращается в достоинство камня, который то говорит что-то своим рисунком, то манит своей мягкой прозрачностью, то отбрасывает своей гордой фарфоровой поверхностью лучи света и даже наш взгляд.
В шумном подъеме первой встречи встает Раман. Его смуглое индийское лицо еще прекраснее на фоне розового мрамора. Он говорит о своем народе, о новых движениях молодой Индии к прогрессу, искусству, науке, он рассказывает о своих работах в тишине физического института Калькутты, он еще не открыл «эффекта Рамана», еще синее море Средиземья и синее небо его родины не открыли ему тайны колебания молекул, получившей его имя; еще только горят его черные глаза огнем исканий новых истин.
Его сменяет Планк. Казалось — безжизненное и сухое лицо; где-то спрятана искорка его глаз за золотыми очками. Он начинает медленно и как-то неуверенно. Он говорит о великих своих открытиях, о квантах энергии, управляющей миром, о загадочной цифре «постоянной Планка», основе и еще таинственной загадке уравнений природы.
Он говорит, что науки нет без вдохновения, что великие истины рождаются не вдруг, не в тиши научных кабинетов, а после горячих переживаний души, в огне порывов и желаний, в борьбе за природу и против природы.
Он еще горд в величии своих идей, он еще не склонил своей головы, но уже рождались смутно в его голове далекие от жизни идеи мистической философии.
— Да слушайте! — прервал его речь маленький коренастый старик с седой бородой. — Да, наука не существует вне жизни, я сам пришел к ней от огня металлургических печей, где впервые понял великие законы химии, — это говорил норвежец Иоганн Фогт, металлург и физико-химик в геологии, открывший целую новую главу в мировой науке. Слушайте, вчера я поехал на острова покататься на машине, мы остановились около груды камней, которую разбивал молотком рабочий для балластировки шоссе. Мой спутник и друг из вашей академии объяснил по-русски рабочему, что я заграничный ученый, которых приехал в Союз на торжество двухсотлетия русской науки, на праздник советской Академии наук. Рабочий быстро вскочил, он читал об этом в газетах, он знал даже имена приехавших, с какой-то особой горячностью пожал он мне руку, отобрал лучший кусок зеленого глауконитового известняка и подал мне. Вот он, я с ним не расстаюсь, я увезу его в Норвегию, он мне дороже многого.
— Вот это настоящая наука, — закончил он, — когда ее знает и ценит весь народ. Я за такую науку, свободную, великую мысль ученого, за торжество науки и техники…
Догорали огни, поблекли краски цветов. Беспорядочны, шумны были речи на десятках языков. Розовый мрамор стен сиял своей вечной неизменяемой красотой, красотой, для которой нет ни слов поэта, ни кисти художника.
Да процветает и растет истинная наука!
Мы спускаемся сначала в подвалы, огромные бункера заполнены буровато-черным углем. Вагон за вагоном, поезд за поездом сбрасывают черный алмаз в угольные ямы, а оттуда в топки котлов.
Вот они, рождающие силу длинные ряды раскаленных котлов! Сложные системы манометров, труб, счетчиков, стрелок, рычагов регулируют их бурное дыхание; спокойно, уверенно поворачиваются рычаги, когда дрожащая стрелка счетчика слишком отклонилась направо, — уменьшается поступление угля, выпускается пар.
Все дышит здесь мощью и силой огня, среди него спокойный хозяин — человек.
Потом длинные светлые залы электрических машин. Здесь претворяется тепло в энергию электрического тока. Уверенно и быстро крутятся громадные валы электромашин, и тысячи мелких проводов сливаются в толстые медные тросы, по которым бежит электрический ток. Здесь рождается великая энергия мира!
Мы идем дальше. Контрольный пост преграждает дорогу — выдают особые пропуска. «Зачем это?» — «А вот увидите…» Поднимаемся на третий этаж. Большой нарядный зал, стены покрыты полированными мраморными пластинами; ни одной трещины в них, ни одной царапины, ровные, чистые доски из лучшего уфалейского мрамора.
Это центральный распределительный щит энергии Челябгрэса, это управление несколькими стами тысяч лошадиных сил Урала. Всюду рубильники, лампочки, красные, желтые, синие… краткие надписи: «Златоуст», «Золотая линия», «Свердловск», «Тракторный», «Электросплав», «Освещение»… Тихо в зале, как-то не хочется даже громко говорить. Только короткие телефонные звонки да поступь дежурной, спокойно обходящей щиты с горящими лампочками.
Вот зажглась красная: выключить рубильник! Повреждение на линии. «Дайте ток, — звонит по телефону Ленинская золотая шахта. — Мы должны включить водоотлив». Поворот рубильника — и загорается синяя лампа.
«Дайте освещение, — молит Свердловск, — моя Верхисетская не справляется, нет накала». — «Подождешь, — отвечает диспетчер. — Вот закончат работу цехи Златоуста, дам вам свет».
И на пространстве, равном половине Франции, одним движением рубильника, установленного на мраморной доске, зажигаются тысячи огней, включаются сотни моторов, начинают работать машины, цехи, заводы.
Здесь главный нерв жизни Урала, здесь его головной мозг, здесь его источник жизни, в этих проводах, расходящихся отсюда радиусами на площади около 200 тысяч квадратных километров, — один телефонный звонок, один диспетчер, один дежурный.
Приветливо горят огоньки на сером мраморе стен, тихо внизу жужжат электромашины, да иногда раздается шум опрокинутого вагона с углем.
Длинный путь труда рождает мощь электростанций; длинный путь труда ведет из угольных шахт Челябинска к бункерам и топкам котлов.
Длинный путь труда рождает энергию, двигающую страной, одним поворотом рубильника на мраморном щите перебрасывает в доли секунды сотни тысяч лошадиных сил.
За труд, товарищи, за великий труд, побеждающий тьму!
Ha горе «Полковник»
Впервые я понял тайну орской яшмы на Петергофской гранильной фабрике, куда меня пригласил съездить один из ее главных мастеров-художников. Это был человек необычайный — смесь русского добродушия и талантливости с швейцарской деловитостью и упорством жителя гор. Маленький, спокойный, вдумчивый, водил он меня от станка к станку художественного цеха и каким-то тихим голосом говорил:
— Вот видите этот камень, — смочите его, Поликарпыч, мокрой тряпкой, — вот этот камень — целая легенда. Разве направо вы не видите зарево пожара, пронесшийся смерч войны? Вот здесь, на первом плане, в этом бесформенном нагромождении скал, коней, повозок, людей мне слышатся стоны пронесшегося сражения. Вот тут осторожно скальпелем мы вырежем бешеного коня. Его красная грива уже рисуется в этом огненном завитке камня. Вот видите, прижалась к нему фигура смерти-победительницы; только маленькую белую косу, Поликарпыч, ты вырежешь из кахолонга и дашь ее в руки торжествующей смерти.
— А вот этот камень еще прекраснее. Бурное море, красно-голубыми отливами переливается волна в отблесках потухающей зари и затихшей бури; белые каемки вот этих полосок — это кипящая пена опрокинутых и бьющихся о скалы бурных валов. Здесь ничего не надо от художника. Только вот так, Зинаида, поверните вы камень, вправьте его в синюю рамку николаевской яшмы, а здесь вместо этого неудачного пятна на буром небе распластайте буревестника из серого халцедона, но так, чтобы все слышали крик, пронзительный крик этой птицы, напоминающий, что буря еще не прошла.
— Теперь пойдемте к нашей гордости — Лиане Петровне. Это молодая скульпторша. Она делает тигра из яшмы, не будем ей мешать, только заглянем к ней через стекло ее комнатушки. Вот смотрите на полку: зеленый крокодил, он только что вылез из желтого нильского ила и греется на солнышке. Рядом белый медведь из просвечивающего уральского ангидрита, и сидит он на глыбе из прозрачного льда, — это, конечно, вы понимаете, обломок кварца из россыпей Среднего Урала. Вот дальше противная жаба из миасского змеевика, но это все пустяки. Самая замечательная ее вещь — это «Победа». Она работает над нею уже несколько лет, она вытачивает ее из глыбы все той же орской яшмы; чище, светлее, прозрачнее делаются тона камня кверху, где из них рождается прекрасная голова молодой девушки, олицетворяющей труд; внизу, в диком смятении красок, в обломках синего, черного, красного агата, извиваются попранные трудом какие-то неясные чудища, искривленные, сломанные, оборванные, задавленные гадины; кажется — в них весь ужас, вся нищета, все преступления прошлого в ногах у торжествующего труда. Камень сам ей говорит о том, что она должна с ним делать, но мало кому она показывает свою замечательную группу…
Пресс из различных цветных камней в виде объемной мозаики: змеевик (листья), сердолик (вишни), родонит (малина), кварц (белая смородина), турмалин (красная смородина), черный мрамор и малахит (подставка).
…Но я уже больше не мог смотреть. Я уже сам загорелся тайнами орского камня, и с этого дня я много-много лет мечтал попасть туда, в ковыльные степи Урала, где на берегах речонки Ори разбросаны были глыбы священного камня — остатки старого, забытого башкирского кладбища, как говорили пожелтевшие листы архивных записей, донесения казаков командиру Екатеринбургской гранильной фабрики его превосходительству генералу Вейцу.
И вот мы в Халилове, на Южном Урале. На быстрых машинах — через безбрежное море полей с островами комбайнов, мимо бесконечных ям магнезита, зеленых копушек никелевых руд, мимо буро-коричневых отвалов железных рудников, мимо черных, черно-зеленых шахт хромита, мимо всей этой пестрой гаммы красок камня, сверху залитого сплошными полями желтых налившихся колосьев, все мимо и мимо — в Орск, город яшмы.
— У нас к вам много вопросов. Я соберу сейчас инженеров, — нам неясен генезис аккермановских руд, непонятны анализы железных соединений. Отдохните немного. Через час, часиков в восемь, я вас жду в своем кабинете, — говорит начальник строительства, очевидно ждавший от нас какого-то святого наития, от нас, мимолетных гостей, ответа на вопросы, для которых нужны годы упорной работы и исследований!
— Хорошо, мы придем, — пытался я отвечать, — только немного позднее, в десять или даже в одиннадцать, а сейчас не можем — есть дело, дайте нам машину, наши кони приустали.
— Да вы куда? Зачем? — ответил он недовольным голосом.
— Мы на гору «Полковник», недалеко, всего пять-шесть километров от города, уж отпустите! — почти умоляющим голосом говорил я.
— Ну ладно, в одиннадцать, так в одиннадцать… Только чего это вас туда нелегкая несет?..
…А там, за городом, начинались бесконечные степи на мягких увалах, потом все ровнее и ровнее; на сотни и тысячи старых сибирских верст тянулись эти Казахские степи, сначала ковыльные, потом полынные, а далее — солончаки, пески и пески.
Здесь, на невысоких увалах по левому берегу полусонной Ори, мы должны искать наши яшмы. В степи это дело довольно хитрое. Надо смотреть на каждую рытвинку или промоину, надо внимательно ногой разбивать выбросы крота, надо следить за каждой мелочью ровной степи, чтобы подметить в ней камень.
Но вот вдали виднеется какая-то яма, потом другая, третья: вокруг лежат камни, осколки яшм, как щепки вокруг срубленного дерева. Вот, наконец, настоящие шурфы и выработки, а вокруг них целые штабеля яшмы.
Тяжелыми кувалдами разбиты серые неказистые глыбы, а внутри глыбы дивный рисунок, незабываемый и непередаваемый, то резкий в своих кричащих тонах, то мягкий, переливающийся, без теней и графики…
То какие-то таинственные крылья неведомых птиц, снятых со сказочных картин Врубеля, то те мягкие переливы, о которых так хорошо писал Алексей Толстой: «…рассказ убедительно-лживый развивал невозможную повесть, и змеиного цвета отливы соблазняли и мучили совесть».
Это не были те маленькие рисунки, которые столь избиты в овальных брошках Урала, — это были мощные, смелые мазки природы на целых метрах сказочного камня, писавшей свои узоры в замечательной гармонии красок.
— Это экспортный материал, осторожно, не трогайте, — строго сказал маленький человек, быстро спешивший к нам навстречу из своей землянки.
Но скоро его строгое лицо расплылось в улыбку. Мы узнали друг друга. Это был старый горщик с Урала П. Т. Семенин, старый искатель счастья в копях Мурзинки и Ватихи. Много прекрасных дней провели мы с ним в поисках самоцветов на Среднем Урале, а сейчас он был поставлен здесь как начальник Орских яшмовых ломок, как хозяин этих окаменелых сказок природы.
Уже вечерело. Длинные-длинные тени ложились на камни, и все прекраснее, таинственнее горели своим непонятным рисунком орские яшмы.
Мы точно к одиннадцати часам вернулись в кабинет начальника строительства. Два-три часа бурно спорили о проблемах никелевых руд, и уже всходила на востоке заря, зажигая пестрыми дугами небо, прорезывая его отдельными вырвавшимися лучами солнца, уже потухали последние звездочки на темно-сером небе, когда мы пустили своих сорок коней и по большому Верхне-Уральскому тракту понеслись на север.
А небо горело новыми огненными полосами, разгоняя серые туманы, заливая все могучими мазками красок, которые знает только великая палитра природы…
Наша спутница обернулась ко мне.
— А ведь, пожалуй, наша яшма больше всего напоминает утреннюю зарю, — сказала она, отломила рукой кусочек заалевшего неба и дала его мне…
— Что это? Снится мне, что ли? Или я задремал?
Глаза слипаются от усталости, а сорок коней бегут, разгоняя фарами ночную тьму.
Синий камень Памира
Наш очерк посвящен лазуриту, этому замечательному камню цвета неба, красочная история которого проходит через всю культуру, в течение почти семи тысячелетий истории человека и его техники.
Природа исключительно скупа на синие камни, и редкость синего цвета в нашей земле как бы противопоставлена тому обилию синих тонов, которые она нам дает, особенно на юге, в разнообразных красках неба и моря. Как будто стихия земли не хочет подражать другим двум стихиям, находясь с ними в вечной вражде.
Так сказали бы индийские лапидарии, если бы мы их спросили о причине редкости синего камня.
Через всю длинную историю культуры проходил один камень — яркий синий лазурит Афганской земли, и сложными путями караванов попадал он в далекий Египет, Китай, в Рим и Византию.
Через афганских и бухарских купцов скупались отдельные куски афганского камня, и шел он как особая ценность для украшений дворцов растущего Петербурга, и не мог с ним состязаться светлый пятнистый лазурит берегов Байкала.
«А все-таки афганский лазурит ярче вашего сибирского», — сказала Екатерина II, когда караванами из далекой Сибири пришли первые возы с лазуритом Байкала.
Екатерина правильно оценила свойство камней этих двух месторождений, и до самых последних дней афганский камень оставался непревзойденным синим камнем.
Между тем уже давно ходили в Средней Азии легенды, что где-то в высотах Памира имеется камень лазуард, как его называли персы, что где-то там между синеющими снегами ледников и темно-синим небом Памира встречается на недоступных вершинах «Крыши мира» этот яркий синий самоцвет.
Об этом писали даже английские путешественники начала XVIII века, посещавшие с опасностью для жизни запретные месторождения Афганской земли; об этом говорили под секретом и старые таджики, заходившие во время охоты за архарами на труднодоступные вершины гор; это подтверждала и общая геологическая обстановка, так как отроги хребта Гиндукуша, в котором расположены лазоревые копи на Афганской земле, простираются и на территорию Советского Союза.
Все указывало, что месторождение синего камня должно быть где-то в верховьях бурной реки Шах-Дары.
И вот на поиски памирского лазурита отправились осенью 1930 года смелые молодые геологи.
Путь был исключительно труден. Узкая обрывистая тропа шла над левым берегом реки и после перевала, высотой почти в 3500 метров, привела к небольшому кишлаку. Оставив здесь лошадей, группа на следующий день начала подниматься вверх по одному из потоков, который носил название Ляджуар-Дары, т. е. реки лазурита.
Носильщики, измученные дорогой, отказались идти дальше по хаотическому нагромождению камней.
Началась борьба за синий камень…
Разреженный воздух не позволял подниматься быстро, и ночь застала отряд у небольшого источника под большим камнем, образовавшим нечто вроде пещеры. Анероид показывал высоту 3870 метров.
На следующий день с рассветом вновь начался подъем. Весь груз, полушубки, одеяла — все было оставлено в пещере. Подъем шел по крутому, заваленному крупными глыбами склону, потом по узкому карнизу, затем снова по крутой скользящей осыпи.
Но вот на темно-синем фоне чистого памирского неба, на высоте почти в 5000 метров, открылась белая поляна могучего ледника, покрытая громадными обломками, свалившимися с почти отвесной скалы из мраморов и гнейсов. Среди белоснежного мрамора в виде отдельных жил и гнезд виднелись большие куски лазурита, то кричаще синего цвета, то нежно-голубого, то с красивыми переходами в фиолетовые и зеленые тона.
Так впервые советскими учеными были открыты памирские месторождения настоящего темно-синего лазурита.
Да, геологи открыли их для науки, но местные жители знали о них еще раньше. Один из проводников рассказывал, что об этих месторождениях узнал он еще от своего отца, охотника Назар-Мамата, что еще в 1914 году он поднимался с тремя таджиками на месторождение, но все они заболели тутеком (горной болезнью) и месторождения не достигли.
Теперь путь к синему камню Памира известен.
На следующий год после этого открытия с громадным трудом была прорублена и проложена верблюжья тропа и по ней из осыпи было вывезено 6 тонн прекрасного материала, изделиями из которого мог гордиться наш трест «Русские самоцветы».
С тех пор прошло около 10 лет. Район белых мраморов на вершине Памира дает разнообразные самоцветы. Здесь, в верховьях реки Куги Лял, — рубиновые копи, из которых в течение многих тысячелетий черпал Восток свои красные камни, яркие рубины и розово-красные шпинели, называвшиеся лалами.
Среди белоснежной слюды в тех же мраморах будут добываться прекрасные зеленые и розовые турмалины, новые месторождения лазурита обогатят советскую науку. Дивный синий камень «Крыши мира» пополнит наши музеи, а может быть украсит станции метро и дворцы культуры.
Уже сейчас памирский лазурит победил лазоревый камень со Слюдянки в Забайкалье, он оставил далеко за собой и Чилийские месторождения на снежных высотах Анд, где в провинции Кокимбо американские компании пытались добывать светло-синий лазурит. Мы верим, он победит и старые копи Афганистана, приближение к которым каралось смертной казнью, а сами горняки приковывались к цепи на всю свою жизнь, ибо камень считался священным и принадлежал одному эмиру.
Теперь мы знаем лазоревый камень Памира.
Как будто бы темно-синее небо пятикилометровых горных высот запечатлелось в этом замечательном камне, с которым древний Восток связал так много таинственных легенд, и из которого новый мир Советской страны создаст ряд произведений искусства большой красоты.
На смену легендам и суевериям пришла реальная жизнь, полная истины и красоты побед.
Карта
«Надо быть смелым, чтобы видеть скрытое».
К Международному геологическому конгрессу в Москве летом 1937 года была приготовлена большая геологическая карта. Разными красками на ней были обозначены горные породы, отложения разных геологических эпох, — целый спектр цветов, от наиболее древних серо-синих через бурые и коричневые, синие и зеленые, оранжевые и желтые, рисовал историю Европы и Азии — единого Евразийского материка.
И на этом пестром фоне из больших лоскутков, полос, ленточек и пятен были разбросаны в изобилии разноцветные значки почти всех цветов и всех видов, в полном беспорядке. Так брошены они были как бы кистью художника, положившего грубые мазки своих красок в одни места, а в других оставившего чистый серый фон.
Эти значки говорили нам о рудах меди, железа, золота и других металлов, о солях и глинах и тех разнообразных полезных ископаемых, из которых слагаются богатства земных недр.
Внимательно, пытаясь изучить эти пестрые краски, останавливались перед картой члены конгресса; с изумлением перед грандиозной работой советской науки качали головой иностранные ученые; наша молодежь с особым жаром изучала пестрые краски своих родных мест.
А я, внимательно всматриваясь в карту, вдруг вспомнил картинку из своей жизни: маленькую студенческую комнатку на четвертом этаже дома купца Корзинкина, где готовился к магистерскому экзамену по геологии. Грязноватые стены комнаты закрыты были большой Менделеевской таблицей — около печки, старой геологической картой России в красках — над столом, а над кроватью висел текинский ковер, привезенный мною из Туркмении, после первой еще студенческой поездки в Среднюю Азию.
Особенно любил я свой немного потертый ковер. Его я знал лучше своей карты и лучше Менделеевской таблицы, так как каждое утро, просыпаясь, всматривался в его глубокие краски, то желто-бурые и черные, то ярко-красные и темно-малиновые. Ковер поражал неожиданностью рисунков — зеленых и белых пятен и отдельных ярких ниток, вдруг ни с того, ни с сего вплетенных в какой-то непонятной дисгармонии в красно-бурый общий тон ковра. Никакой идеи, никакого порядка в сочетании пятен и красок!
И долгое время тщетно старался я в нем уловить какой-либо рисунок. Это было напрасно. Краски были нанесены случайно, и без всякого порядка вплетены были отдельные нити туркменками, может быть, много-много лет ткавшими этот ковер в полутемной кибитке в песчаной пустыне Текэ.
Но как-то однажды утром, совершенно неожиданно, в одном углу ковра я схватил черты рисунка: какой-то зверь с косматой головой, поднявший переднюю лапу, вырисовывался там совершенно отчетливо на темно-желтом фоне, он напоминал мне дикую кошку, которая так напугала наш караван в пустыне Кара-Кумов; против него — в завитках, с опущенными скрученными рогами — белые пятна бараньих стад так отчетливо, ясно вырисовываются на фоне все тех же буро-желтых песков.
Эта картина в том же сочетании повторялась и в других углах; она несколько менялась в своем колорите, в позе дикого зверя, готовящегося прыгнуть на испуганных баранов, но общий замысел художника был ясен и выступал для меня все яснее и отчетливее. Зеленые ниточки селина и «песчаной акации» так закономерно вились вдоль желтых барханов песков, около колодцев, а потом снова сплошные пески, ровные красноватые такыры и серо-белые шоры.
Я закрываю глаза, и вся пустыня племени текэ, вся природа вокруг их аулов, вся жизнь кумли с его заботами и борьбой вставала передо мною в этом расшифрованном отныне ковре.
Я больше не мог не видеть рисунка. Он стоял перед глазами как законченная и четкая картина художника; я сам себе удивлялся, что так много лет не понимал ковра.
Но гораздо больше горя доставляла мне карта. Как запомнить пеструю смену красок, полей, полос, пятен, как зазубрить эти сотни, тысячи месторождений разных руд железа, меди, цинка, то лежащих целым весенним цветником на ярко-красных полосах гранита, то разбросанных случайными родимыми пятнышками или мушками на больших серых и бурых полях?
Но почему одни значки, как цветы, растут только на красных полях? Почему так характерны значки на темно-зеленых полосках? Почему одни значки всегда вместе, а другие никогда?
И, как в истории с ковром, постепенно, нитка за ниткой, стали передо мной раскрываться тайны карты, и какие-то отрывки прошлого стали постепенно сливаться в единую общую картину.
…И вижу я расплавленный океан еще раскаленного земного шара: на нем отдельные острова более светлых гранитных пород, первая твердая кора Земли. Страшные бури и катастрофы потрясают эти первые щиты, сгибая, обламывая их, заливая потоками расплавленной лавы, разрушая яркими солнечными лучами, заливая первые пустыни первым дождем первых туч. А под ними еще кипят расплавленные магмы, те, что застыли потом в глубинах океана в черные скопления базальта.
Из кипящих глубин клубятся и поднимаются столбами пары летучих газов, воды собираются в черные тучи, чтобы пасть на еще раскаленную Землю. В густых, тяжелых туманах летучих солей и металлов, паров йода и брома, бора и хлора рождается первое море, кипящий, насыщенный солями мировой океан.
Продолжается охлаждение Земли. Вот они, большие, уже окрепшие щиты Евразии. Розовой краской залит великий Феносарматский щит на всей площади Карелии и Кольского полуострова. По тонким извилистым розовым полоскам вдоль рек солнечной Украины догадываемся мы о нем. Мы чувствуем спокойный и мощный щит под всей великой равниной России — основой ее и оплотом против много раз набегавших с востока и запада враждебных каменных волн.
А там, на востоке, гирлянды и дуги красок окружают другой щит, великий Сибирский щит, твердь, о которую много миллионов лет разбивались могучие волны восточного океана.
Охлаждается Земля. Сжимается ее поверхность. Сближаются щиты первых отвердевших платформ, и как сталкиваются льдины при ледоходе, как торосится и обламывается лед полярных полей, когда силы ветров прибивают их друг к другу, так сжимаются и сближаются наши щиты, подминая под себя все, что было между ними, обрываясь обломками, открывая доступ расплавам глубин…
И длинные цепи вулканов, мощных потоков лав, горячих источников, тысячи миллионов газовых струй окружают наши щиты огненными змеями, извиваясь между зажатыми щитами, с трудом пробивая пути из глубин кипящим расплавам, огненным газам, возгонам летучих солей.
В этих змейках кипят, зарождаются великие пояса руд и металлов. Вот он, зажатый между Европой и Азией великий Уральский хребет. Его отроги — отроги Уралид — скрываются на полярном севере под вечными льдами мыса Желания, а на юге их горячие дыхания скрыты где-то под поверхностью полынных степей и песков Казахстана, чтобы снова выныривать, как отдельные черные и белые рыбы, среди пустынь Кызыл-Кумов и Бет-Пак-Далы, чтобы снова восстать из песков и адыров среди прекрасных оазисов Тянь-Шаня и Алая.
…И я вижу: в темных, тяжелых расплавах глубин сверкают тяжелые металлы, «как исчадие мрака и тяжести»: платина, железо, медь, хром, никель. Я вижу, как из глубин гранитов поднимаются расплавленные, закутанные в сплошной туман паров и газов жилы пегматитов, в которых растут прекрасные прозрачные самоцветы берилла и топаза. Я вижу, как, наподобие ветвистого дерева, поднимаются к солнцу горячие растворы — эти дыхания земли, а сверкающие металлы — золото, медь и цинк, свинец и серебро — уже блестят кристаллами своих соединений на их стенках.
Я вижу, как великие законы физики и химии управляют грандиозными процессами прошлого, как сливаются значки одного цвета и одной формы в закономерные полосы, пятна и струи, как беспорядок хаоса превращается на моих глазах в величайшие законы гармонии.
Вся Менделеевская таблица элементов, покорная законам атома, ложится закономерно в целые пояса, а они тянутся между щитами, создавая великую ось нашей страны — Уралиды; они, как пучок колосьев, расходятся из Центральной Азии, огибая гирляндами и дугами великий Сибирский щит, они врываются и ломают все, что им попадается на дороге, прокладывая под степями Украины еще не познанный рудный пояс, который тянется на запад до берегов Англии у Атлантического океана и обрывается где-то на востоке, в песках Кара-Кумов.
С юга новые волны молодых альпийских движений поднимаются из глубин моря Тетиса, вздымаются снежные вершины Альп, опрокидываются и как бы скользят на север их горные массивы, и снова горячее дыхание земли приносит из глубин атомы мышьяка и ртути, серебра и сурьмы, серебра и золота…
Вдоль этих еще более могучих хребтов я вижу другие значки, другой ковер цветов. Вот они — широкие реки, бурные и пенящиеся в своих верховьях, безбрежные, как море, в разлившихся нижних течениях. Вот они — моря, опоясывающие великие хребты: их воды бьются о каменные гряды, о застывшие каменные волны Земли. Здесь, на пустынных берегах разрушающихся и умирающих хребтов, мы видим белые пятна солей, осадков озер и морей. Мы видим, как в глубинах, из зарослей растений медленно и постепенно рождается жидкое золото — нефть; как вдоль берегов, подчиняясь все тем же великим законам физики и химии, в определенном порядке выпадают из морских растворов черные руды марганца, красные руды алюминия, буро-зеленые шарики железных руд. Я вижу, как колеблются большие щиты под напором набегающих на них каменных волн, как мягко сгибаются и подгибаются они, как заливают их моря и океаны, как болотистые низины с отмершими массами папоротников, хвощей, хвойных растений — будущий уголь — сменяются сухими песками пустынь с их белыми солями и гипсами и красными глинами такыров!
Я вижу, как солнце и ветер разрушают великий рисунок геологической истории, как на севере ложатся на него сплошным покровом вечные снега и льды, как погребают они под собой все серые болотистые тундры и тайгу, как тысячами зеркал сверкает пояс соляных озер, как яркими красками загораются цвета в песках и горах пустынь и субтропиков… Так сменяется великий рисунок истории новым рисунком, создаваемым солнцем, ветром и водой. Нет, не в беспорядке и хаосе разбросаны краски на нашей карте, а покорные великим законам физики и химии, управляющим миром и нами.
И я вижу, как мечутся, перемещаются, рассеиваются и снова собираются вместе отдельные атомы металлов Земли! Покорные законам своей природы, это они рассеяли пестрый ковер цветов, чтобы потом укрыться под покровом лесов, полей и степей от глаз человека и в длинной многомиллионной истории Земли превратиться в те богатства недр, за которые борется человек.
Я понял, наконец, тебя, карта великой страны, и мне сделалось даже непонятным, что так долго ты казалась лишь беспорядочной сменой красок, которые надо было вызубрить к экзамену на многих и скучных страницах старых учебников геологии и минералогии.
А вы, как вы понимаете эту карту? Что читаете вы в пестром ковре ее затейливого рисунка и красок?
Видите ли вы только сухую историю осадков, морей, последовательно покрывавших друг друга в длинной двухмиллиардной истории земной коры? Научились ли вы языку тех великих законов, которые управляли путями атомов, когда из мирового хаоса рождалась Земля, когда в сложных путях электрических сил одни атомы накапливались в глубинах, а другие окружали их ореолами так, как гирлянды каменных волн окружают наши щиты, как роятся электронные облака вокруг маленьких электрических ядер наших атомов.
Поняли ли вы, что не случайно, а покорно великим законам физики и химии рождались ваши значки металлов, руд и солей, что не в беспорядке мирового хаоса, а в величайшей гармонии разбросаны эти пестрые точки согласно законам новой науки — геохимии: ей принадлежит будущее! И из законов этой науки родятся новая география, новые пути экономики, новые узлы промышленности, новые источники и богатства техники и культуры.
Рождение слова
Дружно гребли мы навстречу свежей имандровской волне, борясь с набегавшими валами. Медленно подвигался тяжелый карбас, с сетями и неводом, и только поздно вечером мы подошли к западным берегам озера и под покровом варак стали втягиваться в Монче-губу.
— Как зовут этот скалистый наволок, что вдается в губу? — спросили мы саами Архипова.
— Да как зовут, просто зовут — наволок.
— А вот следующий?
— Это еще наволок.
— А там дальше, вон со скалой у входа в губу?
— Еще, еще наволок. Ну, чего спрашиваешь, нету имени у этих губ, да наволоков, — говорил старый седой саами, которому даже обидно было, что какие-то пришлые люди смеют спрашивать о рыбных губах, а может, и хотят распоряжаться ими…
А наш географ что-то аккуратно записывал в книжечку.
Прошло два года. Из печати вышла большая прекрасная карта полярного озера Имандра со всеми островами, губами и речушками. На месте западных изрезанных берегов красовались тонко выгравированные названия: «Просто-наволок», от него «Еще-наволок», а дальше — «Еще-еще-наволок».
Так родилось слово, и тщетно будут разбирать через сто лет великие знатоки финских языков, фольклористы и историки, где искать корни этих загадочных названий.
В тесной столовой старого дома хибинской горной станции на озере Вудъявре большое оживление. Вдоль длинных столов сидят за кружками чаю герои многолетних хибинских экспедиций. Среди них саами Василий Кобелев, несколько исподлобья смотрящий на нас, и молодой саами Николай.
Николай горд своим званием и своим чином. Он один-единственный саами среди нескольких тысяч рабочих и служащих треста. У него в руках новый желтенький портфель — он назначен начальником оленьего транспорта Полярного апатитового горнохимического объединения.
Сегодня крестины.
Сначала надо назвать горы и долины Хибин, те, для которых до сих пор не было названия, а потом, и это главное, надо окрестить новые минералы.
И новые слова разойдутся по всему миру, новые названия войдут на сотнях языков во все учебники минералогии, геохимии и химические справочники; они переживут всех нас, даже самое молодое поколение; их будут коверкать на всех языках мира; они будут фигурировать с ошибками в надписях во всех музеях всех стран, — словом, рождение слова не шутка, не забава для хибинцев, это, так сказать, священнодействие.
Легче и скорее справляемся мы с названиями долин, гор, речушек.
— Вот эту речушку, около самого дома, — говорит Николай, — надо назвать Сентисуай, по-русски — Таловка; она ведь никогда не замерзает, бежит даже зимой.
— Хорошо, хорошо! — соглашается хибинское племя, уплетая вкусный пирог с чаем.
Больше споров вызывают названия гор. Одни хотят называть их так: отроги первый, второй, третий — по военному ранжиру; другие — воспитанные в географическом духе — Северная долина, Меридиональный хребет, Юго-восточный отрог; третьи, помоложе, еще живут воспоминаниями Майн Рида и Купера: Вождь большой реки, Озеро косматых медведей, Племя длинного дня…
Это все звучит прекрасно.
— Вот здесь раньше паслись стада диких оленей. Не правда ли, Василий? Значит, эту гору надо назвать Гора оленьей долины, по-саамски — Поачвумчорр — олень, долина, гора.
Нашим саамским экспертам предложенное название очень нравится. За ним быстро принимается Ворткуай (Громотуха), Саамка, Ущелье географов; веселый смех не унимается, предлагают вызвать еще Аннушку — старожилку здешних мест.
Но вот строгий окрик начальства (на то оно и начальство), все замирают. Начинаются крестины новых минералов; крестные, отец и мать, должны обосновать предлагаемое ими название.
— Вот прекрасный блестящий фиолетовый минерал. Он встречается в Ловозерских тундрах в довольно больших количествах — это водный титано-ниобо-тантало-фосфато-силикат натрия, кальция и редких земель. Предлагаем назвать мурманитом.
— Почему? — раздаются возгласы.
Защита крестных не очень обоснована, кто-то в углу даже смеется:
— Да потому он мурманит, что его нет на Мурманском берегу.
Но крестные не унимаются, они доказывают, что «мурманит» звучит просто, кратко, красиво!
Мы голосуем: большинство за мурманит. Процедура его крещения окончена.
Потом выступает новая застенчивая пара, молодые отец и мать.
— Вот совсем новый минерал, то есть не совсем новый, то есть совсем не новый: есть в Гренландии такой ринкит, так наш минерал на него похож, а впрочем, не совсем похож.
Возникает спор. Классики предлагают назвать альфа-ринкит, кое-кто хочет дать название по имени той горы, на которой впервые встречен этот минерал: кукисвумчоррит. Страсти разгораются, наконец все примиряются на имени ринколит — почти как ринкит, но все-таки не совсем.
Так родилось слово, и быть по сему!
Заканчивается постройкой новая ветка железной дороги. Вместо старого, захудалого разъезда Белый настоящая станция с многочисленными путями, а дальше, у входа в ущелье, разъезд, потом город Кировск — Хибиногорск, а в горах, у самого апатитового рудника, конечная станция всей апатитовой ветки.
Надо дать названия новым станциям, включить их в реестр железнодорожных путей всего Союза, напечатать новые билеты, бланки, реестры, квитанции, накладные, литера — словом, записать новые названия в книгу прихода.
— Ну, конечно, самая главная станция — это на магистрали, — говорит старый железнодорожник, — ее надо назвать: Апатиты.
— Но ведь апатит не здесь, — пытаюсь я скромно вмешаться в разговор.
— Ничего, зато сюда его везут. Значит, решено, — эта станция будет Апатиты. Там, на тринадцатом километре, разъезд, назовем его Титан.
— Но ведь там титана, как руды, нет и не было, — пытаюсь я снова подать голос.
— Ну ничего, сейчас нет, так надо, чтобы вы, геологи, нашли бы там титан. Ясно? Ну, а конечный пункт ветки надо, конечно, назвать, у самого апатитового рудника, Нефелином. Тут, я думаю, и минералоги не будут возражать.
— Но ведь там, слава богу, нефелина мало, сплошной чистый апатит, — снова говорю я.
— Ну, ничего, батенька, хоть мало, а все-таки есть; значит, и станция — Нефелин.
Так родилось слово, так решил отец Саваоф — железнодорожное начальство.
Геохимики нашли около самого разъезда № 68 замечательное месторождение. Они говорят, что здесь открыты мировые руды титана, сотни миллионов тонн на одной маленькой горушке. Ну, значит, будут строить завод, фабрику, поселок.
Даже неловко: мировые руды, а разъезд просто номер 68. Так думает старый железнодорожник. «Надо переименовать. Да опять эти минералоги будут смеяться, назовешь их словом, а они тебя этим словом! Не знаю. Да и жарко сегодня, не до крестин. Пойти бы выкупаться в Имандре, а то невмоготу; тут еще пристал диспетчер: поезжай в Охтоканду, принимай какой-то барак, — кляузное дело, и в такую жару! Ну, просто Африка, Африканда какая-то!»
Разъезд был назван Африкандой, и по всему миру на сотнях языков, во всех минералогиях, во всех музеях стояло отныне гордое слово — Африканда, Кольский п-ов, СССР.
Так родилось еще одно слово!
Ей-богу, я верно все рассказал о рождении слова. Правда, немного приукрасил, но, как говорят, ориентировочно все правильно; спросите хотя бы Перепелкина, диспетчера в Кандалакше, или братьев Сорвановых, что на южном конце Умбозера рыбу ловят.
Алмаз
Еще мальчиком вырезал я из какой-то петербургской газеты несколько фельетонов о Кимберлийских копях алмазов в Южной Африке. Здесь в простом, бесхитростном изложении русского путешественника рассказывалось о том, как были встречены в Капской колонии алмазы, как их добывают, в какой горячке живут «культурные центры» Трансвааля, как отбирается камень и поступает на рынки Европы и Америки.
Особенно поразили меня описания добычи камня, залегавшего в огромных воронках зеленой породы — кимберлита, отвесные стенки которых то и дело обваливались, погребая под собой десятки, а иногда и сотни кафров-рабочих.
Весь труд по добыче алмаза держался на десятках тысяч кафров, живших в особых, огороженных колючей проволокой сараях. Всюду английские констебли с резиновыми палками следили за рабочими, опасаясь, что неожиданно блеснувший в кимберлите камень ускользнет из цепких рук владельцев копей.
Кафров отпускали на волю в пьяные бары и кофейни-притоны лишь один раз в месяц после очистки и проверки их желудка.
Горячее южное солнце, ни одного деревца, тяжелый каторжный труд, искупаемый в конце месяца стаканом виски или трубкой сладостного опиума.
Ну, а если кто-либо из них пытался ночью проползти через колючую проволоку, то, совершенно понятно и законно, пуля констебля обязана была положить конец его жизни.
В городе — в барах, кофейнях, домах свиданий — там кипела настоящая жизнь белых. Краденые, полукраденые или законные камни переходили из рук в руки — в карточной игре, в бессмысленных пари и просто так, «незаметно» из одного кармана в другой. Визгливая музыка, пьяные возгласы, сделки маклеров, скупка дутых акций, спекуляция участками, прекрасные креолки, шампанское — вот как жила главная улица белых в Кимберли.
Так добывался алмаз — сверкающая, прозрачная, нерушимая разновидность углерода. Сотни миллионов долларов крупных алмазных синдикатов, сотни тысяч загубленных жизней рабочих!
В Париже в газетах широко оповещают об успехе алмазного бала!. Он был организован при содействии алмазных компаний, желавших оживить рынок камня в тяжелые годы послевоенной инфляции.
Все залы и фойе Большой оперы заполнены были «избранным» обществом, сверкали огнями дивные венецианские люстры, блестели пиренейские пестрые мраморы по стенам, нежно светились, как бы внутренним огнем, перила большой лестницы из алжирского мраморного оникса.
По условиям бала единственным камнем должен быть алмаз. Только в сочетании с ним разрешался зеленый изумруд, красный рубин или индийский жемчуг. За самые прекрасные камни предстояло избрать королеву алмазов и в торжественном заключительном шествии пройти перед ней старинным полонезом.
Досужие корреспонденты уличных газет описывали самые замечательные платья, ажурные туники звезд полусвета, сверкающие тысячью мелких алмазов, они настойчиво расспрашивали о происхождении диадемы какой-то графини и тщательно записывали вымышленную историю о колье из коричневых бразильских камней испанской красавицы.
Вот историческая парюра старого французского двора: неказистые камни Голконды из старой Индии, но как гармонично поставлены они ювелиром, будто цветочки на тонких зеленых веточках из колумбийского изумруда. Вот букет из разноцветных алмазов; говорят, он принадлежал двору русских царей, цветная фольга подложена под камни, а они на гибких стебельках качаются, переливаются и играют.
В бешеном темпе вальса крутятся, вертятся камни, сверкают и гаснут, заливаются радугой из света, чтобы померкнуть перед огнем других. То медленные темпы танго колышут тихим ручьем бриллиантовое ожерелье, то горит один только камень, как яркая одинокая мигающая звезда Алтаир. Это только кусочек знаменитого Кюлленана в восемьдесят каратов веса. О, сколько рассказов и преступлений связано с этим камнем!
Бал в полном разгаре… Но что-то волнуются распорядители в черных фраках и черных цилиндрах: почему мигает электричество? Что? Забастовка на электростанции? Прекратилась подача угля — этого черного алмаза промышленности? Быстро, таинственным шепотом разносится страшное известие — забастовка грозит всем электрическим станциям города.
Затихает музыка, бледнеют лица, судорожно сжимаются руки на драгоценных камнях, в страхе перед потухающими, уже мерцающими красными огнями электрическими лампами…
«Бал прошел сказочно прекрасно, — писали газеты, — мы подсчитали, что на балу сверкало не менее 10 тысяч каратов камней, на много миллионов золотых долларов. Королева алмазов…»
Так писали газеты, но никто не вспомнил о том пути страданий, по которому пришли эти камни в сверкающие залы Большой оперы! Никто не подумал о той цепи тяжелого, каторжного труда…
Острой пирамидой высится буровая вышка на 537-м пикете горы Кукисвумчорр. Боевая бригада новатора Каверина показывает рекорды проходки — в твердом апатите за смену она проходит до 8 метров, и длинная светло-зеленая колонка бережно вынимается и кладется в ящик буровых кернов. Каверин внимательно отвинчивает коронку и проверяет в ней алмазы; они прочно насажены по ее ободку, но безжалостно стирает их твердый и вязкий хибинит, или апатитовая руда.
Это не страшит Каверина. У него прозапас есть коронка с советским победитом, таким вольфрамовым сплавом, что, поди не хуже алмаза. И Каверин горит желанием скорее испробовать его… Проходят дни, и новая коронка с победитом врезается в твердый камень.
Уже буровая прошла на сотни метров ниже отметки озера Вудъявр; значит, она уже ниже поверхности Ледовитого океана. Там она врезается в сетчатый апатит. Бригада Каверина следит за штангами, за длинными кернами. Кончается смена, измеряется проходка, и… победит почти победил — 7 метров 45 сантиметров прошла коронка за смену, а ведь это только первый опыт. Еще плохо налажены штанги, еще не выправлена кое-где нарезка, еще не регулярна подача воды.
— А вот когда мы в этой воде растворим еще соль, что ослабляет твердость камня, когда мы сами попривыкнем, тогда… не надо нам будет вашего алмаза, мы на советском пойдем…
И гудят моторы буровых вышек, врезаясь победитом все глубже и глубже в Хибинскую гору.
Алмаз — твое величие в прошлом! Не надо нам сей час дорогих бриллиантов в золотой оправе, ожерелий, ривьер, диадем, скоро не надо нам будет и алмазного борта в коронке или резце.
В борьбе двух камней углерода — прозрачного алмаза и черного угля — победа за черным!
Алмаз «Шах»
Есть минералы, легенды о которых передаются из уст в уста, есть исторические камни, всю жизнь которых можно проследить по документам, по записям и рассказам, по книгам и рукописям и, наконец, камни, которые сами рассказывают свою историю. Об одном таком камне, называемом «Шах», я и хочу рассказать. Начало этой истории — в сказочной Индии, конец — в нашей Москве.
Найден он был давно, вероятно лет 500 назад, в Центральной Индии, в те времена, когда десятки тысяч рабочих-индийцев томились под тропическим солнцем в долинах рек Голконды, добывая из глубин алмазоносные пески и промывая их.
Здесь среди кварцевых галек и был найден замечательный кристалл, величиной в три сантиметра, немного желтоватый с поверхности, но очень чистый, прекрасный камень — алмаз.
Он был доставлен ко двору одного из владетельных князей Ахмаднагара и хранился у него среди других сокровищ в дорогих ларцах, украшенных самоцветами.
С невероятным трудом, выцарапывая камень мелким алмазным порошком, в который обмакивались тонко заостренные палочки, удалось местным мастерам вырезать на одной стороне надпись персидскими буквами: «Бурхан-Низам-Шах второй. 1000 год».
В тот же год, который по нашему исчислению будет 1591, властитель северной Индии Великий Могол отправил четыре посольства в центральные провинции, желая утвердить свою власть над ними.
Послы вернулись через два года, но с неутешительным ответом и слишком ничтожными подарками — только пятнадцать слонов и пять драгоценных предметов были привезены ими на север…
Великий Акбар решил силой завладеть столь мало угодливой провинцией, войска его подчинили себе Ахмаднагар и захватили много слонов и драгоценностей.
Вероятно, тогда же Великие Моголы и завладели нашим камнем.
Но вот на престол Моголов взошел внук Акбара, назвавший себя Шах-Джехан, т. е. властитель мира. Он был знатоком и большим любителем самоцветов, имел мастерскую, в которой сам занимался огранкой камней.
На нашем замечательном камне со стороны, противоположной уже существующей надписи, по приказу Шах-Джехана, была вырезана другая, столь же художественная надпись, которая гласила: «Сын Джехангир-Шаха Джехан-Шах. 1051 год». Но сын этого властелина, завистливый Ауренг-Зеб, решил завладеть богатствами и троном отца. После долгой борьбы, заточив отца в темницу, он овладел драгоценными камнями короны, а среди них был и наш камень.
Во всем блеске восточного величия начал править Ауренг-Зеб. Сказочную обстановку при дворе Ауренг-Зеба описывает знаменитый французский путешественник Тавернье, посетивший Индию в 1665 году.
Трон Великих Моголов, по его описанию, был украшен огромным количеством драгоценных камней: 108 кабошонов красной благородной шпинели, из коих ни один не весил менее 100 каратов, около 160 изумрудов, каждый весом до 60 каратов, и большое количество алмазов.
Балдахин над троном был тоже украшен драгоценными камнями, причем со стороны, обращенной ко двору (к приближенным), висело украшение, в котором был подвешен алмаз весом от 80 до 90 каратов, окруженный рубинами и изумрудами, так что, когда властелин сидел на троне, он видел камень непосредственно перед собой.
Это был знаменитый камень «Шах».
К двум старым надписям присоединилась глубокая борозда, которая окружала весь камень и давала возможность подвешивать его на шелковой или золотой нити.
Прошло почти 75 лет после посещения Моголов смелым путешественником Тавернье.
Камень хранился сначала в Джеханабаде, потом в Дели, пока в 1739 году на Индию не обрушилась новая гроза.
Шах Надир из Персии надвинулся с запада на Индию, разорил Дели и среди других драгоценностей завладел и нашим алмазом.
Камень перешел в Персию и почти через сто лет на нем была выгравирована третья, также художественно сделанная надпись: «Владыка Каджар-Фатх'али-Шах Султан. 1242» (т. е. 1824 год по нашему летосчислению).
Но вот наступили новые события. 30 января 1829 года в столице Персии Тегеране произведено нападение на русского дипломата, который погибает от руки наемного убийцы.
В России поднимается волнение, царская дипломатия требует примерного наказания Персии, волнуется и русское общество, ибо убит знаменитый писатель А. С. Грибоедов, автор «Горе от ума».
Персия должна «умилостивить белого царя», и с особой депутацией в Петербург отправляется сын шаха принц Хосрев-Мирза, который в искупление вины персидского народа должен передать России одну из ценнейших вещей персидского двора — знаменитый алмаз «Шах».
За кровь Грибоедова было заплачено камнем…
В Петербурге камень после торжественного приема делегации помещается среди других драгоценностей в бриллиантовой кладовой Зимнего Дворца. Прекрасный камень с тремя выгравированными на нем надписями лежит на бархате, охраняемый часовыми гвардейских полков…
…Началась мировая война 1914 года.
Наскоро, в сундуке, отправляется наш камень в Москву, и здесь все ящики с драгоценностями забрасываются в тайники Оружейной палаты и заваливаются тысячами сундуков камеральной и гофмаршальской части с серебром и золотом, фарфором и хрусталем…
…1922 год.
Холодные дни начала апреля. Громыхают ключи, в теплых шубах с поднятыми воротниками идем мы по промерзшим помещениям Оружейной палаты.
Вносят ящики, их пять, среди них тяжелый железный сундук, прочно перевязанный, с большими сургучными печатями. Все цело. Опытный слесарь легко, без ключа открывает незатейливый, очень плохой замок. Внутри в спешке завернутые в папиросную бумагу драгоценности бывшего русского двора. Леденеющими от холода руками вынимаем мы один сверкающий самоцвет за другим.
Нигде нет описей, не видно никакого порядка. В маленьком пакете, завернутом в простую бумагу, лежит наш знаменитый алмаз «Шах».
Наконец последняя картина: в ясном, залитом солнцем зале, осенью 1925 года, выставка драгоценностей алмазного фонда СССР для гостей, приехавших на торжества 200-летия Академии наук.
Старая сказка «Тысячи и одной ночи» о драгоценностях Индии, дворец Ауренг-Зеба, богатства шаха Надира в Дели — все, кажется, меркнет перед ярким блеском сверкающих на столах самоцветов.
Все они — живые свидетели веков, свидетели тяжелых картин унижения и крови, безграничной власти индийских раджей, божественных капищ в Колумбии, свидетели царской пышности и слез народа…
Не расхищены, не сломаны, не подменены и не обесцвечены эти самоцветы в своей долгой истории.
Вот наверху в короне, среди многих тысяч сверкающих индийских бриллиантов, красный камень лал. Когда-то, в горах Бадахшана, в заветной стране афганцев, нашел его сын Востока, утаил под страхом смерти от своего властелина, тайком прокравшись с камнем по трудно проходимым горным тропам в Китайский Туркестан.
Перед короной лежит золотой скипетр, а в нем сверкает знаменитый «Орлов».
Сколько крови и слез, сколько несчастья и горя связано с судьбой этого алмаза столь же прекрасного и сейчас, как тогда, когда он назывался «морем огня», спокойно сверкающего своей старинной индийской огранкой.
Рядом с ним, совершенно незаметным, на темно-красном бархате лежит длинненький желтый камень.
Это исторический алмаз «Шах».
Бунт атомов
Поздно вечером я дописывал страницы своей «Геохимии». На 850 листах описал я историю 90 химических элементов Земли и на 856-й странице, в последней, заключительной главе, освещая судьбу элементов в промышленности и сельском хозяйстве, рассказывал о том, как новая техника овладела всем веществом Земли, как нет больше полезных и бесполезных веществ, а вся Менделеевская таблица со всеми ее 90 клеточками положена к ногам трудящегося человечества. Надо было дописать всего две-три страницы о новом применении радия при просвечивании, о методах лечения эманацией болезней рака, и труд мой, задуманный больше 30 лет тому назад, будет закончен.
Начнется длинный путь переписывания, сверки и набора тех двух миллионов значков, из которых слагается рукопись и которые надо наборщику один за другим вынуть из типографских касс. Надо приладить, приверстать, отпечатать в листах корректуры, вставить в машины, отпечатать в листах чистых, сложить, сброшировать, переплести. И я задумался о том толстом томе «Геохимии», который в нарядном переплете с красивой таблицей Менделеева в красках пришлют мне из типографии в виде сигнального экземпляра.
Я с гордостью смотрю на это свое детище, но что-то начинает меня в нем смущать… Менделеевская таблица с ее клетками оживает на моих глазах. Открывается клетка номер 53. Из нее выходит заряженный атом йода, большой и неспокойный: он недоволен теми страницами, которые отведены ему в моем труде, ведь он вездесущ, даже в прозрачном горном хрустале запрятаны атомы йода, мы дышим им, мы пьем его с водой, мы поглощаем его в огромных количествах с пищей.
— Все шире пользуется мною человек в своих лекарствах, я делаю видимыми почку и печень для рентгеновских лучей, я спасаю автомобиль от столкновения в тумане, я останавливаю гангрену, ты не оценил меня, человек!
И незаметно из клетки номер 55 выходит атом цезия:
— Я также вездесущ, как и ты, йод, но меня еще меньше оценил человек. Я даю тебе самое свое дорогое — свои электроны, чтобы их потоком ты мог пронзать вещество. Меня зовут цезием, и за мною будущее.
— А нас ты забыл совсем! — кричали атомы ртути. — Ты списал несколько страниц из чужого ученого трактата, а сам ничего не понял. Почему? Я тоже вездесущ, как и йод. Почему мой яд разлит во всем мире? Я — смерть и жизнь. Почему ты не писал о моих сверкающих каплях в жилах гор, почему ничего не сказал о горячих вулканах, приносящих мои ядовитые пары вместе с моими друзьями — мышьяком и сурьмой? Ты, очевидно, боишься меня, моих солей в баночках с притертыми пробками, гремучего студня моих запалов, огненно-красной краски моей киновари.
Но открываются все новые и новые клетки таблицы.
Во главе шеренги из маленьких сильно заряженных атомов стоит железо. Слева его друзья по сплавам — марганец, хром и ванадий, справа его соратники — кобальт, никель и медь.
— За нами будущее мира, — говорит железо, — весь мир построен из нас, на самых отдаленных звездах и туманностях горят наши линии. Из меня построена вся ваша планета. Без меня и моих друзей не было бы ни магнита, ни магнитных бурь, ни оружия, ни машин. Я — металл войны и мирного труда, пушек и рельс. Меня закаляют мои товарищи по таблице: посмотри, каким непроходимым барьером выстроены мы — самая ее середина, как велика связь ее беспомощных летучих крыльев.
Шумно и бурно продолжали открываться клетки Менделеевской таблицы: пестрой вереницей выбегали атомы цветных металлов, катились ровно, как бильярдные шары, слабо заряженные электричеством атомы щелочей, кальция, магния, выпархивали легкие газы фтора, кислорода, азота, медленно раскрывались клетки тяжелых радиоэлементов природы, медленно, но неизменно излучали они яркие лучи, невидимые глазом, неизменно превращаясь в тяжелые и неподвижные атомы свинца.
И все эти элементы вперебивку, не считаясь ни с чем и ни с кем, предъявляли мне свои счета. Я не отметил будущего скандия, этого странного редкого металла, которого так много на некоторых звездах. Я не упомянул о новых таинственных применениях кадмия, скрыл от читателей замечательные лечебные свойства атомов таллия — и все они толпились около меня, недовольные, сердитые, полные задора и требований…
Сквозь толпу атомов могучим движением пробился ко мне самый маленький и самый заряженный — атом водорода.
— Замолчите вы, последыши таблицы! Что вы такое? Каков ваш род и ваше происхождение? Молчите! Один я имею право говорить. Он, он, — указывая на меня, — посмел отвести мне всего одну страницу в своей книге, а я ведь начало всех начал. Я — протон, я — точка, из меня построены вы все. Я во всех вас, и вы во мне! Мною в быстро летящих потоках вы разрушаете природу, из меня вы ее строите, я — альфа и омега мира. Разойдитесь, уйдите обратно по своим клеткам!
И я видел, как тихо и покорно ложились атомы по своим номерам, снова заполнялись ряды и группы, снова стройной казалась Менделеевская таблица, и только наверху — ни слева, ни справа — не было знака водорода, — протона, начала всех начал!
Холодный пот выступил у меня на лбу. Я забыл водород. Усиленно протирал глаза, смотрел на таблицу, но нет, все было в порядке: груда написанных страниц лежала на столе, черною тушью аккуратно была вычерчена Менделеевская таблица, а на ней было все на месте, и водород стоял даже два раза наверху таблицы, и слева и справа.
Очевидно, я вздремнул, надо продолжать писать. И я стал быстро набрасывать страницу 857.
«А все-таки прав ли атом водорода? — думал я, дописывая эту страницу. — Не слишком ли много он возомнил о себе? Ведь физики говорят, что, кроме протона, есть еще позитрон, нейтрон, нейтрино, электрон…».
Напрасно они так испугались его. И я тоже хорош! Заснул и испугался!
Две цены
Мы встретились втроем за столиком вагона-ресторана сибирского экспресса. Я — старый минералог, изучавший драгоценные и технические камни Урала, пожилой француз, называвший себя инженером, специалистом по самоцветам, и деловитый украинец — директор треста точных приборов, ехавший в Сибирь за партиями агата.
Мы разговорились о погоде, вагонной пыли, зеленых горах, неожиданно перешли к камням и столь же неожиданно убедились, что жизнь всех нас троих была связана с драгоценным камнем; даже долго не могли мы поверить такой замечательной встрече, какая бывает только в рассказах начинающих писателей.
Мы засели вместе в удобном купе международного вагона, заказали себе несколько бутылок нарзана и стали друг другу рассказывать бывшие и не бывшие истории о камне, истории своей жизни, о которых легче всего говорить только незнакомым лицам.
Первым начал француз. Его живое лицо как-то скривилось в презрительную улыбку, когда он начал:
— Я презираю камни, это они погубили всю мою жизнь, разбили лучшие мечты и сделали из меня простого коммерческого агента чужой фирмы. И тем не менее на всю жизнь я обречен возиться именно с ними.
По окончании университета в Нанси, по настоянию родителей, я поехал в Париж учиться химии и коммерции. Очень скоро за бесценок удалось мне купить у товарища патент на новое медицинское средство. Я открыл большое дело, построив специальный завод, — денег у моих стариков было достаточно, все шло хорошо и сулило большие выгоды.
Конечно, вы поймете что в Париже я очень скоро увлекся молоденькой парижанкой — тонким, нежным существом, любившим цветы, красоту, лошадей и жизнь без границ и искусственных рамок. Это мне даже нравилось в ней, подкупало свежестью беззаботной весны, и я женился на ней.
Ко дню рождения я подарил своей Жанне брошку из уральской яшмы с красивым пестрым рисунком. Она очень обрадовалась этому подарку, расспрашивала меня об Урале, где родятся такие камни, и даже зашла в магазин «Русские самоцветы» на бульваре Сен-Жермен — посмотреть камни из этой сибирской страны, как она говорила.
Там ей понравилась брошь из темно-зеленого малахита. Я, конечно, приобрел эту безделушку для Жанны, хотя брошь стоила много дороже простой яшмы.
С этого дня моя Жаннета пристрастилась к камню; скоро она высмотрела прелестный панделок из густого аквамарина. Ну, конечно, и его я купил, так как мои дела шли очень хорошо.
Но панделок с сине-зеленым камнем можно было носить лишь с платьем определенного цвета. Я сам обратил ее внимание на это и сам ей сказал, что к темному вечернему платью скорее пойдет сапфир. Мы обошли десяток ювелирных магазинов, нашли прекрасный кабошон из кашмирского камня, и я купил его.
Потом… для утреннего пеньюара ей очень понравился светло-синий, цвета василька, цейлонский сапфир. Я купил и этот камень, хотя он мне показался несколько дорогим.
Между тем Жанна еще более пристрастилась к камню. Она перезнакомилась со всеми ювелирами Парижа, болтала без умолку о парюрах, ривьерах, ожерельях, панделоках, диадемах. Она увлекалась синими камнями; нашла где-то сама старую минералогию и в ней читала страницы только о синих камнях.
Сначала я платил довольно спокойно по ее счетам, но скоро синие камни сменились красными, а счета выросли во много раз. Жанна сделалась совершенно помешанной на красных камнях: кровавый аметист, розовые рубеллита, нежные винно-красные топазы и рубины всех тонов из Сиама и Бирмы! Каждый камень отвечал определенному платью, определенному времени года, часам дня, погоде и даже определенному настроению.
Однажды, когда я осторожно намекнул ей, что счета ее ювелиров начинают меня смущать, она бросила мне кольцо с красным рубином и сказала:
— На, отдай его обратно. — А потом прибавила: — Ты прав, красные камни сейчас не в моде. Сейчас моим желаниям отвечает только алмаз.
А этим желаниям не было конца… И без конца шли алмазы, бриллианты, розы, солитеры всех видов и размеров, камни из Индии, Южной Африки, Бразилии и Конго, камни белой, зеленой, синей воды, камни желтые, оранжевые, зеленые, красные и синие… Алмаз овладел Жанной. Она ничего не хотела слушать, когда я ей говорил, что платить больше не хочу и не могу. А ювелиры присылали все новые и новые камни, то на одно представление в опере, то на выезд на скачки… Мне пришлось срочно продать партию продуктов своего завода, увы, по пониженным ценам. Но счета сыпались, и увеличивались, и удлинялись.
Я продал с отчания один из своих заводов. Пытался сократить свои личные расходы, но увлечение Жанны не прекращалось. Впрочем, однажды мне показалось, что прозрачный алмаз начал Жанне надоедать. Я обрадовался этой перемене, старался отвлечь ее, заинтересовать последними картинами в Салоне, возил ее на линкольне по полям и горам Нормандии; Жанна действительно начала забывать камень, а я начал оживать.
Но однажды осенью Жанна пришла домой в каком-то возбуждении. Она сбросила свою шубку из горностая и стала передо мною.
«Ну, что ты скажешь?» — говорили ее глаза. На шее ее было красивое ожерелье из ярко-зеленых камней. Ее бутоньерка за поясом состояла не из живых цветов, а из сверкающих самоцветов с листиками и стебельками из зеленого камня. Какой-то сине-зеленый камень сверкал и в новом кольце.
— Понимаешь ли ты, что это изумруды, настоящие изумруды из сибирских копей на Урале, — гордо сказала она. — Теперь у меня будут только изумруды…
Друзья, я не буду вам дальше рассказывать. Я продал все свои заводы, я сделал огромные долги, и меня стали мучить кредиторы, а счета, счета… не кончались, они лились рекой.
Жанна ничего не понимала, камень заворожил ее. Однажды после бурной сцены она бросила тысячу женских упреков, собрала свои драгоценности и ушла…
Не помню, как прошли первые годы после этого удара. Я долго болел, товарищи выручили меня из беды и нашли мне место агента по скупке камней у одного из ювелиров, которому я задолжал.
И вот я перед вами, разбитый жизнью и красотою камня. Нет, лучше не было бы совсем самоцветов на свете!
— Ну, моя история совершенно такая же, как ваша, но только наоборот! — медленно начал наш товарищ с Украины.
Я вам ее расскажу, и расскажу даже то, о чем многие сейчас и не догадываются.
Вы должны прежде всего знать, что в середине войны совершенно неожиданно я получил наследство от какой-то тетки. Она, оказалось, была богатой, имела старинные, как говорили, фамильные драгоценности и перед смертью завещала их мне, сказав: авось что выйдет из Пети; пусть подарит жене.
Я сохранил у себя, не скрою, в огороде, ящичек с полученными драгоценностями и даже совсем забыл о них в первые годы тревожной жизни. Еще в период гражданской войны в Полтаве я встретился с очаровательной Галиной, ну, знаете, настоящая украинка, с черными живыми глазами, черными волосами и певучим голосом. Очень скоро мы поженились и зажили — не так чтобы очень счастливо, но и не очень плохо. Настоящих дружеских отношений у нас с Галей не было, и все из-за этих камней. Как я ни думал, что это ничего не значит в отношениях между мужем и женой, а возьмите, вот такая мелочь, а из-за нее получилась какая-то недоговоренность. О камнях я ей долго ничего не говорил, и это меня все больше мучило, в конце концов надо же ей было сказать…
И вот года через два после женитьбы пошел я к себе в огород, выкопал ящичек с теткиными драгоценностями и торжественно открыл его перед Галиной вечером. Ой, какие там были камни! Браслет из изумрудов вперемежку с красными рубинами, какая-то брошь из незнакомого мне камня и ожерелье из искристого топаза с маленькими бриллиантиками — все прекрасной старинной кустарной работы.
У Галины прямо глаза разбежались, она по очереди примеряла то браслет, то ожерелье, вертелась перед зеркалом и напевала какие-то песни.
Действительно, драгоценности эти были очень красивы, но как то они были не по душе ни мне, ни моей Галине. Сначала она пыталась их надевать на вечера в клубе. Как-то раз пошли мы с ней в театр, и я упросил ее надеть топазовое ожерелье с бриллиантами, но как оно не вязалось ни с пьесой, которая шла в театре, ни с нашим настроением, ни с нашими вкусами!
— Знаешь, — сказала она мне на следующий день, — не могу я что-то носить эти теткины драгоценности, как-то не знаю! Да ты не обижайся, но только, знаешь, возьми это ожерелье, продай его и купи вместо него попроще — бусы из камня, какие у нас на Украине носят.
Я охотно выполнил ее просьбу, продал ожерелье, купил уральские бусы из дымчатого топаза да еще принес домой несколько сотен рублей.
— Вот хорошо, — сказала она, — а это пригодится в хозяйстве.
Уральские бусы из дымчатого топаза так красиво переливались на шее моей Галины, что мы не могли нарадоваться нашей покупке.
Но как-то пришла ко мне Галина и говорит:
— Не надо мне моего колье из золотистого топаза, зачем эти дорогие камни, еще разорвется нитка, и я все потеряю. Ты бы мне лучше купил брошку, знаешь, овальную с тонким золотым ободком или филигранной работы из серебра. Они ведь не очень дорогие — с яшмой, пестрой такой, с Урала. Это ведь и красиво и удобно.
Я опять выполнил просьбу Галины и купил ей не одну, а три брошки: одну с нефритом, другую с орлецом, а третью с пестроцветной яшмой.
В магазине «Русские самоцветы», где я их покупал, мне рассказали, что все эти камни из нашей страны: нефрит — из Восточной Сибири, розовый орлец — из окрестностей Свердловска, а яшма — из Орска на Южном Урале.
Галина не могла нарадоваться, танцевала около зеркала, смеялась, пестрые камни веселили ее, веселился и я.
И мы торжественно решили, что нам не нужно больше теткиных драгоценностей, что лучше мы продадим и изумрудный браслет и брошь, возьмем отпуск и на полученные деньги поедем по нашей стране «кутить», как смеялись мы оба.
И мы поехали «кутить» на целых два месяца, вдали от забот и дел; мы скитались по Уралу, побывали на новостройках, добрались до самого Байкала, спускались в золотые шахты, поднялись на Эльбрус, купались в Черном море… и вернулись свежими, бодрыми, веселыми и, главное, настоящими друзьями.
Нет, я люблю самоцветы!
Теперь пришла очередь рассказывать мне; но мне, после этих двух рассказов, не хотелось говорить.
Я притворился усталым, сказал, что пора расходиться, так как завтра в 7 часов утра — Красноярск.
Мы простились, а я скорее открыл свой блокнот и записал во всех подробностях рассказы моих спутников.
И только когда я аккуратненько все внес в свою книжечку, я лег спокойно спать.
За недра
«Кто крепко хочет, — найдет!»
Широко распростерлась наша Родина через два материка, занимая почти половину земного охвата по широте и свыше 6 тысяч километров по меридиану.
От полюса земли и полюса холода до солнечных субтропиков и величайших в мире сухих пустынь, от глубочайших низин мира, уходящих глубоко под поверхность океанов, до высочайших вершин — почти в 7500 метров — пика Сталина в группе Памирского Гармо.
Самые длинные в мире реки — в 4 тысячи километров, самые длинные в мире ледяные потоки — почти 80 км длины, самые отдаленные от свободных морей участки материков, самые красочные в мире ландшафты — от вечных льдов и снегов полярных островов до цветущих оазисов у подножья Памира.
Свыше 170 народностей и 200 миллионов человек, говорящих на 70 языках, населяют этот край — свыше 20 миллионов квадратных километров, и от края и до края раздается веселая песня освобожденного труда и пробуждаемой природы!
Свыше одной шестой этой шестой мира занято тундрами, около половины — лесами и тайгой, почти половина всей страны охвачена вечной мерзлотой и свыше миллиона квадратных километров покрыто песками пустынь.
Ровно половина запасов железных руд всего мира скрыта в недрах нашей земли и три четверти мировых запасов марганца, свыше половины всех запасов нефти и половины всех известных в мире фосфорных руд; солей калия, этого живительного нерва сельского хозяйства, в четыре раза больше, чем во всех калиевых месторождениях всего мира. Наш ниобий и титан перекрывают все, что известно нам на земном шаре.
Велики запасы угля — этого «хлеба промышленности», по выражению В. И. Ленина. Запасы только одного Тунгусского бассейна в Сибири куда больше всех запасов угля во всей Англии.
На долю наших торфяных богатств приходится около 60 процентов запасов всего мира. Грандиозны запасы белого угля в падающих струях воды, и сотни миллионов лошадиных сил еще бесцельно растрачиваются нашими реками и водопадами — в два раза больше всех действующих в мире электростанций.
Бесконечны запасы солнечной энергии нашего юга, приливной волны нашего севера и буйного ветра равнин и горных хребтов.
Но среди всех богатств нашей страны, среди всех источников энергии самое большое богатство заключается в самом человеке, в том новом покорителе природы, который преобразует ее, в том советском человеке, который сумел подчинить волю всех коллективной воле народа, сумел создать горячих творцов новой жизни, борцов за человека и за природу.
Новая география нашей страны рождается на наших глазах, новое опережает само время, старое сменяется, рассекается новым каналом или дорогой, расстояния в десятки тысяч километров побеждаются почти в сутки быстроходными самолетами, а старая большая дорога России с ее грязью, ухабами, гнилыми настилами, сломанными мостами уходит из мира сегодняшнего в старый рассказ.
В диком краю непуганой птицы, как в сказке Пушкина, рождается новый мир полярной новостройки; залиты огнем гидростанций города, поселки, пути; мощные и скорые электровозы с их протяжным гудком нарушают безмолвие Севера.
Большевики победили тундру! Уже веет старой легендой от рассказов об оленьих тропах, тяжелых карбасах, о вежах, построенных на льду порожистых рек, о старых кольских погостах, где церковный звон воскресенья смешивался с языческими обрядами старого быта.
А вот ровная черная пустыня Кара-Кумы. Как лезвием, разрезана она первой автомобильной дорогой. Караваны грузовых машин пришли на смену длинным караванам верблюдов с маленьким ишаком впереди и со звоночком на хвосте последнего верблюда.
Больницы и школы, кооперативы на месте старых колодцев, среди красных такыров. В центре песков серные заводы, метеорологические станции, зеленые бахчи. Уже внедряются первые буровые в сыпучие пески Кара-Кумов, чтобы отыскать в них живительную воду. Уже мутные воды Аму-Дарьи врезаются, как змейки, в пески пустыни, сами себе пробивая дорогу, сами себе укрепляя дно.
Большевики побеждают пустыню!
Но не увлекайся своими победами, человек! Не думай о том, что овладел всеми тайнами природы и завладел всеми ее богатствами! Ты еще мало что сделал и мало что знаешь! Геологи говорят, что они изучили около 40 процентов поверхности нашей страны, а между тем не больше 10 процентов Сибири сколько-нибудь внимательно осмотрено геологическим глазом. Только 1/20 знаем мы на Кольском полуострове, и огромные земли на востоке, на западе, севере и юге, по существу, для нас белые, или, вернее, черные, пятна незнания!
На далеком северо-востоке Сибири миллионы квадратных километров пересечены лишь отдельными маршрутами исследователей. Ничего мы не знаем о том, что лежит между Кировском и Мурманском, а на западе от Мончегорска, этой новой полярной новостройки, проходила только одна экспедиция француза Рабо в 1884 году!
Почти неведомы для нас главные хребты Урала, на юг от Златоуста, еще меньше мы знаем о великой Русской равнине, в центре которой стоит Москва. Что делается там, под нашими ногами, всего лишь в 2 тысячах метров от нас в глубину, в получасе ходьбы? Только сейчас новые буровые в самом центре города немногим превысили полтора километра. И сказочно-неожиданные истории рассказывают они нам об этих «страшных» глубинах, которые равны небоскребам в 300 этажей, но которые вместе с тем равны всего лишь 1/6000 части расстояния до центра Земли.
Миллионы квадратных километров сибирских низин покрыты степями и тайгой и бесконечными тундрами и скрывают свои недра.
Может быть, там, совсем на небольших глубинах, под торфом и песками, может быть… Разыгрывается фантазия геологов и геофизиков, когда их тяжелые маятники рассказывают о том, что под Сибирской равниной вдоль Урала вытянуты мощные хребты, некогда уничтоженные заливавшим их морем и сейчас запрятанные под бесконечными пахотами и лугами Сибири.
А что еще скрыто в недоступных нам горных хребтах Памира, Алтая, Саян, Хамардабана, Яблонового, Верхоянского и Черского хребтов? Что таят в себе покрытые дивными лесами красавицы Тянь-Шаня, Сихотэ-Алиня?.. А что скрыто совсем около тебя, под твоей пашней, в корнях опрокинутого бурей дерева, в весеннем размыве реки, в только что вырытой канаве дороги, выбросах колодца и иногда на твоем огороде?
Разве нужно говорить о далеких хребтах? О загадочных пустынях? О сказочных богатствах Кольского края? Разве нужно нам увлекаться поисками в недоступных теснинах саянских рек, на болотистых склонах Хамардабана или в труднопроходимой тайге Тунгузок, когда у нас самих, совсем у нас под боком, скажем прямо, в своем городе мы еще очень многого не знаем.
В последние годы гражданской войны, во время разрухи, около самого Ленинграда были открыты богатейшие руды алюминия, красные бокситы Тихвина. Волховский алюминиевый завод, другой завод на самом месторождении, алюминиевый завод на Днепре — вот что родили эти месторождения. И красные бокситы лежат отдельными пятнами в том завитке каменноугольных пород, которые, окружая Москву, вырисовываются светло-серой краской на геологической карте, протягиваются на север от Белого моря, неся с собой много разных богатств, а среди них и угли, нужные нашему северу.
А почему мы знаем эти богатства лишь в отдельных пятнах этого завитка? Почему мы не можем их встретить у берегов Белого моря, в верховьях Волги или под Смоленском?
А вот и сама Москва белокаменная! Уже врезаются буровые в ее белые известняки. Они проходят сквозь громадные толщи белоснежного гипса, они пересекают глины, пропитанные солью, бромом и йодом, уже изливаются из глубин этих скважин рассолы с богатейшими солями новорожденного курорта — Москвы. А что лежит еще глубже, что ждет геологов до того знаменательного момента, когда буровая упрется в сплошные гранитные массы, которые подстилают всю поверхность Русской равнины, образуя великий Феносарматский щит?
Вот что говорит нам буровая в Ленинском районе города Москвы!
А дальше к югу новые загадки привлекают наше внимание. Около Никитовки в Донбассе работает замечательный рудник ртути. Несколько восточнее, в Нагольном Кряже, встречены жилы с золотом, серебром, свинцом и цинком.
Смелая мысль А. П. Карпинского много лет тому назад, положив линейку на отдельные выходы руд, наметила великий рудный пояс от самых гор Мангышлака За Каспием до Сандомирского кряжа и дальше через такие же руды Гарца, Арденн до побережья Англии.
И в этом великом рудном поясе Герцинской эпохи лишь в отдельных местах горячие пары и растворы смогли пробиться наверх и отложить в рудных жилах свои сверкающие металлы в строгой последовательности: олово, вольфрам, золото, медь, цинк, свинец, серебро, сурьма, ртуть, мышьяк.
Таков величайший теоретический и практический закон геохимии.
В глубинах — олово и вольфрам, наверху, далеко от расплавленных очагов, — ртуть и ее спутник мышьяк.
И мысль геохимиков подымает все новые и новые вопросы. Может быть, на линии этого пояса скрыты от нас столь нужные нам цветные металлы? Давайте пробьем глубокие буровые так, как пробивают их — сотни тысяч метров — нефтяники, попробует прощупать неведомые глубины так, как смело и дерзко по указаниям Ленина вскрыли они Курскую магнитную аномалию и нашли в глубинах запасы железных руд в несколько сот миллиардов тонн.
Но еще более дерзкими и смелыми делаются идеи наших химиков. Это они открыли богатство калиевых солей Соликамска, этих осадков великого Пермского моря; это они предсказали, что Пермское море своими заливами и лиманами протягивается далеко на юг под степи Казахстана; уже намечаются заливы этого моря в районе Саратова; перебрасываются богатства солей калия, фтора, брома и иода в калмыцкие степи на правый берег Волги и далее на запад — по направлению к Харькову…
Так разыгрывается научная фантазия геологов и геохимиков. Но без фантазии, без смелой и дерзкой мысли нельзя овладеть природой.
Без великих законов физики и химии нельзя раскрыть ее тайн.
Недаром говорил М. Ломоносов в 1750 году:
Так поднимемся же на овладение недрами нашей страны!
Глазами новых идей посмотрим на великий Союз, на старые геологические карты Евразии. И новые глаза геохимиков, подобно рентгеновским лучам, пусть пронижут покров тундр и песков.
Но не сразу и не вдруг раскроются, как в сказке, недра. Новый путь будет не всегда легок, и не всегда и не везде выйдешь из него победителем.
Еще недавно в великих просторах нашей страны единственным путем познания были далекие и долгие экспедиции. Сотни, тысячи исследовательских отрядов были брошены за последние двадцать лет во все уголки нашей великой страны. Но сейчас многое изменилось. В самых медвежьих углах Союза растут культурные центры. Исследователи больше не приходят со стороны, а рождаются и крепко растут на местах, в родном крае, в знакомой округе, где всякий пень и всякий камень с малых лет знаком и памятен.
В годы своих знаменитых полярных экспедиций Роальд Амундсен, этот крупнейший полярный исследователь, говорил: «Экспедиция — это подготовка», и он действительно готовился по два-три года, готовился, чтобы одним ударом, в несколько месяцев, добиться поставленной цели.
Но иначе говорил Рихтгофен, этот неутомимый, но систематически планомерный исследователь Китая: «Экспедиция — это многолетняя разработка привезенного материала». И этими словами он подчеркивал, что задача экспедиции не только собрать хорошо и продуманно научные материалы, но и бережно их провезти, систематизировать, сравнить, изучить в деталях и опубликовать.
Наконец, Н. М. Пржевальский, наш великий исследователь Центральной Азии, говорил еще иначе: «Экспедиция — это организация, то-есть расстановка сил в предвидении всех трудностей, организованное их преодоление».
Но наши годы, долгие годы экспедиционной работы, выдвинули еще одно условие. И оно сделалось в нашей работе ведущим и решающим: «Экспедиция — это овладение природой и ее богатствами». Это победа над ее силами, это ее познание для того, чтобы ее переделать. И высшим достижением нашей экспедиции явилась… ее дальнейшая ненужность. Создание на месте опорных точек, баз, станций, людей, которые должны сделать ненужной дальнейшую присылку экспедиционных отрядов, столичных ученых, столь часто чуждых и чужих краю и для края.
Для нас высшим достижением стало овладение силами природы и их подчинение социалистической стройке.
И новый завод или рудник, новый совхоз или культурный центр на месте твоей палатки и твоих ночевок в песке, под елкой или просто на камнях — высшая задача и высшая награда.
А теперь, когда новые люди выросли и крепнут почти на всем пространстве 21 миллиона квадратных километров, когда экспедиции нужны лишь в самых диких местах Сибири, Камчатки или Заполярья, когда всюду зажигаются лозунги познания своего края, — теперь новые задачи растут и новые пути ширятся!
Каждый в отдельности и все вместе идут на штурм, последний штурм нашего незнания страны!
Познай самого себя — старый лозунг греческих философов превращается в боевой клич многомиллионного народа: познай свою страну!
Следуйте же совету горячего трибуна товарища Куйбышева, который в 1932 году писал комсомольцам и пионерам: «Перед нами встает важнейшее условие для создания второй пятилетки: мы должны узнать свою страну… Нужно увлечь этой мыслью миллионны молодых рабочих и колхозников, студентов, школьников и пионеров, туристов и физкультурников, фабзавучников. В каждом районе нашей страны будем искать железо, медь, нефть, уголь, торф, сырье для химической промышленности, новые почвы, новые растения. И не только искать и узнавать, но и учиться использовать эти богатства для строительства социализма».
Познавайте свою страну, свой край, свой колхоз, свою горушку или речонку! Не бойтесь, что малы эти горушки и реки, — ведь из малого вырастает большое!
В вашей любви к местному краю и Родине вы найдете те силы и те орудия, которые помогут овладеть тайнами наших недр. Только в бодром, горячем порыве, в страстной любви к своей родной стране, смелости и энергии родится победа — и не только и не столько в отдельном порыве, сколько в упорном, непоколебимом труде, в упорной мобилизации всех своих сил, в том постоянном горении, которое медленно и неуклонно сдвигает горы, открывает неведомые глубины и, по словам Ломоносова, «выводит их на солнечную ясность».
И пусть же на этом пути лучезарной звездой будут яркие, ясные заветы Михайлы Ломоносова:
«Пойдем нынче по своему Отечеству; станем осматривать положения мест и разделим к произведению руд способныя от неспособных; потом на способных местах поглядим примет надежных, показывающих самые места рудные. Станем искать металлов, золота, серебра и протчих, станем добираться отменных камней, мраморов, аспидов и даже до изумрудов, яхонтов и алмазов. Дорога будет не скучна, в которой, хотя и не везде сокровища нас встречать станут; однако везде увидим минералы, в обществе потребные, которых промыслы могут принести нам не последнюю прибыль…».
«…Металлы и минералы сами на двор не придут; требуют глаз и рук к своему прииску».
|