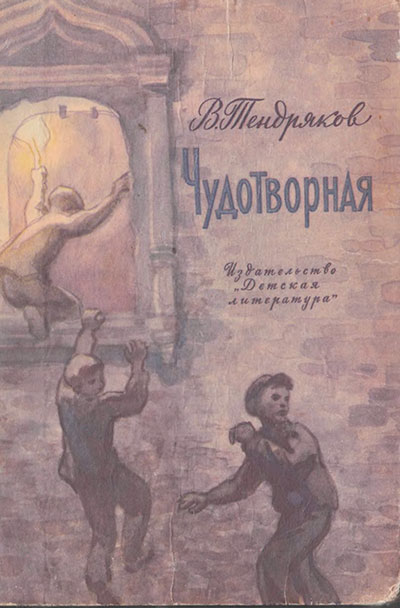|
Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Главный герой повести Родька Гуляев случайно находит на берегу реки икону, и с этого момента для мальчика начинаются сплошные злоключения. Церковники пытаются использовать находку в своих интересах, всё более и более сгущая религиозный туман. Но верить в бога заставить мальчика не могут ни бабка, ни мать. На помощь Родьке приходят добрые, чуткие люди, они помогают ему встать на правильный жизненный путь.
Радиоспектакль по повести «Чудотворная»
здесь: sheba.spb.ru/rs/tend-bezkresta.htm
1
Каждый год, в то время когда полая вода идёт на спад, река Пелеговка начинает «рвать берега». Огромные, как грузные медвежьи туши, кусищи земли с прошлогодней щетинистой травой или с чисто выбитыми прибрежными тропинками то там, то тут ухают вниз, взбрасывая вверх мутные брызги.
Год за годом Пелеговка упрямо въедается в луг, раскинувшийся под селом Гумнищи.
В такие дни в неустоявшейся воде, случается, хватают на выползней подъязки. Соскучившиеся за зиму по реке гумнищинские ребятишки высыпают на берег. Хорош клёв или плох, они все, как один, терпеливо до сумерек торчат над удочками.
Родька Гуляев выбрал место перед крохотной заводью, подсунул под себя доску, чтоб сквозь штаны не холодила мокрая земля, и вот уже который час следил за поплавком. Вырезанный из сосновой коры поплавок кружил от ленивого в заводи течения, порой останавливался, вяло, с неохотой уходил под воду: то крючок цеплялся за дно. Родька взмахивал удочкой, отбрасывал подальше леску. Сонно кружила глинистая вода, уныло висел над ней конец удочки, безнадёжно мёртв был поплавок, вся крохотная прибрежная вымоина с киснущей щетинистой дерновиной казалась безжизненной.
Родька поднялся на затёкшие от долгого сидения ноги, оглянулся по сторонам — не перебраться ли в другое место? — и тут заметил, что в обрыве берега из плотного песка торчит тёмный угол какого-то ящика. Родька подошёл, пощупал его — кусок гнилой доски остался в руке.
«Хоронили что-то в землю... Река открыла... — Родькино сердце разом упало. — А вдруг клад!»
Сперва руками, потом доской, на которой раньше сидел, Родька принялся торопливо откапывать.
Ковырялся он недолго, через каких-нибудь десять минут удалось раскачать и выдернуть из песка находку. Положив её к ногам, Родька долго разглядывал изъеденный гнилью ящик, ворочал его. Ящик был не тяжёл, походил на те ящики, в которых гумнищинская сельповская лавка получала конфеты-подушечки, — такой же ширины и длины, такой же плоский, только сколочен добротнее: полусгнившие доски довольно толсты, пазы между ними проконопачены паклей. И по тому, что эта пакля сохранилась, по тому, что она не расползалась в пальцах, Родька понял: должно быть, пазы смолили.
Гнилые доски легко срывались со ржавых гвоздей. Под ними оказалась бурая, сухая, плохо гнущаяся и ломающаяся на сгибах мешковина. «Ишь, прятали. Мешковина, и та просмолена... Дорогая штука, должно...»
От нетерпения, от сладкого ужаса перед неизвестностью у Родьки стали непослушными руки, подёргивало косточки в коленках. Он выдрал из ящика мешковину, отворачиваясь при этом от сухой пыли, и вынул... широкую, тяжёлую доску.
Большая, тёмная, словно закопчённая, доска, и больше ничего!
Родька с разочарованием и недоумением её разглядывал, поворачивал перед собою то на одну, то на другую сторону. На прокопченно-грязной стороне он разглядел два глазных белка: на доске кто-то был нарисован. Спустившись к воде, Родька старательно вымыл доску ладонью. Доска мокро заблестела, но тёмные краски от этого проступили лишь чуть-чуть отчётливее. По-прежнему не столько сами чёрные глаза, сколько белые глазные яблоки с какой-то угрюмой нелюдимостью уставились мимо Родьки.
Постепенно Родька разглядел, что глаза и едва проступившая бородка соединялись длинным, прямым, как тележный квач, носом. Разглядел Родька всё лицо — вытянутое под стать носу, узкое, с двумя резкими морщинами от ноздрей, разглядел полукружие над головой и понял: он просто-напросто нашёл икону.
Невелик клад. Такого добра у бабки целый угол. Но находка есть находка, какая бы она ни была, ею стоит похвастаться.
Родька свернул удочку, взял под мышку икону, направился к селу, домой.
2
Мать и бабка были за домом, возились на усадьбе.
Бабка, со сбившимся на голове платком, с сердитым лицом, вцепившись жилистыми руками в ручки плуга, пахала. Родькину бабку звали по селу Грачихой. Ей давно перевалило за шестьдесят, но всю мужскую работу по дому делала только она. Обвалится столб у калитки — бабка бралась за топор, кляня непутёвого муженька своей дочери, и, призывая господа бога, святую деву богородицу, обтёсывала новый столб. Бабка сама возила из лесу дрова, сама косила, сама таскала на поветь сено, сама пахала. Родькину мать, свою дочь, тоже не жалующуюся на здоровье, звала «жидкой плотью», постоянно ворчала: «Умру, похороните — расползётся дом, как прелый гриб». Высокая, костистая, поглядеть спереди — широка, словно дверь, сбоку — плоская, как доска; лицо тоже широкое, угловатое, с мослаковатыми крутыми скулами; над ними в сухой смятости перевитых коричневых морщин и морщинок неспокойно и цепко глядят жёлтые глаза. Сейчас бабка навалилась на плуг, неуклюже переступает огромными сапожищами по пахоте, покрикивает на лошадь:
— Н-но! Наказание господне! Шевелись, недоделанная! Обмою хребтину-то!
Мать Родьки, повязав платок так низко, что он почти закрывал глаза — жалела лицо, прятала от солнца, — собирала с распаренной, улежавшейся за зиму пахоты прошлогодние картофельные плети, сваливала их в разложенный костёрчик. Сопревшие под снегом, не совсем ещё высохшие плети горели плохо, по усадьбе тянулся сизый вонючий дым.
К Родькиной матери от старой Грачихи перешло скуластое лицо да зелёный прищур глаз сквозь белёсые ресницы, но и скулы уже не так круто выпирали и лицо без угловатостей, кругло, со сдобной подушечкой под мелким подбородком; даже намёка нет на бабкину худобу: плечи пухлы и покаты, старенькая, выцветшая юбка трещит на бёдрах. Куда больше от бабки перепало внуку. Пусть хрупки плечи, но даже сейчас под стареньким ватником чувствуется их разворот, лобастая крупная голова лежит на них почти без шеи, цевки рук тонки, зато ладони широкие, плоские, короткопалые. Теперь вот обхватил ими широкую доску, расставил ноги в разбитых сапогах, голова склонена лбом вперёд, на нижней губе болячка (застудил, на реке пропадая) — сбитенок, с годами выклюется из такого Грач под стать старой Грачихе.
— Набегался, безотцовщина? — Бабка остановила лошадь, стала очищать лемех палкой, бросая из-за плеча суровые взгляды. — Варька, иди картошки свинье натолки. Пущай гулявый будылье таскает.
— А я икону нашёл, — похвастался Родька.
— Опять баловство! Третьего дня лешачата на кладбище крест с могилки Феклуши-странницы своротили, в ручей бросили. В прежние времена за такие дела до смерти пороли.
Мать, утирая слезящиеся от дыма глаза, подошла, легонько толкнула Родьку в плечо:
— Иди домой, за книжки садись. Учительница проходу не даёт из-за тебя... Иди, иди, тут мы управимся.
— Ты глянь, какую штуку в берегу выкопал.
Родька положил на землю икону. Мать замолчала, вгляделась, сурово спросила:
— Где нашёл?
— Говорят — в берегу выкопал. В ящике заколочена была.
— Иди-ка сюда, мать.
Бабка разогнулась, вытирая запачканные руки о ветхий подол юбки, двинулась, волоча сапоги по пахоте.
— Вечно проказы. Исусе Христе, святые иконы под берегом валяются. Ой, Родька, на мать-заступницу не погляжу...
Бабка подошла, взглянула и замолчала; светлые беспокойные глазки средь дублёных морщинок остановились.
Икона лежала на земле, оплетённой прелой ботвою; два белых глаза с унылой суровостью уставились в лёгонькие, размазанные по синему небу облачка.
Тяжёлая, с натруженными венами рука бабки медленно-медленно поднялась. Грубые, с обломанными ногтями, несгибающиеся пальцы сложились в щепоть, совершили крёстное знамение.
— Свят, свят... Исусе Христе праведный... Варенька, голубушка, взгляни-ка, взгляни. Ох, батюшки! Ведь это, милые, чудотворная с Николы Мосты...
— Она, пропащая, — подтвердила серьёзно и мать.
— Типун тебе на язык — «пропащая». Не пропащая, девонька, а новоявленная.
Бабка схватила с земли икону, прижимая обеими руками к груди, бросилась бегом к дому. Платок её совсем упал на плечи, открыв крохотный, как луковица, седой пучок волос.
Родька подозрительно, исподлобья проводил её взглядом: что-то бабка серьёзно схватилась за икону, даже работу бросила; начнёт потом зудеть: что, да как, да где нашёл, скажешь не по ней — по затылку схватишь.
— Мамка, — проговорил он, — я к Ваське пойду уроки делать.
Но мать не слышала. Она, глядя вслед бабке, распрямилась, поправила платок, потуже подтянула концы у подбородка и, выставив грудь, мелкими, чинными шажочками двинулась с усадьбы.
3
Вечером дома ждали Родьку.
Ещё с порога он увидел, что в избе полно народу: бабка Домна, бабка Дарья, бабка Секлетея, согнутая пополам старая Жеребиха. Средь старух, скрестив короткие толстые руки под оплывшей грудью, возвышалась могучая, не возьмёшь в обхват, Агния Ручкина. У неё пухли ноги, свои водянистые телеса нарастила, сидя сиднем дома, а сейчас вот приползла из другого конца села. На её сыром, с дрожащими щеками и подбородком лице застыло покорно-плаксивое выражение, тяжкий вздох вырывается из груди:
— Ноженьки мои, ноженьки!..
У самых дверей, с краешка, на лавке, умостился робкий старичишка — ночной сторож Стёпа Казачок: спечённый рот крепко сжат, слезящиеся в красных веках глазки с испугом и недоумением уставились на вошедшего Родьку. Он первый мелко-мелко закрестился, засопел, не спуская с мальчишки влажных, часто мигающих голыми веками глаз, заёрзал на лавке.
Мать и бабка, сами словно в гостях, сидят рядком, сложили докрасна вымытые руки на коленях. У бабки жидкие волосы гладко причёсаны, смазаны маслом, у матери на белой шее оранжевые бусы.
Икона, принесённая Родькой, стояла уже в углу, перед ней горели крошечными, словно зёрнышки, огоньками несколько тонких, как карандаши, свечек. Старик с иконы с суровым отчуждением встретил Родьку своими выкаченными белками, направленными поверх свечных огоньков и голов гостей.
— Ангел ты наш, сокол ясный! — запела навстречу согнутая Жеребиха, ласково уставясь чёрными, без блеска, как подмоченные угольки, глазами. — Знает господь, кого благодатью своей отличить. Истинно ангел.
А Родька-ангел, продёрнув рукавом по мокрому носу, от непонятного внимания гостей склонив упрямо голову, выставив лоб — торчащие уши выражают смущение, — протиснулся бочком к печке.
— Избранник божий, надежда наша, — раскисла в улыбке Агния Ручкина. — Ох, ноженьки мои, ноженьки...
— Счастье тебе, Варварушка... Сынок-то! — Жеребиха оглядывалась на Родькину мать. — Второй отрок Пантелеймон. Как есть второй Пантелеймон-заступничек. Господня воля на то. В або какие руки чудотворная икона не попадает... Иди, ласковый, поближе, чего пужаешься? Так бы рученьки твои, голубь мой, и расцеловала.
Родька исподлобья, диковато засверкал глазами, растерянно попятился к порогу.
— Экой ты, а ну, подь сюда, спросить хочу, — сурово попросила Родькина бабка, добавила ласковее: — Поди, поди, не укусим, чай. — Помявшись, ещё ниже наклонив голову, Родька подошёл.
— Ну чего?
— Скажи ещё раз, милушко, где ты её достал?
— Икону-то?.. Да сколько тебе говорить? В берегу же выкопал. От Пантюхина омута идти, то вправо.
Внимательно притихшие старухи разом завздыхали:
— Голубиная душенька подвернулась, некорыстная...
— Сам господь, должно, перстом указал... Ноженьки мои, ноженьки... Ох, согрешение!
— Да как же ты на неё наткнулся? — продолжала допрашивать бабка.
— Увидал — в берегу углышек ящика торчит. Выкопал... А там — эта...
— Церковь-то наша без неё сирая и неприкаянная.
— Сказывают, ангелы мои, с той поры, как пропала чудотворная, кажную ночь купол пилит ктой-то. Кажную ночь перед петухами...
— Осиротел храм божий, вот и гнездится всякая нечисть.
Родька со страхом и недоумением слушал вспыхнувший разговор, оглядывался. А в тёмном углу избы, скупо освещённом крошечными свечными огоньками, молчаливо возвышалась икона: на чёрной доске белели глазные яблоки.
4
Ушли гости. За тёмным окном в последний раз донеслось плачуще:
— Ноженьки мои, ноженьки...
Бабка убрала свечи с иконы, потушила лампу. В углу осталась лампадка: на всю тёмную избу лишь она одна парила в воздухе зеленоватым сонным мотыльком. То крестясь, то застывая с беззвучно шепчущими губами, то с размаху склоняясь к полу, бабка помолилась на сон грядущий.
Просто устроен человек. Наотбивала поклонов, ворча и кряхтя, взобралась на простывшую печь, сладко охая, расправила там кости, и через секунду раздался густой храп...
Зато Варвара, подоткнув сползшее с разметавшегося Родьки одеяло, в одной рубахе, распустив по спине волосы, опустилась голыми коленями на холодный пол, заворожённо уставилась на неподвижный огонёк лампадки.
Храпит старая Грачиха за спиной. За окном прошумел ветер в молодой листве черёмухи. Вдалеке спросонья гаркнул петух, но, видать, не вовремя: никто ему не откликнулся. Тихо.
Варвара сложила лодочкой на груди руки, начала бессвязно шептать:
— Господи милостивый... Никола-угодник... В вечной тревоге живу. Помоги и образумь меня...
Каждый вечер, направив лицо в угол, заставленный иконами, Варвара шепчет: «Помоги, господи!»
И так уже много лет.
Когда-то, в девках, ничего не боялась, не заглядывала со страхом в завтрашний день, не верила ни в бога, ни в чёрта, за стол садилась, не перекрестив лба, на воркотню матери, старой Грачихи, отвечала:
— Будет ныть-то! Отошла ныне мода, крестись себе на здоровье, коли нравится...
Самой большой тревогой в ту пору было — придёт или не придёт Степан на обрыв, к обвалившейся берёзе. Шла война, парней в селе было не густо; он тоже в отпуск приехал после госпиталя, припадал на раненую ногу. Ресницы у него были что у девки, глаза тёмные, ласковые, на гитаре играл, подпевал: «Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани...» Сам в это время лукаво посмеивался. Немало в Гумнищах молодых девок, но и она, Варвара, была не из последних — не конопата, не кривобока; бывало, прислонится Степан к высокой груди — замрёт, как ребёнок. Страшная вера охватывала тогда — никакая сила не оторвёт его. «Распрямись ты, рожь высокая...» За весь месяц, пока Степан Гуляев жил в отпуске, не пропустили ни одной ночи. Ничего тогда не боялась Варвара, ни у кого не собиралась просить помощи, помнить не помнила бога...
Но вот кончился срок, проводила Степана. Без стеснения, как жена, перед всем селом висела на шее, плакала в голос: «На ко-ого-о ты меня-а покида-аешь!»
Проводила, тут-то и стала задумываться: вернётся ли, на фронт ведь уехал, ребёнок будет, старая мать — по дому только помощница, вдруг да придётся куковать соломенной вдовой? Вернуть бы! Если б можно, на четвереньках через леса, реки, города поползла к нему. Как помочь?! Чем?! Сиди обливайся холодным потом при мысли, что всё быстро так кончилось... Кончилось?! Нет, нельзя этого допустить! Что-то надо делать!.. Старая Грачиха видела всё, не переставая твердила:
— Хватит казниться. Сохнешь да кровь портишь без толку. Молись лучше. Молись! Забыла господа-то. Гордыня заела. За свою гордыню такие ли муки мученические терпеть будешь!
Что-то надо делать Варваре. Страхи одолевают. Может, и в самом деле права мать: никакой другой помощи не придумаешь. Тогда-то впервые Варвара стала вечерами непослушными от волнений и тревоги губами молить шёпотом: «Помоги, господи!»
Молитвы ли помогли, само ли по себе должно так случиться, вернулся Степан после демобилизации. Те же бабьи ресницы, та же ловкая походочка, только без прихрамывания, а глаза, не в пример прежнему, холоднее, и песенку с лукавинкой не вспоминал: «Распрямись ты, рожь...»
Напуганная, ослабевшая от вечных страхов, Варвара тайком просила: «Помоги, господи! Смятенная душа ныне у Степана, успокой его, верни мне его ласку». Но Степан не успокаивался, раздражённо ворчал:
— Скука здесь. Того и гляди, шерстью обрастёшь.
Потом неожиданно сорвался, укатил в город, поступил на мебельную фабрику, пообещав, что, как только устроится, вызовет к себе Варвару с Родькой.
Кто знает, как бы повернулась жизнь, если б Степан прочно остался дома. Была бы семья, как у всех, — без ущербинки. Есть муж и отец, хозяин и опора, с ним и заботы пополам и любая беда в полбеды. Какой там страх перед завтрашним днём, когда рядом крепкое мужское плечо: знай живи, и бога ворошить незачем!
Но Степан уехал, и нет твёрдой надежды, что вернётся. Одна опора в семейных делах для Варвары — старая Грачиха, А та сама на себя не надеется, всё у бога помощи ищет, что ни день, то долбит: «Молись! Молись! Кроме как у господа, ни у кого помощи не найдёшь. Он всемогущ!..»
И Варвара по вечерам стояла на коленях, кланялась углу, уставленному иконами:
— Помоги, господи! Мать божья, заступница, не обойди милостью своей. Не загулял бы Степан-то на стороне. Не позарился бы на городскую, крашеную и пудреную...
Какая там перебежала Варваре дорогу, крашеная иль некрашеная, но Степан домой больше не вернулся. Сначала высылал деньги и скупые письма, потом только деньги, да и те с перебоями.
Случилась самая большая беда., большей быть не может. Казалось, раз так вышло, чего уж дальше бояться — скинь страх, оглянись трезво вокруг. Но напугана жизнью Варвара.
Родька непоседой растёт, день-деньской на реке пропадает. Страшно, вдруг да случится грех — утонет... Сохрани, господь!
Учительница Прасковья Петровна на него жалуется: уроки-де плохо готовит... Страшно, вдруг да вахлак вахлаком вырастет. Образумь, господь, непутёвого!
Корова плохо поела — страшно!
Собака ночью на луну выла — страшно!
Поутру дорогу чёрная кошка перебежала — ох, не к добру!
Кругом страсти господни. Нелегко жить. Спаси, Христос, и помилуй от всякой напасти.
Храпит на печи бабка. Заледенел в неподвижности огонёк лампадки, едва-едва осветил два серых белка да узкий нос на новой иконе. Разорались уже петухи на воле. Вывернула душу — пора и на боковую: утром вставать рано.
Варвара поднялась с колен. Ступая босыми ногами по узловатым от сучков половицам, прошла к кровати. Там, воткнув в вылинявшую подушку непослушные вихры, спит Родька. Косо упавший свет луны освещает сомкнутые ресницы, упрямые, от бабки перешедшие скулы, болячку на губе.
«Наказание моё... Ну-ка, святая икона ему явилась... К добру ли? Не случилось бы чего... Второй Пантелеймон-праведник... Чудеса, да и только... Охохонюшки!..» — Варвара сладко зевнула, стала осторожно отодвигать съёжившегося под одеялом Родьку.
— Двинься, чадушко. Дай мамке местечко...
5
В старину считали: селение без церкви, как бы оно велико ни было, — деревня, с церковью — село. В самом же селе Гумнищи церкви не было. Церковь стояла на отдалении, в версте в сторону.
Рассказывают так. Лет сто пятьдесят, а может и двести, тому назад некий пастушонок Пантелеймон, гонявший деревенское стадо на Машкино болото, увидел там среди пней и кочек икону Николая-угодника. Пастушонок тут же перед ней опустился на колени и помолился о здравии болящей матери, которая вот уже много лет и зим не слезала с печи. Когда он пришёл вечером домой, то увидел, что мать, сотворяя молитвы, ходит по двору, налаживает завалившийся тын. Икона оказалась чудотворной.
Вряд ли было на святой Руси такое место, где не рождались бы такие благостные, по-детски наивные, похожие друг на друга легенды. И каждый раз они разносились на много вёрст по деревням и сёлам, тревожа воображение, совесть, вызывая надежды.
К новоявленной иконе, к малознакомой до тех дней деревне Гумнищи потянулся народ — пешие с батожками и котомками, на подводах с жёнами и детишками, на лихачах с гиком и посвистом. Кто грабил, жульничал, беспутно пьянствовал, кто жрал толчёную кору, как о великом счастье, мечтал о куске хлеба, кто изнывал от хвори — все, с грехами, нуждой, собственной грыжею, поднимая пыль лаптями, разбитыми в кровь ногами, ошинованными колёсами, тянулись просить милости у чудотворной.
Сперва среди пней и кочек Машкина болота была выстроена из свежесрубленного кондача часовенка с тесовым шпилем вместо луковицы. Потом странники и странницы, те, кто восхваление бога и посещение святых мест считали своей профессией, а новоявленье чудотворной — удачей жизни, пошли по дорогам Руси с жестяными кружками, погромыхивая медяками, гундося елейно: «Подайте, православные, на храм божий!» И православные раскошеливались...
На Машкином болоте нельзя было выстроить добрую избу — перекосит углы, нижние венцы уйдут в трясину. Но ради чудотворной, во славу божью, всем миром наносили песку, земли, камней, вымостили болото, средь ляжин и трясин сделали остров. На этом острове подняли вверх сажённой толщины кирпичные стены, приезжие мастера расписали их богородицами, ангелами, Христовыми ликами, на высоту птичьего полёта подняли многопудовые колокола, а ещё выше, над голубыми луковицами, истекая огнём, едва не цепляясь за облака, засияли на солнце золочёные кресты.
И поднялся посреди Машкина болота не для жилья, не для посиделок, не для общего веселья, поднялся на столетия памятник тёмной веры в несуществующего бога, дорогая и громоздкая оправа для дубовой доски, не особенно искусно покрытой красками.
Новую церковь назвали Никола на Мостах, в честь явленной иконы Николая-угодника и в честь того, что церковь воздвигнута на вымощенном руками верующих болоте.
Считалось, что чудотворная исцеляет от всех телесных и духовных недугов гораздо охотнее, если только перед ней сотворит молитву не сам просящий, а Пантелеймон, тот пастушонок, который первым преклонился перед иконой.
Пантелеймон вскоре стал чем-то вроде местного святого. Говорят, поставил себе мельницу и умер в глубокой старости праведником. Под селом на реке Пелеговке есть Пантюхин омут, возле которого на берегу до сих пор можно видеть каменную осыпавшуюся кладку — остатки фундамента пантелеймоновской мельницы.
За решётчатой оградой, под стенами церкви Николы на Мостах, одна возле другой стали ложиться могилки, над сельским погостом зашумели берёзки, рябинки, липы, галки свили гнёзда под куполами. В церкви менялись попы. Они крестили новорождённых, венчали молодых, отпевали покойников, служили заутрени, обедни, пели «многие лета», провозглашали «анафему». Запах ладана и атмосфера казённой святости окружили легендарную икону. К ней привыкли, слава её поутихла, чудотворность уснула, и всё-таки на неё продолжали молиться, за многие километры тащились, чтоб только благоговейно приложиться к её лику, зажечь копеечную свечу.
В двадцать девятом году, в то время, когда вокруг Гумнищ создавались колхозы, последний из попов церкви Николы на Мостах был уличён в кулацкой агитации. Его самого раскулачили, отправили в Соловки, а церковь, как пережиток старого, решено было закрыть. С высокой колокольни, к великому негодованию старух, стянули верёвками тяжёлый колокол. Он, когда-то будивший своим медным рыком гумнищинскую округу, ударился в землю и, охнув в последний раз в своей жизни, развалился. Всё церковное имущество — серебряные оклады, кадила, дарохранительницы — конфисковали, а чудотворную икону по предложению сельских комсомольцев собирались уже переслать в краеведческий музей. Но она неожиданно исчезла. На этот раз такое событие вовсе не расценили как чудо, просто решили: кто-то из верующих стащил её из пустой церкви.
Но долго ещё вспоминали старухи икону, рассказывали об огнях на болоте, о душе Пантелеймона-праведника над омутом, о том, что каждую полночь в заброшенной церкви кто-то «пилит купол» — «истово, из минутки в минутку, каждую ночь перед петухами...»
С той поры прошло немало лет. И вот позабытая чудотворная икона вновь явилась под берегом реки Пелеговки.
6
Утром Родька, как всегда, собирался в школу: завязал книги и тетрадки в старый мамкин платок, надел пионерский галстук и, долго слюнявя ладони, разлаживал мятые концы на груди (вчера после школы весь день таскал его скомканным в кармане), потом метнулся к столу:
— Давай, бабушка, есть. Не то опоздаю.
Бабка, вместо того чтобы проворчать обычное: «Успеешь ещё натрескаться...» — разогнулась у печки, ушла за переборку, быстро вернулась, пряча что-то в вытянутом кулаке.
— Ну-ка, дитятко... — позвала она.
Родька с подозрением покосился на её осторожно сжатый, словно державший в себе горсть живых тараканов, кулак.
— Вот одень, золотце, на доброе здоровье. Хватит уж нехристем-то бегать.
Перед Родькиным носом закачался на толстой шёлковой нитке маленький медный крестик. Родька с минуту отупело моргал, потом залился краской от шеи до кончиков ушей, втянул голову в плечи.
— Ещё чего выдумала? На кой мне...
— Нельзя, родненький, ты теперь у бога на примете. Не мне, небось, не бабке Жеребихе чудотворная открылась. И не выдумывай, ягодка, господа-то гневить непослушанием. Ну-кося, на тебя с молитвою...
Родька ещё больше съёжился, отступил назад:
— Не одену.
— Экой ты... — Бабка протянула руку. Родька отскочил, светлые, с грачихинской желтизной глаза блеснули затравленно. — Ну, чего козлом прыгаешь?
— Умру — не одену! Ребята узнают — начисто засмеют.
— Чего ради хвалиться тебе перед ними? Каждый всяк по себе живёт, всяк свою душу спасает. Храни себе потаённо и радуйся.
Вошла мать в туго повязанном платке, старые сапоги забрызганы грязью, видно, только что с бороньбы или от парников — вся розовая от быстрой ходьбы по славному утреннему холодку, в прищуре глаз под белёсой занавесочкой ресниц — доброта:
— Опять с бабушкой не поладил?
Родька бросился к ней:
— Мам, скажи, чтоб не одевала. На кой мне крест. Что я, старуха?.. Узнают вот в школе...
Мать нерешительно отвела глаза от бабки:
— А может, и вправду не одевать? Сама знаешь: в школе не похвалят.
Бабка разогнулась, подобрала губы, сжала в коричневый кулак крестик.
— Оберегаешь всё? Ты ему душу сбереги. Гнев-то божий, чай, пострашнее, чем учительша вымочку даст.
— Не гневался же, мать, господь на него до сих пор. Даже милостью своей отметил.
— Ой, Варька, подумай: милость эта не остережение ли? Пока Родька ходил без отлички, ему всё прощалось. А ныне просто срам парню креста на шее не носить.
Мать сдавалась:
— Право, не знаю. Какой спрос с малого да несмышлёного?
— Для господа что мал, что стар — все ровни, все одинаково рабы божьи. Вот свалится беда, запоёшь тогда по-другому, вспомнишь, что сущую безделицу для бога отказала. Да и что толковать-то, тьфу! Крест на шею сыну повесить совестно.
И мать сдалась.
— Надень, Роденька, крестик, надень, будь умницей.
— Сказал — не одену.
— Вот бог-то увидит твоё упрямство.
— Плевал я на бога вашего! Знал бы, эту икону и вырывать из земли не стал, я бы её в речку бросил!
— Окстись! Окстись, поганец! — зыкнула бабка. — Типун тебе на язык! Вот оно, Варька, потаканье-то...
На щеках матери выступили лиловые пятна, широко расставленные глаза сузились в щёлки, руки поднялись к груди, быстро перебрали пальцами все пуговицы на старенькой кофте.
— Добром тебя просят. Ну!.. Мать, дай-ка мне крест. Я-то надену на неслуха.
— Нет, пусть он себя крестным знаменем осенит. Нет, пусть он у бога прощения попросит. Пусть-ка скажет сначала: «Прости, господи, мои прегрешения».
На стене, под фотографиями в картонных рамочках, висел старый солдатский ремень, оставшийся от отца.
Мать сняла его с гвоздя, впилась в Родьку прищуренными глазами, устрашающе переложила ремень из руки в руку.
— Слышал, что тебе старшие говорят?
Сжавшись, подняв плечи, выставив вперёд белобрысые вихры, глядя исподлобья, как волчонок, насторожённо блестевшими глазами, Родька тихо-тихо пододвигался к двери, навёртывал на палец конец красного галстука.
— Прав... прав не имеете.
— Вот я скину штаны и распишу права...
— Верно, Варенька, верно. Ишь, умничек...
— Вот я в школе скажу всё...
— Пусть-ка сунутся — я учителям твоим глаза всё повыцарапаю. Небось, не ихнее дело. Кому говорят?!
— Верно, Варенька, верно.
Родька сжался сильнее, с ненавистью стреляя глазами то в бабку, то в мать, чуть приметно двинул плечом в сторону дверей.
— Скидывай сапоги! Ну, быстро!.. Ни в какую школу не пущу. Ну! — Рука матери больно дёрнула за вихры. — Крестись, пащенок!
— Скажу вот всем! Скажу! Ой!..
Удар ремня пришёлся по плечу.
— Скидывай сапоги! Живо!.. Нету тебе школы! Нету тебе улицы! На замок запру!
Второй удар, третий... Родька отчаянно, басом взревел, рванулся к двери, но бабка с непривычной для неё резвостью перегородила дорогу, схватила за ухо.
— Ишь ты, лукавый. Нет, милёнок, нет, встань-ко сюда!
У матери же было красное, расстроенное лицо, на глазах тоже слёзы.
— И что мне за наказание такое? Вырос на мою голову, вражонок. Когда только я над тобой управу возьму? Долго будешь ещё упрямиться, мучитель мой?
Родька всхлипывал, вздрагивал телом, размазывал слёзы рукавом чистой, надетой для школы рубахи; его правое ухо пламенело, казалось тяжёлым, как налитый кровью петушиный гребень.
— Оставь его, Варька, — заявила бабка. — Не хочет, как знает. А есть не получит и в школу не пойдёт. Сказали тебе, скидывай сапоги!
Родька молчал, продолжая всхлипывать, упёршись глазами в пол.
— Добром же тебя просят... О-о, господи! — с отчаянием воскликнула мать. — Просят же, прося-ат! Долго ль торчать над тобой, идол ты, наказание бесово!
По-прежнему упёршись в пол взглядом, Родька несмело поднял руку, дотронулся щепотью до лба, стыдливо и неумело перекрестился.
— Чего сказать надо?
— Прос... прости... госпо-ди...
— Только-то и просили!
— Когда лоб крестят, в пол не глядят, — сурово поправила бабка. — Ну-кося, на святую икону перекрестись. Ещё раз, ещё! Не бойся, рука не отсохнет.
Родька поднял глаза на угол и увидел сквозь слёзы сердитые белки, уставившиеся на него с тёмной доски.
7
А на улице с огородов пахло вскопанной землёй. Солнце обливало просохшие тесовые крыши. Сквозь жёлтую прошлогоднюю траву пробились на свет нежные, казалось бы, беспомощные зелёные стрелки и сморщенные листочки.
Зрелая пора весны. Через неделю люди привыкнут к припекающему солнышку, к яркой зелени, появится пыль на дорогах. Через неделю, через полторы от силы весна перевалит на лето... Сколько маленьких радостей сулит этот ясный день!
После уроков можно убежать в луга. Там от разлива остались озёрца-ляжины с настоявшейся на прели водой, тёмной, как крепкий чай. Можно выловить матёрую, перезимовавшую лягушку, привязать к её лапке нитку, пустить в озерцо, глядя, как уходит она, обрадовавшаяся свободе, вглубь, во мрак непрозрачной воды, а потом взять да вытащить обратно — шалишь, голубушка, ты теперь у нас работаешь водолазом, расскажи-ка, что видела в воде.
Можно достать пригоршней мутновато-прозрачную лягушачью икру, пересчитать чёрные точки-ядрышки, а каждое ядрышко — будущий головастик.
А лужицы помельче?.. А глубокие колёсные колеи в низинках, залитые после половодья и ещё не высохшие?.. В них гуляют попавшие в неволю крошечные серебристые головастики, отливающие зеленью щурята, красноглазые сорожки; замути воду — и их легко можно поймать прямо руками.
И чем веселее день, тем тяжелее на душе у Родьки. Под рубашкой, под выцветшим пионерским галстуком жжёт кожу на груди медный крестик. Сиди на уроках и помни, что ни у кого из ребят нет его... Играй на переменках, помни — если будешь возиться, чтоб не расстегнулась рубаха: увидят — засмеют... Вот он зудит сейчас, его надо прятать, как нехорошую болячку на теле. Пусть не увидят, пусть не узнают, но всё равно чувствуешь себя каким-то нечистым. Наказание это! За что? За то, что вырыл проклятую икону. И кто знает, что завтра бабка с матерью выдумают?
На улице никого. Только у дома Васьки Орехова развалилась свинья, выставила на солнце розовые соски на широком брюхе...
Ежели снять этот крест да в карман... Бросить нельзя. После школы бабка уж обязательно заглянет под рубаху. Если не окажется креста, взбучку даст, хоть из дому беги. В карман?.. А карманы неглубокие, легко может выпасть, а то и сам ненароком вытащишь вместе с ножиком или резинкой.
Лучше всего в щель куда припрятать, а на обратном пути надеть, честь честью явиться перед бабкой.
Родька остановился, торопливо принялся расстёгивать ворот под галстуком. Но из дома Ореховых вышел Васька, Родькин дружок. Под бумажным затёртым пиджаком у него новая рубаха, яркая, канареечного цвета, с другой не спутаешь. Даже галстук, много раз стиранный, вылинявший, бледней её.
Васька окликнул:
— Эй, Родька! Сколько времени сейчас? У нас ходики третий день стоят. В школу-то ещё не опоздали?
Подошёл, поздоровался за руку.
— Ты какую-то икону нашёл? Старухи за это тебе кланяться будут. Право слово, мать говорила.
Родька, отвернувшись, ловя под галстуком непослушные пуговицы, пряча покрасневшее от стыда лицо, зло ответил:
— Ты слушай больше бабью брехню.
— Так ты не нашёл икону? Врут, значит.
— Подумаешь, какая-то доска... Да что ты ко мне пристал? Вот дам в нос!..
— Но-но, ты не шибко! — Но на всякий случай Васька отодвинулся подальше.
Спорить с Родькой он боялся. Где уж, когда даже девчонки дают сдачи. Васька низкоросл, узкогруд, маленькие уши с постоянным напряжением торчат на стриженой голове; его подвижное лицо по сравнению с ярко-жёлтой рубахой кажется сейчас бледным до зелени. Зато он пронырлив, всё всегда узнает первым. Весь в свою мать, недаром же ту прозвали по Гумнищам Клавкой Сорокой.
Обиженно сопя, Васька зашагал рядом, до самой школы не обронил ни слова.
8
О кресте Родька скоро забыл. На переменках устраивал «кучу малу», лазал на берёзу «щупать» галочьи яйца...
Но вот кончился последний урок, по школьному пустырю неспокойными стайками разлетелись ребята в разные стороны. Родька снова вспомнил о кресте. Вспомнил, что надо идти домой, что бабка, прежде чем дать поесть, потребует: «Перекрести лоб». Васька Орехов, которому было по дороге, стал вдруг неприятен Родьке: «Опять начнёт расспрашивать об иконе, пропади она пропадом, ему бы найти такое счастье...»
На окраине пустыря Родька увидел старого Стёпу Казачка. Тот стоял, сунув одну руку в карман залатанных штанов, другой щипал жидкую — десяток оловянного цвета волосков — бородку.
Когда Родька приблизился, Стёпа Казачок почему-то смутился, поправил на голове рыжую кепку с тяжёлым, словно непропеченная оладья, козырьком, неуверенно переступил с ноги на ногу.
— Родя... Сынок, ты того...
Васька Орехов, рассказывавший Родьке, как председатель колхоза Иван Макарович учил бригадира Фёдора объезжать жеребца Шарапа, замолчав, навострив уши, уставился на старика Степана. Тот недовольно на него покосился.
— Родька, ты, брат, вот что... Я тебе тут, на-кося, гостинец приберёг...
Степан Казачок с готовностью вытащил из кармана захватанный бумажный кулёк.
— Бери, брат, бери... Тут это — конфеты, сласть... Доброму человеку разве жалко. На трёшницу купил.
Заскорузлая рука протянула кулёк. Родька багрово вспыхнул. Он не понимал, почему дают ему конфеты, но чувствовал — неспроста. Замусоленный бумажный кулёк, икона, которую он нашёл под берегом, крест на шее, бабкино домогание крестить лоб — всё, должно быть, связано в один таинственный узелок. Он сердито отвернулся.
— Что я, побирушка какой? Сам ешь.
— Да ты не серчай, я тебе от души... Экой ты, право... — На тёмном, с дымной бородкой и спечёнными губами лице Стёпы Казачка выразилась жалкая растерянность.
— Раз дают, Родька, чего отказываешься? — заступился за Казачка Васька.
— Ты-то чего пристал? — цыкнул Родька.
— Верно, братец, верно, — обрадованно поддержал дед Степан. — Иди-ка ты, молодец, своей дорогой, не встревай в чужие дела. Иди с богом. — Он снова повернулся к Родьке. — Мне бы, родной человек, парочку словечек сказать тебе надо.
— Больно мне нужно, — презрительно фыркнул Васька, — На ваши конфеты, небось, не позарюсь.
Он пошёл вперёд, независимо сунув руки в карманы, покачивая узкими плечами, но стриженый затылок, острые, торчащие в стороны уши выдавали и обиду и любопытство: Ваське всей душой хотелось послушать, о чём это будет толковать старик Казачок с Родькой.
— Не обижал бы, взял, а?.. Сам знаешь, не красно живу. Уж какая моя жизнь теперь! — Вздыхая, старик мял нерешительно в руке кулёк. — Моя жизнь теперь такая, что помереть от тоски легче. Нутро болит, тяжёлого подымать не могу, потому и в сторожа определился. Ведь я бабки-то твоей на три года, почитай, старше... Сына вот вырастил, дочь выдал за хорошего человека, в Кинешме теперь живёт. Всё бы хорошо, да одному-то, вишь, муторно.
Родька слушал, и ему становилось не по себе. Как ни повернись, всё непонятное! Ну, разве стал бы раньше этот Стёпа Казачок так с ним разговаривать, жаловаться, как взрослому? Что такое?
— Не пожалуюсь, вроде и помогают отцу, то сын деньги вышлет, то дочка — посылочку. Только, ох, скушно одному куковать. Тоска поедом ест... Дочь, конечно, ломоть отрезанный. Вот сына б хотелось обратно. Он парень холостой, характером мягкий, вернуть бы его домой. Любо, мило — женился, меня приголубил...
— Я-то тут при чём, дед Степан?
— У тебя, милок, душа что стёклышко. Тебе от бога сила дана. Да что, право, ты моим подарочком гнушаешься? Возьми, не обижай, ради Христа... Ты, парень, помоги мне, век буду благодарен.
— Да при чём я-то?
— Не серчай, не серчай... Помолись ты перед чудотворной, попроси за меня перед ней, пускай Николай-угодник на ум наставит раба божьего Павла, это сына-то моего. Пусть бы домой вернулся. Моя молитва не доходит: многогрешен. А от твоего слова святые угодники не отвернутся, твоё-то слово до самого бога донесут, ты на примете у господа-то... Чай, слыхал про отрока-то Пантелеймона. Праведный человек был... Да конфетки-то, сокол, сунь в карман, коли сейчас к ним душа не лежит...
Солнце светит в зелёной луже посреди дороги. К дому бригадира Фёдора подъехал трактор, напустил голубого чаду, распугал ленивых гусей, заполнил улицу судорожным треском мотора. Кругом привычное село, привычная жизнь. И никогда ещё не было, чтоб в этом привычном мире случались такие непонятные вещи: расстроенное, жалостливо моргающее красными веками лицо деда Казачка, его разговор, словно Родька ему ровня в годах, его непонятная, заискивающая просьба, этот кулёк... Да что случилось на свете? Не сошёл ли с ума старый Казачок? Может, он, Родька, свихнулся?..
Родька оттолкнул руку старика, бросился бежать.
Не добегая до дому, он оглянулся: дед Казачок стоял посреди улицы — картуз с тяжёлым козырьком натянут на глаза, редкая бородка вскинута вверх, во всей тощей фигурке со сползшими штанами растерянность и огорчение. Родьке, непонятно почему, стало жаль старика.
9
У Родькиного дома, на втоптанном в землю крылечке, сидели двое: маленькая, с острым, чем-то смахивающим на болотную птицу, лицом старушка и безногий мужик Киндя — мать и сын, известные и в Гумнищах, и в Гущине, и в районном центре Загарье.
Этот Киндя — Акиндин Поярков — до войны был самым неприметным парнем из деревни Троица. Работал бондарем при сельпо, незамысловато играл на трёхрядке, орал «под кулак» песни, вламывался на пляски «бурлом». В войну под Орлом ему перебило обе ноги. Не один Киндя из Троицы вернулся с фронта калекой, но, кроме него, никто не бахвалился своей инвалидностью.
Часто, напившись пьяным, Киндя, сидя на култышках посреди загарьевского базара, рвал на груди рубаху, тряс кулаками, кричал:
— Для меня ныне законов нету! Могу украсть, могу ограбить — не засадят. Я человек неполноценный! Раздолье мне! Эй, вы! Кого убить? Кому пустить кровушку?
И, опираясь сильными руками на утюжки, перекидывая обрубленное тело, бегал за народом, пугал женщин.
Его много раз, связанного, увозили в милицию, но дело до суда не доходило: жалели калеку. Киндя больше всех на свете боялся одного человека — свою мать, ветхую старушку. Были, говорят, случаи, когда та останавливала его буйство одним выкриком:
— Отрекусь, нечистый!
Последнее время безногий Киндя вовсе утихомирился, пил по-прежнему, но не буянил, торговал из-под полы на базаре туфлями, отрезами, таскался вместе с матерью по церквам, то в щелкановскую, то в загарьевскую, то за шестьдесят километров в соседний район в Ухтомы.
Об этих делах безногого Кинди, как и все ребятишки, Родька был наслышан довольно подробно. Тем ужаснее ему показалось, что этот Киндя, красномордый, опухший, с рыжей запущенной щетиной на тяжёлом подбородке, мутными глазками и поднятыми выше ушей плечищами мужик, держась за ручки своих обшитых кожей утюжков-подпорок, стал молчаливо с размаху кланяться.
Старушка же с кряхтением поднялась, с натугой разогнулась, по-деревянному переставляя отёкшие от сидения ноги, двинулась к оторопевшему Родьке. У неё был острый нос, ввалившийся, почти без верхней губы рот углами вниз и голубенькие, по-молодому пронзительные, словно выскакивающие вперёд лица глазки. Сморщенная, тёмная рука цепко схватила Родькину руку.
— Покажись-ка, покажись, любой! — Голос её, шамкающий, был в то же время громок и скрипуч. — Да чего рвёшься, не укушу... Вот, значит, ты каков! Ой, не верю, не верю, что вторым Пантелеймоном-праведником будешь. Нету в твоих глазах благолепия. Ой, нету. В бабку свою весь, а от грачихинской плоти неча ждать благости... — Она обернулась к своему кланяющемуся сыну. — Ну, хватит ветер лбом раздувать. Ишь, парень-то оробел от твоего дикого виду. Пусти, слышь.
Безногий Киндя покорно перевалился со ступенек на землю. Пока Родька, с испугом косясь, поднимался в дом, он успел три раза с размаху поклониться, показав Родьке плешивевшую макушку.
Но и дома тоже сидели гости.
Согнутая, словно приготовившаяся сорваться с лавки, нырнуть в дверь, Жеребиха завела свою обычную песню:
— Личико что-то бледненько. Видать, напужали эти окаянные — ведьма троицкая со своим идолом обрубленным.
Кроме Жеребихи, Родька увидел ещё двоих — Мякишева с женой.
Сам Мякишев кургузый, маленький, вокруг лысины золотой младенческий пушок; окроплённое весёлыми веснушками лицо кругло, вечно сияет виноватой улыбкой, как застенчивое зимнее солнышко. Он руководил гумнищинским сельпо, выступал на заседаниях, числился в активистах. Жил он около магазина в большом пятистенке под зелёной железной крышей. Уполномоченные, приезжавшие из района, часто останавливались на ночь у него. За всю свою жизнь Мякишев никого, верно, не обозвал грубым словом, и всё-таки многие его не любили. Председатель гумнищинского колхоза Иван Макарович, не скрываясь, обзывал: «Блудливая кошка. Стащит да поластится — глядишь, и с рук сходит».
Увидев у порога Родьку, Мякишев так радостно вытянул шею, что на минуту показалось: вот-вот выскочит из своего просторного, с жёваными лацканами пиджака; не только щёки, даже уши его двинулись от улыбки.
Беременная жена Мякишева уставилась на Родьку выкаченными чёрными глазами, которые сразу же мокро заблестели.
— Экая ты, Катерина, — с досадой проговорила Родькина бабка, — что толку волю слезам давать. Бог даст, всё образуется. Родишь ещё, как все бабы. Мало ли доктора ошибаются!
Заметив слёзы у жены, Мякишев сконфуженно заёрзал, забормотал:
— В страхе живу, покоя не знаю. — Он с расстроенной улыбкой повернулся к Родьке. — Может, это счастье наше, что ты, миленький, чудотворную-то нашёл?..
Родька, напуганный разговором с Казачком, ошеломлённый встречей с безногим Киндей, затравленно озирался. С ума все посходили? Даже Мякишев и тот к чудотворной пришёл. Вдруг да тоже просить будет? Бежать, пока не поздно! А куда?..
Выручила бабка. Она поднялась из-за стола, спросила непривычно ласково:
— Проголодался небось, внученька? Вот яишенку тебе сготовлю... Что-то матери твоей долго нету? Пора-то обеденная... Все в колхозе да в колхозе, от дому отбилась.
Пока бабка орудовала у шестка, жарила на нащипанной лучине яичницу, Родька, словно связанный, сидел у окна, косил глазом на улицу.
Жена Мякишева тихо плакала, утирала слёзы скомканным платочком. Сам же Мякишев с кисленькой, виноватой улыбкой просительным тенорком оправдывался:
— Я так считаю: оттого и непорядки в жизни, что люди от религии отступились. А без веры в душе никак нельзя жить.
— Истинно. Забыли бога все, забыли. По грехам нашим и напасти, — скромненько поддакивала со стороны Жеребиха.
— Вера-то нынче вроде клейма какого. Меня взять в пример... Мне бы не днём полагалось к вам, а ночью, потаённо, чтоб ни одна живая душа не видела. Человек я на примете, вдруг да потянут, обсуждать начнут, косточки перетирать. Легко ли терпеть...
— Ничего, за бога и потерпеть можно, — отозвалась от шестка бабка.
— Так-то так, — не совсем уверенно согласился Мякишев. — Только чего зря нарываться. Уж прошу, добрые люди, лишка-то не треплите языком, что-де я сам жену приводил.
Заполнив избу аппетитным запахом, бабка с грохотом поставила на стол сковороду, пригласила Родьку:
— Садись, золотце, ешь на доброе здоровье. — И, повернувшись к гостям, стала расхваливать: — Он у нас не какой-нибудь неслух, — чтоб лба не перекрестил, за стол не сядет. Помолись, чадушко, господу.
Бабка мельком скользнула взглядом. Родька лишь на секунду увидел её жёлтые, в напряжённо собравшихся морщинах глаза, но и этого было достаточно, чтоб понять: ослушаешься — не будет прощения.
— Ну, чего мнёшься, сокол? Садись за стол, коль просят. Ну... садись да бога помни.
Правая рука Родьки, тяжёлая, негнущаяся, с деревянным непослушанием поднялась ко лбу. За его спиной, громко всхлипнув, запричитала Мякишиха:
— Родненький мой, помолись за меня, грешницу. По гроб жизни благодарить буду...
Родька съёжился...
10
Никогда ещё так не радовало синее небо, несмелый ветерок с лугов. Вырвался из дому, от бабки, от Жеребихи, от Мякишихи, от безногого Кинди — подальше от села! Нате вам всем, ищите ветра в поле!
За усадьбами запыхавшийся Родька пошёл медленнее.
Тёплый рыжий весенний луг лежал под солнцем. Маслянисто-чёрная дорога, выплясывая по холмам, убегала к лесу. Лес, пока холодный, лиловый, то там, то сям краплен мокрыми семейками тёмных елей. Он скоро прогреется, наглухо затянется листвой, из его глубины поплывут уныло-нежные «ку-ку».
Нет, нет, не верит Родька, что всё изменилось. Мало ли чего не случается дома. День, другой — и всё пойдёт опять так, как шло прежде. Надо немного потерпеть и побольше думать о другом, приятном...
На днях в клубе покажут новую кинокартину. Афиши уже расклеены: парень в красноармейской шапке времён гражданской войны, позади него дым и огонь от пожаров, скачут люди на лошадях с шашками. Это кино о Павке Корчагине. Родька знает, что про него написана целая книга. Васька Орехов зимой взял её в библиотеке и дал Родьке только на три дня. Разве за три дня успеешь прочитать до конца, когда книга-то толще учебника? Сам-то Васька «Робинзона Крузо» целую неделю у себя держал. Родьке из-за него от библиотекарши попало... Мать всегда даёт деньги на кино и теперь не откажет. Это у бабки пятачка не выпросишь...
Скоро экзамены. Каждый год после экзаменов в школе бывает вечер самодеятельности. К нему давно уже начали готовиться. Всё село приходит смотреть. Юрка Грачёв из седьмого класса играет на баяне. Венька Лупцов и Гришка Самохин покажут смешную пьеску, называется «Хирургия». Гришка дьячка играет, которому зуб рвут клещами. Он может, иной раз начнёт рассказывать — хзатайся за животики.
Родьке бы хотелось сыграть матроса, чтобы гранаты на поясе, винтовка на плече, на голове бескозырка с ленточками. Но таких пьес что-то не отыскали... Зато он выучил стихотворение «Смело, братья, с ветром споря...» Стихотворение подходящее — о море, о буре... Конечно, на вечер придёт председатель Иван Макарович, он моряк, ему понравится. Может, у Ивана Макаровича мичманку попросить на выступление? Выйти в матросской фуражке на сцену и прочитать: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней...» Только, наверно, мичманка-то Ивана Макаровича будет великовата для Родькиной головы.
Пусть дома икону обхаживают, наплевать. Он, Родька, как-нибудь перетерпит, будет меньше дома бывать, да и терпеть-то, наверно, придётся не век. День-другой, глядишь, всё утрясётся.
Далеко, на другом конце луга, Родька увидел несколько маленьких фигурок. По канареечно-жёлтой рубахе, ясным пятнышком горевший средь однообразно рыжей земли, он узнал Ваську Орехова. С ним, видно, и Пашка Горбунов, и Венька Лупцов — вечная компания.
Не успев задуматься, что же они там затеяли, какое развлечение ждёт его, Родька без дороги, ломая остатки прошлогоднего репейника, попадая ногами в расквашенную весенней водой дерновину, бросился бегом.
Ребята топтались на берегу залитого водой плоского овражка. Двое из них были без рубах, только Васька Орехов продолжал суетливо прыгать в своей яркой, канареечной.
— А, вот оно что, купаться надумали!
В реке вода ещё мутная, неустоявшаяся, наверняка холодная до ломоты, сохранившая даже запах растаявшего снега, — купаться нельзя. Зато высыхающие луговые озёрца, оставшиеся после половодья, уже прогреты солнцем.
— Э-э-эй! — закричал Родька. — Че-ерти! Меня обождите!
Длинный Пашка Горбунов стоял у самой воды, втянув голову в плечи, на окрик недовольно оглянулся. Венька Лупцов, выгнув смуглую гибкую спину, сидел на корточках возле одежды, поджидал бегущего Родьку с любопытством и удовольствием. На его чумазой физиономии выражалась надежда: может, Грачонок первым нырнёт? Васька Орехов в своей канареечной рубахе, но без штанов смущённо стоял в стороне, похлопывал себя по лиловым коленкам.
Родька подбежал, бросил с размаху картуз на землю.
— Топчетесь? Небось, мурашки едят?
— Сам-то, поди, только с разгону храбрый, — ответил Венька.
— Эх!
Родька скинул пиджак, рывком через голову стащил рубаху, сел на землю, принялся с усилием снимать с ноги мокрый сапог.
— Эх, вы! Ушли и не сказались...
Но тут он заметил, что Пашка Горбунов, слепо щурясь, сделал шаг от воды. Венька Лупцов, впившись в грудь Родьки чёрными, насторожённо заблестевшими глазами, привстал у одежды. У Васьки же удивлённо, кругло, глупо открылся рот.
Полустянутый сапог выскользнул из рук; только тут почувствовал Родька висящий на шее крест.
Первым опомнился Венька. Он насмешливо сощурился, показал мелкие, плотные, как горошины в стручке, зубы, спросил:
— Ты для храбрости повесил это или как?
От бросившейся в голову крови зашумело в ушах, перед затуманенными глазами по рыжему лугу поплыло расплывчатое пятно, жёлтое, под цвет Васькиной рубахи.
Родька не помнил, как вскочил на ноги. Ковыляя на полустянутом сапоге, он двинулся к Веньке. Васька Орехов, стоявший всё ещё с открытым ртом, в одной рубахе, без штанов, взглянул в Родькино лицо, зайцем прыгнул в сторону. Родька увидел, как вытянулась подвижная Венькина физиономия, как в чёрных глазах заметалась какая-то искорка. Венька не успел подняться. Родька ударил его с размаху прямо в испуганные чёрные глаза.
— За что? — крикнул тот, падая на спину.
Родька шагнул, запнулся о полустянутый сапог, упал прямо на Веньку, вцепился в него.
Васька Орехов, не отрывая округлившихся глаз от дерущихся, принялся, путаясь и оступаясь, натягивать штаны. Пашка Горбунов бросился к ним, стал хватать длинными цепкими руками за голые плечи.
— Сдурел, Родька, сдурел! Что он тебе сделал?
Вырвавшись из рук Пашки, Родька не поднимая головы, как-то странно горбатясь, подхватил с земли свой пиджак и рубаху, почти бегом, волоча ненатянутый сапог, заковылял прочь.
Никто из ребят не стал его догонять. Стояли на берегу озерца, глядели вслед. Венька Лупцов вытирал кулаком кровь под носом.
Шёлковый шнурочек у медного крестика был прочен. Родька рвал его с остервенением, не чувствуя, как врезается он в шею. Наконец разорвал, бросил крест в сторону.
11
До сих пор весь мир для него делился на три части: дом, улица, школа.
Дома противно. Бабка теперь куска хлеба не даст, если не перекрестишь лба.
На улице тоже не показывайся. Венька Лупцов с Пашкой и Васькой уже, верно, разнесли по селу, что он, Родька Гуляев, как какая-нибудь старуха, носит на шее крест. Попробуй только показаться — проходу не дадут, засмеют.
А школа?.. Ведь и в школе всё будет известно!
Нет Родьке места, некуда спрятаться, некому пожаловаться. Даже мать не защитница.
Родька сидел на берегу, забившись в глубину кустов.
Ему было хорошо видно всё село: тёмные тесовые крыши, железная, давно не крашенная крыша сельсовета, красная кирпичная стена артели «Кожзаменитель».
В стороне от села церковь. Она древнее этих домишек под тесовыми и железными крышами, но издалека не видно, чтоб старость обезобразила её: белые стены тепло сияют на закате, ржавые купола и колокольня словно врезаны в вечернее небо. Более зрелый, чем Родька, человек, наверно бы, почувствовал в этой одинокой церкви надменность и вековое презрение к скученной толпе однообразных домишек. Родька сидел, не двигаясь, окоченев от горя, глядя заплаканными глазами на село. Сначала все крыши слились в одну сплошную тёмную массу. В залитых сумерками ложбинках лёг синий мутный туман. И наконец темнота совсем скрыла дальний лес, село, туман. Один за другим, неприметно — не усторожишь, когда появляются, — затеплились огоньками. Долго ещё упрямилась церковь, долго сквозь ночь белели неясным пятном её стены.
Сыростью потянуло от реки, стало холодно в одном пиджаке. Очень хотелось есть. За спиной плескалась река, сейчас чёрная, чернее и бездоннее неба. Луг, знакомый днём до последней кочки, сейчас казался глухим и диким местом. С него доносились какие-то непонятные звуки: что-то хлюпнуло, что-то зашуршало, кто-то вдалеке ожесточённо забился, может быть птица, устраивающаяся на ночь, а может, что-то другое, не имеющее ни названия, ни лица, никому из обычных людей не знакомое. Даже ручей, всё время ровно шумевший вдалеке, теперь, с темнотой, заворчал как-то зловеще. Даже кусты, в которых прятался Родька, тощие, обвешанные после половодья лохмотьями грязи, кажутся страшными. Невольно ждёшь: вдруг да в тёмном провале под ближайшим кустом вспыхнут глаза то ли зверя, то ли сказочной птицы, жёлтые, холодные, как две маленькие луны! Веришь каждой сумасшедшей мысли, вздрагиваешь от каждого шороха. Нельзя здесь оставаться!..
Как бы то ни было, а среди этой тёмной, сырой ночи самое близкое и самое родное — огоньки села. Пусть там живут люди, которым стыдно показаться на глаза. Пусть неуютен дом, сердитая бабка будет проверять, цел ли крест на шее. Пусть. Всё равно деваться некуда, надо идти...
«Завтра утром сбегу... Переночую и сбегу. Так и скажу мамке, коли за крест бить будет», — решил Родька и поднялся на онемевшие ноги.
Чем ближе он подходил к дому, тем острее чувствовал: ужасен был день, и конец его должен быть ужасным. Сейчас всё кончится...
Когда Родька взялся горячей, влажной рукой за холодную скобу двери, на секунду остановилось сердце.
Но всё обошлось просто. Опять в избе было полно гостей. Кроме знакомых — Жеребихи, бабки Секлетеи, толстой Агнии Ручкиной, — сидело несколько не известных Родьке человек. Сухощавый, с хрящеватым кривым носом старик читал вслух очень толстую, с жёлтыми листами книгу.
Все старательно слушали, сопели, но по лицу каждого было видно: ничего не понимают.
Мать, боясь спугнуть слабенький и ломкий голос старика, осторожно поднялась с лавки, подошла к Родьке, проворчала шёпотом:
— Ты бы к утру ещё приходил, полуночник! Иди-ка в горницу, поешь, там молоко стоит. Завтра опять в школу опоздаешь.
От обычного ворчливого голоса матери свалился с души тяжёлый груз.
На этот раз Родьку не вытащили к гостям. Лёжа на своей постели, он, засыпая, слышал разговор за перегородкой.
— Надо в район идти, просить, чтоб церковь открывали.
— Жди, откроют!
— А мы миром попросим!
— Да велик ли наш мир-то? Кто помоложе, тем плевать на святые дела. Даже Мякишев и тот слово не замолвит. Богу молится да оглядывается, как бы кто не заметил.
Родька недослушал этот нешумный спор, уснул. И сон его был тревожен. Мать, спавшая с ним рядом, часто просыпалась от его жалобных выкриков, поправляла одеяло, говорила с тревогой:
— Неладное чтой-то с парнем.
12
А утро началось для Родьки с удач. Удача — его мать, вставшая, как всегда, рано и, должно быть, укрывшая одеялом разметавшегося сына, не заметила, что у него на шее нет креста.
Удача, что в сараюшке, где сидел подсвинок, провалился прогнивший пол и бабка всё утро возилась: выгребала навоз, прилаживала новую половицу. Ей было не до Родьки. И Родька перед завтраком не перекрестил лба.
На улице звонко лаяли собаки, на унавоженной дороге весело воевали воробьи, слышалось довольное карканье ворон, а с окраины села, со стороны скотных дворов, где обшивали тёсом новое здание сепараторки, доносился захлёбывающийся, свирепо восторженный вой циркульной пилы, распарывающей из конца в конец сосновое бревно.
Вчера вечером Родька считал, что произошло непоправимое — нельзя больше жить дома, нельзя показываться на улицу, нельзя ходить в школу. Вчера вечером твёрдо решил: сунуть в карман кусок хлеба, спрятать учебники под крыльцо и... бежать из села. Сначала в Загарье, а там будет видно...
И вот он стоит, жмурится на солнце, слушает хвастливое кудахтанье соседской несушки — учебники в руке, ржаная горбушка оттопыривает карман — и чувствует, что не так уж всё страшно: ну, бабка за потерянный крест поколотит — мало ли случалось от неё хватать плюх, — ну, ребята будут смеяться, да и то, пусть-ка попробуют. Стоит ли из-за пустяков бежать из дому, разве плохо ему жилось раньше?..
Родька решительно зашагал к школе. Воробьи с каким-то особенным весенним журчанием брызнули из-под самых ног. Петух бабки Жеребихи, с кровянистым гребнем, свалившимся на один глаз, ослепляюще-рыжий — ни дать ни взять кусок горячего солнышка на огороде, — нагло заорал вслед воробьям, весь вытянулся от негодования. «Ну чего, дурак, ты-то лезешь? Знай своё дело!» Комок сырой земли полетел в петуха, тот сконфуженно стушевался.
Плевать на бабку, плевать на ребят, всё образуется, всё пойдёт по-прежнему!
Но тут Родька увидел обтянутую линялой кофтой согнутую спину старой Жеребихи, ковыряющуюся в ящике с капустной рассадой. А вдруг да она поднимет голову, заметит Родьку, остановит, запоёт умильным голоском: «Ангелок... Божий избранник... Праведник». Услышат люди... Родька почувствовал неприятный холодок в груди, опустив голову, косясь на жеребихинский двор, торопливо двинулся дальше.
А навстречу озабоченной походкой враскачку — руки в карманах, заветная для Родьки флотская фуражка с лакированным козырьком на затылке, в зубах жёванная цигарка — шагает председатель колхоза Иван Макарович. Вдруг да он уже всё знает о Родьке (как не знать, не в другом селе живёт!), вдруг да остановит, с презрительным прищуром сквозь табачный дымок отпустит какое-нибудь словечко (кто-кто, а Иван Макарович на них мастер): что, мол, в святые угодники тебя старухи записали?.. Идёт Иван Макарович, что ни шаг, то ближе, никуда не свернёшь, никуда не сбежишь. Родька изо всей силы пригнул голову, лишь бы не увидел председатель лицо, только бы не остановил. Вот его тяжёлые сапоги, вдавливающие каблуки в землю, вот слышен даже шорох одежды — сейчас остановит... Уф! Прошёл мимо, обдав чуть внятным запахом махорочного дымка. Родька с благодарностью оглянулся на широкую председательскую спину.
Но тут же он заметил, что проходит мимо дома Ореховых. Может выскочить Васька... Родька прибавил шагу.
И когда этот дом был позади, одна простая мысль заставила тоскливо сжаться сердце: зачем он бежал, зачем он старался спрятаться? Он идёт в школу, а там, прячься не прячься, они все — Пашка Горбунов, Васька Орехов и Венька Лупцов — учатся в одном классе. Уж тут не вывернешься...
Режущим глаза солнцем залита широкая неказистая улица села. Чей-то женский голос на усадьбах, за домами, кричит:
— Иван! Иван! Иль опять мне за лошадью к председателю идти, дешёвая твоя душа? Навязали увальня на мою голову!
У всех свои дела, у всех своё место. Место есть даже у старого, кривого на один глаз пса Дубка: лежит на дороге, деловито выкусывает блох из клочковатой шерсти.
За что такое несчастье? Что он сделал плохого? Не воровал, не бил стёкол в домах, не ругался худыми словами. За то, что нашёл под берегом икону? Будь она проклята! Эх, знать бы наперёд!..
Втянув голову в поднятые плечи, согнув спину, вялой походкой шёл ошеломлённый не совсем ещё понятным ему несчастьем Родька, двенадцатилетний мальчишка, которому приходится бояться людского осуждения.
13
— Гуляев!
Родька, как от удара, рывком обернулся. Тяжёлой мужской поступью подходила Прасковья Петровна, учительница русского языка, Родькина классная руководительница. Медлительная, немного грузноватая, одетая в вязаный жакет с обвисшими карманами, лицо круглое, плоское, загорелое — истинно бабье деревенское лицо, — приблизилась, и под её пристальным взглядом Родька поспешно наклонил голову.
— До уроков зайдём-ка в учительскую.
Минуту назад ещё можно было решиться забросить книги, повернуть в сторону, бежать. Теперь поздно: рука Прасковьи Петровны легла на плечо.
От просторной учительской отделена перегородкой крошечная комнатка. В ней стоит горбатый диван, обтянутый блестящей чёрной клеёнкой. Эту комнату называют кабинетом директора, но она часто служит и для других целей. На протяжении многих лет тут давались крутые выговоры провинившимся ученикам, совершались длительные увещевания, разбирались дела, которые по тем или иным причинам не следовало выносить на широкое обсуждение.
В этот-то кабинет, поёживаясь в нервном ознобе, вошёл Родька и уселся на вздутый диван, сразу ощутив сквозь штаны казённый холодок чёрной клеёнки.
Прасковья Петровна подпёрла щёку кулаком.
— Опять рукам волю даёшь? За что Лупцова ударил?
Родька не ответил, сидел прямо, с усилием упираясь руками в диван, боясь пошевелиться, чтоб не съехать вниз по гладкой клеёнке.
— Молчишь? А ведь я знаю, из-за чего ударил.
Родька перестал на секунду дышать, остановил взгляд на толстой ножке стола, точёной, как крылечная балясина: сейчас заговорит о кресте.
— Из-за трусости своей ты ударил. Испугался, что товарищи узнают, что, быть может, до Прасковьи Петровны дойдёт? Так? Обидно мне, братец.
Родька кивнул головой, опустил глаза.
— Удивляешься? И удивляться нечего; обидно мне, что мои ученики боятся ко мне прийти и рассказать всё. Ведь, наверно, нелегко было?
Родька кивнул головой, опустил глаза.
— Это бабка тебе то украшение надела?
— Они меня в школу не пускали, — наконец выдавил из себя Родька.
— Значит, и мать тоже?
— Тоже...
Прасковья Петровна поднялась, тяжело опуская на пол сапоги, прошлась из угла в угол. Объёмистая, в вылинявшем жакете, она среди всей обстановки — письменного стола, дивана, жиденького стула, приставленного к стене, — казалась неуклюжей, случайной, грубой, человеком, которому место где-то возле скотного двора, на поле, а не в тесном кабинете. Родька же, следивший за ней исподлобья, видел только одно: Прасковья Петровна сердится, но, кажется, не на него, Родьку.
— Креститься заставляли? — спросила Прасковья Петровна.
— Заставляли.
— А ты не хотел?
— Не хотел... За стол не пускали.
— Так.
Снова несколько тяжёлых шагов из одного угла в другой.
— Ладно, Родя, уладим. Я поговорю с твоей матерью. Сегодня же... Вот два урока проведу и схожу к вам.
Подошла вплотную, взъерошила ладонью сухие, упрямые волосы на Родькиной голове.
— Всё уладим. Только, братец, больше кулаки не распускай. С Лупцовым надо помириться. Вот мы его сейчас сюда вызовем.
Через пять минут в дверь бочком вошёл Венька Лупцов, сразу же отвернулся от Родьки. Нос у него распухший, красный, выражение лица оскорблённо-постное.
— Гуляев хочет извиниться перед тобой, — объявила Прасковья Петровна. — Подайте друг другу руки, и забудем это некрасивое дело... Ну, что, Родион, сидишь? Встань... Быстро, быстро, сейчас звонок подадут...
Венька и Родька вместе вышли из учительской. В коридоре, по пути к своему классу, пряча глаза друг от друга, накоротке переругнулись.
— Зараза ты! Драться полез! Чего я тебе сделал?
— А ты ябедничать сразу! Мне Федька Сомов, помнишь, как съездил! Я ни словечка никому не сказал.
— И я бы не говорил, да нос шибко распух. Прасковья Петровна сама дозналась...
Такая перебранка только укрепляла примирение.
14
Тридцать лет Прасковья Петровна учила гумнищинских ребятишек. Жила, казалось, ровной, без взлётов и падений жизнью: изо дня в день топтала тропинку от крыльца своего дома до школы, из года в год в определённый день повторяла то, что в тот же день, в тот же час говорила другим поколениям. И так тридцать лет! Время она измеряла своими собственными событиями:
— Когда это было?.. Ах, да, помню! В тот год я измучилась с Гришей Скундиным. В семье у него было плохо, хотел бросить учиться. Способный мальчик.
А сам «способный мальчик» Гриша Скундин, ныне врач или инженер, почтенный семьянин, живущий где-то за сотни километров от села Гумнищи, наверняка давным-давно забыл свою маленькую трагедию, да и, бог знает, вспоминает ли самое Прасковью Петровну, которой обязан тем, что не бросил школу, пошёл учиться дальше, нашёл свою судьбу.
Всё прошлое, все тридцать лет работы заполнены удачами и неудачами, радостями и горем детей, которых учила Прасковья Петровна.
Когда она окликнула Родьку, увидела его испуганный, затравленный взгляд, то по своему многолетнему опыту поняла: случилась беда, одна из тех, которую не впервые придётся распутывать ей, учительнице Гумнищенской неполной средней школы.
Во дворе дома Гуляевых стояла распряжённая лошадь, разрывала мордой сено в пролётке. Почуя приближение Прасковьи Петровны, она подняла свою маленькую красивую голову с белой проточиной от чёлки к носу.
«Кто ж приехал? Не Степан ли?..» Родькин отец, Степан Гуляев, как и большинство гумнищинцев, был одним из учеников Прасковьи Петровны.
Но тот, кто сидел в избе и вежливо ответил на приветствие, вовсе не походил на Степана Гуляева.
Гость был преклонного возраста. Круглое, рыхловатое лицо заканчивалось мягкой, седой, до лёгкой голубизны чистой бородкой. Словно чужие на этом рыхлом лице, вылезали из-под жидких усов полные, с чувственным рисунком губы. Возле высокого лба росла тощая поросль, зато с затылка и с шеи седые волосы спадали на воротник грубого и добротного пиджака давно не стриженными космами. А в общем, незнакомец напоминал сельского интеллигента, учителя или фельдшера, одного из тех, кто от скуки деревенской жизни начинает оригинальничать — отращивать волосы и бороду, доморощенно философствует, скептически отзывается о всяком событии, держится своего рода безобидным нигилистом.
Старая Грачиха, беседовавшая с гостем, спросила:
— Что там, матушка Прасковья Петровна? Ай опять наш сорванец набедокурил?
— У него-то всё в порядке.
Морщинки у коричневых век собрались гуще, жёлтые глаза старухи из прищура взглянули с подозрением.
— Не без дела же, чай, зашла? Других делов, кроме Родькиных, промеж нами вроде не водится.
— Где Варвара?
— Где ей быть, на работе. Жди, коли хочется.
— Подожду.
На скуластом лице старухи выразилась откровенная досада. Гость сидел, слегка склонив на одно плечо свою крупную голову, не в пример бабке доброжелательно поглядывая на учительницу. С минуту стояла тишина: под печкой слышался мышиный шорох. Бабка не выдержала:
— Ждать-то можно, чай, места не просидишь. Только у нас, сударушка, свой разговор с отцом Митрием. «Ах, вот кто это! — удивилась Прасковья Петровна. — Загарьевский поп...» Ей иногда случалось слышать об отце Дмитрии, как-то незаметно выплывшем после войны в районном городке.
От бесцеремонных слов Грачихи отец Дмитрий смутился, и при этом доморощенный нигилист сразу же исчез в нём — перед Прасковьей Петровной предстал просто добрый старик.
— Ох, уж ты, Авдотья Даниловна! — недовольно произнёс он. — Ну, какие у нас секреты? Просто свои дела решаем. Вам только, Прасковья... э-э, простите, запамятовал, как вас по батюшке?
— Петровна.
— Вам, Прасковья Петровна, будет скучно слушать. — И, боясь, как бы неожиданная гостья не ушла, не унесла с собой подозрение, поспешно начал объяснять: — Слышали, найдена старинная, считавшаяся безвозвратно утерянной икона Николая-угодника, которую когда-то почитали как чудотворную. Вот она... — Отец Дмитрий показал в угол белой, со вздувшимися голубыми венами рукой. — Это для нас, верующих, своего рода ценность, я бы сказал, общественная...
Он говорил мягко, но в мягкости его не ощущалось нерешительности, напротив, проскальзывали наставнические нотки:
— ...Место такой реликвии в храме...
Бабка Грачиха перебила его:
— В каком храме? От нас подальше норовите утащить! Храм-то для этой чудотворной в сиротстве стоит. Открыть его надо...
— Рад бы душой, да вряд ли удастся.
— Надо, батюшко, не полениться пороги обить. Один начальник не разрешит, к другому, что повыше сидит, пойти да поклониться... Легко ли нам в каждый раз, чтоб господу помолиться, за двенадцать вёрст к вам в Загарье гулять?
Отец Дмитрий сдержанно пожал плечами, отмолчался с сокрушённым лицом.
Прасковья Петровна разглядывала его. Вот сидит перед ней старичок с дедовски мутноватыми глазами, сочными губами, любящий, верно, мягкую постель, хороший стол, приличный разговор, — глашатай господа бога, представитель обречённого на вымирание, но не желающего вымирать племени. Кем он был? Вряд ли всю жизнь только служил богу. Верит ли сам в бога?
Верит ли в то, чем живёт она, Прасковья Петровна? Как сегодняшний день уживается в его старой голове с заветами Христа, наивными легендами о воскрешении, святом духе и райских кущах?
— Отец Дмитрий, — решила заговорить Прасковья Петровна, — раз уж пришлось встретиться, давайте потолкуем.
Без тени насторожённости отец Дмитрий склонил седую голову, выражая на своём лице лишь одно — полнейшее внимание.
— Я как неверующая помню, что в нашей стране сохраняется свобода вероисповедания. Никто не может запретить человеку молиться какому угодно богу. Но и насильственное принуждение к верованию запрещается.
Отец Дмитрий с готовностью покачал головой: «Так, так, верно». Бабка Грачиха, ничего не понявшая из речи учительницы, — «свобода вероисповедания», «насильственное принуждение», — почуяв, однако, недоброе, сердито переводила свои кошачьи глаза с отца Дмитрия на гостью.
— А здесь, в этом доме, — продолжала Прасковья Петровна, — на моего ученика, пионера, силой надели крест, силой заставляют молиться...
— Это, сударушка, не твоё дело! — резко перебила Грачиха.
— Обожди, Авдотья, потом возразишь, — отмахнулась Прасковья Петровна.
— И ждать не буду, и слушать не хочу! На-кося, в семейные дела лезет!.. А я-то, убогая, всё гадаю: зачем пришла?
— Авдотья! — неожиданно строгим тенорком оборвал её отец Дмитрий. — Хочу поговорить с человеком. Иль для этого из дому твоего уйти?
Грачиха сразу же осеклась, едва слышно заворчала под нос:
— Хватает нынче распорядителей-то... Распоряжайся себе, только в чужой дом не лезь...
Поднялась, отошла к печи, сердито застучала ухватами. По спине чувствовалось: напряжённо прислушивается к разговору.
Прасковья Петровна продолжала:
— Школа учит одному, семья же — совсем другому. Или школа заставит мальчика отказаться от бога, или семья сделает из него святошу. В наше время середины быть не может. А пока будет идти спор, два жернова могут перемолоть, перекалечить жизнь ребёнка. Пусть родители веруют как хотят и во что хотят, но не портят мальчику будущего. Его будущее принадлежит не только им. Волей или неволей они становятся преступниками перед обществом.
Бабка Грачиха, согнувшись, шевелилась чуть слышно у печки, бросала из-за плеча горящие взгляды. Отец же Дмитрий, вежливо выждав паузу, спокойно глядя в лицо учительницы своим стариковски добрым, честным взглядом, осторожненько спросил:
— А какое я имею касательство к этому, Прасковья Петровна?
— Стоит ли объяснять, отец Дмитрий? Самое прямое. Вы для этой семьи духовный пастырь, и ваше отношение к делу для меня небезынтересно.
— Гм... Вот вы упомянули слово «преступники». Преступник тот, кто выступает против закона. Скажите, будет ли противозаконным такой случай. Мальчик из любопытства спрашивает свою верующую мать: «Есть ли, мама, бог на небе?» Обычный детский вопрос, но он касается основы основ вероучения. Верующая мать, сами посудите, не может иначе ответить: «Есть бог, сынок». А если детское любопытство будет простираться и дальше: «Какой бог из себя, что он делает?» — то матери придётся объяснить о триединстве, о бессмертии души, о судном дне. Там, глядишь, вера вошла в ребёнка, там и молитвы и крест на шею. Где тут граница законного и противозаконного? Где же тут, скажите, преступление? Ведь вам, как я понимаю, не суть важно, силой ли заставили молиться ребёнка или убедили его в этом. Вам важнее уберечь своего ученика от веры. Так ведь, Прасковья Петровна?
«Ловок! Советским законом, словно брёвнышком, подпёрся», — удивилась Прасковья Петровна и только тут поняла, как глупо было с её стороны вызывать на откровенный разговор этого чуждого по взглядам человека.
— Есть много преступлений, — сказала она, — которые не сразу подведёшь под статью кодекса. Но от этого они не делаются менее вредными для общества.
— Каждый смотрит на вещи по-своему: вы так, я эдак, — с готовностью подхватил отец Дмитрий, — а закон для всех один. И, поверьте мне, он вас не поддержит. Иначе и быть не может. Если б закон стал устанавливать порядок вероучения внутри семьи, то он наверняка запутался бы, не нашёл, что можно дозволить, а что нельзя. Поэтому... — Отец Дмитрий поднял склонённую голову. Расплывчатые, рыхловатые черты его лица стали строже, полные губы в жидкой поросли усов округлились, готовые изречь непререкаемую истину. — Поэтому закон мудро предоставляет семье решать вопросы веры без его помощи. К кому бы вы ни обратились, уважаемая Прасковья Петровна, хоть в суд, хоть в милицию, никто не окажет вам поддержки. Вы преувеличиваете, называя это преступлением. Никакой опасности для государства это не представляет. Поверьте, об интересах государства я сам пекусь, насколько дозволяют мне слабые силы.
Выражение сурового лица бабки Грачихи чуть-чуть смягчились. Она стояла у шестка, сложив свои тяжёлые руки на животе, глядела на учительницу с беззлобной издёвкой: «Не кичись, что ума палата, мы тоже не лыком шиты».
Отец Дмитрий вынул из кармана металлический портсигар с отштампованной на крышке кремлёвской башней, взял из него папироску, постучал по башне, прикурил, с отеческим прищуром взглянул сквозь дым на Прасковью Петровну.
Та продолжала наблюдать за ним.
Этот батюшка не только хорошо уживается с советскими законами, он ладит и с современными взглядами на жизнь. Попробуй-ка его копнуть: он и за прогресс, и за мир во всём мире, с первого же толчка готов, верно, кричать «анафему» зарубежному капиталу. Во всём покорен, со всеми согласен и только хочет малого: чтоб Родя Гуляев верил во всевышнего, был терпим ко всякому злу, признавал небесные и земные силы. Из-за этого-то «малого» и начинается война. И тут седенький старичок, играющий сейчас металлическим портсигаром с изображением кремлёвской башни на крышке, — враг Прасковье Петровне. Вот он сидит напротив, ласково глядит, вежливо улыбается. Интересно бы знать одно: сознаёт ли он сам, что они друг другу враги, или не сознаёт?.. Трудно догадаться.
— Мы всё равно не придём к согласию, — сказала Прасковья Петровна. — Я хотела бы добавить только одно, что ваши кивки в сторону закона напрасны. Я вовсе не собираюсь подавать в суд, действовать при помощи милиции. Есть другая сила — общественность. Она же, я уверена, будет на моей стороне.
— А я, — с дружеской улыбкой подхватил отец Дмитрий, — осмелюсь заверить: ни в чём не буду вам препятствовать.
Тяжёлая дверь избы со всхлипом открылась. Вошла Варвара, с беспокойством поздоровалась с учительницей.
15
Отец Дмитрий решил держаться своего правила — «я сторона». Едва Варвара опустилась на стул, как он поднялся, вежливо потоптавшись и покашляв у порога, натянул на седую голову кепку, вышел во двор.
Бабка Грачиха спохватилась, что потеряла много времени на толки и перетолки, принялась метаться по хозяйству: то исчезала в сенях, то ныряла в погреб, то заметала мусор у печи, время от времени бросая подозрительные взгляды в сторону загостившейся учительницы, прислушивалась.
Варвара, чинно положив руки на чисто выскобленный стол, тупо уставилась в крупные пуговицы на вязаной кофте Прасковьи Петровны.
А Прасковья Петровна убеждала:
— ...Губишь парня, Варвара. Мать ты ему или мачеха?.. Ведь он пять лет проучился в советской школе, а ему и всего-то навсего двенадцать. Почти половину жизни его учили, что бога нет. Товарищи его смеются над баснями о чудотворных иконах, о Пантелеймонах-праведниках. Неужели тебе хочется, чтоб и сын твой был посмешищем?..
— Что тут дивного, — отозвалась от печи старуха, не переставая с ожесточением возить веником по полу, — изведут парнишку и от училища ещё благодарность выслужат. Ноне и не такие дела случаются.
— Авдотья, делай-ка свои дела. Дай поговорить спокойно, — сурово обрезала Прасковья Петровна.
Бабка бросила веник, громыхнула заслонкой, сжав губы в ниточку, двинулась к выходу, в дверях бросила:
— Правда-то глаза колет.
— Что дороже для Роди: бабкина опека или школа? — продолжала Прасковья Петровна. — А ведь дойдёт до того, что парнишка с отчаяния школу бросит, неучем останется. Иль ты думаешь, он проживёт всю жизнь одними бабкиными молитвами?..
У Варвары жёлтые глаза широко расставлены, между ними кожа на плоской переносице туго натянута. И в этой туго натянутой коже, во вздёрнутом коротком носу чувствовалась какая-то безнадёжная тупость. Слушает, не возражает, но каждое слово, сколько ни вкладывай в него души, отскакивает, не зажигает мысли в неподвижных глазах.
— ...Если ты такая верующая, крестись, молись вместе со старухами, но оставь Родиона в покое. Слышишь, Варвара, пожалей парня!
И в опустошённых глазах Варвары зашевелилась тревога, они растерянно забегали по столу, влажно заблестели. Туго натянутая на переносице кожа стала стягиваться в упругую складку. Огрубелым пальцем Варвара провела вдоль щели между скоблёных досок стола, заговорила:
— Я вот сама неверующей была и... наказана. Муж бросил. Легко ли подумать, с двадцати пяти годов живу бобылкой не бобылкой, а вроде этого. Вдруг да за грехи парню моему тоже неподходящая доля выпадет? Как подумаю об этом, сердце кровью обливается. Вот вы бога, Петровна, не признаёте, а ведь кто знает.... Может, слышит нас...
— Кто слышит?
— Да бог-то.
Полная, белая шея, из-под застиранной кофты выпирают груди, плечи покатые, пухлые, в то же время крепкие — зрелая, полная здоровья женщина. А в светлых с сузившимися в мушиную точку зрачками глазах тупая тревога. Нет в них мысли, один страх. Прасковья Петровна вспомнила её девчонкой, своей ученицей: круглая, розовая рожица, бойкие, с блеском, как у игривой кошечки, глаза, — уж во всяком случае глупышкой не казалась. Видать, не всё-то с годами совершенствуется в природе.
— Эх, Варвара, Варвара! Как в тебя вдолбить? Этим страхом да дикостью и покалечишь жизнь сыну.
— Господи! Да разве нельзя ему в бога веровать и жить, как все?
— То-то и оно, что нельзя. Время Пантелеймонов-праведников отошло.
Слёзы потекли по щекам Варвары.
— За что мне наказание такое в жизни?
— Клин-то вышибают клином. Подумай обо всём, что я сказала. И ещё заруби себе на носу: школа парня на выучку старухам не отдаст. — Прасковья Петровна поднялась.
Она шла к дому своей медлительной, тяжёлой походкой, чуть сутулая, полная женщина в обвисшей вязаной кофте, уважаемая всеми учительница, у которой каждый второй встречный в селе — её ученик.
Она шла и думала о том, что и её самое жизнь радует не одними удачами, много, очень много разочарований. Всякий раз, когда вглядываешься в своих учеников, невольно любуешься ими. Не любоваться нельзя: детство всегда обаятельно. Каждого представляешь в будущем, видишь взрослым: Петя Гаврилов рисует — как знать, не станет ли он художником! У Паши Горбунова эдакая прадедовская крестьянская жилка — любит слушать о земле, о яровизации — быть ему агрономом. За все тридцать лет работы от каждого своего ученика Прасковья Петровна ждала в будущем только хорошего.
И разве не горькое разочарование испытала она, когда Михаил Соломатин, заведовавший магазином при сплавконторе, был посажен на восемь лет за растрату? Он в школе был нисколько не хуже других. Что испортило его? Что толкнуло на преступление? Растратил— посадили, причиной не поинтересовались. Осот сорвали, корень оставили.
Вот и Варвара, мать Роди Гуляева... Что заставило её стать такой? Неужели в этом есть вина её, старой учительницы Прасковьи Петровны?
Дома Прасковью Петровну ждало обычное дело — ученические тетради. В стопке тетрадей она отыскала тетрадь Роди Гуляева. Обложка еле держится, углы загнулись, первая страница написана любовно, без помарок, вторая же начинается с протёртой дырки: неудачно сводил кляксу. Мальчишечья тетрадь.
Она прожила с колхозом с его зарождения до сегодняшнего дня. Жила не бок о бок, а внутри колхоза. На её глазах сменилось двенадцать председателей, на её глазах построили всё хозяйство: фермы, телятники, конюшни. И это хозяйство успело уже отслужить своё, понемногу начинают отстраивать заново. Ей ли не знать во всех мелочах жизни Варвары Гуляевой...
Окончила пять классов; сперва просто помогала матери, потом была зачислена в первую полеводческую бригаду; боронила, косила, жала, молотила — делала, что приказывали бригадир, председатель, агрономы из МТС, уполномоченные из райцентра. Никто из них не пытался заставить её: пораскинь сама мозгами, как лучше вырастить хлеб, подскажи, возрази, ежели мы не правы. Никто не учил: думай над жизнью, вникай в неё. Все, от колхозного бригадира Фёдора до районного начальства, только приказывали: борони, жни, коси по возможности быстрей, по возможности лучше, не рассуждай лишка, без тебя разберёмся. Помнили: она — рабочие руки в колхозе, а то, что она, кроме того, ещё и человек, часто забывали. А Варвара была не из тех, что могла доказать — она способна думать. Покорно выполняла приказы, много действовала своими руками и меньше всего головой. Неизбежен умственный застой, неизбежно и то, что ей приходилось искать всемогущественного, справедливого повелителя, который был бы всегда под рукой.
А тут ещё война. Тут ещё неудача с мужем, вечный мелочный страх перед завтрашним днём. Так ли уж нужно винить её, что она бросилась искать спасения у бога?
Прасковья Петровна застывшим взглядом упёрлась в низенькое деревенское оконце. На столе забыто лежала раскрытая на диктанте тетрадь Родьки Гуляева.
16
После большой перемены Васька Орехов принёс Родьке новость:
— А к вам в гости поп из Загарья приехал. Завтра перед твоей иконой молебен служить будет.
— Ты откуда знаешь?
— Тетрадку по ботанике забыл, домой бегал. Мамка сказала.
Ох, как не хотелось идти домой! Мало гостей, тут ещё поп... После школы Родька долго бродил по пустырю, но голод не тётка — пришлось идти...
Во дворе, уткнувшись мордой в сено, дремала незнакомая лошадь. В избе, однако, кроме бабки и матери, никого не было. Они ругались.
Мать с заплаканными глазами, со вспухшими губами, с непривычной для Родьки злостью кричала на бабку:
— От школы отобьётся! Легко ли жить нынче неучем-то! Вся жизнь на перекос у парня пойдёт. Мать я ему или не мать?
— Ты шире уши распускай, такие ли тебе ещё песни напоют. Они на это мастера великие. Иль учительша для тебя важней господа? — Бабка стояла посреди избы с кирпично-красным от гнева лицом, с растрёпанными седыми волосами.
— Всю вину сама перед богом приму. Замолю сыновьи грехи, а отбивать от школы не дам! Не след ему со школой не ладить!
— Вот они, слова иудины! Ещё, бессовестная, диву даёшься, что счастья нет! Да за какие заслуги счастье-то тебе? Чем ты перед богом поступилась? От бога плоть свою спрятать хочешь? Ужо отзовётся это. Да не на тебе, на Родьке. По материнской дурости будет он век вековечный беду мыкать...
Бабка первая заметила остановившегося у порога Родьку.
— Вон он, безотцовщина, сказывается кровь... Должно, все до последнего словечка вытряс перед учительшей. А та рада: фу-ты, ну-ты, я в вашем доме начальница! В отца Дмитрия, словно клещ, впилась... Господи! Да за что я стараюсь! За счастье же ваше. Много ли мне надо? Одной ногой в могиле стою...
Мать бросилась к Родьке, прижала к себе, запричитала на всю избу:
— Горюшко ты моё! Что мне с тобой делать?
Тёплая грудь матери уютно пахла, как после сна пахнет нагретая лицом подушка. Родьке, раскаявшемуся в том, что он пришёл домой, вдруг стало жаль мать.
— Повой, повой, от этого всё равно легше не станет. Всё одно от бога не спрячешься, — сердито выговаривала со стороны бабка.
Постукивая костылём, вошла Жеребиха; не разгибаясь, откинув лишь голову, веселенько окликнула:
— Ай нелады какие?
— Где уж лады! — отозвалась бабка. — Учительша тут недавно была, смутила вовсе Варьку. Беда, мол, будет с парнем, коль от бога не откажется.
Жеребиха, бегая чёрными, не по весёлому лицу тусклыми глазками, простучала к лавке, уселась, согнутая, нацелившаяся головой в сторону Варвары, мягко спросила:
— Это какая учительша? Прасковья Петровна? Так она, родные, партийная. А им, партийным, такой указ дан: всех начисто от бога отбивать. Дива нет, что отговаривала.
Мать виновато оправдывалась:
— В школе-то за бога не похвалят. А сама посуди, куда нынче без школы денешься? Велика ли радость, коль Родька всю жизнь, как мать, возле коровьих хвостов торчать будет?
— Тут уж, касатушка, выбирать нечего. Как господь положит, так и будет. Против его воли не пойдёшь.
— Живут же люди без бога, — возразила Варвара, — не хуже нас с вами.
— Слышь, какие речи ведёт? — бросила бабка. Жеребиха пошевелилась на лавке, села плотнее, средь весёлых морщинок мрачновато глядели чёрные глазки.
— Под мечом поднятым живут, матушка, под мечом. Только с виду их жизнь гладкая да развесёлая. А глянуть внутрь, в душу-то влезть, поди, чистый содом да маета. Поразмысли только: от бога отказались. Люди тыщи лет в бога верили. Неужели за тыщу лет не народилось поумней нынешних? Не от ума всё это, а от гордыни. Глухи и слепы. Бог нет-нет да и пошлёт о себе весточку. Только эти весточки-то понимать не хотят. Василия Помелова помнишь? Хоть дальний, да родственничек мне. Тоже партийный, куда уж, первым за верёвку взялся, чтоб колокол со святого храма стянуть. На всех углах кричал: «Леригия — дурман! Бога нету!» И уж поплатился за своё богохульство. Не приведи господь такую смерть принять. Как война началась, его первого, голубчика, под ружьё забрали. До фронту не доехал, бомба прямёхонько в него попала, косточек не осталось, в землю схоронить нечего. Вот оно, наказание — могилки и той нет, и пожалеть некому, и поплакать некому. Верка-то, жёнка его, живёхонько к другому переметнулась...
Родька, забытый всеми, стоял, прислонившись к печному боку, и слушал. Никогда за всю жизнь он серьёзно не думал о боге. В школе говорили: бога нет. Он верил в это и не задумывался. Бог для него был связан с бабкиной воркотнёй, со слезами матери, с чем-то скучным, неинтересным, не дававшим пищи для размышлений. Случись это раньше, он наверняка бы не обратил внимания на слова старой Жеребихи. Но теперь его жизнь невольно заполнена богом. О нём нельзя не думать, если говорят, нельзя не прислушиваться. И он слушал, смутные сомнения приходили в голову: «Тыщи лет люди в бога верили. Не все же тогда были дураки. В школе про Льва Толстого рассказывали: бога искал. Раз искал, значит, верил... Но почему теперь в бога верят больше старухи да старики? Бабка верит, а Прасковья Петровна нет... Прасковья Петровна умней бабки. Ну, а Лев Толстой, он книжки писал, он и Прасковьи Петровны умней был. Непонятно всё...»
Жеребиха не могла знать, что у парнишки, прижавшегося к серому печному боку, глядящего на неё круглыми, остановившимися глазами, идёт сейчас внутри лихорадочный спор. Она, суетливо облизнув обмётанные губы, напевно, со вкусом продолжала, обращаясь к Варваре:
— Уж кому бы в голову пришло поинтересоваться, не зря же в разорённой церкви каждую ночь в одно и то же времечко, ну, истово в одно времечко, хоть по часам, хоть по петухам проверяй, пиление идёт. Не господний ли это знак? Никому, лишенько, в голову не придёт поприслушаться да на самих себя оглянуться. Ой, слепы люди! Ой, глухи... Ничего-то видеть не хотят, ничего слышать не желают. А господь остерегает, остерегает, да ведь и его терпению придёт конец. Падёт вдруг на людей кара божия, дождёмся ужо мора или великого голода, поздно тогда будет каяться. Ой, Варюха, Варюха, опамятуйся! Перед чем голову сгибаешь, от чего отворачиваешься?
Варвара столбом стояла посреди избы, на белой широкой переносице выступила испарина, глаза блестели, вот-вот из них брызнут слёзы.
На крыльце послышались шаги, неспешные, уверенные, мужские. Вошёл старик, снял с головы кепку, длинные космы седых волос упали на воротник. Жеребиха сорвалась с места, бойко застучала палкой по полу:
— Благослови, батюшко!
А из раскрытых дверей слышалось покорное оханье взбирающейся на крыльцо Агнии Ручкиной:
— Ноженьки мои...
Начали собираться гости.
17
Розовая от заходящего солнца, в стороне от села стоит церковь. Её приветливый вид вместе с запущенной липовой рощицей, с галочьим хороводом над куполом был привычен, как вкус ржаного хлеба.
Эта вздыбленная над деревьями колоколенка со ржавым куполом луковкой, намозолившая глаза, связана с таинственным богом. Не от Жеребихи первой слышал Родька, что среди ночи, минута в минуту, кто-то пилит купол.
Врут, конечно...
А если нет?
Не ребячье любопытство, не досужая страсть к открытиям — Родьку раздирали сомнения: есть ли бог или нет его? В этом коротком вопросе был сейчас весь смысл будущей жизни. Никогда Родька не задумывался прежде, как жить ему. Жил, как живут все его гумнищинские однолетки: учился в школе, летом пропадал на реке, ловил рыбу, купался в Пантюхином омуте, в жатву возил снопы на колхозной лошади, был горд, когда бригадир ставил ему за это «палку» — целый трудодень. Его ли забота, как жить... Мать с бабкой всегда поставят на стол чашку щей и крупно нарезанный хлеб, а большего Родьке и не надо. О чём, о чём, а о боге, о душе и думать не думал... Но теперь не увернёшься от вопроса: есть ли бог?
Врёт бабка, врёт мать, врёт старая Жеребиха! Нет бога!
А если не врут?.. Тысячу лет люди верили. Лев Толстой верил. А пиление в церкви по ночам?.. Раньше-то выслушивал эту сказку и забывал. Теперь вот запала в голову, не выбьешь. Вот ежели б самому послушать?..
Стоит на отшибе церковь. Из чистой, словно умытой, рощицы (листва ещё по-весеннему свежа) торчит колокольня, как древний воин в остроконечной шапке. Родькины зоркие глаза видят даже, как мельтешатся галки в воздухе. Там спрятана тайна, тревожная, пугающая. Врут или не врут?..
Как только начали собираться гости, Родька потихоньку сбежал из дому. Он давно уже сидит на задворках дома бабки Жеребихи, прячется от людей. Люди могут помешать думать, люди будут с ним заговаривать о другом, а ни думать, ни говорить сейчас, кроме этого проклятого вопроса, Родька ни о чём не может.
Как в жидкую тину, в лиловый туманный лес медленно погружается солнце; оно побагровело, раздулось от натуги. И от того дальнего леса, от края земли, от самого солнца через луга упрямо, не сворачивая ни перед чем, тянется железнодорожная насыпь. Давно уже показался на ней красный, впитавший в себя лучи тонущего солнца дымок. Он растёт. Доносится шум поезда — ближе, ближе, сильней, сильней. На чёрном теле паровоза заблестело какое-то стекло, пропылало минуту-другую остреньким, словно пробивающимся сквозь булавочный прокол, огоньком, погасло. Товарные вагоны при закате кажутся раскалёнными. Паровоз простучал через весь луг, таща за собой этот длинный раскалённый хвост, нырнул в решётчатую коробку моста, вновь вынырнул, пробежал дальше и скрылся за церковью.
В тишине неожиданно раздался выкрик:
— А вон Родька сидит!.. Эй, Родька!
Перевалившись животом через ветхую изгородь, подбежал Васька Орехов. На худеньком, с острым подбородком лице обычная радость: «А-а, вот ты где!»
— Что ты тут делаешь?
Родька не ответил, но Васька и не ждал ответа, он обернулся и закричал:
— Венька! Иди сюда, здесь Родька сидит! — так, словно это известие было бог знает каким подарком для Веньки Лупцова.
Венька не спеша подошёл. Он хоть и помирился с Родькой, но и сейчас из-под чёрной, как воронье перо, чёлки глядел со спрятанной угрюмой насторожённостью недобрый глаз.
— Что делаешь? — повторил Венька Васькин вопрос. — Галок считаешь?
— Тебе-то что?
— Да ничего. Из дому, небось, выжили?
В эту минуту Родьке не хотелось затевать ссору, он со вздохом признался:
— Терпения моего нету.
Эта покорность привела Веньку в мирное настроение. Он присел на землю рядом с Родькой.
Все трое долго молчали, уставившись вперёд, на широкий луг с подрумяненными на закате горбами плоских холмиков, на тлевшую вдали колоколенку.
Первым пошевелился Родька, беспомощно взглянул на товарищей, спросил:
— Вот про церковь говорят, там вроде по ночам кто-то купол пилит.
— Поговаривают, — согласился равнодушно Венька.
— Ты знаешь Костю Шарапова? — нетерпеливо заёрзал Васька. — Трактористом в прошлом году здесь работал. Он, сказывают, по часам проверял. Ровно без десяти двенадцать каждую ночь начинается.
— Врёт, наверно, твой Костя, — нерешительно возразил Родька.
— Костя-то!..
Венька перебил:
— Я и от других слышал.
— Ну, а коли правда, тогда что это?
— Кто его знает.
Снова замолчали, на этот раз уставились только на колокольню.
— Нечистая сила будто там, — робко высказался Васька.
— Враньё! — обрезал Родька. — Бабья болтовня! Была бы нечистая сила, тогда и бог был бы.
— Но ведь Костя-то Шарапов в бога не верил, а я сам слышал, как он рассказывал, с места мне не сойти, если вру.
— И я что-то слышал, только не от Кости, — подтвердил Венька.
— Ребята! — Родька вскочил с земли, снова сел, взволнованно заглядывая то в Васькино, то в Венькино лицо. — Ребята, пойдёмте сегодня в церковь... Вот стемнеет... Сами послушаем. Ну, боитесь?
— Это ночью-то? — удивился Васька.
— Эх, ты, уже с первого слова и в кусты. Ты, Венька, пойдёшь? Иль тоже, как Васька, испугался?
— А чего бояться-то? Ты пойдёшь, и я пойду.
— И то, не на Ваську же нам с тобой глядеть. Правду про него мать говорит, что на девку заказ был, да парень вышел.
— А я что, отказываюсь? — стал защищаться Васька. — Только чего там делать? Ежели и пилит, нам-то какое дело...
— Да ты не ной. Не хочешь идти с нами, не заплачем.
Родька неожиданно пришёл в какое-то возбуждённо-нервное и весёлое настроение. Венька Лупцов делал вид, что ему всё равно...
18
В самой гуще ночи, в глубине села, отмеченного в темноте огоньками, ночной сторож Стёпа Казачок ударил железной палкой в подвешенный к столбу вагонный буфер — раз, другой, третий, четвёртый... Удар за ударом — дын! дын! дын! — унылые и однообразные, они поползли над тёмным влажным лугом, через заросший кустами овражек, где, усталые от ожидания, сидели трое мальчишек, через реку, где под обрывистым берегом недовольно шевелилась весенняя вода, куда-то к железнодорожной насыпи и дальше, дальше, в неизвестность.
— Одиннадцать часов, — прошептал Родька. — Может, пойдём не спеша?
— Рано. Что мы в церкви-то торчать будем? — возразил Венька.
Васька Орехов как-то беззащитно поёжился и притих.
Опять принялись ждать.
Венька глухим, утробным, страшным для самого себя голоском продолжал рассказ о том, как его отец когда-то ехал волоком между деревней Низовской и починком Шибаев Двор:
— Лежит он себе на телеге, а лошадь еле-еле идёт. Он и поднимается. Дай, думает, подшевелю. Поднялся, видит: чтой-то на дороге светится... Присмотрелся: катится впереди лошади огонёчек голубенький. Невелик сам, с кулак так, не больше...
— Ой, Венька, брось уж, и так зябко, — тихо попросил Васька Орехов.
— А ты побегай, погрейся, — предложил Венька. — Значит, огонёк катится... А батька молодой тогда был, ничего не боялся. Дай, думает, шапкой накрою...
— Ладно, Венька, — оборвал его Родька, — Васька-то еле дышит. Оставь, завтра доскажешь.
— Связались мы с ним... Надо бы тебя, квёлого, не брать с собой, — сердился Венька и добавил: — А мне вот всё равно, какие хошь страшные рассказы слушать могу и нисколечко, ни на мизинчик, не боюсь.
— Ребята, я домой пойду. Мамка лупцовки даст, — попросил Васька.
— Я тебе пойду! — вскинулся Венька. — Вместе уговаривались. Ты убежишь, а мы останемся... Нашёл рыжих!
Так в переругивании и в приглушённой воркотне шло время.
Наконец Родька решительно встал:
— Идём!
Венька с Васькой неохотно поднялись.
Ночь была безлунная, три или четыре крупные звёзды проглядывали в разных концах неба между набежавшими облаками.
Шли гуськом: впереди Родька, за ним Венька, сзади, прижимаясь к Веньке, наступая ему на пятки, семенил, спотыкаясь, Васька Орехов.
Тропинка была усеяна тугими, как резина, кочками прошлогоднего подорожника. Родька до боли в глазах вглядывался в темноту. Вот в нескольких шагах, прямо на тропинке, замаячило что-то живое, волк не волк, выше волка, шире волка, страшнее волка, сидит и ждёт... Сердце начинает тяжело бить в грудь, звон стоит в ушах от бросившейся в голову крови. Шаг, ещё шаг, ещё... И тропинка огибает невысокий кустик, он не выше волка, он не шире волка, до чего же жалок вблизи, так себе, пара искривлённых веточек. К чёрту все страхи!
К чёрту?.. А что там в стороне? На этот раз ошибки быть не может: кто-то в темноте шевелится на самом деле. Слышно даже, как переступает с ноги на ногу, не ждёт, само идёт навстречу — большой, неясный сгусток ночи. Оно может и растаять в чёрном воздухе, может и навалиться на тебя удушливым облаком... Раздалось фырканье... Ух! Это лошадь! Уже выпустили пастись, рановато вроде, трава чуть-чуть выползла.
Знакомую до последней кочки землю покрыла только лишь темнота, и знакомая земля стала непонятной, пугающей.
Родька шагал, вглядывался вперёд, и в эти минуты он готов был верить во всё: в нечистую силу, которая в любую минуту может вывернуться из-под ног, в мертвецов, что поднимаются из могил, в бога — великого и страшного, глядящего сейчас откуда-то с чёрного неба. И всё-таки он шёл вперёд, и всё-таки он должен был проверить, сам узнать, услышать своими ушами, иначе не будет его душе покоя.
— Ой! — раздалось сзади слабое восклицание.
Родька и Венька, толкнув друг друга, повернулись к Ваське Орехову.
— Ты что?
— Ногу подвернул. Дальше не пойду.
— Так мы тебе и поверили. Только что целёхонька нога была.
— Скажи прямо: душа в пятках.
Васька перестал стонать.
— А неужель не страшно?..
— Вставай! — схватил его за воротник Венька. — Или силой потащим.
— Тащите не тащите, не пойду. Я вам правду говорю: нога подвернулась.
— Мы тебе живо её вылечим. — Венька сильнее тряхнул Ваську. — Ну, долго возиться?..
— Пусти-и! Не пойду, сказал же.
— Ладно, Венька, чёрт с ним, пусть здесь остаётся, — зашептал Родька. — Провозимся с ним, опоздаем. Времени и так нету.
— Мокрая курица ты, не товарищ. Треснуть бы по шее разок. Сиди тут, коли так.
Родька и Венька плечо в плечо двинулись дальше. Венька ещё поругался немного и замолчал. Уж слишком был страшен и неприятен собственный голос в этой мёртвой тишине.
Они приближались к церкви, но по-прежнему впереди ничего не было видно. И лишь с напряжением, до боли вглядываясь в темноту, можно было не столько увидеть, сколько ощутить впереди себя кирпичную громаду, закрывающую полнеба.
А вокруг церкви — кладбище. Оно старое, заброшенное, давно уже не хоронят на нём покойников. Но кому не известно: чем заброшенней кладбище, тем скорей можно ждать на нём всякой нечисти.
Венька остановился.
— Родька! Слышь, Родька...
— Чего ещё? — приглушённым шёпотом спросил тот.
— Васька-то небось домой побежал.
— Ну и что?
— Он дома будет сидеть, а мы, как проклятые, в эту церковь полезем.
— Тоже струсил?
— Не струсил, а дурее Васьки быть не хочу. Больно мне нужна эта церковь. Пропади она пропадом, плевать на неё!
— А зачем тогда пошёл?
— Да ни за чем. Ежели б вместе, а то вон Васька-то...
Родька вдруг почувствовал, какое это несчастье остаться вдруг одному в этой тишине, среди влажной ночи. Одному перешагнуть за церковную ограду, одному пройти мимо старых могил, одному влезть в церковь, одному там ждать... Это невозможно! Лучше отказаться, повернуть домой. Повернуть?.. А завтра опять гляди на церковь, мучайся, думай, как бы попасть в неё. Всё равно придётся рано или поздно идти. Нельзя отпускать Веньку! Нельзя оставаться одному!
— Веня, мы уж ведь пришли... А Васька что?.. Васька же — дурак, трус, девчонка... Мы ещё посмеёмся вместе...
— Не пойду, и шабаш... Хочешь, повернём вместе, не хочешь...
— Венька! Только поверни, я тебе опять юшку пущу.
— Тоже мне — юшку! Мало, видать, попало сегодня от Прасковьи Петровны.
— Пусть попадает. Сейчас набью, завтра набью, каждый день бить буду.
И быть бы драке в полночь у старой церкви, если б в темноте за спинами ребят не послышались торопливые шаги и прерывистое дыхание. Оба забыли про драку, обернулись, прижались друг к другу.
— Родька... Венька... Это вы? — появился Васька, едва переводивший дыхание от быстрой ходьбы. — Одному-то ещё страшнее, — заговорил он прерывистым шёпотом. — Просто жуть одному-то... Уж лучше с вами...
Дрожащий, просящий Васькин голос виновато оборвался. С минуту все стояли неподвижно. Без шелеста листьев, без коростельего крика облила их плотная темнота.
Родька первым опомнился.
— Пошли, — сказал он не шёпотом, а вполголоса и повернулся к церкви.
Васька, споткнувшись, поспешно бросился за ним. Последним двинулся Венька.
Они вошли в широкие ворота церковной ограды.
19
В глубине белела, как мутный туман ночью на реке, стена церкви. Они остановились под деревом.
Родька достал из кармана бересту, поднял с земли из-под ног сухую ветку, спросил:
— Васька, спички у тебя?.. Сейчас бересту запалим. При огне-то лучше.
Васька зашептал:
— Не надо, Родька. Так-то нас никто не видит. А как огонь, всяк узнает: мы здесь.
— Давай спички, говорю!
Две руки — Васькина и Родькина — не сразу столкнулись в темноте. Одна спичка сломалась, вторая долго не зажигалась. Наконец зажглась слабеньким, болезненным огоньком — единственно светлая, родная точечка в этой подвальной темноте.
Скрюченный, грубый кусок бересты заскворчал, запузырился, как живой, стал сгибаться. Родька надел его на конец ветки. И из темноты рядом с ними появилась боковина ствола матёрой липы в буграх и корявых наростах. Впереди, под ногами, открылась замусоренная кирпичной крошкой земля. Огонь шевелил весёлыми языками, пускал тёмный чадок, без всякой утайки фыркал. И страх почти исчез. Родька, Васька, Венька разом вздохнули, переглянулись между собой, снова уставились на огонь.
Но по сторонам темнота ещё гуще облила раздвинутый горящей берестой круг. Не стало видно церковной стены. Казалось, эту плотную, могучую темноту ничем не сдвинешь, ничем не пробьёшь, не выберешься из светлого круга. Но Родька, бережно держа на весу ветку с корчащейся берестой, шагнул вперёд, и эта плотно слитая темнота покорно подалась назад. Липа с корявой корой сразу же исчезла, словно провалилась под землю. Навстречу выскочила тоненькая, с игривым изгибом берёзка, сразу же лихорадочно зарумянилась от света.
Ещё два шага, и свет упёрся в стену, вовсе не белую и ровную, а облупленную, с оскалами кирпичей в обвалившейся штукатурке.
В стене — окно, непроницаемо затянутое бархатной темнотой. Что-то там? Мороз пробирает от мысли, что придётся схватиться за кирпичный карниз, подтянуться и... окунуться головой в эту мрачную, бархатную тьму.
— Венька, держи, — отдал Родька берестяной факел. — Осторожней, бересту стряхнёшь... Васька, подсади-ка... Что ты меня за грудки держишь? Плечо, плечо подставь... Вот так...
Родька сел верхом на подоконник. В выползшей из штанов, пузырящейся на спине рубахе, всклокоченная голова ушла в поднятые плечи, освещённый неровным, пляшущим огнём на бархатно-чёрном фоне арочного окна, он сам теперь походил на какого-то зловещего горбуна из страшной сказки.
— Да... давай сюда огонь.
Венька медлил: охота ли лезть в это проклятое окно, а уж если отдашь огонь, придётся.
— Ну! — это «ну» было сказано слишком громко и гулом отдалось в пустой церкви за Родькиной спиной.
Венька поспешно протянул горящую бересту.
— Что ты в меня огнём тычешь? С другого конца давай... Подсаживай Ваську.
Из окна, из чёрной пропасти тянуло подвальными запахами плесени и птичьим помётом. Родька первым прыгнул туда, и в это самое время огромная, пустая, тёмная церковь загудела, забурлила, словно её старую крышу пробил бешеный водопад. Снизу донёсся слабый, заикающийся голос Родьки:
— Не-не... не... бойтесь... Это галки... Ух, сколько их тут!
Огонь осветил кусочек стены, на которой проступали какие-то картины, прислонённые к стене иконы, битый кирпич с блёстками стекла на полу. Всё остальное — вверху и по сторонам — было покрыто густым мраком.
Родька мельком поглядел на иконы, подумал вскользь: «Гляди ты, какие красивые есть. И чего те дурни на мою икону набросились, вроде она лучше?..»
— Вы скоро там?
Венька и Васька слезли вниз, сдерживая дрожание губ, с бледными лицами стали рядом.
Вяло покачивался огонь на обугленной бересте, запах смолистого дыма смешивался с запахом каменной плесени. Вверху всё ещё шевелились неуспокоившиеся птицы. Путь был пройден, оставалось только ждать.
— Сколько... — заговорил Родька и сразу же снизил голос до шёпота, так как неосторожно произнесённое слово сразу же отдалось где-то под самым куполом. — Сколько времени теперь?
— Кто его знает, — так же шёпотом ответил Венька. — За двенадцать, поди.
— Не слышно, не било вроде.
— Да отсюда разве услышишь, сквозь стены-то?
— Услышали бы. Окна-то полые.
Они на минуту перестали шептаться. Под тёмной крышей, высоко над головой, разбуженные птицы успокаивались. Пошевелилась одна в самом глухом, в самом дальнем углу, пошевелилась другая, поближе, столкнула кусочек сухой извёстки, он легонько стукнулся об пол, звук его отозвался под куполом. Наконец стало совсем тихо. Тонко-тонко и тоскливо зазвенело в ушах от перенапряжённой тишины.
— Враки всё, — выдохнул Родька.
— Что враки? — одними губами спросил Венька.
— Да это... Купол-то будто пилят.
— Конечно, враки, — с охотой подхватил Васька. — Пошли, Родя, быстрей отсюда, чего тут торчать.
Родька не ответил.
Береста на конце ветки прогорала. Жёлтый огонёк стал вялым. Чёрный курчавый дымок над ним вился гуще. Лица у ребят были бледные, серьёзные, непривычно большеглазые.
Родька ощутил облегчение, появилось смутное, неосознанное желание: высказать что-то (пока он не знал, что именно) презрительное и уверенное бабке с матерью, обругать Жеребиху.
Родька набрал уже в грудь воздуху, чтобы ещё раз сказать: «Враки всё...» — но вдруг воздух застыл в груди ледяной глыбой, горло сжалось...
Где-то вверху, в самой гуще давящего на головы мрака, там, где недавно шевелились обеспокоенные птицы, очень тихий, но внятный, осторожный, но проникновенный, раздался странный звук. Он действительно напоминал звук маленького напильника, въедливо, настойчиво точившего кусок железа. Звук разрастался, креп, становился громче, решительнее. Уже не крохотный напильничек, а широкий рашпиль поспешно, без предостережений, с ненавистью ёрзал по железу. Сильней, сильней, нервней, до истерических, визгливых ноток.
И звук шёл не снаружи, он был где-то в стенах, под самой крышей, висел над головой. Странно, что птицы нисколько не обращают на него внимания.
Неожиданно загрохотало, завизжало — нарастающий звук взорвался. Ошеломлённый Родька в долю секунды каким-то далёким уголком своего мозга всё же успел догадаться: это рядом с ним в пустой гулкой церкви визгливо крикнул от страха Васька.
Они не помнили, как выскочили в окно, как оказались за церковной оградой...
А ночь по-прежнему стояла тихая, влажная, свежая. Покойно светились редко разбросанные огоньки села. В стороне уверенно и беспечно постукивали колёса удаляющегося поезда. Три красных фонарика на заднем вагоне уплывали в темноту. Это, должно быть, пассажирский. Он через пятнадцать минут остановится на маленькой станции Суховатка, куда летом Родька и Васька бегали продавать ягоды.
Нет, ничего не произошло на свете. Ровным счётом ничего.
Дын! Дын! Дын!.. Через влажный луг, через речку на железнодорожную насыпь поползли унылые звуки. Ночной сторож Стёпа Казачок отбивал двенадцать часов.
Ребята не обмолвились ни единым словом. Спотыкаясь на неровной тропинке, бросились бегом к селу...
Перед самым селом их встретила беспорядочная, громкая петушиная перекличка.
20
Опять весь вечер сидели гости. Беременная Мякишиха, прислонясь к Варваре, уставив на неё раскисшие от слёз глаза, шептала:
— Варварушка... Навар из трав пила, а веры нету. Нету веры, что всё обойдётся. Врачи сказывают: не людская-де у тебя беременность... Сечение надо делать, резать.
Скучно вздыхала о своих ноженьках Агния Ручкина. Старик из деревни Заболотье, большой знаток Ветхого завета, курил толстые цигарки из крепкого самосада, давил их в разбитом блюдце и рассуждал о «нонешней распущенности»:
— В прежнее-то время вся жизнь, куда ни толкнись, в страхе проходила. Оттого кругом порядок стоял...
Отец Дмитрий больше молчал, кивал головой, соглашался, только несколько раз вставил своё слово:
— Ежели человек отравлен ядом, чтоб он не умер, надо очистить тело. В жизни душа ежедневно и еженощно яд принимает. Выругался нехорошим словом — яд. Осквернил себя водкой — яд. Строптивость свою высказал, начальству не подчинился — всё яд. Вера очищает душу людей. Нет без веры духовного здоровья.
И снова замолкал, с ясным, чуть утомлённым лицом покачивал головою, думал, верно, о чём-то своём.
Варвара сидела как каменная. Она и всегда-то при гостях чувствовала себя немного чужой, а теперь, после Прасковьи Петровны, после разговоров с Жеребихой, вконец растерялась, глядела в дверь остановившимися глазами, ждала Родьку, удивляясь, почему его долго нет. «Час-то поздний, и где его носит?.. Пожалуй, хорошо, что сейчас дома нет. К нему бы полезли. Мякишиха-то над ним бы стала причитать. Легко ли несмышлёному парнишке выносить... Не напрасно учительша пугает, ой не напрасно! Как же парню быть? От школы отворачиваться?.. Господи, вразуми... То-то и оно, что ни случись, всюду — господи, а ведь Прасковья-то Петровна от бога Родьку отнимает...»
Разболелась голова. Варвара тихонько поднялась, ушла за перегородку, не раздеваясь, прилегла на койку. Сдержанно гудели голоса в соседней комнате...
Её разбудили сердитые толчки.
— Вставай-ка, вставай. Эк, разлеглась... Забыла, чай, что у нас отец Митрий ночует. Не на полати же его сунуть. — Старая Грачиха, раскосмаченная, придерживая на груди рубаху, стояла над ней. — А нашего-то гулёны до сих пор дома нету. Выходила на улицу, кликала, не отзывался. Клавдию встретила, тоже своего Ваську ищет. Вместе где-то шабашат.
Выглянула за переборку, пригласила:
— Иди, батюшко, постельку сейчас сготовлю.
Варвара поднялась, заспанная, с тяжёлой головой, вышла в переднюю.
Изба хранила следы недавних гостей: пол у порога крепко затоптан, на подоконнике щербатое блюдечко усажено окурками.
Тяжело и неуютно стало в доме. Покоя и тишины хочется. Ей-то ещё полбеды, а Родьке, верно, вдвое неуютней.
Кряхтя и посапывая, за перегородкой укладывался на пригретую Варварой постель отец Дмитрий. Бабка торопливо отбила положенные поклоны, взобралась на печь. Через минуту, как обычно, полился оттуда ровный храп.
Каждый вечер опускалась Варвара на колени перед иконами, опустилась она и сейчас.
Что сказать господу? Как пожаловаться? О чём просить, что вымаливать? Как держать себя? Всё перепуталось, ничего не понятно. Одно слово вырывается из души:
— Господи!!
Словно вполшепота, но это крик измученного сердца, крик жалобный и бессильный.
За спиной раздался осторожный шорох. Варвара оглянулась. У дверей стоял Родька. При свете гаснущей лампы было видно его бледное, смятенное лицо.
Варвара медленно поднялась с полу.
— Родюшка... Ай опять беда какая?
Родька резко дёрнул плечом, словно сбрасывал с него невидимую лямку, связанной походкой, уставясь в угол, прошёл на середину комнаты мимо матери. С минуту он глядел в упор на тёмную икону, потом колени его подогнулись, он вяло осел на пол и, съёжившись, пригнув голову, неожиданно зарыдал.
— Родюшка, сердешный, да что с тобой, золотце? — Варвара бросилась рядом с ним на пол, обняла, сама заплакала. — Видать, снова напасть какая. Да что за наказание! Что там случилось-то, скажи?
Но Родька молчал, только плечи его под материными руками сильно вздрагивали.
От молчания, от слёз сына, от чудотворной, зловеще выкатившей белки глаз, от всего непонятного, что творилось на белом свете, Варвару охватил дикий ужас. Новая беда! Новые несчастья! Мало прежних?! Надо спасать сына, надо оградить его от беды!
Варвара крепче обхватила Родьку за вздрагивающие плечи, приподняла, шипящим шёпотом заговорила:
— Молись, Роденька, молись,. сынок! Проси прощения за себя, за мать-грешницу. Сомнениям поддалась мать-то... Ох, разнесчастные мы!.. Нет нам спасения... Молись, голубчик...
И случилось чудо... Родька, вечно бунтующий, упрямый, только из-под палки поднимавший ко лбу руку, вдруг со всхлипом вытер лицо рукавом, покорно зашевелился, встал коленями на пол, упёршись заплаканными глазами в лампадку, слабым голосом произнёс единственную молитву, которую знал, короткую, в два слова:
— Прости... господи...
Он крестился, лицо его выражало просительный страх, а Варвара, тоже стоявшая рядом с ним коленями на полу, застыла от изумления и нового ужаса. Вот оно, свершение! Вот она, сила божья! Как же тут сомневаться в господнем могуществе?
21
Привычный мир рухнул для Родьки. Надо было как-то по-новому жить, по-новому поступать.
У каждого здорового мальчишки смысл жизни заключается в одной фразе: «Когда я вырасту большим...» Два года назад в Гумнищи вернулся с флота теперешний председатель колхоза Иван Макарович. Тельняшкой, мичманкой с золотым крабом, всем своим морским обличьем он жестоко поразил Родькино сердце. И после этого Родька мечтал: «Когда вырасту большим, стану моряком». Золотая надпись на ленте, синий воротник за спиной, ремень с медной пряжкой в ладошку — вот он, Родька Гуляев, приехавший домой на побывку! Пусть это была по-детски наивная мечта, но мечта о будущем. А в детстве будущее и счастье — одно и то же слово.
Теперь от этого будущего надо отказаться. Где уж там бескозырка с ленточками, когда тебе придётся молиться, когда ты нашёл святую икону, когда за тобой следит сам бог, ты у него на примете! Неужели жить, как велит бабка? Кем он будет, когда вырастет большим? Непонятно, неясно, темно впереди. С богом и бабкой как-то не мог себе представить Родька будущего.
Нет будущего, значит, нет жизни, от всего надо отказаться. Не по приказу бабки, не из-за страха, что она выдаст лупцовку, — самому отказаться! Это тебе не крест на шею, это не просто стыд перед ребятами, который раньше так сильно мучил. Тогда-то страдал, а знал: пройдёт день, неделя, месяц, пусть даже год — и всё наладится, всё переживется. Теперь не надейся на время, оно не спасёт. Тогда можно было бунтовать, возмущаться, жаловаться кому-то, хотя бы Прасковье Петровне. Сейчас не перед кем бунтовать, не на что жаловаться, в тебе самом сидит беда. Нет будущего, нет счастья, ничего нет!
Утром дома готовились к молебну, и бабка не отпустила Родьку в школу.
— Не каждый день молебны заказываем в честь новоявленной. Родька, чай, не лишний человек в этом деле. Школа не сгорит, коли он там день не побудет.
Родька молчал, не глядел, как прежде, упрямым бычком в пол, лишь тоскливо озирался. И мать испугалась его покорности, робко и неуверенно возразила:
— Как бы шума не вышло...
— То-то вы все боголюбы. — Бабка веником, насаженным на длинную палку, обметала паутину с потолка. — Милости у бога выпрашиваете, а огласки боитесь. А вы не бойтесь за господа шум на себя принять. Снесёте, ежели и поругают маленько.
Родька молчал. Он молчал и тогда, когда бабка отозвала его в соседнюю комнату, роясь в коробке среди пузырьков и катушек, сердито зашипела:
— Крест-то бросил? Думал, не узнаю, нечестивая твоя душа? Говори спасибо, бог уберёг. Ради такого дня выволочки не получишь. Народ собирается, срам на люди не хочу выносить. Вот тебе другой крестик. Ну-ка, одевай живо да не кобенься.
Шершавые пальцы бабки расстегнули ворот рубахи, твёрдая ладонь тычком по затылку заставила нагнуть голову. Шнурок крестика зацепился за ухо, бабка грубо его поправила.
Начали мыть пол, и Родька решил выйти во двор. Но когда он ступал из дверей на крыльцо, понял: лучше бы не показываться из дому.
Пошевеливая вздыбленными плечами, пробив пригнутой головой скучившихся баб, подполз к крыльцу безногий Киндя. Шапки нет, лицо распухшее, сизое, из-под заплывших век — не понять, враждебно, равнодушно или заискивающе — уставились сквозь щели неподвижные глаза. Он, закинув назад голову, набрал в широкую грудь воздуха, казалось, вот-вот разразится длиннейшей речью. Но Киндя выдохнул лишь одно слово:
— Бла-ослови! — после чего, держась за утюжки, принялся кланяться, касаясь лбом земли, выставляя локти, как кузнечик лапки.
Сморщенный старичок из Заболотья, тот, что знал Ветхий завет, сплюнул и отвернулся.
— Нехристь. С утра нализался... Нашёл время.
В надвинутом на глаза платке подскочила мать Кинди, ткнула тощим прокалённым кулачком в налитый кровью сыновний загривок, заговорила с визгом:
— Сгинь, бесстыдник! Сгинь, окаянное семя! Выполз зверь зверем, за мать бы посовестился.
— Бла-ослов-ения хочу, — промычал неуверенно безногий Киндя и опять повалился лбом в землю.
— Кинька! Один останешься. Уйду, мотри! — уже без визга, с угрозой проговорила старуха. — Какое тебе благословение, дурья башка? Ведь на малом свячёного чина нет.
Киндя помедлил, широкий, плотный, крупноголовый, по плечо тощей, низкорослой матери, вздохнул и боком стал отодвигаться в сторону.
— Ты, голубок, не пужайся. Идём к нам. Покудова там готовятся, посидим рядком, потолкуем ладком.
Из-под платка, козырьком напущенного на лицо, щупали Родьку выпрыгивающие вперёд глаза, костистая рука бережно и в то же время твёрдо взяла за локоть, свела Родьку с крыльца.
Сидевшая прямо на земле, широкая, как сопревший от непогоды суслон, Агния Ручкина зашевелилась, попробовала было подняться навстречу Родьке, но не сумела, лишь тоскливо вздохнула:
— Ох-ти, мои ноженьки...
Но из-за Ручкиной выросла закутанная в длинную шаль Мякишиха — глаза выкаченные, сухо блестящие, тонкие губы бесцветны.
— Миленький! — схватила она Родькину руку, припала к ней сухими горячими губами.
Родька с силой выдернул руку, рванул локоть из костлявых пальцев Киндиной матери, затравленно оглянулся. И тут же его взгляд упал на дорогу. К изгороди размашистым шагом приближалась Прасковья Петровна.
В своей неизменной вязаной кофте, лёгкий платочек туго стягивает прямые чёрные волосы, на лице будничная озабоченность и знакомая школьная строгость, она так не походила на тех, кто стоял сейчас во дворе, так обычна, так знакома — человек из другой жизни, родной и утерянной для Родьки.
— Родя, ты почему не пошёл в школу?
И Родька в эту минуту представил самого себя, словно бы посмотрел со стороны глазами Прасковьи Петровны: в чистой, праздничной рубахе, стянутой пояском, смоченные волосы гладко зачёсаны бабкиным гребнем — вот он, ученик из её класса, среди старух, беременных баб, в компании с пьяным Киндей и Агнией Ручкиной, квашнёй сидящей на земле. Это был позор. Это был конец. Худшего уже нельзя было представить.
— Родя, я спрашиваю: почему ты не в школе?
Все, кто был во дворе, молчали, с подозрительностью глядели на учительницу. Прасковья Петровна не обращала на них внимания, мягко и спокойно уставилась на Родьку.
И Родька, издёрганный за последние дни, измученный кошмарной ночью, не выдержал, схватился за голову, затопал ногами, неожиданно осипшим, громким голосом закричал:
— А-а-а!.. К че-ерту-у! Всех к чёрту-у! Уходите! Все уходите! Все!!!
После первого же выкрика в окружавшей его толпе поднялся недовольный ропот:
— Небось, на дом пришла.
— Мало ли там шелапутных, которые запросто из училища убегают.
— За теми не следят. Не-ет.
Родька с багровым лицом топал ногами, кричал:
— Уходите! Уходите! Уходите!!
— Родя, пойдём отсюда, — не обращая внимания на враждебный ропот, мягко позвала Прасковья Петровна.
Но Родька не слышал, его крик оборвался, он, оскалившись, оглядывался кругом и затравленно вздрагивал от рыданий.
Киндя, раздвигая плечами старушечьи подолы, пробрался к самой изгороди, задрав опухшую, кирпично-красную рожу, сипловато заговорил базарной скороговорочкой:
— Ты, мамаша, извиняюсь... Иди, мамаша, своей дорогой. Не то я, человек изувеченный, за свою натуру не отвечаю...
Прасковья Петровна сначала с удивлением, потом с брезгливостью секунду-другую разглядывала сидящего на земле Киндю, отвернулась, обвела взглядом старух, буравящих её из-под чистых платков выцветшими глазами, снова обратилась к Родьке, кусающему рукав своей рубахи:
— Успокойся, Родя. Идём отсюда.
Но Киндя угрожающе зашевелил поднятыми плечищами:
— Ты, мамаша, слышала? Я в переглядки играть не люблю.
Давно не стиранная рубаха распахнута на груди, на распаренной физиономии — ржавчина щетины, из заплывших век глаза враждебно сторожат каждое движение учительницы. За ним, широким, плотным, наполовину вросшим в землю, сбились в кучку старухи в празднично белых платочках, старик из Заболотья по-гусиному сердито вытянул жилистую шею, судорожно ёжась, мальчишка прикрывал рукавом рубахи застывший оскал на лице.
На минуту стало тихо. С шумом дышал задравший вверх голову Киндя. Прасковья Петровна, сурово выпрямившаяся, с плотно сжатым ртом глядела поверх Кинди на Родьку.
Никто не двигался, все ждали.
Прасковья Петровна первая пошевелилась. Она шагнула вдоль изгороди к въезду во двор. Без знакомой сутуловатости, распрямившаяся, с бесстрастным лицом, не замечая с угрозой подавшегося на неё всем своим коротким телом Киндю, Прасковья Петровна шла, не спуская взгляда с Родьки.
И Киндю взбесила её бесстрастная уверенность. Без того красная физиономия до отказа налилась тёмной кровью, сиплая, площадная брань загремела над залитым солнцем двориком. Тяжёлый, обшитый кожей утюжок-подпорка полетел в учительницу...
Киндя промахнулся. Утюжок с силой ударил в изгородь, жердь глухо загудела.
Прасковья Петровна резко обернулась. В её широком, грубоватом лице с плотно сжатым ртом появилось гневное, по-мужски жёсткое выражение. Но к ней, опираясь руками о землю, полз, выставив тяжёлую голову, сипло выкрикивая грязные ругательства, калека, бешеный, невменяемый и жалкий. И гнев исчез с лица Прасковьи Петровны, только на щеках под глазами проступил неяркий румянец. Она повернулась и, ни на кого не глядя, своим широким, тяжёлым шагом пошла прочь. Никто не двинулся, никто не обронил ни слова. Только Киндя тряс кулаком над головой, выкрикивал вслед ругательства.
Родька опомнился, увидел перед собой запавший, морщинистый рот Киндиной матери, с яростью толкнул её в тощую грудь, бросился в сторону, налетел на сидящую Агнию Ручкину. Та, охнув, свалилась на бок.
Чья-то рука пыталась его задержать, он с остервенением ударил по ней. Оскалясь, с мокрым от слёз лицом выскочил на улицу, бегом бросился по дороге — прочь от дома, прочь от страшных людей.
22
Через полчаса он сидел дома у Прасковьи Петровны.
Небольшая, оклеенная весёлыми обоями комнатка была заполнена солнцем. От узкого стола, заваленного книгами и стопками тетрадей, от окна, за которым выбросила нежные оборчатые листочки смородина, от монотонного тикания тёмных, старинных часов ложился на измученную Родькину душу сонный покой. Здесь бы жить, не надо ни бескозырок с ленточками, ни тельняшек, читать бы эти книги, рыться в тетрадях — счастливо живёт Прасковья Петровна!
С опухшим от слёз лицом, подавленный, вялый, Родька рассказывал о церкви, о непонятном, страшном звуке среди ночи под куполом, постоянно повторяя одну и ту же фразу:
— Раз про церковь они не врут, значит, и про бога тоже...
Прасковья Петровна без своей примелькавшейся вязаной кофты, в платьице мелким горошком, полная, невозмутимая, уверенная, слушала без всякого удивления, наконец покачала головой:
— Эх-хе-хе. Как ты доверчив. История с церковью — старая песня. Лет двадцать назад я сама лазала слушать это, как его там называют, пиление...
— А что это?
— Надо было самому и дознаться до конца. А то сразу в чудеса поверил.
— Но что?
— Недалеко от церкви, как ты знаешь, проходит железная дорога. Когда мимо идёт поезд, звук от его колёс попадает в церковь и отдаётся под куполом. Такое явление в физике называют резонанс. Каждую ночь мимо церкви проходит в одно и то же время пассажирский поезд. Значит, каждую ночь в одно и то же время раздаётся звук, который ты слышал. Но чтоб его услышать, не надо даже лазать ночью. И днём ведь поезда ходят... Понятно тебе?
— Резонанс, — повторил Родька.
Он вспомнил три красных огонька, уходящих в ночь, спокойный стук колёс, припомнился и самый звук под куполом... Если разобраться, этот звук действительно смахивал на шум приближающегося поезда, сначала тихо, издалека, потом ближе, громче, только визгливей... Вместо радости и облегчения, что всё так просто объяснилось, Родька почувствовал страшную усталость и равнодушие. Мучился, ночью не спал, даже молился, а из-за чего?..
Тошно теперь думать об этом, тошно вспоминать.
— История эта забывалась, — рассказывала Прасковья Петровна, — потом опять о ней начинали говорить. Только одни старухи всё верили, что она связана с нечистой силой... Э-э, да ты, братец, не слушаешь?
— Я домой больше не пойду, — заявил Родька.
— А я тебя и не отпущу. Поживёшь денёк-другой у меня, пока мы всё не уладим. Я сейчас уйду в школу, освобожусь от уроков и отправлюсь в Загарье, в райком партии. Поговорю начистоту. — Прасковья Петровна поднялась. — Есть захочешь — суп в печке, достань сам. Захочешь погулять, иди. Ключ под дверью положишь. А то книжки читай...
Она ушла.
Родька знал, что муж Прасковьи Петровны, тоже учитель, давно, ещё до войны, когда его, Родьки, ещё не было на свете, попал с лошадью в полынью, простудился и умер. Прасковья Петровна жила одна в своём домике, по хозяйству ей помогала тётя Глаша, школьная уборщица. Иногда Прасковья Петровна брала себе на квартиру какую-нибудь молодую учительницу, жила с ней до тех пор, пока та не выходила замуж.
В пустом доме одному Родьке стало тоскливо. Он походил из комнаты в комнату, пощупал руками книжки на полках, но взять их постеснялся.
Родька лёг на узенький диванчик, закинул руки за голову и стал разглядывать весёлый узор на обоях. Лежал час, лежал два часа, арестант не арестант, а вроде этого. Лежал и думал об одном — об иконе.
Его потревожил осторожный стук в дверь. Он испугался, что войдёт кто-нибудь из учителей. Будут расспрашивать, сочувствовать, качать головой... Он выглянул в соседнюю комнату и увидел, что в дверь бочком вошла его мать, испуганная, постаревшая, со страдальческой синевой под глазами.
— Родюшка, — горестно и виновато произнесла она. — Ты здесь, сокол?.. Я всё село избегала, всё кругом обрыскала...
Воровски оглядываясь, она робко подошла, осведомилась шёпотом:
— Нет хозяйки-то?
И когда Родька тряхнул в ответ головой — нет, вздохнула свободнее.
— Идём, голубь, домой! Идём!.. Молебен-то давно кончился, все ушли. Тишина теперь дома, слава тебе господи! Идём, горюшко моё!..
Она заплакала, и Родьке стало жаль её.
Почему ему нельзя жить с матерью и бабкой, как живут все ребята? Что мешает?.. Проклятая икона! Ведь до неё всё шло хорошо.
Она припомнилась ему со всеми подробностями: с чёрным лицом, разделённым длинным и узким носом, с яркими глазными яблоками, с крохотным огоньком лампадки возле бороды. Как он её ненавидит! И бабку ненавидит, и мать — вцепилась в икону, нет чтоб отдать Жеребихе, обрадовалась игрушке. А эта игрушка всю жизнь ему поломала! Всю! Чужие люди жалеют, а ей наплевать! На доску променяла!..
23
Не только из-за одной истории с Родей Гуляевым решилась Прасковья Петровна побывать в райкоме партии. Если б дело было только в одном Роде! Своего ученика она сама как-нибудь оберегла бы, обуздала бы родителей. Но за последнее время всё чаще всплывают глухие случаи. В прошлом году в деревне Пятидымке открылся родничок со «святой водой». Зимой комсомолка Фрося Костылёва уехала из Гумнищ в соседний район Ухтомы и там венчалась в церкви. Это дело не обсуждали по той причине, что Фрося «снялась с учёта». А крещение детей, а пьяные престольные праздники!.. Надо в конце концов всерьёз поговорить в райкоме.
Шёл сев, и нечего было рассчитывать, что колхоз даст лошадь. Начавшее подаваться к закату солнце крепко припекало. Плащ пришлось снять и перекинуть через руку. Пахло прелой листвой, вылежавшей под снегом хвоей, пахло весенним травянистым гниением, обещающим не умирание, а обновлённую жизнь. Прасковья Петровна шагала тысячу раз исхоженной дорогой, возле которой были знакомы каждая ёлка, каждый пень. Тридцать лет по этой дороге носила она свои заботы. Постарела, ссутулилась, голова усыпана сединами, и опытнее стала и умнее — изменилась, только заботы остались прежними. Возможно, по этой же дороге она носила заботы о Родькиной матери. Учись, старый педагог, на просчётах! Не допусти, чтобы Родя Гуляев вырос похожим на свою мать!..
За спиной Прасковьи Петровны послышался стук копыт о влажную землю. Она подалась к обочине, обернулась. Весело взбрасывая сухой головой, украшенной от чёлки к носу белой проточиной, приближалась лёгкой рысцой лошадь. Она поравнялась с учительницей, и человек, сидевший в пролётке, натянул вожжи:
— Тпру-у!
В мягкой, крепко надвинутой на лоб кепке, в брезентовом плаще, в каких обычно ездят районные уполномоченные, седая бородка растрёпана встречным ветерком, возвышался в пролётке отец Дмитрий.
— Издалека вас приметил, Прасковья Петровна. Вы не в Загарье? Разрешите просить об одолжении — подкинуть вас до места.
Коляску потряхивало на выбоинах. Весело бежало вдоль дороги еловое мелколесьице. Отец Дмитрий вежливо посапывал, ждал, когда Прасковья Петровна первая начнёт разговор, не дождался, заговорил сам:
— К великому сожалению, узнал, что вас утром обидел этот пьяный инвалид. Не судите его строго, он достоин скорей жалости, чем осуждения.
— Я незлопамятна.
— Вообще-то народ здесь не испорченный, добрый, гостеприимный. Один порок — упрямы чрезвычайно.
— Упрямы? В чём? Не замечала.
— А вот хотя бы настаивают, чтоб я хлопотал об открытии возле Гумнищ храма. Никаких возражений не хотят слушать.
— А вам разве помешает этот храм?
— Нет. Я служитель церкви, и было бы грешно лукавить, что не желаю открытия ещё одного храма.
— Тогда вы должны быть довольны их упрямством.
— Вся беда, что теперь открытие храма Николы на Мостах невозможно. Не дадут разрешения. Вот если б, скажем, этот храм был занят под склад или зернохранилище, тогда другое дело. Я, конечно, не присягнул бы за удачный исход, но хлопотать было бы куда легче.
— Почему? — удивилась Прасковья Петровна. — Мне представляется совсем наоборот. Раз бывшая церковь занята, её труднее освободить.
— О нет, тут есть свои выгоды! Мы бы пошли на условие — строим зернохранилище, разумеется, вместительное, удобное и добротное, а храм попросим разрешения использовать для нужд верующих.
И не в первый раз за их короткое знакомство Прасковья Петровна с удивлением вгляделась в этого человека. Уткнув бородку в грубый воротник плаща, держа на коленях вожжи своими старческими, со вздувшимися венами руками, он всей своей плотной фигурой выражал скромное достоинство.
Это не только божий агитатор, во славу господа действует не одними молитвами. Гумнищинский колхоз, который уже год не соберётся поставить новый клуб, сельская библиотека ютится в одной комнате с секретарём сельсовета, а тут сколько вам нужно: сто тысяч, двести, триста — пожалуйста, не жаль средств для удобства бабки Грачихи, чтоб не бегала за двенадцать километров ко всенощной, имела храм под боком, без особых хлопот несла туда своим трудом и экономией добытые пятаки.
Отец Дмитрий незаметен, районные власти не прорабатывают его на заседаниях, не привлекают к общественным нагрузкам, живёт себе, ворочает делами, ублажает верующих, себя не забывает. Вот он — кепчонка мятая, плащ дешёвый, а пролётка новая, лошадь сытая... Загарьинское роно, государственное учреждение, не может выхлопотать себе лошадь, школьным испекторам приходится бегать в командировки пешком.
Молчание Прасковьи Петровны, должно быть, насторожило отца Дмитрия. — Он, повернувшись на тесном сиденье всем телом в сторону учительницы, снова заговорил с интонациями интимной душевности:
— Есть вечная, как мир, истина, Прасковья Петровна: добро должно торжествовать над злом. Всякий обязан добиваться этого своими силами. Вы это делаете по-своему, а я — по-своему, как могу.
— К чему вы это?
— К тому, Прасковья Петровна, что чувствую некоторое недоброжелательство ко мне с вашей стороны.
— Разве оно вам мешает?
— Всегда прискорбно знать, что достойный человек смотрит на тебя недоброжелательно. Не скрою, среди нынешних священнослужителей есть всякие. Есть и ловкачи, греющие руки на приходах. Есть и просто недалёкие, необразованные, без особых идеалов. Но есть и такие, кто всю душу отдаёт служению добру. Вы не верите в Христа. Я, быть может, сам верю в него с оговорками. Но, если именем Христа я могу у людей вызвать добрые чувства, почему это должно считаться позорным? Почему это должно возмущать?
Это был уже вызов на откровенность, и Прасковья Петровна решила его принять.
— Потому и возмущает, что вы пытаетесь добрые чувства вызывать именем бога, именем Христа.
— А не всё ли равно, Прасковья Петровна, через бога или через что другое вызываются добрые чувства? Лишь бы они появились.
— Нет, не всё равно. Как там в библии сказано, если память не изменяет: «И сделал господь бог Адаму и жене его одежды кожаныя и одел их». Бог одевает, бог кормит, бог требует: будьте добрыми — всюду бог. А ведь человек потому и стал человеком, что он всего достиг сам, своим умом, своими руками. Вечным вмешательством бога вы отнимаете у человека право быть хозяином своей жизни.
— Как же это мы отнимаем? Помилуйте! Пусть люди пашут землю, строят заводы, рожают детей и живут в страхе перед богом, великим и справедливым, который не допустит зла.
— В страхе... Почему вы считаете, что для людей обязательно нужна моральная плётка? Почему вам кажется, что всё доброе, всё хорошее человек может воспринимать только из-за страха перед какой-то всемогущей силой, а не потому, что он сам по себе сумеет понять необходимость хорошего и вредность плохого? Я педагог, и я знаю, что нельзя воспитывать детей запугиванием. Вы через запугивание пытаетесь воспитывать людей. Вредная практика! Та же бабка Грачиха всю жизнь жила в страхе перед господом богом. Но ведь это не помогло ей стать чище, лучше, достойнее других, которые давным-давно отбросили этот страх.
— Прасковья Петровна, поведение старой и, я бы сказал, неумной женщины ещё не доказывает, что люди не должны жить без веры. Вы, конечно, не будете закрывать глаза на то, что вера в бога может помочь людям верить в другие полезные дела. Хотя бы, к примеру, во время войны я поддерживал среди своих прихожан веру в победу великого русского воинства. Кстати сказать, это была не только духовная поддержка: мои верующие внесли около двухсот тысяч рублей в фонд обороны. На них, наверно, была отлита не одна пушка,
— Да, верю, польза была. Но сколько вреда тем же людям вы принесли вместе с такой пользой?
— Покорнейше прошу, объясните, что за вред?
— Я учила Варвару Гуляеву, чтоб она умела во всё вникать, обо всём самостоятельно мыслить. Я хотела, чтобы она стала человеком с широким кругозором, с сознательной верой в будущее. А вы, быть может, именно в эти военные годы сумели навязать ей свою веру — слепую веру, при которой не нужно думать, не нужно рассуждать. Мир для неё стал тёмен и непонятен. Мы победили в войне — зачем ей, Варваре, анализировать, зачем ломать голову над вопросами, отчего да почему, — просто божья благодать. С войны в гумнищинском колхозе стало труднее жить. Как поправить положение? Опять один ответ: на то божья воля. И так во всём и всюду — умственная слепота. А от слепоты, от неизвестности появляется чисто животный страх перед жизнью. Страх перед божьим гневом, страх перед начальством, перед дождём не ко времени, перед кошкой, перебегающей дорогу. А тут ещё вы вдалбливаете: терпи, ибо всё от бога, будь покорной. Покорность, ленивый ум и страх — этого вполне достаточно, чтобы сделать из человека духовного раба. Хотели вы или не хотели, а создавали духовно убогих людей, моральных уродов по нашему времени. Спасибо вам за вашу маленькую пользу, но знайте: мы по достоинстзу оценили и вред.
Отец Дмитрий сделал неопределённое движение плечами, словно говоря: «Воля ваша, как хотите думайте...»
— Мы никого, Прасковья Петровна, не тянем к православной вере за уши, — заявил он с достоинством. — Наш долг — лишь не отворачиваться от людей.
— Если бы вы тянули за уши, тогда наш разговор был бы более простой. Вы существуете, этого уже достаточно. Но как бы вы ни притворялись, как бы вы ни успокаивали себя, что ваше добро и ваша вера с нашей сладится, всё равно вы знаете: будущее грозит вам тленом и забвением. Не примите это как личную обиду.
Чувственные, полные губы отца Дмитрия скорбно поджались.
— Как знать, как знать, — после недолгого молчания возразил он. — Потянулись же после войны люди к богу. Всякое может случиться впереди.
— Вот вы какие! Называете себя рыцарями добра, а сами тайком ждёте больших народных несчастий. Авось они вам помогут. Не так ли?
На этот раз отец Дмитрий ничего не ответил, только покачал сокрушённо головой, отвернулся. Остаток дороги проехали молча.
Прасковья Петровна сошла у райкома партии. Отец Дмитрий натянул снятую при прощании кепку, почтительно проследил взглядом, как Прасковья Петровна, чуть сутуловатая, твёрдо ступающая своими тяжёлыми сапогами, поднялась по крыльцу и скрылась за дверями того учреждения, в которое он никогда не имел ни нужды и ни желания заходить.
24
В районе кончался весенний сев. Райком партии был пуст, все разъехались по колхозам. В общем отделе стучали машинистки, за закрытыми дверями в пустых кабинетах яростно надрывались телефоны. В кабинете первого секретаря Ващенкова, пользуясь его отсутствием, уборщицы выставляли зимние рамы, мыли стёкла.
В скупо освещённом коридоре растерянно слонялись от одной двери к другой два парня в телогрейках. Видно, приехали из какого-то отдалённого колхоза, привезли с собой кучу неотложных вопросов и теперь недоумевали, на голову какого же начальника свалить их. Каждый раз, как Прасковья Петровна проходила мимо, они провожали её пристальными, вопрошающими взглядами.
Один только заведующий отделом пропаганды и агитации Кучин сидел на своём месте. Прасковья Петровна вошла к нему.
Кучин, держа перед собой какую-то бумажку, побывавшую, видно, не в одном засаленном кармане, кричал в телефонную трубку:
— Горючего нет?.. Вы мне этим горючим глаза не заливайте! Третьего дня пять центнеров выслано... Ах, застряла! Кто ж в этом виноват; я или господь бог? Почему трактор на выручку не бросили? Три дня чешетесь! Три дня!..
Прасковья Петровна, опустившаяся на стул, с удовольствием прислушивалась к молодому упругому голосу Кучина.
Стены кабинета в несвежей штукатурке, скромный портрет Ленина над этажеркой, забитой книгами, стол с треснувшим стеклом и плечистый молодой человек за ним, напористо занимающийся будничными, земными делами, — до последней мелочи всё здесь было своё, знакомое, далёкое от отца Дмитрия, Грачихи, пьяного Кинди, угрожавшего ей утром.
Кучин бросил трубку, облегчённо вздохнул:
— Из-за дорог, того и гляди, завалим сев. Там горючего нет, тут семенной материал застрял! Здравствуйте, Прасковья Петровна! Какой ветерок к нам прибил?
Прасковья Петровна только собралась объяснить, что за «ветерок» занёс её в этот кабинет, как снова зазвонил телефон, и ей снова пришлось долго ждать, пока Кучин с той же напористостью объяснял кому-то, что райком партии не занимается распределением льносемян, что надо обращаться к товарищу Долгоаршинному, что он, Кучин, вполне согласен, Долгоаршинный — жук, каких мало, всегда норовит «голый камушек яичком сварить», пора бы, пожалуй, потрясти его на бюро и т. д. и т. п.
Наконец оба, боязливо косясь на телефон, заговорили.
Прасковья Петровна была одним из тех немногих почтенных людей в районе, фамилии которых употребляются не иначе как с эпитетами «старейший», «заслуженный», тех, чьи фотографии перед каждым праздником украшали райисполкомовскую Доску почёта, кого на собраниях обязательно усаживали в президиум. Поэтому Кучин сейчас слушал её с особым вниманием, с подчёркнутой почтительностью.
Это был плечистый, высокий парень с буйной шевелюрой, с крепкой красной шеей и открытым лицом, от которого несло простодушным здоровьем. Узкий канцелярский стол был для него тесен, трудно было ему держать в чинной неподвижности свои большие, сильные руки, трудно сидеть не двигаясь, слушать, а не говорить, не доказывать кому бы то ни было правду-матку своим упругим голосом. Его глаза с тёплой, какой-то домашней рыжеватинкой выдавали приглушённую энергию, весело стреляли то в Прасковью Петровну, то на разложенные на столе бумаги, то в окно.
Но по мере того как Прасковья Петровна объясняла, простодушное лицо Кучина окрепло, под подбородком у шеи собрались упрямые складки, рыжеватые радушные глаза потемнели.
— Эк! — с досадой крякнул он и так распрямился, что стул заверещал под ним птичьими голосами. — Мало забот у Настасьи, так новые напасти!.. Хотите верьте, хотите нет, нам обычный доклад по международному положению сделать некогда, всё время съедают горючее для тракторов, овёс для лошадей, заботы вплоть до божьего солнышка.
— Для этого время должны найти.
И Кучин задумался, энергично растирая ладонью щёку, морщась от собственных мыслей.
— М-да... Дело не во времени. Когда мы говорим: надо поднять урожайность, — плохо ли, хорошо, мы знаем как. Удобрения, своевременные прополки, культивация — словом, есть целая агрономическая наука с точными указаниями, что делать, как поступать. Но вот говорят: разверните антирелигиозную пропаганду. Как её развернуть? Начать высылать лектора за лектором, которые бы объясняли, будет ли конец мира? Во-первых, на такие лекции ходят обычно неверующие. Во-вторых, если верующие и придут, то одними лекциями их не вылечишь.
— Так почему же вас не беспокоит такая беспомощность? Вы заведующий отделом пропаганды и агитации, вы партийный просветитель в районе, почему я до сих пор не слышала вашего тревожного голоса? Почему вы занимаетесь горючим, овсом или, как там сказали, заботами о солнышке и забываете позаботиться о самом важном: о сознании людей?
Прасковья Петровна исподлобья глядела на Кучина, а тот, под её взглядом утративший свою жизнерадостность, как-то сразу заметно отяжелевший, с крепко сжатым ртом, в углах которого появились жёсткие складки, слушал, навалившись на край стола широкой грудью.
— Про сознание людей мы не забываем. А если и забудем, то нам напоминают, иной раз довольно чувствительно, — заговорил он. — В Ухтомском районе кучка стариков и старух потянула за собой молодёжь на крёстный ход в честь какой-то там старо— или новоявленной святой. Кому попало? Виновникам? Нет, они все здравствуют в полном благополучии. Попало секретарю райкома, попало такому, как я, заведующему отделом пропаганды.
— Правильно попало.
— Видимо, правильно, спорить не приходится. Только всё же надо помнить, что здесь, в райкоме, сидят обыкновенные люди, а не какие-нибудь чудотворцы. Тысячу лет на Руси людям вдалбливали сказки о боге. Тысячу лет! А вы пришли и требуете: ну-ка, товарищ Кучин, партийный просветитель, пошевели мозгами, найди волшебный способ, чтоб вся тысячелетняя муть о царствии небесном в два счёта выветрилась из голов верующих, чтобы стали они чистыми, как стёклышко!
— А кто от вас требует делать это в два счёта? Вы, я помню, на своём месте сидите уже четвёртый год, до вас занимал Климков ваш кабинет, до Климкова ещё кто-то... Разве тогда менее остро стояли эти вопросы? Чем вы можете похвалиться? Чего вы добились?
— Добились многого. В те годы, когда Климков сидел здесь, колхозники получали на трудодень по триста граммов хлеба, теперь те же колхозники получают впятеро больше.
— Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. При чём тут хлеб?
— А при том, что хлеб, овёс, горючее — всё это своего рода борьба с религией. И вы сами прекрасно понимаете. Старые приёмчики борьбы — схватить попа за бороду да вытряхнуть его из храма — давным-давно осуждены как вредные. Теперь мы идём в наступление на религию не лобовой атакой, а медленным, постепенным натиском. Нельзя за год, за два, даже за десятилетия уничтожить то, что врастало тысячелетиями. Столетнее дерево не сшибёшь ударом кулака, его нужно подкапывать снизу, с корней.
— Общие фразы.
— Нет, мы теперь меньше всего произносим фраз по поводу религии. Нужно добиться, чтоб самая последняя старуха верила не всевышнему, а нам. Для этого мы должны доказать, на что мы способны. Доказать на деле. Сначала кусок мяса в щах, добротная одежда к зиме, затем радиоприёмник, электричество, книги, кинокартины. Вот наши доказательства, и против них не устоит господь бог. Во многих местах он уже спасовал. Поищите-ка верующих в колхозе Гриднёва! Может быть, какая-нибудь древняя бабка молится в своём углу втихомолку. Исчезли у них пьяные престольные праздники. Отчего? Да оттого, что в председателя колхоза Гриднёва больше верят, чем в благодать с неба... Вся беда, что Гриднёвых у нас в районе не густо. Потом другая сторона. Вы ждёте от нас помощи, а мы её ждём от вас. Таких, как вы, Прасковья Петровна, по нашим деревням и сёлам разбросаны сотни: учителя, агрономы, врачи. Нас в райкоме единицы, вас армия. Почему бездействуете? Легче всего надеяться, что ветерок из райкома разгонит тучи.
— Кто-то должен поднять эти сотни. Скажите нам — пора! И мы поднимемся. Может быть, не всё сразу, но многие зашевелятся.
— Команды ждёте. А эти старухи, наверное, не ждали команды, когда слетались к чудотворной. Надо, чтоб антирелигиозная пропаганда стала неотъемлемой частицей совести каждого маломальски культурного человека.
— Приятные речи приятно и слушать, — мрачно согласилась Прасковья Петровна, — Но что делать нам сейчас? Что делать с Родей Гуляевым? Ведь я, его учительница, не могу же успокоиться разговорами о постепенном наступлении на религию?
Кучин сидел, большой, нахохлившийся, глядел на свои крупные руки, выброшенные на стол.
— Тут я вижу только один выход. Надо этого мальчика как-то очень осторожно отделить от родителей. На время, пока у тех не пройдёт угар. А там мы найдём возможность поговорить и образумить если не старуху, которую, видно, одна могила исправит, то хоть мать. Только как это сделать? В этом вы, Прасковья Петровна, должны нам посоветовать. Вы рядом с ними живёте, вы должны знать обстановку.
Прасковья Петровна задумчиво вертела в руках тяжёлое пресс-папье, без нужды внимательно его разглядывала, долго не отвечала. Кучин следил за ней со сдержанным беспокойством.
— Я бы могла взять на время мальчика к себе.
— Если это нетрудно...
— Мне-то нетрудно. Только его бабка и его мать поднимут шум, будут устраивать скандал за скандалом, чего доброго, через суд начнут требовать сына.
— Это было бы хорошо! — Кучин с треском заворочался на своём стуле, глаза повеселели, прежняя энергия вернулась к нему. — Пусть бы требовали через суд! Дело получило бы огласку, привлекло бы общее внимание. Разгорелся бы бой в открытую.
— И всё-таки успеют на меня вылить не одно ведро грязи.
— Не посмеют. Все эти поклонники господа действуют только исподтишка. Ваш новый знакомый, как его, отец Дмитрий, первый бросится утихомиривать родителей мальчика. Для него любой общественный шум как солнечный свет для крота. Берите к себе вашего ученика, Прасковья Петровна. А мы со своей стороны комсомольские организации на ноги поднимем, нашу районную газету попросим вмешаться...
Прасковья Петровна встала со своего стула:
— Так и сделаю.
Поднялся и Кучин, высокий, под потолок, с выпуклой грудью, туго перетянутый ремнём по суконной рубашке. Его открытое лицо по-мальчишески сияло: пусть частный, пусть временный выход, но всё-таки что-то нашли, на что-то решились.
В дверях Прасковья Петровна столкнулась с теми парнями, которые бродили по коридорам. Они скрылись в кабинете, и оттуда послышался напористый голос Кучина:
— Ребята, милые! Я ж вам говорил: не в моих силах достать транспорт! Понимаю, понимаю вас! Ну хорошо, давайте позвоним Егорову...
25
В Гумнищи Прасковья Петровна вошла ночью. Устало брела тёмными улочками к своему дому мимо закрытых калиток, из-за которых на её шаги сонно лаяли собаки.
Около сельсовета лампочка в жестяном абажуре тускло освещала выщербленный булыжник. Рядом на столбе висел ржавый вагонный буфер. Ночной сторож Стёпа Казачок обычно отбивал на нём часы. Самого Казачка нигде не видно, спит, верно, дома. Да и то, чего сторожить? Давно уже не слышно, чтобы кто-нибудь покушался на покой гумнищинских обитателей.
Прасковья Петровна снова углубилась в тёмную улочку.
Неожиданно она услышала быстрые, лёгкие шажки и прерывистое дыхание — кто-то бежал ей навстречу. Маленький человек чуть не ударился головой ей в живот.
— Кто это? — спросила Прасковья Петровна.
— Это я...
Прасковья Петровна узнала Васю Орехова.
— Ты что в такой поздний час бегаешь?
— Пр... Прасковья Петровна... — задыхался он. — Родь... Родька в реку... бро... бросился!..
— Как — бросился?
— Топ... топиться из дому побег!.. Его сейчас Степан... Степан-сторож несёт... Это я Степана-то позвал.
— Ну-ка, веди! Да рассказывай толком.
Прасковья Петровна взяла за плечо Ваську, повернула, легонько толкнула вперёд. Васька побежал рядом с нею, подпрыгивая, заговорил:
— Он вечером ко мне прибежал.
— Кто он?
— Родька-то... Прибегает и говорит: «Я, Васька, говорит, дома жить не буду. Сбегу!.. Я, говорит, сперва эту икону чудотворную расколочу на мелкие щепочки... Ты, говорит, мамке своей не болтай, а я к тебе ночью приду, на повети в сене спать буду». Я сказал: «Спи, мне не жалко, я тебе половиков притащу, чтоб накрыться...» Холодно же!.. Он ушёл. А я сидел, сидел, ждал, ждал, потом дай, думаю, взгляну, что у Родьки дома делается, почему долго его нет. Мамка к Пелагее Фоминишне за закваской ушла, а я к Родькиному дому. Подбежал, слышу, кричат. И громко так, за оградой слышно. Я через огород-то перелез да к окну... Ой, Прасковья Петровна! Родька-то на полу валяется, в крови весь, а она его доской, доской, да не плашмя, а ребром!
— Кто она?
— Да бабка-то... Доской... Родька-то икону расколотил, так от этой иконы половинкой прямо по голове.
— А мать его где была?
— Да мать-то тут стоит. Плачет, щёки царапает... Стоит и плачет, потом как бросится на бабку. И начали они!.. Родькина-то мамка бабку за волосы, а бабка опять доской, доской... Родька тут как вскочит — и в дверь. Я отскочить от окна не успел, гляжу, он уже за огородец перепрыгнул. Я за ним. Сперва тихо кричу — он бежит. Пошумней зову: «Родька, Родька!» Он из села да на луг. Уж очень быстро, не успеваю никак... Потом понял: он ведь к реке бежит, прямо к Пантюхину омуту. Я испугался да обратно. Хотел мамке всё рассказать. А мамки дома нету, у Пелагеи сидит... Я на улицу, смотрю, Степан Казачок идёт часы отбивать. Я ему сказал, что Родька Гуляев к реке побежал, его бабка поколотила. Дедка-то Степан послушный. «Пойдём, говорит, показывай, куда побежал...»
— Вытащили?
— Да нет... Никого на берегу не видно. Вода-то тихая. Стали кричать, никто не откликается, искали, до Летнего брода дошли, обратно повернули. Ну, нет никого, и всё. А ночью под водой разве увидишь...
— И где же нашли?
— Услышали: что-то под берегом поплёскивает. Заглянули под обрыв, а там темнеется... Родька-то наполовину из воды вылез и лежит на берегу весь мокрехонек. Прыгнуть-то, видать, прыгнул, а утонуть не смог — выплыл. Он лучше Пашки Горбунова плавает... Весь мокрехонек, голова ледяная аж... Стали его поднимать, а его вытошнило. Степан говорит: «Нахлебался парень...»
— Где же они?
— Степан-то — старик, сил мало. А Родька на ногах не стоит и глаз не открывает...
Они не успели выйти из села, как впереди замаячила тёмная фигура.
— Дедко Степан! — окликнул негромко Васька.
— Ох, батюшки! Привёл-таки... — раздалось впереди старческое кряхтенье.
Прасковья Петровна, опередив Ваську, подбежала к нему:
— Жив?
— Голос недавно подавал, выходит, жив... Ох, тяжёленек парень! Ни рукой, ни ногой не шевельнёт, виснет, как куль с песком.
В темноте можно было разглядеть свесившуюся голову, бледным пятном — словно все черты стёрты — лицо. От его одежды тянуло вызывающим озноб глубинным речным холодком.
— Дай-ка возьму за плечи. — Прасковья Петровна осторожно просунула свои руки под мышки Родьке. — В одной рубашонке выскочил... Несём ко мне!
Степан, держа Родькины ноги, двинулся, спотыкаясь и приговаривая:
— Вот они какие, дела-то!.. Беда чистая!..
Прасковья Петровна сорвала со стола клеёнку, набросила на кровать, уложила мокрого Родьку.
На плечах сквозь прилипшую к телу рубашку просвечивала кровь, грудь рубашки была запачкана грязью, в слипшихся на лбу волосах песок, всё лицо, что лоб, что губы, ровного зеленоватого цвета. Прасковья Петровна протянула руку, чтобы снять грязь со щеки, и тут же быстро отдёрнула её — грязный сгусток на щеке оказался спёкшейся раной.
— Степан, ты не уходи: поможешь мне раздеть, — принялась командовать Прасковья Петровна. — Вася, беги к Трофиму Алексеевичу. Быстренько, родной, быстренько! — И не удержалась, выругалась негромко: — Животные! Довели мальчишку!
Вместо Трофима Алексеевича, гумнищинского фельдшера, минут через сорок появился с Васькой председатель колхоза Иван Макарович.
— В Загарье наш медик. У них совещание в райздраве. Загостился, — сообщил он громким голосом, но, взглянув на Прасковью Петровну, осёкся, спросил тихо и серьёзно: — Что тут стряслось? Парнишка, чуть не плача, на меня набросился. Утопился, говорит...
В своём неизменном бушлатике, в мичманке, сбитой на затылок, пахнущий махоркой и ночной свежестью, Иван Макарович, неуклюже ступая на скрипучие половицы, подошёл к кровати, сосредоточенно выслушал Прасковью Петровну.
— Ну и ну, выкинули с парнем коленце! То, что карга старая ополоумела, дива нет. Но как эта дурёха Варвара допустила?
— Как допустила? — переспросила Прасковья Петровна. — Кому это и знать, как не тебе! Не под моим, а под твоим присмотром Варвара живёт.
— Я-то при чём тут? У меня и без того дел по горло. Слежу, как службу ломает в колхозе, а чтоб ещё от святых угодников оберегать... Нет уж, не по моей специальности.
— То-то и оно. Лишь с одной стороны на человека смотрите, как он службу ломает.
Иван Макарович не ответил, стряхнув задумчивость, неожиданно закипел в бурной деятельности:
— Степан!.. Нет, лучше ты, малый. У тебя ноги молодые. Лети, браток, на конюшню, там Матвей Дерюгин дежурит. Скажи, чтоб Ласточку запрягал. Да сена побольше пусть подкинет, да не раскачивается пусть и не чешется! Через десять минут чтоб здесь, у крыльца, подвода стояла! Парня в больницу повезём... Стой! По дороге стукни в окно к Верке-продавщице. Пошибче стучи: спать здорова баба. Крикни, пусть сюда поллитровочку принесёт. Иван, мол, Макарович велел. Парня надо водкой растереть, чтоб после холоду кровь заиграла.
— Когда же она это успеет, пока в магазин ходит да пока открывает... — посомневался Степан Казачок.
— Эх, ты, век прожил, а жизни не знаешь! Такой товар Верка всегда про запас дома держит...
Прасковья Петровна, следившая за председателем, чувствовала, что он сейчас излишне шумлив и напорист, видно, его задело за живое, теперь хоть чем-нибудь да пытается оправдаться.
— Ну, чего уши развесил? — крикнул Иван Макарович на Ваську. — Выполняй приказ! Ноги в руки, полный вперёд!
Бросившийся сломя голову к дверям Васька вдруг отскочил назад. Через порог перешагнула Варвара, растрёпанная, простоволосая, со страдальческой синевой под глазами. Она остановилась у порога, обвела всех бессмысленным взглядом. Степан Казачок виновато переминался в своём углу, Прасковья Петровна выжидательно уставилась исподлобья, Иван Макарович весь подобрался.
— Родьку моего не видели? — робко выдавила Варвара.
Иван Макарович шагнул на неё:
— Родьку? А на что он тебе? Снова на святых угодников менять?
И тут только взгляд Варвары упал на кровать. На похудевшем лице Родьки, на лбу и щеках расцвели вишнёвые пятна.
Варвара опустилась на пол, вцепилась руками в волосы, закачалась телом и сдавленно замычала. И в этом сквозь стиснутые зубы мычании, в исказившемся лице, в прижатых к вискам кулаках, в медленном раскачивании было такое истошное горе, что Иван Макарович беспомощно оглянулся на Прасковью Петровну.
Варвару, уткнувшую в ладони лицо, усадили на стул. Иван Макарович, повинуясь взгляду Прасковьи Петровны, осторожно ступая по половицам, принёс ковш воды. Прасковья Петровна села напротив.
— Выпей и успокойся, — приказала она. — Сына твоего мы сейчас увезём в больницу. Не пугайся — поправится.
Варвара припала распухшими губами к ковшу.
— Но слушай, — продолжала Прасковья Петровна, — я этого оставить так не могу. Пока в твоём доме будет жить твоя мать, я Родиона к вам не пущу. Слышишь, они не должны жить вместе. Если и ты не одумаешься, и тебе не отдам сына. Понимаю, всё сложно, всё трудно, всё тяжело, но сделать нужно. Нельзя калечить жизнь Роди. Будете препятствовать — дойду до суда.
Варвара снова залилась слезами.
26
В избу сквозь наглухо закрытые окна неприметно влился робкий рассвет. Стала отчётливо видна не только спинка кровати, но и фотографии, веером висящие на выцветших обоях, и щели на потолке.
Варвара после того, как пришла от Прасковьи Петровны, не сомкнула глаз. Она лежала на спине и думала.
Как всегда, её мысли забегали вперёд, в завтрашний день. Как всегда, этот день пугал её. Раньше, чтоб прожить его покойно, без всяких случайностей, она просила помощи у бога, шептала молитвы: спаси, боже, помоги от напастей. Она верила в эту помощь, в надежде на неё ей становилось легче жить.
Ох, Родька, Родька! А вдруг да не выживет, вдруг да — страшно подумать — умрёт в больнице!.. Прасковья Петровна говорит, что не опасно, Иван Макарович лучшую лошадь снарядил, сам поехал, обещал, что с постели подымет самого Трещинова. К доктору Трещинову из соседних районов ездят лечиться... Дай-то бог! Утром до школы опять надо пойти к Прасковье Петровне, пусть посоветует, как жить дальше. Она и сама теперь понимает: Родьке с бабкой не поладить. Крута мать, не забудет икону. Будь трижды проклята эта икона!.. Это сказать легко: Родьку от старухи отделить. Пусть Прасковья Петровна поможет, Ивана Макаровича тоже надо попросить... Сообща-то что-нибудь придумают...
Всё сильней и сильней сквозь мутные окна сочился рассвет. За стеной над карнизом завозились воробьи. Варвара лежала лицом вверх, остановившимися глазами глядела в потолок. Она сама не замечала, что сейчас, забегая мыслями вперёд, в наступающий новый день, искала помощи уже не у бога, а у людей.
На воле из конца в конец по селу прокричали петухи. За дощатой переборкой зашевелилась старуха.. Слышно было, как, вздыхая, легонько поохивая, спустилась она с полатей, половицы заскрипели под её босыми ногами. Вот она стукнулась костлявыми коленями об пол, забормотала... Старая Грачиха начала свой день, как всегда, с молитвы.
Варваре всё известно наперёд. Если она скажет матери, что будет советоваться, просить помощи у Прасковьи Петровны и у Ивана Макаровича, наверняка старуха начнёт поносить их: «Они такие, они сякие... Учительша, мол, жалованье не за то получает, чтоб чужих из беды выручать. Мы для них седьмая вода на киселе, за спасибо-то не больно люди тороваты...» И, уж конечно, один припев: молись! Почему она всю жизнь её, Варвару, отпугивает от людей? Почему считает, что никому, кроме бога, нельзя доверять? Разве можно жить так дальше? Родька-то не понимал всего; теперь и он учён. Ох, бедная головушка! В такие-то годы да попасть в беду!.. И в какую беду! Она, Варвара, мало ли, много, а уже успела пожить, и то у неё голова кругом пошла от напастей. Не знаешь, чью сторону принять: старухи матери или добрых людей? Нет, трудно с матерью оставаться под одной крышей! А как расстаться? Жили семьёй — одни заботы, одно хозяйство...
Старуха, снова поскрипывая половицами, заходила по соседней комнате. Она показалась в дверях — взлохмаченная, в одной ветхой рубахе, с жилистыми тёмными руками, обнажёнными по самые плечи, заметила пошевелившуюся Варвару.
— Не спишь?.. В Загарье я собираюсь, — сообщила она.
Варвара не ответила. Старуха скользнула по ней бегающим, виноватым взглядом.
— Ладно, чего там... Авось бог милостив, всё обойдётся. Я нашему сорванцу-то гостинчиков свезу. Небось и у меня за вчерашнее-то сердце болит.
Варвара с трудом оторвала голову от подушки, тяжело поднялась, села на кровати. Она представила себе, как у койки больного и без того издёрганного Родьки появится бабка, одним своим видом уничтожит покой, мало того, начнёт свои уговоры: «Бога обидел, неслух... В грех ввёл...» Опять бередить душу парню! Хватит!
— Не езди к нему, — сказала глухо Варвара.
— Чего так — не езди?
— А так... Не хочу.
— Ужель тебя спрашивать буду? Не чужая ему. Внук он мне, не по задворью знакомы.
— Слушай, мать. — Голос Варвары зазвучал непривычными для неё нотками скрытой озлобленности и решительности. — Давай договоримся подобру-поздорову...
— О чём это нам договариваться-то?
— А о том, как бы жить врозь. Я с Родькой, ты сама по себе.
У старухи гневной обидой заблестели глаза, по углам плотно сжатого рта резче обозначились морщины. Секунду молча она оторопело глядела на дочь.
— Свихнулась, Варька?
— Видать, свихнулась... и давно, коль тебя во всём слушалась!
— Вскормила, вспоила тебя, стара стала — не нужна... Меня же обидели... Да какое там — бога в доме обидели! Волчонок-то до чего додумался — святую икону топором!
— Молчи!
— Так я тебе и замолчала! Как же!.. За то, что за господа заступилась, мне подарочек. Опомнись, греховная твоя душа! Подумай-ка, на какие слова твой язык повернулся! Жить врозь! Да вы с ним подохнете вдвоём! Я на вас, как лошадь, ворочала! Вот она, благодарность-то на старости лет!..
— Если по добру всё уладим, и ты жить будешь, и мы...
— По добру?! Да где у вас, у нынешних, добро-то? Что душа Кощеева, спрятано оно у вас за тридевятью замками, не доберёшься. Старуху мать из дома выгнать на улицу — вот оно, ваше добро! А нет, не выгоните! Дом-то мой! Я с покойничком отцом твоим, царство ему небесное, строила, каждое брёвнышко своим горбом перепробовала...
— Живи в своём доме, я уйду.
— Дождалась я! Господи! За какие прегрешения меня наказываешь? Дочь родная отрекается! Выпестовала иуду на свою голову!..
Старуха перешла на крик.
Крыша дома напротив розово осветилась от разгоравшейся зари. В свежести утра завозились воробьи, их суматошные голоса хлынули разом, как внезапный весёлый дождь с крыш.
В доме же Варвары Гуляевой утро начиналось со скандала. И чем сильней этот скандал разгорался, тем больше крепло решение Варвары: под одной крышей жить нельзя!
Под вечер того же дня Прасковья Петровна, возвращаясь из школы, увидела перед своим домом лошадь с белой проточиной, запряжённую в знакомую пролётку. С крыльца навстречу ей поднялся отец Дмитрий.
— Здравствуйте, Прасковья Петровна. Прошу не удивляться, я к вам на минутку по делу. Если вы не против, присядемте прямо здесь.
Оба они опустились на ступеньки крыльца. Отец Дмитрий некоторое время прощупывал учительницу спокойным взглядом выцветших глаз, наконец заговорил:
— Я глубоко удручён тем несчастьем, которое случилось вчера. Поверьте, по-человечески удручён...
— Вы только за этим приехали, чтоб выразить мне своё соболезнование? — спросила Прасковья Петровна.
— Нет. Я слышал, вы собираетесь подавать в суд на старуху, избившую своего внука. Воля ваша, но стоит ли поднимать шум и трескотню? Достаточен ли повод? Старая, выжившая из ума женщина предстанет перед законом за то, что устроила семейный скандал. Да и мальчик, хоть и получил некоторое потрясение, всё же теперь находится вне всякой опасности...
— Вы боитесь этого шума?
— Не скрою, он мне большого удовольствия не доставит... Я попытаюсь уладить осложнившиеся дела в доме потерпевшего мальчика. Дочь и мать, как недавно я узнал, не желают жить вместе. Но стоит вопрос: как разойтись, куда девать старуху? Я могу забрать её из Гумнищ, устроить при храме уборщицей...
— С одним условием, не так ли?
— Увы, да. Не возбуждать судебного дела.
Отец Дмитрий, склонив на плечо свою крупную голову, вежливо ждал ответа, чистенький, приличный, мягкий, ничем не выдающий ни волнения, ни нетерпения.
— Значит, верно сказал мне вчера один человек, — заговорила Прасковья Петровна, — что огласка для вас как солнечный свет кроту.
— Публичное поношение никому не доставляет удовольствия.
— Нет, отец Дмитрий, людского осуждения боятся только те, у кого нечиста совесть. Разрешите мне действовать по своему усмотрению. Семейные же дела Варвары Гуляевой мы как-нибудь общими усилиями уладим.
Прасковья Петровна поднялась со ступеньки.
1958
КНИГУ — В НОВУЮ ОБЛОЖКУ
Прежде всего опять осмотрите блок книги. При необходимости приведите его в порядок: подклейте, сшейте, обрежьте. Обрезать блок надо очень аккуратно. Все углы блока должны быть прямыми: проверяйте по угольнику. Сначала обрезайте боковой край блока, потом верхний и нижний. Нож ведите без нажима. Время от времени затачивая его на мелком бруске.
Нож держите под углом в 60 градусов. Линейку возьмите -толстую, вроде рейки. Чтоб она не сдвигалась, зажмите ее двумя струбцинками. Старайтесь держать нож, как ручку, тремя пальцами. Нож ведите всегда к себе. Срезанные полоски бумаги кончиком ножа сдвигайте с блока вправо. Обрез должен быть ровным, без всяких заусениц. А если заусеницы все-таки получились, зачистите их мелкой наждачной бумагой.
Обрезав блок, измерьте его линейкой: высоту, ширину, толщину. Запомните или запишите их.
Вырежые из картона два одинаковых прямоугольника: сторонки крышки. Высота сторонок должна быть на 6 милли-
метров больше высоты блока, а ширина на 1—2 миллиметра меньше ширины блока. И еще вырежьте из плотной рисовальной бумаги (продольной по волокну) прямоугольник-отстав: такой же высоты, как высота сторонок, а ширины такой же, как
дуга у корешка книжного блока, плюс еще 1,5—2 миллиметра.
Заготовки сделаны. Теперь нужно решить, в какой материал вы хотите переплести книгу. Желательнее всего в какую-ни-будь ткань. Можно в ситец, сатин, штапель. В шелк, бархат, парчу не нужно: ни к чему.
Выбрав подходящую ткань, вырезаем из нее нужный прямоугольник. Высота этого прямоугольника больше высоты отста-ва на 3 сантиметре, а ширина равна ширине двух картонных сторонок плюс ширина отстава плюс еше 4—4,5 сантиметра.
Из не очень плотной бумаги (можно из старой газеты) вырезаем прямоугольник такой же величины, как прямоугольник из ткани. И прямоугольник из ткани наклеиваем на прямоугольник из бумаги. Не забудьте: намазывать клеем надо бумагу, а не ткань. И намазывать не очень густо, чтобы клей не проступил потом через ткань. Иначе от проступившего клея на ткани останутся некрасивые пятна.
Отступив от краев, прямоугольника на равное расстояние, проведите мягким карандашом посередине вертикальную черту. Такую же вертикальную черту проведите посередине отстава.
Намажьте клеем бумажно-тканевый прямоугольник и положите на него отстав так, чтобы две вертикальные черты совпали друг с другом. Сверху и снизу отстава должно быть 1,5 сантиметра.
Справа и слева от отстава положите картонные сторонки так, чтобы между отставом и каждой сторонкой осталось свободное пространство (расстав) шириной 6—7 миллиметров.
Если «на глаз» положить сторонки трудно, проведите по бумаге вспомогательные карандашные линии: рамку, ширина которой всюду 1,5 сантиметра.
Когда отстав и сторонки положены, отрежьте у бумажно-тканевого прямоугольника все четыре уголка, как показано
на рисунке. Расстояние от углов сторонок до среза 3—4 миллиметра.
Теперь загибайте края ткани на картон.
Не забудьте перед загибанием ткани с боков провести ногтем по верхнему и нижнему сгибам ткани, чтобы все края ткани ровно загнулись.
Обложка готова. Вкладываете в нее блок. Подравниваете.
Смазываете клеем форзац и... Дальше сами знаете.
Готовую книгу, как всегда, под пресс. До полного высыхания.
|